Иван Забелин Расцвет русского могущества
© Оформление. ООО «Издательство «Вече», 2016
Глава I. Заселение русской страны славянами
Древнейшее начало русской истории. Откуда взялись новгородские словени? Появление славян в Европе. Их первобытная культура. Их первоначальные обиталища. Их первоначальное имя. Древнейшие торговые пути по нашей стране. Венеды – словени, промышленники и коренные колонизаторы нашего Севера. Следы их поселений от устьев Немана и до Белоозера. Словенская область Новгорода
Первая страница русской истории, и самая достоверная страница, была написана в то самое время, почти в тот же самый год, когда впервые огласилось в истории и русское имя. Она написана знаменитым цареградским патриархом Фотием в его окружной грамоте к восточным святителям, в которой он впервые обличает Западную церковь в отпадении от православия, в неправедных захватах, в высокомерии и властительстве, – где, следовательно, строгая и точная правда каждого слова служила ручательством святой истины всего дела.
Патриарх Фотий справедливо почитается светилом учености и образованности своего века. Этот век (девятый) ученые не без основания именуют веком Фотия, потому что «во все продолжение существования Греческого царства, от Юстиниана до падения Византии, никто не принес стольких услуг наукам, как патриарх Фотий». При нем положено начало славянской образованности в переводе священных книг на славянский язык. Славянский первоучитель святой Кирилл был учеником Фотия.
Что касается церковной распри между Востоком и Западом, подавшей повод к написанию упомянутой грамоты, то она возникла все из-за той же Болгарии, тогда еще новорожденной в христианской истине. Латинский Запад в лице римского папы во что бы ни стало хотел забрать новую паству со всею ее землею в свои руки. С этой целью он послал к новопросвещенным своих епископов и стал сеять на новой ниве свои западные плевелы и мудрования. Дабы положить конец властолюбивым притязаниям, Фотий окружной грамотой призывал святителей решить дело собором и поставлял на вид, как благоприятное для борьбы знамение времени, крещение болгар и русских, говоря, что если и языческие народы отлагают свои старые заблуждения и приходят в разум истины, то, по благодати Божией и содействием собравшихся святителей, возможно будет исторгнуть и западную ложь.
«Не только болгарский народ переменил прежнее нечестие на веру во Христа, – писал он, – но и тот народ, о котором многие многое рассказывают и который в жестокости и кровопролитии все народы превосходит, оный глаголемый рос, который, поработив живущих окрест него и возгордясь своими победами, воздвиг руки и на Римскую империю – и сей, однако, ныне переменил языческое и безбожное учение, которое прежде содержал, на чистую и правую христианскую веру и вместо недавнего враждебного на нас нашествия и великого насилия с любовью и покорностью вступил в союз с нами. И столь воспламенила их любовь и ревность к вере (благословен Бог вовеки! – взываю я с Павлом), что и епископа, и пастыря, и христианское богослужение с великим усердием и тщанием приняли»[1].
Это было написано в 866 году.
Смысл этих немногих слов очень обширен: в нем заключается, можно сказать, изображение целого периода русской истории, изображение первоначального возраста русской народности. Народ, о котором уже в 866 году многие из греков многое рассказывали, успел к тому времени достаточно окрепнуть на своем месте и пораздвинуть свои силы по сторонам. Он успел уже поработить окрестные племена и, возгордясь своими победами, победоносно явился даже под стенами самого Царьграда. В жестокости и кровопролитии он превосходил все народы… Такими выражениями византийцы всегда обозначали особенную силу и могущество своих врагов. Наконец, оставив язычество, этот народ принял святое крещение и с любовью и покорностью вступил в союз с греками.
«Происшествие важное для всей христианской церковной истории», – замечает Шлецер.
Рассуждая об этой дорогой для нас Фотиевой повести и по своей норманнской системе никак не желая признать в этом достославном росе наших руссов киевских, Шлецер все-таки принужден был сказать, что здесь рисуется «многолюдный и ужасно сильный народ, который не составлял простой разбойничьей шайки, бегающей с места на место, а был сильным завоевательным народом, не знавшим ни кротости, ни уступчивости, с которым византийский двор, даже и после испытанного нашествия и великого насилия, почитал необходимым войти в союз и заключить мир, и привлек его к тому богатыми подарками из золота, серебра и дорогих одежд»[2]. После таких свидетельств и заключений критики становится очень понятным, что руссы, попавшие в 839 году к немецкому императору Людовику на Рейн, действительно могли быть только руссы киевские, ездившие в Царьград от своего кагана для заключения союза с греками, хорошо знавшие круговой Варяжский путь по морю и мимо Новгорода и потому возвращавшиеся к Балтийскому поморью по западной окраине, вероятно, из опасения пройти в малых силах Русским путем по степному Днепру. Очень понятным становится и то обстоятельство, почему хазары в 834 году строят на среднем Дону крепость Саркел[3] – не против печенегов, как обыкновенно толкуют, а, несомненно, против того же роса, ибо помещение крепости на речном перевале из Дона в Волгу обнаруживает заботу и опасение больше всего со стороны водяных сообщений, чем со стороны конных степных печенежских набегов, для которых прямая и ближайшая дорога к хазарской столице лежала гораздо южнее, сухим кочевым путем, и была для печенегов сообразнее.
Итак, в 866 году в Греческом царстве русь уже славилась как народ, совершивший все те подвиги, посредством которых создается полное начало народной самобытности и самостоятельности. Русь покорила окрестную страну, проложила свободный путь в Царьград, заставила льстивого грека искать с нею союза и договора и как бы в удостоверение, что обнаруженные кровожадность и жестокость, т. е. сила и могущество молодого народа, происходят не от дикой и вполне варварской разбойной стихии, а от стремлений гражданских, склонилась даже к христианской вере.
Все это было еще до 866 года. Этот год представляется рубежом особенной, древнейшей русской истории, о которой мы знаем очень немногое. Но замечательно, что те же короткие слова Фотия в полной мере прилагаются и к истории того столетия, которое по пятам следовало за первым годом русской славы. Все, что начальная летопись рассказывает о временах Олега, Игоря, Святослава, Владимира, есть только дальнейшее развитие тех же самых подвигов: покорение окрестных народов, походы на Царьград, мирные договоры с греками и в конце – всенародное принятие Христовой веры – вот чем было исполнено движение русской жизни включительно до времен святого Владимира.
Естественно предполагать, что и начертанная Фотием история со своими славными, но неизвестными нам делами и событиями продолжалась несколько десятков лет, а может быть, целое столетие. Мы указали на два события, дающие довольно явные намеки о том, что в 30-х годах IX столетия в Русской стране что-то происходило: посылались в Царьград послы, хазары строили крепости… Наша летопись об этом времени ничего не помнит и начинает говорить о русских делах почти с того только года, в который написана была повесть Фотия. Очевидно, что все годовые числа летописи, приставленные к первым русским временам, в действительности представляют, по словам Шлецера, одно ученое вранье, основанное летописцем на невинном соображении, что, когда в греческом летописании впервые появилось русское имя, с того только года началась и самая жизнь Руси.
В воспоминаниях детства трудно говорить о верности годовых чисел, а в воспоминаниях народного детства целые десятки и сотни лет застилаются событием одного года, который и выставляется вперед сообразно умствованию первого летописца.
Но если легко отринуть начальную годовую таблицу, в которой с такой правильностью расставлены отдельные случаи наших народных преданий, то очень нелегко, да и совсем невозможно одним росчерком пера, так сказать, отрезать эти предания от настоящей истории народа[4].
Предания, если только их в источнике нет и следа сочинительских литературных сказок-складок, если они рисуют жизненную правду и идут от основных великих народных движений или народных героических дел, каковы предания нашей летописи, – такие предания очень живучи: они сохраняются в народной памяти целые века и даже тысячелетия. Они особенно крепко и долго удерживаются в народном созерцании, если народная жизнь и в последующее время течет по тому же руслу, откуда и первые ее предания, если к тому еще народ не знает писаного слова или мало им пользуется.
Основные черты древнейших русских преданий, которые невозможно определить годами, заключаются в том, что славяне разошлись по своим странам от Дуная, что Христово учение было проповедываемо славянскому языку еще самими апостолами и их ближайшими учениками, – это для общей славянской истории. В частности, для Русской земли первые предания свидетельствуют, что некоторые русские племена – радимичи, вятичи – пришли в Русскую землю от ляхов, т. е. от западных славян, что в самом начале в Русской стране господами были на севере варяги, приходившие из-за моря, на юге хазары, тоже приморские жители; что, следовательно, страна находилась в зависимости от своих морей, на севере от Балтийского, которое так и прозывалось Варяжским, на юге от Каспийского, Азовского и Черного, так как хазары господствовали на этих южных морях.
О дани хазарам поднепровского населения говорит византийский летописец Феофан в начале IX века. О варягах наша летопись помнит, что они как пришельцы, колонисты, населяли все знатные города севера, и что сами новгородцы хотя и были словени, но были варяжского происхождения, т. е. колонисты с Варяжского моря, а эту заметку можно объяснять не только заселением, но и торговой промышленностью новгородцев, сделавшихся по своей промышленности истыми варягами. Затем предание говорит, что север изгоняет варягов и потом призывает к себе князей от варягов-руси, что от этой варяжской руси прозывалась Русю и вся земля.
Далее, наше предание хотя и дает начало Киеву от туземца Кия, но выставляет также на вид, что в оное время этот город был собственно варяжской колонией Новгорода. В одном из поздних списков летописи даже прямо сказано, что первые поселенцы Киева были варяги[5]. Затем предание уже с видом полной достоверности говорит, что все северные люди, призвавшие князей-варягов и впереди их сами варяги собираются под предводительством Олега, идут на юг, захватывают Киев и остаются в нем на вечное житье. Здесь все варяги, славяне и прочие прозываются русью, начинают покорять окрестные племена, а затем ходят на Царьград.
Связь всех этих преданий не только не противоречит рассказу Фотия, но и подтверждает его. Самое уверение летописца, очень настойчивое, что страна прозвалась Русью от варягов-руси, явившихся освободителями народа от чужих даней, совпадает тоже с далеким преданием, записанным в византийской хронике под 904 годом, где между прочим говорится, что «россы прозвались своим именем от некоего храброго Росса, после того, как им удалось спастись от ига народа, овладевшего ими и угнетавшего их по воле или предопределению богов»[6].
Несомненно, что это предание для Киевской страны имело то же значение, как для радимичей и вятичей предание об их происхождении от ляхов, т. е. от западной ветви славян; как и предание о новгородцах, что они, бывши в начале словенами, сделались потом отродьем варягов. Для подобных преданий годовых чисел не бывает, и потому они могут относиться к незапамятной древности.
Киевская сторона, прилегая к широким кочевым степям, находясь на перекрестке народных движений с востока на запад и с севера на юг, должна была с незапамятных времен не раз подвергаться завоеваниям и угнетениям и при благоприятных обстоятельствах снова возрождаться в прежней свободе. При Геродоте, за 500 лет до Р. X., над скифами-земледельцами господствовали скифы-кочевники. В конце I века до Р. X. Диодор Сицилийский рассказывает, что кочевых скифов вконец истребили размножившиеся и усилившиеся сарматы, которые под именем роксолан сразу после скифов становятся господами всей нашей Черноморской украйны. Страбон распространяет жилище роксолан до крайних пределов известного тогда Севера. Очень ясно, что роксоланы и были освободителями днепровского народа от угнетения скифов. Было ли это имя туземным, или оно принесено северными людьми, об этом мы ничего не знаем; но из положения очень давних торговых связей Балтийского моря с Черным и Каспийским – можем не без оснований гадать, что такое имя могло быть принесено и от Севера. Затем в IV столетии на днепровские места случалось нашествие готов, против которых, пользуясь приближением уннов, первые восстали именно росомоны, или роксоланы, и вместе с уннами прогнали их от Днепра. С тех пор в стране от устьев Дона до устьев Дуная господствуют унны. Мы почитаем этих уннов вендами, или ванами скандинавских саг. Их именем, как потом именем руси, или прежде именем роксолан, как всегда бывало, покрывались все местные племена, и славянские, и кочевые. При появлении уннов имя роксолан исчезает, но исчезает ли их свобода, неизвестно. С течением времени от внутренних усобиц унны ослабели, и чтобы совсем их искоренить, греки призвали аваров, которые снова угнетают страну. Через 200 лет страна снова освобождается и от аваров уннами-булгарами, но вскоре снова подчиняется новым властителям, хазарам.
Таким образом, угнетения и освобождения днепровской страны отмечены историей не один раз. И вот объяснение, почему в Киеве жило предание не о Росе – родоначальнике, как у радимичей и вятичей о Радиме и Вятке, но о Росе – освободителе от иноземного ига. Такие предания вполне достоверны уже потому, что они всегда изображают, так сказать, самое существо народной истории. По этим преданиям можно заключить, что быт радимичей и вятичей до подданства их хазарам проходил мирным растительным путем, в то время как быт днепровских полян время от времени, не один раз, подвергался покорениям и освобождениям.
Как бы ни было, но связь всех преданий нашей летописи о Русской земле сводится к одному узлу, что жизнь Руси вообще поднялась от прихода северных людей. При этом предания указывают, что первое движение исторических дел началось в ильменской стороне, в ее главном городе, который прозывался уже Новым городом, следовательно, был потомком какого-то Старого города или старого периода жизни, совсем исчезнувшего из народной памяти. Об этом старом времени у летописца сохранялось только одно сведение, что славянское племя, пришедшее на Ильмень-озеро, прозывалось своим именем – словенами, что оно построило тут город, назвавши его Новгород.
Эти словени, как совсем особое племя, в первые два века нашей истории довольно точно отделяются своим именем от других соседних славянских же племен. Это была самая верхняя, т. е. самая северная ветвь всего славянского рода. Каким образом и в какое время забралось сюда это племя и по какому случаю оно оставило за собой имя словен – об этом летопись ничего не помнит. Однако это самое славянское имя, хотя ж не в полной точности (ставаны, свовены), почти на том же месте упоминается уже в географии II века по Р. X.
Существует ли какая-то связь между голым именем славян в древнейшей географии и началом нашей истории в IX веке?
Чтобы ответить на этот вопрос, чтобы узнать старую историю Нового города, нам необходимо поближе осмотреть первоначальную древность славянских поселений в нашей стране. Мы увидим, что не только появление на своем месте Новгорода, но и весь характер русской истории, как она обозначена в первое время, вполне зависел от древнейших связей и отношений балтийского славянского севера и черноморского греческого юга, проходившего по нашей стране именно теми путями, где сплошными поселками искони сидело и до сих пор сидит одно русское славянство.
Споры и рассуждения о том, когда пришли славяне в Европу и какой они собственно народ, азиатский или европейский, теперь вполне и навсегда упразднены рожденной на нашей памяти наукой сравнительного языкознания[7]. Она освободила славян от тьмы невежественных европейских предубеждений и предрассудков, которые и в науке, и в политике не выделяли достойного места славянству как народности, не сумевшей стать господином в своей земле и потому будто бы не имеющей равных дарований и талантов с остальными европейцами. Весьма точными и подробными исследованиями состава и истории европейских языков наука сравнительного языкознания утвердила теперь несомненную истину, что все европейцы, в том числе и славяне, родные братья между собой; что все они происходят от одного отца-прародителя, от одного народа – древних ариев, живших некогда, как предполагают, в Средней Азии, за Каспийским и Аральскими морями, наверху рек Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи, в тех местах, где находится известный нам Ташкент и где лежат земли древней Бактрии. Та страна в древности так и называлась семенем ариев. Оттуда в течение многих веков и, быть может, тысячелетий разные племена арийцев мало-помалу разошлись в разные стороны, подобно тому как, по нашим преданиям, славяне разошлись от Дуная и Карпатских гор. Южные племена, индусы, передвинулись дальше к юго-востоку, в области рек Инда и Ганга; другие переселились на ближайший запад, в области нынешней Персии; иные потянулись вон из Азии на Европейский материк, т. е. на дальний запад и северо-запад от своей родины.
Вероятно, это происходило еще в те времена, когда Аральское, Каспийское, Азовское и Черное моря составляли одно Средиземное море между Европой и Азией, отчего и сухопутная дорога ариев в Европу должна была проходить в двух направлениях: для южных племен – по Малой Азии, для северных, именно для славян, по северным берегам упомянутых морей, по нашим прикаспийским и черноморским степям, через все реки, впадающие в эти моря из нашей равнины.
Имя арии, как толкуют, значит «почтенные, превосходные».
Кто из европейских ариев пришел прежде, кто после, трудно судить, но, основываясь на теперешнем размещении европейских народов, естественно предполагать, что кто остался, так сказать, позади в этом шествии с востока, тот, конечно, и пришел после всех. По северу славяне и литовцы искони живут на востоке Европы, ясно, что если они шли по северному пути, то пришли сюда позднее других, в то время, когда все места дальше к западу были заняты. То же можно сказать о греках в южных странах Европы.
Предполагают, что первыми пришли кельты, италийцы и вообще племена романские, занявшие крайний европейский запад, за ними греки, а уже потом германцы и славяне. Знаменитый первоначальник науки языкознания, Бопп, на основании исследований о языке славян и литвы высказал твердое убеждение, что эти языки должны были отделиться от своего азиатского корня позднее всех других европейских языков. Таким образом выводы лингвистики только подтвердили, так сказать, физическую истину, т. е. географическое местоположение нашего племени относительно других европейских арийцев.
Не менее знаменитый Шлейхер, напротив, думает, что от первобытного индоевропейского народа сперва отделилась и начала свое странствование та часть, из которой позднее произошли народы литво-славянский и немецкий. Другая часть выделилась позднее и населила юго-запад Европы племенами кельтов, италов, греков. Отделившись от первобытного корня, славяно-немецкая ветвь вначале составляла одно племя, один язык, один особый народ. Прожив долгий период времени единым племенем, она потом распалась на две части, литво-славянскую и немецкую. Где произошло это распадение, на дороге ли из Азии или уже по прибытии в Европу, узнать невозможно. После и литво-славянская ветвь, в свою очередь, точно так же распалась на две части, литовскую и славянскую, а наконец, и особая славянская ветвь разделилась на многие особые же отрасли. Некоторые (Гильфердинг) не соглашаются с выводами Шлейхера об особом кровном родстве славян с немцами[8]. Но эти выводы, ввиду дальнейших исследований, очень важны в том отношении, что явственно обнаруживают если не коренное родство, то беспрестанные связи, соседство и взаимодействие между славянством и германством.
Таково предполагаемое родословное древо европейских народов и наших славян. По этому древу славяне оказываются родственниками, с одной стороны, немцам, а с другой – в особенности по звуковому составу языка, очень близкими родственниками очень далеким индусам. «Славянский язык, – подтверждает Бопп, – из европейских находится в самом близком родстве к санскриту», а санскрит есть древний язык индусов и древнейший, хотя и не первоначальный, язык всех арийцев.
Любопытнее и важнее всего тот вывод сравнительного языкознания, что прародитель европейцев, первобытный народ ариев, живя в своей стране, обладал уже такой степенью развития, которая совсем выделяет его из порядка так называемых диких людей. Он не был уже кочевым звероловом или кочевым пастырем скота, он был земледелец и жил в обстановке и в устройстве первоначального оседлого быта. Положительные сведения об этом добыты из коренного словаря всех арийских племен, который составился сам собой, как только были произведены сравнительные изыскания об однородности языка древнейших ариев. Отсюда и выведены несомненные истины, что прародитель арийцев умел устраивать себе жилище, дом, в котором были двери, печь из камня; что главное его имущество и богатство составлял домашний скот, коровы – говядо, быки, туры, волы, лошади, овцы, свиньи, поросята, козы и даже птица – гуси. При стаде и доме жила собака, но кошка еще не была домашним животным.
Главное его занятие было хлебопашество. Он орал землю ралом, сеял жито, семена которого могли быть полба, ячмень, овес, но рожь и пшеница появляются после; умел молоть зерно, печь хлеб, ел мясо вареное и даже чувствовал отвращение к сыроядцам, т. е. к дикарям кочевникам. Питался также молоком; употреблял в пищу и мед, и пил мед как хмельной напиток.
Кроме скотоводства и хлебопашества он знал и некоторые ремесла, знал тканье, плетенье, шитье; знал обделку золота, серебра, меди.
«Поэтому каменные орудия, находимые в Европе, – замечает Шлейхер, – не могли принадлежать индоевропейцам, потому что они знали металл до переселения сюда, и нельзя себе представить, чтобы народ с течением времени забыл его употребление. Стало быть, каменные орудия надобно приписывать древнейшему слою населения в тех странах, которые были заняты потом индо-европейцами.
Прародитель умел плавать в ладьях при помощи весла. Его умственное развитие выразилось в знании счета по десятичной системе; однако он считал только до ста.
Устройство людских связей и отношений было родовое; его корнем была семья, жившая союзом брака, единоженства. Степени и связи родства обозначались теми же самыми словами, какие живут и доселе: отец – батя, мать, сын, дочь, брат, сестра, нетий – племянник, зять, сноха, свекор, свекровь, деверь, вдова. Замечательно, что в языке прародителя существуют только слова для изображения мирных занятий и нет слов, обозначающих деятельность воинственную. Такие слова появились уже у поздних потомков, когда арийцы разделились и разошлись по странам.
Понятие о боге прародитель выражал тем же словом бог, богас – податель благ. Он поклонялся вообще существам природы, и прежде всего светлому небу – Диву, солнцу, заре, огню, ветру и матери-земле.
Таково было наследство, полученное европейцами от своего прародителя; таковы были розданные им таланты, с которыми они потом разошлись по своим землям. Развитие этих талантов у каждого отделившегося племени вполне зависело от обстоятельств времени и места, от того, с кем встречалось племя на пути, где поселялось в новых местах и кого имело у себя соседом. Так, греки в своем переходе с прародительской земли основались по преимуществу на морских берегах, по морям Средиземному и Черному, где встретили финикийцев и египтян – народы высокого развития, и сделались достойными наследниками их культуры. Морские берега, их особое количество и качество, повсюду благоприятствовали человеческому развитию, и потому кто поселялся на таких берегах, тот сразу приобретал неоценимое сокровище для дальнейшей жизни.
Благоприятное развитие италийских племен точно так же вполне зависело от количества и качества морских берегов, от этого многообразного европейского полуостровья, которое они заняли для своих поселений.
Отделившиеся от прародителя народы немцев и славян, по-видимому, с самого начала основались в луговых, лесных и горных местах серединной Европы. Здесь, по указанию Шлейхера, они присоединили к арийскому житу посев пшеницы и ржи и выучились варить пиво.
Конечно, не эти одни предметы характеризуют степень развития первобытных славян и германцев. Наука о языке указывает только примерные черты этого развития, которое полнее выяснится при дальнейших ее исследованиях. Но именно эти злаки и этот напиток уже достаточно объясняют, в каких местах, под какой широтой существовали первые поселения славян и немцев.
Выводы сравнительного языкознания очень важны для нас по преимуществу в том отношении, что они раз и навсегда утверждают неоспоримую истину, что славянское племя ни в какое время древнейшей, а тем более средневековой европейской истории не находилось на том уровне развития, который именуется вообще диким, что поэтому и Несторово изображение первобытной дикости русских племен во многом преувеличено для наибольшей похвалы родным полянам.
Если и самые прародители всех европейцев не были народом, похожим на цветных дикарей Америки и Австралии, как представлял себе наших славян знаменитый Шлецер, то все рассуждения о первобытной медвежьей дикости немцев и славян, говорит Шлейхер, по меньшей мере не имеют значения.
Понятия об этой дикости и особенном варварстве наших предков мы приняли по наследству от древних греков и римлян, которые не без особенной похвальбы самим себе почитали весь остальной мир диким и варварским. Так точно и теперь образованные и необразованные европейцы, тоже не без особой похвальбы самим себе, почитают нас, русских, полнейшими варварами, приняв это мнение тоже по наследству от греков и римлян, больше всего литературным путем. В глазах теперешнего европейца Россия есть та же Скифия греков и Сарматия римлян. Западная школа, как упрямая наследница школы латинской, и вся западная образованность учит эту истину уже более тысячи лет. Даже братья-славяне, особенно католики, как ученики той же латинской школы, точно так же смотрят на нас свысока и, по римскому взгляду, почитают нас тоже варварами. Не говорим о поляках, которые вместе с французами старательно доказывали в одно время, что мы даже и не славяне, а туранское племя.
Само собой разумеется, что арийское наследство, а именно земледельческий и оседлый быт, который славяне принесли в Европу, подобно евангельскому таланту, не составляло еще полного богатства. Оно заключало в себе только твердые основы для дальнейшего развития, такие основы, которые, несмотря на все превратности исторической судьбы нашего племени, все-таки спасали его от совершенной погибели и разорения, т. е. спасали от совершенного одичания. И это особенно должно сказать о восточном славянстве, так как ему одному из всех славян выпала на долю бесконечная борьба именно с кочевыми дикарями. В этом отношении восточное славянство больше других арийцев показало, насколько тверды и прочны были первобытные основы арийского быта. В своих беспредельных лесах и степях оно не было побеждено ни бесконечным пространством своей дикой равнины, ни бесчисленными полчищами своих диких врагов – кочевников. К тому же его богатые братья – европейцы никогда ему и не помогали. Напротив, и в древнее время, и в современной нашей борьбе со старыми кочевниками они употребляли все усилия, чтобы по возможности ослабить и разорить восточного бедняка уже только за то, что он скиф, что он сармат. Нужно ли говорить при этом, какой дорогой ценой этот бедняк добывал и приобретал у своих богатых братьев плоды всякого просвещения, знания, образованности.
Арийское наследство славян, как мы сказали, заключалось в земледельческом быте со всей его обстановкой, какая создалась из самого его корня.
Еще до распадения на многие отрасли, живя единым первобытным племенем, славяне «были народ по преимуществу земледельческий». «Скотоводство у них было распространено больше, чем у германцев»[9] несомненно по той причине, что они жили в лучших пастбищных местах, каковы были их приднепровские и придунайские степи. Любимым и самым сподручным их промыслом было бортевое дупловое добывание пчел, т. е. добывание воска и меда. Еще фракийцы рассказывали Геродоту, что в землях, лежащих к северу от Дуная, столько водится пчел, что людям дальше и пройти нельзя. Известные доселе роды хлебов и овощей: рожь, овес, ячмень, пшеница, просо, горох, чечевица, мак, дыня и пр., плодовых дерев – яблоня, груша, вишня, черешня, слива, орех, и лесных – дуб, липа, бук, явор, верба, ель, сосна, бор, береза; известные доселе земледельческие и другие орудия – плуг, орало, серп, коса, секира, мотыга, лопата, нож, долото, шило, игла, как и хозяйские устроения – гумно, мельница, житница, не говоря о доме и дворе с различными постройками, о деревне – веси и т. д.; известные доселе ремесла – коваль-ковач (кузнец), гончар, ткач, суконщик и пр., а следовательно, и разные предметы ремесленных изделий – все это было известно еще народу-прародителю всех славянских племен. Он знал стекло, корабль, полотно, сукно, одежду – рубаху, ризу, плащ, обруч, браслет, перстень, печать; копье, стрелы, меч, стремя; он знал письмо – книгу (доску), образ в смысле рисунка; он знал гусли, трубу, бубен.
Домашнее и общественное устройство людских отношений и связей и у прародителей было такое же, какое находим и у всех разделенных племен. Слова: земля, народ, язык, племя, род, община, князь, кмет, воевода, владыка, староста, не говоря об именах родства, все принадлежат языку прародителя. Существовали уже понятия закона, правды – права, суда. Существовал торг, мера, локоть, пенязь (деньги), взятый едва ли от готов – германцев, а по всему вероятью, принадлежавший обоим народностям с незапамятного времени[10].
В прародительском языке нет только слов, ясно определяющих понятия о личной собственности и наследстве, и поэтому такие слова у разных племен различны. Это объясняется общей чертой славянского быта, не выдвигавшего личность на поприще деяний самовластных, господарских, самодержавных, но всегда ограничивавшего ее правами рода и общины. Личность в римском и немецком стиле для славян была созданием непонятным, и потому в их быту и не существовало никаких правовых ее качеств.
Сравнительное языкознание выводит также предположение, что славяне и братья их – литовцы переселились в Европу уже в том веке, когда вошло в употребление железо. Древние арийские переселенцы знали только золото, серебро, медь, бронзу (смесь меди с оловом). Железо было очень хорошо известно уже геродотовским скифам. Они употребляли железные мечи, удила, пряжки, обтягивали колеса железными шинами, скрепляли колесницы железными полосами. А так как имя железа известно было уже древним индусам и в их языке имеет корни, то очевидно, что славяне принесли в Европу это имя и самый металл, отделившись от индусов после всех своих европейских братьев.
Из этого короткого обзора первобытных очертаний славянского быта выводится одно заключение, что первоначальная культура славянства едва ли в чем уступала культуре древних германцев; во многом она даже и превосходила германскую, именно превосходила особым развитием по преимуществу земледельческого быта со всеми его потребностями и со всей обстановкой. Самый плуг, по уверению Шлейхера, заимствован немцами у славян. Во многих местах Средней и Южной Германии славяне в свое время были учителями земледелия; там и поныне глубокие и узкие борозды называются вендскими[11].
Поэтому необходимо заметить, что все, что рассказывают исследователи-патриоты о влиянии в древнейшее время немецкой культуры на славянскую, требует основательной проверки, ибо немцы во всех ученых, общественных и политических случаях идут всегда от предвзятой истины, что славянский род есть низшая степень перед германством и с незапамятных времен всем обязан просветительной деятельности германцев. Исторические и культурные отношения последних веков они переносят чуть ли не ко временам Адама.
«Было бы решительно странно, – говорит Шлейхер, – если бы славянский язык вовсе не имел слов, заимствованных из немецкого, тогда как славяне и немцы с незапамятных времен были соседями и когда немецкие племена раньше славян приобрели историческое значение. Само собой становится правилом, что значительнейший народ обыкновенно сообщает важные культурные слова народу, занимающему низшую ступень развития… Поэтому вполне понятно, если в славянском (языке) мы находим такие важные слова, как князь, хлеб, стекло, пенязь, заимствованные из немецкого».
Эти слова обозначают культурные предметы, которых славяне, стало быть, не знали до тех пор, пока не встретились с немцами. Но когда это было? Вопрос крайне любопытный, тем более что упомянутые слова принадлежат славянскому прародителю или тому времени, когда славянство еще составляло один род и не разделялось на ветви. Это такая древность, о которой не помнит никакая история, а в лингвистике хронология еще только предчувствуется.
О пиве достоуважаемый ученый замечает, что различие в немецком и славянском его названии таково, что нельзя и думать о заимствовании, и потому относит изобретение этого напитка к тому времени, когда славяне и немцы составляли один коренной народ. Но, быть может, при более тщательных исследованиях окажется, что и все другие слова точно так же принадлежали языку и культуре этого славяно-немецкого корня, или, вернее, такой древности, где и славяне, и немцы стояли во всех отношениях на одном уровне развития.
О слове князь он говорит, что оно могло быть заимствовано у немцев еще в коренной литво-славянский язык, т. е. когда славяне не отделялись еще от литвы, хотя уже вместе с литвой отделились от немцев. Вот в какое время немцы уже были господами славян. Так может заключать каждый простой читатель, ибо слово князь, как и позднейшее барон, обозначает известного рода власть, родовую или общинную, и должно было появиться у славян в одно время с понятием об этой власти, почему исследователь и называет заимствование этого слова важным. Пусть сама лингвистика судит о достоинстве лингвистических доказательств в подобных выводах; но так как эти выводы получают значение исторических фактов, то они по необходимости должны быть проверены историческими и даже этнологическими отношениями, которые всегда бывают несравненно понятнее для простого разумения. Наши лингвисты очень основательно доказывают, что слово князь, хотя и общего происхождения с немецким kuning, однако у славян и литвы определилось в своем значении самостоятельно[12]. Общее происхождение славян и немцев, утверждаемое Шлейхером, больше всего говорит и за общее происхождение от одного родного корня подобных слов.
Слово хлеб, в смысле испеченной круглой формы, дает повод немецким ученым доказывать, что «искусство хлебопечения перешло к славянам от немцев». Значит, славяне, усердные хлебопашцы, принесшие умение печь хлеб еще от арийского прародителя, все-таки до времени знакомства с немцами питались киселем или блинами и не знали, какую форму дать приготовленному тесту. Слово хлеб во всех германских, в литовском и во всех славянских языках имеет однородную форму и большая родня латинскому (libum) и греческому кливанон. «В Греции это слово было очень старо, – говорит Ген, – но попало туда, может быть, из Малой Азии. Из Греции оно, через посредство промежуточных народов, фракийцев, паннонцев и т. д. перешло к немцам, которые в свою очередь передали его далее литовцам и славянам». Но славяне искони жили у Дуная и на Днепре, т. е. несравненно ближе немцев и к грекам, и к Малой Азии. По какой же необходимости учиться хлебопечению они должны были идти к немцам, в средину тогда еще глухой Европы, а не к южным соседям – грекам! Быть может, то же самое должно сказать и о стекле, как и о других подобных культурных словах.
Любопытно также рассуждение Гена о плуге, первое употребление которого, вопреки Шлейхеру, он присваивает немцам. «Собственный плуг, – говорит он, – в несколько колен, с железным сошником, а в дальнейшем развитии и с колесами, – сделался впервые потребностью только тогда, когда в течение столетий почва мало-помалу стала освобождаться от корней и каменьев, и земледелие потеряло свой кочующий, добавочный характер. С этого времени. когда северо-восточные народы частью проникли из своих лесов и со своих пастбищ на юго-запад, частью получили оттуда образовательные начала всякого рода, идет германо-славянское выражение Pflug, плуг. Историю этого слова можно проследить довольно хорошо. У Плиния (кн. 18, 48) находим известие: “Недавно в Галльской Реции изобретено прибавлять к нему (плугу) два маленьких колеса, что называется plaumorati”. Хотя чтение ненадежно и форма слова темна, – говорит автор, – но в этом названии осмелимся находить древнейшее упоминание позднейшего плуга». Он указывает, что слово plovum, plobum, плуг упоминается уже в середине VII века в Лангобардских законах. «Из Германии, – продолжает автор, – это слово перешло потом к славянам, когда и эти последние – как всегда, позади и после германцев – обратились к высшим формам земледелия. Наоборот, немецкий земледельческий язык заимствовал многие славянские выражения в те юные времена, когда славянские племена проникли в сердце нынешней Германии и должны были, в качестве крестьян, работать на своих немецких господ»[13].
В темном и ненадежном слове plaum – orati можно восстановлять целое славянское речение плоугом орати, которое как нельзя яснее выражает то, что сказал Плиний. Нам неизвестно, как думают об этом слове славянские лингвисты; но во всяком случае оно заслуживает их внимания. Галльская Реция на севере граничила с Винделикией, находившейся между Верхним Дунаем и Инном, где город Аугсбург. Винделикия, присоединенная к Римским областям императором Августом, указывает на имя вендов-славян, от которых колесный плуг и мог перейти в Галльскую Рецию[14]. Логически выводя употребление плуга от того времени, как лесные нивы уже достаточно были вычищены от корней и каменьев, или когда немцы вышли из лесов и поселились в южных полях, автор вовсе не имеет в виду того обстоятельства, что славяне с первых же своих поселений в Европе (около Днепра) основались в черноземных степных местах, где одним ралом или сохой всего сделать было невозможно и где по необходимости приходилось выдумывать плуг, который для этого и упал скифам прямо с неба, как свидетельствовали их предания. Из своих степей славяне отнесли его и дальше к западу, в сердце Германии. В этом случае изобретателем была, так сказать, сама почва, на которой кто жил. Долгое время люди могли довольствоваться и первобытными орудиями, но потом сама почва заставила пахать и на колесах, и в несколько пар волов.
Но вообще все подобные выводы о культурных заимствованиях между древними народами, по справедливому замечанию Шлейхера, «могут быть решены только обширными и строгими исследованиями, которые ожидаются еще в будущем».
Развитие средневековой варварской Европы отличалось у всех племен значительной однородностью и, можно сказать, общим единством в том смысле, как и теперешняя образованность Европы при всем различии народностей заключает в себе много общего, однородного, единого. Причинами этого служили не только однородность происхождения, но и одинаковые условия быта, отчего повсюду встречаем сходные нравы и обычаи, сходные предания и верования, сходные формы всяких вещей и предметов внешней обстановки этого быта.
Варварская культура, находясь под влиянием римлян на западе и греков на востоке, стала двигаться заметными шагами к совершенствованию и разнообразию только с той поры, когда неустроенная политически и почти во всем сходная толпа варваров стала расчленяться на особые, отдельные друг от друга, политические тела, называемые государствами. С этой минуты начинается и различие в культуре западных народностей: передовое движение одних и отставание других, смотря по условиям места и исторических обстоятельств. С этой поры и идут так называемые культурные заимствования низших народов, мужиков, у высших – господ. Но такие заимствования история очень хорошо помнит и может их перечислить с полной достоверностью. Что же касается времени догосударственного или доисторического в быту варварской Европы, то здесь, как мы думаем, очень трудно, а в иных случаях и совсем невозможно сказать или доказать, кто стоял выше по культуре: кельт, галл, германец или венд-славянин. Все они были образованы одинаково и их культурная высота заключалась только в оседлом быте, ввиду которого римляне и отделяли их от варваров-кочевников, более свирепых и более неустроенных. Славяне, занимая середину между оседлыми, т. е. германцами, как понимали римляне, и кочевыми, т. е. сарматами, совсем терялись для истории или в имени Германии и германцев, или в имени Сарматии и сарматов. Оттого ученая история и не знает, где они находились до появления в летописях имени словенин, и, рассуждая совсем по-детски, признает это появление летописных букв за появление в исторической жизни самого народа.
Сравнительное языкознание, все более и более раскрывая глубокую древность арийских переселений в Европу, доказывает, между прочим, только одно: что славянский род должен был прийти в Европу позднее других, и если бы прошел северным путем, мимо Каспия, в чем нельзя сомневаться, и из Малой Азии, то нет также сомнения, что древнейшим и уже постоянным местом его первых земледельческих поселений были плодородные степи около Днепра. Сюда в первое время славяне должны были скопиться из всех степных обиталищ с пройденного пути, начиная от Каспия и Нижней Волги и через Нижний Дон, ибо в тех обиталищах, по-видимому, скоро показались кочевники, которые, размножившись в своих азиатских местах, быть может, погнали славян и из самой Азии.
В то время, когда Геродот (450 лет до Р. X.) описывал нашу Скифию, германцы и славяне давно уже жили на своих коренных местах, и восточная украйна Европы, от берегов Черного до берегов Балтийского моря, по направлению Карпатскиих гор, необходимо была населена только славянами. В VI веке по Р. X. они здесь живут многочисленными и даже бесчисленными поселениями, о чем говорят Прокопий и Иордан. С того времени до наших дней они живут на тех же местах почти четырнадцать столетий. Очевидно, что, восходя от VI столетия вверх к Геродоту (на девять столетий) и уменьшая эту многочисленность, мы необходимо должны встретиться с состоянием дел, как их описывает Геродот. По его словам, наша южная равнина в то время была занята от Днепра на восток кочевниками, от Днепра на запад – земледельцами. И те и другие у греков носили одно имя скифов; но в своих рассказах Геродот достаточно отличает кочевников от земледельцев. Он только мало различает древние предания обеих народностей и не указывает, что должно относить к оседлым и что к кочевым. Дело науки, расчленить эти предания и устранить ученый неосновательный обычай толковать о Скифах безразлично, как об одной кочевой народности.
Скифы говорили Геродоту, что начальное время их жизни у Днепра, когда царствовали у них три брата и упали к ним с неба золотые земледельческие орудия, случилось за 1000 лет до похода на них Персидского Дария, т. е. за 1500 лет до Р. X. Это показание мы и можем принять как ближайший рубеж для определения времени первых заселений славянами европейских земель. Об адриатических венетах в начале II века по Р. X. записано Аррианом предание, что они переселились в Европу из Азии по случаю тесноты и поражений от ассирийцев. Это новое показание может только подтверждать предание скифов, ибо славные завоевания ассирийцев относятся к тому же времени, с лишком за 1200 лет до Р. X.[15] Отыскивать в числе днепровских скифов каких-либо германцев или другой народ, кроме славянского, нет оснований. Тому очень противоречит именно седая древность арийских переселений и свидетельства истории от времен Геродота. Мы уже видели, что все арийцы не были кочевниками, но были земледельцами; поэтому, заселяя Европу, хотя бы наши южные степи, они должны прежде всего неизменно оставаться теми же земледельцами. При Геродоте такие земледельцы жили около Днепра и дальше на запад. Между Днепром и Доном жили кочевники. Затем и после Геродота до самых татар здесь живут тоже кочевники. О приходе с востока других каких-либо земледельцев, и притом во множестве, история не говорит ни слова; она описывает только нашествия кочевников. Из этого уже видно, что геродотовские днепровские земледельцы были последними пришельцами от арийского Востока, и если славяне шли позади всех других арийцев, то время Геродота застало их уже на Днепре.
Уже древние догадывались, каким способом могли происходить подобные переселения. Плутарх в «Марии» приводит современные ему догадки и толки о движении на Рим за 100 лет до Р. X. кимвров (сербов?) и тевтонов. Кимвры и тевтоны двинулись из глубины Германии. Они искали земель для поселения. Они знали, что таким путем кельты заняли лучшую часть Италии, отнявши земли у этрурцев[16]. Все это показывает, что кимврам и тевтонам было тесно на своей земле и они решились искать новых мест более теплых, чем их родина. Все это показывает, что спустя 300 лет после Геродота в Германии чувствовался уже избыток населения, потому что вообще все передвижения народов поднимались не иначе как от тесноты, от недостатка корма, следовательно, вообще от размножения людей нарождением. По рассказам древних, кимвры и тевтоны не все вдруг разом и не беспрерывно выходили из своих земель, но каждый год с наступлением весны все двигались вперед и в несколько лет пробежали войной обширную землю севера Европы. Это значит, что каждую весну, занимая новые места, они устраивали посев хлеба, дожидались жатвы и после зимнего отдыха, с наступлением новой весны, передвигались на новые места для пашни. За передовыми, конечно, следовали тем же порядком задние. Так и не иначе могли переходить с места на место народы земледельческие. Они останавливались там, где находили лучшие земли для жилища или где по случаю тесноты населения дальше идти было невозможно. Так и славянские племена должны были остановится около Днепра, который не только сделался их кормильцем, но, по преданию скифов-земледельцев, он сделался их прародителем, ибо первый скиф родился от бога и дочери реки Днепра, в образе которой, быть может, обожествлялась сама река. Этот прекрасный миф, если он славянский, в чем мы не сомневаемся, сам собой уже свидетельствует, что коренное жилище древнейших славян, на пути из арийской родины в Европу, основалось прежде всего вокруг Южного Днепра. Отсюда с накоплением населения каждую весну славяне могли переходить дальше на запад к Карпатам и Дунаю; дальше на северо-запад вверх по самому Днепру, по Припяти и Березине к Балтийскому морю; вверх по Бугу и Днестру – к Висле и Одеру, текущим уже прямо в Балтийское море. Точно так же еще в глубокой древности их жилища должны были распространиться и в восточный край по Десне, по Суле и по другим притокам Днепра до Рязанской Оки и до вершин Дона, куда направлялась черноземная полоса этих земель. При Геродоте в этих краях жили меланхлены – черные кафтаны. Геродот свою древнюю земледельческую Скифию располагает между Нижним Днепром и Нижним Дунаем. Наш летописец свидетельствует, что здесь в IX веке живут славяне и что страна их у греков называлась Великой Скифией, что значит тоже древняя, старшая.
Но в этой древней Скифии при Геродоте, по-видимому, жила только восточная, понтийская (русская) ветвь славянского рода. О балтийской, или вендской, ветви историк не имел понятия, потому что не знал, кто живет на дальнейшем севере от его Скифии. В восточной ветви он, однако, различает уже особые колена: алазонов, живших в Галиции и у Карпат, скифов-оратаев – наших полян, и скифов-земледельцев, георгов, обитателей Запорожского Днепра. В VII столетии по Р. X. эти колена обозначаются довольно определенно по случаю переселения хорватов и сербов с Карпатских гор и из Червонной, или Галицкой, Руси, носившей в то время имя Белой (свободной) Хорватии, и болгар с низовьев Днепра и Буга. Оратаи-поляне остались на своих местах. Геродот указывает место и белорусскому племени в имени невров-нуров, которых южная граница начиналась у источников Днестра и Буга. О дальнейшем распространении их к северу историк не говорит ничего, но присовокупляет далекое предание, что еще до похода на скифов Персидского Дария, лет за 600 до Р. X., эти невры, несомненно, более северные, переселились на восток в землю вудинов[17]. Мы уже говорили, что от этого перехода невров на северо-восток могло в течение веков развиться и распространиться новое колено восточной славянской ветви, так называемое великорусское племя. Несомненные подтверждения этому предположению больше всего открываются в именах земли и воды, разнесенных из западного края по всему русскому северо-востоку. Но, как увидим, в образовании великорусского племени участвовали и другие славянские отрасли, а именно балтийские.
На Балтийском побережье, между Вислой и Одером, славянское племя, так же как на прусских берегах и в устьях Немана литва, может почитаться древнейшими старожилами этих мест.
Литовское слово baltas, balts – белый, уже в древнейшее время, задолго до Р. X., послужило корнем для названия этого моря и некоего его острова, известного по собиранию янтаря. Море Балтийское значит Белое, соответственное русскому названию северного Белого моря. Точно так же известное древним скифское имя янтаря, sacrium или satrium, объясняется из латышского: sihtars, sihters, означающего янтарь и вообще кристалл[18].
«Греки с незапамятного времени, – говорит Шафарик, – имели предание о том, что янтарь находится на севере, в земле венедов, где река Эридан впадает в Северное море». Знал об этом и Геродот, но, быть может, из купеческих видов не хотел ничего рассказывать.
Он говорил так: «О крайних землях Европы ничего не могу сказать достоверного, и не верю, что будто существует какая-то река, называемая варварами Ириданом, которая впадает в Северное море, из которой, как говорят, достают янтарь. Неизвестны мне и острова, откуда привозится олово. Да и самое имя Иридан очевидно эллинское, а не варварское и вымышлено каким-нибудь поэтом. Несмотря на все мои старания, я не слыхал ни от одного очевидца, чтобы за Европой находилось море. Только знаю, что олово и янтарь приходят к нам (грекам. – Примеч. авт.) доподлинно с края земли».
Действительно, трудно предполагать, чтобы Геродот, так внимательно и точно изучавший географию и этнографию древних народов, не знал более никаких подробностей, откуда собственно приходит янтарь. Быть может, из-за тех же купеческих видов он не упоминает и самое имя северных венедов и не знает, кто живет по верхнему течению Днепра, указывая только, что там дальше живут людоеды. Из таких рассказов поэтам оставалось одно: поместить реку Эридан в земле венетов, известных тогдашним грекам и самому Геродоту, именно у венетов адриатических. Так это и случилось: правдивое сказание о неизвестном севере помещено на известном юге, где янтаря не существовало, но куда он доходил путем торга и через руки все тех же венетов-славян.
Раскрывая и доказывая эту истину, Шафарик оканчивает свое исследование такими словами: «Итак, вот то древнейшее свидетельство о венетах, праотцах последующих славян, обитавших за Карпатами и на берегу Балтийского моря, свидетельство, коего, после тщательного и беспристрастного исследования всех обстоятельств, к нему относящихся, никак нельзя отнять у нас и никаким утонченным умствованием уничтожить»[19]. Это говорилось ввиду притязаний немецкой учености, ни за что не хотевшей допускать старожитности славян на Балтийском море, а тем более на прусских берегах, искони будто бы принадлежавших германцам, которые, конечно, одни только и торговали янтарем.
Торговля янтарем, по всей видимости, положила первые основания для промышленного развития нашей равнины, для образования в ее разноплеменном населении известного единства интересов, а следовательно, и известного народного единства, сначала едва заметного, а впоследствии уже достаточно очевидного из первых показаний нашей летописи. Воспользуемся суждениями об этой торговле знаменитого Риттера[20].
«Особенно торговля янтарем, – говорит он, излагая историю географических открытий, – много способствовала дальнейшему открытию Средней Европы. Подобно многим другим товарам, золоту, олову, соли, мехам, слоновой кости, пряностям, и янтарь играет замечательную роль в истории открытий земель. Янтарь был тем более важен, что он по праву может быть назван единоместным произведением природы, Unicum, так как нахождение его ограничено почти исключительно лишь весьма небольшой местностью на земном шаре, именно у Балтийского моря. Греки еще в древнейшие времена посылали своих моряков и странствующих купцов из милетских колоний у Понта Эвксинского, вверх по Борисфену (Днепру), для получения янтаря от гипербореев (северных народов). Таким образом впервые пройдена была по самой середине Восточная Европа, с юга на север, от Черного моря до берегов Балтийского в Пруссии, единственного места нахождения янтаря. Уже финикийцы, первоначальные торговцы янтарем во времена Гомера, добывали его с Балтийского прибрежья, но скрывали свой путь. Да и греки берегли тайну добывания товара, равноценного золоту. В Передней Азии янтарь считался не только драгоценнейшим курением в храмах богов и палатах царей, но и самым дорогим украшением наряда. Скоро и на западе, и в Риме, во времена императоров, электрон сделался предметом значительного спроса. Плиний рассказывает (H. N. XXXVII, 11), что император Нерон искал большое количество янтаря, чтобы украсить кораллами из него сети, окружавшие арены амфитеатров, во время расточительных звериных и гладиаторских боев. Для этого послан был сухим путем римский всадник, через Дунай и Паннонию, к янтарному прибережью, к мысу Baltica.
Что римляне были в торговых сношениях с обитателями янтарного прибрежья, доказывают многие римские монеты времен императоров, найденные в пределах Прусской Балтики. Они находимы были преимущественно в погребальных урнах, начиная от устья Вислы до Эстляндии, через Преголю, Неман и Двину, до Финского залива. От Эйлау и Кенигсберга до Риги римские монеты находимы были в большом количестве… Преимущественно найдены были монеты Марка Аврелия и Антонинов».
В немалом количестве в тех же местах были находимы и более древние монеты греческие, а именно афинские, фазосские, сиракузские, македонские и др.[21]
Эти монетные показатели идут непрерывно, начинаясь за несколько столетий до Р. X. и продолжаясь до XII столетия по Р. X. Греческие монеты сменяются римскими, римские византийскими, византийские арабскими, арабские германскими. Все такие находки с полной достоверностью обнаруживают, что этот замечательный угол Балтийского моря, этот янтарный берег, находился в течение более чем тысячи лет включительно до призвания наших варягов в постоянных сношениях не только с южной греческой и римской Европой или позднее с германским Западом, но и с закаспийскими государствами персов и арабов. Римская торговая дорога в Адриатическое море шла по Висле до Бромберга, потом сухопутьем по направлению мимо теперешней Вены. Греческая дорога в Черное море, более древняя, шла по Неману, по Вилье с перевалом в Березину и в Днепр. Это был кратчайший и самый удобный путь. Но купцы несомненно ходили и от устья Вислы, по Западному Бугу с перевалом в Буг Черноморский (Южный). Недаром эти реки носят и одно имя. Другие дороги по Преголе и по Припяти в Днепр если и существовали, то были очень затруднительны по случаю длинного болотистого перевала от Преголи к притокам Припяти. Географ II века, Птолемей довольно подробно перечисляет даже и малые племена здешних обитателей, что вообще служит прямым доказательством торгового значения этой страны, ибо подобные сведения могли добываться только посредством купеческих дорожников или из рассказов туземцев, привозивших к грекам вместе с товарами и эти сведения. Но для нас всего важнее показание этого географа, что морской залив, в который впадают Висла с юга и Неман с востока, называется Венедским, конечно, по той причине, что в нем господствовали венеды, частно своим населением по его берегам, а больше всего именно торговым мореплаванием. В восточном углу этого залива, стало быть, в устьях Немана, Птолемей помещает Вендскую же отрасль, вельтов, по-западному велетов, по-нашему волотов, или лютичей, коренное жилище которых находилось в устьях Одера, а здесь, следовательно, они были колонистами и заслужили упоминания в древнейшей географии, несомненно, по своему торговому значению.
Мы уже говорили, что в преданиях античных греков с торговлей янтарем связывалось имя венетов, вендов. Прямых сведений об этих промышленных вендах древность не сохранила. Они жили на краю земли, и притом еще земли, неизвестной древнему миру. Римляне, по свидетельству Страбона, совсем не знали, что творилось и кто там жил дальше к востоку за Эльбой на Балтийском побережье.
Лет за 50 до Р. X. некие инды, плававшие на корабле для торговли, попали в теперешнее Немецкое (Северное) море и были занесены бурею к берегам Германской Батавии при устьях Рейна. (Несомненно, они пробирались в Арморику к братьям-венетам.) Батавский князь подарил несколько человек этих индийцев римскому проконсулу Галлии Метелу, который узнал от них, что, увлеченные сильными бурями от берегов Индии, они переплыли все моря и попали на германский берег. Этот случай римские ученые приводили в доказательство, что море окружает землю со всех краев и что таким образом и из Индии восточной могли приплыть к Германии самые индийцы. Шафарик очень основательно доказывает, что эти инды суть винды, венды – балтийские славяне, виндийское имя которых является вскоре в I веке по Р. X. у Плиния и Тацита, а потом, как видим, и у Птолемея. И первые двое помещают их тоже в восточных краях Балтики.
Упомянутый случай значителен в том отношении, что он подтверждает истину о мореплавательных способностях славян-вендов, с таким усердием оспариваемую нашими академиками в пользу одних норманнов. Он уже указывает и на торговые сношения этих вендов, ибо в устьях Рейна, куда они были занесены бурею, в последующее время, например в VII веке, находим их поселения близ города Утрехта и дальше на Фрисландском поморье, а равно и на побережьях Британии[22].
Более замечательная колония вендов находилась в еверо-Западной Галлии (Арморике) на Атлантическом океане. Здесь в глубине одного из заливов, именно в местности, где находились лучшие пристани, у венетов был город Венета, Венеция, теперь Ванн, построенный на возвышении, которое по случаю морских приливов было недоступно. Ближайшие острова также назывались Венетскими, из них один именовался Vindilis, другой Siata, а порт на материке – Виндана, один из городов Plawis.
Об этих венетах впервые узнаем от Цезаря, который разгромил их и почти совсем истребил в 56 году до Р. X. Он рассказывает, что венеты пользовались великим почтением у всех приморских народов того края по той причине, что содержали у себя множество кораблей особого устройства и были отличными мореплавателями, превосходя в этом искусстве всех своих соседей. Они владели лучшими пристанями и собирали пошлину за остановку в этих пристанях. Постоянный торг они вели с Британскими островами, куда по этой причине и не желали пропустить римлян Цезаря. Почти все их городки были построены на мысах, посреди болот и отмелей, в местах неприступных, особенно во время морского прилива. Цезарь осаждал их посредством плотин, но без успеха, и сокрушил их только в морском сражении. Выбор места для главного города и для малых городков явно показывает, что венеты были люди по преимуществу корабельные и непременно пришельцы для туземного населения, ибо они одинаково старались защитить себя и с моря, и с суши. В битве с Цезарем они потеряли все свои корабли, всю удалую молодежь, всех старейшин. Остальное население по необходимости отдалось в руки победителю, который всех старейшин казнил смертью, а прочих распродал в рабство. С тех пор, кажется, только имя этой колонии пользовалось славой старых ее обитателей. Современник Цезаря, Страбон предполагал, что эти галльские венеты были предками венетов адриатических – показание важное в том отношении, что, стало быть, у географов того времени были достаточные основания производить родство и адриатических венетов с севера же.
Шафарик, очень осторожный во всем, что касалось присвоения славянству каких-либо имен, окрещенных западной ученостью в германцев, в кельтов и т. п., пишет о галльских венетах следующее: «Мы не спешим этих венетов объявить славянами, оставляя, впрочем, каждого исследователя при своем мнении и суждении об этом предмете. Что эти венеты были племени виндского, не только возможно, но и довольно вероятно; но возможность и вероятность еще не истина»[23]. Точно так. Но нельзя же забывать, что средневековая история, относительно очень многих народных имен, несравненно более сомнительных, большею частью построена только на подобных же возможностях и вероятностях и никак не на истине документальной, так сказать, не на расписках в своей народности самих народов.
По этим причинам и славянский историк имеет полное основание в имени винд-венд прежде всего видеть славянина и может отказываться от этого заключения только в том случае, когда появятся упомянутые расписки в иной народности этих виндов, т. е. когда появятся показания вполне убедительные для всесторонней критики, не только лингвистической, но и этнологической. Суровецкий, которому Шафарик обязан, можно сказать, всем планом своего сочинения, равно как и Надеждин и Гильфердинг, не сомневался в родстве этих далеких венетов со славянами.
Народное, племенное имя не умирает даже и тогда, когда исчезает народ. Оно остается в названии мест, где жил этот народ. «Где бы мы ни встретили еще живое название Рима, – говорит Макс-Мюллер, – в Валахии ли, в названии романских языков, в названии турецкой Румелии и пр., мы знаем, что известные нити приведут нас назад к Риму Ромула и Рема»[24].
На этом, так сказать, бессмертии народного имени мы делаем свои заключения и о вендах, где бы их имя ни встретилось. «Венды (Vinidae), – говорит тот же лингвист, – одно из самых древних и более объемлющих названий, под которым славянские племена были известны древним историкам Европы». Поэтому в распределении арийских племен в Европе он пятую их ветвь, славянскую, предпочитает именовать вендской. Это имя было по преимуществу западноевропейское, несомненно, утвердившееся с той поры, как только славяне показались западным людям, германцам и кельтам. Что касается вендов-венетов, моряков Атлантического океана, то история балтийских вендов, отличных моряков и усердных торговцев с далекими краями, история, положительно известная уже с VII века и ранее, дает прочное основание к заключению, что их атлантические морские предприятия были только отраслью таких же предприятий по Балтийскому побережью. Свои морские торговые дела они оставили в наследие и немцам, ибо знаменитый Ганзейский союз вырос на почве вендского торга и образовался главным образом из вендских же городов. Если б это были шведы, для наших академиков единственный морской народ на Балтийском море, известный Тациту под именем свионов, то, конечно, и галльские венеты, их современники, точно так же прозывались бы свионами, свитиодами и т. п.
От превратностей истории, от поглощения сильнейшими туземцами, атлантические и другие далекие колонии вендов и с их народностью исчезли, как исчезли и греки, колонисты нашего Черноморья, как исчезла славная Ольвия и не менее славные Танаис, Пантикапея, Фанагория, как исчезли потом и сами славяне на Балтийских побережьях, оставив по себе вечную память только в славянских именах теперь уже немецких городов – вроде Висмара, Любека, Ростока, Штеттина, Кольберга[25] и т. д.
Глубокая древность славянских поселений на Балтийском море больше всего может подтверждаться скандинавскими сагами, которые много рассказывают о ванах и венедах, вильцах-велетах, о стране Ванагейм, куда норманны посылали своих богов и славных мужей учиться мудрости. В свите бога Одина находились венды. Богиня Фрейя (славянская Прия – Афродита) называлась венедской, потому что была из рода ванов. Ее отец Ниорд по происхождению был тоже ван. Это племя мифических ванов было прекрасное, разумное, трудолюбивое, потому что было племя земледельческое, мирное. В таких чертах скандинавские мифы рисовали балтийских вендов, в чем не сомневались и осторожный Суровецкий, и еще более осторожный Шафарик[26].
Впоследствии героями скандинавских и немецких преданий становятся гунны с их царем Аттилой. По всей видимости, это была только перемена звука в имени тех же ванов-вендов, ибо Гуналанд – земля гуннов помещается точно так же на востоке Балтики, где находилось царство Аттилы, содержавшее в себе 12 сильных королевств. «Все принадлежало ему от моря до моря», говорят саги, подтверждая известие Приска, что Аттила брал дань с островов океана, т. е. Балтийского моря. Славянство гуннов ничем не может быть лучше подтверждено, как именно этими северными сагами.
Многое, о чем так поэтически рассказывают скандинавская мифология и немецкие саги, быть может, не менее поэтически воспевалось и балтийскими славянами; но они не умели или не успели записать свои сказания больше всего по той причине, что распространение между ними христианства, а следовательно, и грамоты происходило в один момент с истреблением не только их политического существования, но и самой их народности.
Для нашей цели из приведенных свидетельств выясняется несомненное и существенное одно: что славяне под именем вендов, как и литва, сидели на Балтийском побережье с незапамятных доисторических времен. Конечно, из всего славянства, как думают и лингвисты, эта балтийская ветвь была самым ранним передовым пришельцем в Европу, предварившим остальных и оставившим позади себя восточную, или понтийскую, ветвь. Не потому ли на Руси, быть может, с незапамятных, первобытных времен балтийские славяне и прозывались варягами, от древнего глагола варяти – предупреждать, упреждать, пред-идти, что вообще означало передового, а следовательно, и скорого, борзого путника?
Относительно древних связей всего венедского поморья с Русской страной нам остается только вопросить здравый смысл. Если венды, живя в устьях Вислы и Немана и далее по берегу к северу, успели распространить свои поселки до пределов Дании, почти до Нижней Эльбы, если их морские и торговые предприятия заходили не только в Немецкое море, но и в Атлантический океан, то, живя у самых ворот нашей равнины, могли ли они оставить без внимания ее природные богатства и не попытать счастья в проложении дорог по нашим рекам к далеким морям Юга и Востока, которые вдобавок им были хорошо известны и от постоянных сношений с греками. Главные наши речные пути по Днепру, Дону и Волге были знакомы грекам в очень давние времена. Не иные, а, несомненно, торговые сношения между морями нашей страны были, по-видимому, известны еще в век Александра Македонского. Сам Александр знал, что из Каспийского моря можно проехать в океан, и имел даже описание этого пути. Греческие поэты его времени заставляли аргонавтов возвращаться домой, в Грецию, по рекам и переволокам нашей равнины в Северный океан и оттуда вокруг Европы в Средиземное море[27]. Вот в какое время был знаком древним известный нашему летописцу путь «из варяг в греки», и по Днепру, и по морю до Рима и до Царьграда.
Диодор Сицилийский прямо говорит, что «многие как из древних, так и из новейших писателей (между последними Тимей середины III века до Р. X.) объявляют, что аргонавты по взятии Золотого руна, сведав, что выход из Понта был им заперт, предприняли удивительное дело. Они вошли в Танаис (Дон), доплыли до самых его источников и, перетащив свой корабль по волоку в другую реку, которая впадала в океан, свободно туда проплыли, причем от севера на запад так поворотили, что матерая земля оставалась у них слева, потом они вошли в свое греческое, т. е. Средиземное море»[28]. Известие Диодора раскрывает, что торговый путь по нашей равнине проходил и по Дону. Вот по какой причине Птолемей во II веке знает на Верхнем Дону какие-то памятники Александра и Цезаря. Однако донская дорога была вообще меньше известна, чем днепровская, т. е. настоящий наш варяжский путь. В некотором смысле этот последний путь почитался как бы границею между Азией и Европой, и потому Плиний (79 год по Р. X.) хотя по неведению и не может прочертить его в подробности, однако в точности представляет его в своей географии. Окончивши описание островов на Черном море и остановившись на последнем из них (вблизи устьев Днепра), именем Росфодусе, он потом переносится, по его словам, через Рифейские горы, т. е. вообще через возвышенность нашей страны, прямо на берега Балтийского моря, а именно в Вендский залив к устьям Немана, откуда и начинает исчисление тамошних народов и рек, идя от востока же: сарматы, венеды, скирры, гирры; реки Гуттал, Висла и пр. Очевидно, что в этом мысленном переходе с юга на север, от Черного к Балтийскому морю и прямо в залив к венедам, географ следовал давно сложившемуся, живому представлению о существовавшей здесь очень проторенной дороге.
Прямое свидетельство о янтарной торговле, проходившей именно по этому пути, сохранилось у Дионисия Периэгета, который рассказывает, что этот драгоценный товар, нежно сияющий, как блеск молодой луны, приносится двумя реками, спадающими с Рифейских высот в раздельном течении, на юге Пантикапой (река Конка, текущая одним руслом с Днепром) и на севере Альдескосом, при излиянии которого, по соседству с оцепенелым морем, и нарождается янтарь. Какая река носила имя Альдескоса, неизвестно, или же этим словом обозначалась вообще оцепенелая страна льдов, трудно сказать. География IV века (Маркиан Гераклейский) описывает, что в таком же направлении с Алаунских гор текут Днепр и Рудон, древнейший Эридан. В точности нельзя определить, какой реке принадлежит это имя. Древние знали только, что от верховьев Днепра в Ледяное море протекала другая река, связывавшая водяной путь из южного в северное море[29].
Этих неоспоримых свидетельств очень достаточно для утверждения той истины, что путь «из варяг в греки», от балтийских венедов к черноморским руссам, существовал от глубокой древности, перебираясь с течением веков все севернее: с Немана на Двину (Рудон, как объясняют), потом на Неву и в Волхов.
До сих пор одно только сомнительно, и это по милости академического учения о создателях Руси, норманнах, – в чьих руках находился этот путь, по чьей земле он проходил? Обитали ли тут наши же славяне, или вся эта страна принадлежала чужеродцам? Для доказательства, что здесь жили и всем путем владели чужеродцы, например, готы, норманны, не требуется ничего, кроме доброй воли беспрестанно твердить об этом. Но коль скоро вы скажете, что здесь искони веков жили те же славяне, предки теперешнего русского племени, самые прямые наши предки, хотя и носившие другие имена, то в этом случае от вас потребуют доказательств самых осязательных, почти таких, которые могли бы до очевидности показать, что и за 2000 лет по этому пути существовали губернии Херсонская, Екатеринославская[30], Киевская, Минская и т. д.; существовали селения теперешних имен, существовали самые те люди, которые и теперь живут. В этом случае и от древних писателей требуют свидетельств самых точных и со всех сторон определенных, которые прямо бы говорили, что и тогда здесь жили русские теперешние люди, – как будто древние писатели с отличной точностью говорили обо всем, что касалось истории других народов, особенно германцев, и только не хотели ясно и определительно обозначать одну нашу древность. Они точно так же невразумительно и темно говорят о германцах, только говорят больше, чем о славянах, потому что смешивают и тех и других в одно географическое имя Германии; а говоря собственно о славянах, смешивают их с восточными соседями в одно географическое имя Сарматии.
Древним, конечно, еще невозможно было знать русских людей. Они и о стране не имели подробных сведений и знали только имена разных народов, мимо которых проходили тогдашние купцы. Они, по-видимому, только очень хорошо знали, что вдоль и поперек страны ходила торговая промышленность, приносившая им имена и этих далеких незнаемых народов.
В самом начале эти имена писались по-гречески и на латыни не совсем точно; в течение веков они переменялись от исторических перемен в самой жизни народов. Какое-либо отдельное племя вырастало своим могуществом, побеждало другие соседние племена, господствовало над ними и распространяло свое имя на всю окрестную страну. После нескольких столетий являлось новое могущество нового племени и нового края страны, отчего разносилось по стране и новое господствующее имя.
В I веке до Р. X. геродотовские кочевые скифы были окончательно обессилены понтийским царем Митридатом Великим. В I веке по Р. X. вместо Скифии страна именуется уже Сарматией, причем один современник этого же столетия, Диодор Сицилийский, рассказывает, что сарматы, вначале жившие при устьях Дона, с течением времени до того размножились и усилились, что истребили всех скифов, обратили их землю в пустыню. Надеждин очень основательно толковал это сказание, что движение сарматов шло не с востока, от Дона, но с запада от Карпат[31]; а мы прибавим, что, вернее всего, оно шло с севера, от Киевского Днепра. С того времени, по латинским свидетельствам, вся наша страна стала прозываться Сарматией и все народы, в ней жившие, особенно южные, сделались сарматами. Сарматия начиналась уже от устьев Вислы, что явно обозначает, к какому населению относилось это имя. В то время на востоке от Вислы прежде всего жили одни славяне, простираясь на юг до Карпат и Нижнего Дуная. По течению Дуная начинаются и первые столкновения римлян с сарматами.
По истории известно, что с I века по Р. X. древних скифов сменили сарматы-роксоланы. Они господствовали в стране от устьев Дона до устьев Дуная. Но Страбон почитает их народом самым северным, самым крайним из известных ему народов, живущим выше Днепра – конечно, Запорожского, следовательно, в местах киевских. По его словам, ниже роксолан по-прежнему жили еще савроматы и скифы, известность которых уже исчезала пред известностью роксолан.
Толкуя о широте градусов, Страбон относит жилище роксолан к той линии, которая почти приближается к берегам Балтийского моря. Он говорит, что они живут южнее северной земли (Ирландии), лежащей выше Британии. Из его слов ясно одно: что это был северный, вовсе не южный кочевник. Он и в истории представляется народом не столько воинственным, сколько торговым, жившим в союзе с римлянами, получавшим от них годовые субсидии и подарки.
Известно, что имя роксолан внезапно исчезло со страниц истории при появлении уннов в конце IV столетия. Но унны (хуны) помещаются древними историками на киевском же месте, на Днепре. В немецких хрониках Киевская Русь называется Хунигардом, т. е. землею уннов. В немецких древних народных преданиях и в скандинавских сагах хунами называются балтийские славяне. Весь балтийский восток носит имя земли гуннов, Гуналанд. Пока не будет основательно объяснено это в высшей степени важное обстоятельство, до тех пор мы будем верить, что славные унны пришли не из Китая и не от Уральских гор, а из Киевской страны или с Балтийского моря; что они были не калмыки и не венгры, а настоящие славяне. Из рассказа готского же историка Иордана видно, что гунны, унны, ваны явились на помощь роксоланам против готов и выпроводили этих готов вон из роксоланской земли дальше за Дунай; преследовали этих готов и в дальнейших своих странствованиях по Европе, что было уже в V столетии. Действуя во многих случаях заодно с германцами и посреди германцев, Аттила остался героем древних немецких сказаний. Он собирал дань на островах Океана. Эти отношения уннов к островам Океана будут весьма понятны, если мы не забудем вышеизложенной истории торговых связей Венедского залива с Черным морем, если сообразим, что путь «из варяг в греки», от устьев Немана по Березине и по Днепру, мог быть большой проезжей дорогой не только для купцов, но и для балтийских военных дружин, которые дружественно или враждебно способны были пройти между жившими здесь племенами. Так, по указанию Плиния, некие скирры живут на Венедском заливе; но они же (по одной мраморной ольвийской надписи I или II века до Р. X.) на юге входят в союз с галатами (Галицкая страна у Карпат), собирают огромную рать с целью напасть зимой на греческую Ольвию[32]. Точно так же действовали руги и герулы (гирры), одноземцы скирров по Балтийскому морю. Все они действовали и около Дуная, проходя туда или по Одеру и Висле, или по нашему Неману, Березине и Днепру. И к тому же они выступили на сцену вместе, в одно время с уннами, что дает новое подтверждение балтийского происхождения уннов.
Очень естественно, что с Балтийского же берега гораздо раньше могли прийти на свои места и роксоланы, как потом пришли на роксолан готы, а после на готов унны. Тогда в истории происходило общее движение северных балтийских дружин на богатый греческий и римский юг. Балтийский север, накопляя народонаселение, необходимо, век от века, должен был выделять от себя дружины переселенцев на юг, в более плодородные и более богатые места. Немало таких дружин привлекала и черноморская торговля; она, собственно, и прокладывала им дорогу.
Очень также естественно, что эти дружины стремились всегда занять наиболее выгодные места для своего обитания с особой целью господствовать над торговыми городами Черноморья. Оттого мы и встречаем их владыками так называемых Меотийских болот, этого срединного места, всегда господствовавшего варварской грозой над всем Черноморьем и особенно над ближайшими торговыми местами в лимане Днепра и его окрестностях (Ольвия, Херсонес), на Киммерийском Боспоре (Керчь), в устьях Дона и пр. Таковы были герулы, заявившие свое имя во всех этих местах, как и на Дунае. Таковы были еще прежде роксоланы, состоявшие в связях и в большом знакомстве с римлянами, что могло происходить не только по Дунаю, но и от устьев Вислы и Немана. Именно это близкое знакомство с Римом лучше всего объясняет, что роксоланы не были далекими степными кочевниками, а были соседями римлян по торговле и по политическим интересам Рима.
Движение готов в IV веке также направлялось к Меотийским болотам. По всей видимости, готы в это время отнимали владычество у роксолан, т. е., в сущности, отнимали свободную дорогу по днепровско-неманскому торговому пути, для защиты которой и появились унны, ваны, венды, несомненно от Венедского залива. Борьба уннов с готами лучше всего объясняется именно противоборством этих внутренних, так сказать, домашних отношений Венедского залива к новым пришлецам.
По сказанию Иордана, когда готы, приплывши из Скандинавии, высадились на южные Балтийские берега, то прежде всего вытеснили со своих мест ульмеругов, потом овладели землею вандалов. Самое место, где вышли на берег, они прозвали Готисканцией, что, быть может, означает город Гданьск, Данциг[33]. Но и без того ясно, что они высадились в устьях Вислы, т. е. в Венедском заливе. Вандалы обитали к западу от Вислы, ульмеруги впоследствии жили к востоку, но до пришествия готов могли обладать и Вислой, т. е. всем побережьем Венедского залива. Какой народ были эти ульмеруги, неизвестно, или известно, что все знатные народы Среднего века (Средневековье. – Примеч. ред.) были немцы-германцы, следовательно, и ульмеруги должны быть германцами, каковыми были и сотрудники уннов, скирры и гирры, обитавшие здесь же, в области Немана.
Народы исчезли, но от них всегда остаются следы в именах мест, и чем какой народ больше жил на каком месте, тем больше сохраняется и памяти о нем в местных именах.
Теперешняя область Нижнего Немана принадлежит Пруссии. Имя Пруссии упоминается уже в X веке[34], и верное толкование объясняет, что это имя значит то же, что киевское древнее Поросье, т. е. местность по реке Роси, или Полесье в качестве сплошного леса. Здесь так называлась местность, сплошная Русь, по реке Руссу, как и до сих пор называется нижний поток Немана, а поток получил свое имя, быть может, от города Русса (иначе Русня, Руснить), стоящего посреди всех многочисленных устьев Немана на главном его русле. Так, по крайней мере, изображалась эта топография на древних картах.
Из этих устьев по своим именам, как они значатся на тех же картах, особенно примечательны: правое от главного потока, северное, Ulmis, объясняющее Иордановых ульмеругов; главный поток с островом – Russe sive Holm, т. е. Русс или Холм, что таким же образом объясняет и имя Хольмгард скандинавских сказаний; наконец, левый поток Alt Russe, древний Русс, теперь, кажется, Варус. Ближайший отсюда отдельный проток Немана назывался тоже Russe. Неманский угол Балтийского моря в древности также назывался морем Русским[35].
Очевидно, что название всей страны Порусье, или Пруссия, явилось гораздо позже того, как утвердилось здесь поселение Русс, следовательно, этот русс, упоминаемый тоже и в X веке, существовал здесь раньше этого времени. Вот объяснение показанию Равеннского географа, которое относят к IX веку и которое говорит между прочим, что «близ океана находится отчизна роксолан, что там протекают две реки, Висла и Лутта (конечно, Неман), что за сею страной по Океану находится остров Сканза» и пр. Быть может, и Страбон то же самое слышал о своих роксоланах, но не сообщил подробностей. В хрониках XVI и XVII столетий обитатели этой страны именуются ульмигерами, ульмиганами, по-видимому, с явной перестановкой звуков из ульмеругов Иордана. Впрочем, в местных названиях и доселе сохраняется имя древних гирров (герулов), которые, по всему вероятью, то же означают, что и руги[36].
Однако все эти имена, известные только из латинских текстов, в IX или X веках и позднее, оставляют после себя одно господствующее имя: русс. Вместе с тем вся украйна Нижнего Немана (от его устьев до впадения речки Свенты), где в древности существовали руги, руссы, с XII века, а быть может, и раньше, именуется Славонией, или, по прусскому выговору, Шалавонией[37]. В русском переводе Космографии XVII века, приписываемой Меркатору, говорится между прочим, что «Русская или Прусская земля от князя их Вендуса (по другим хроникам Видвута[38]. – Примеч. авт.) была разделена на двенадцать княжеств или областей, в числе которых находилась и Словония, и в этом Словониском княжестве было 15 городов; Рагнета, Тилса, Ренум (Русс? – Примеч. авт.), Ликовия, Салавно, Салвия и пр». Вот почему в первых веках и весь Прусский залив назывался Венедским, как говорили в Европе, или Славянским, как, быть может, известно было на месте. От венедов осталось матерое имя славян, от ругов – матерое имя русс.
Любопытно сравнить это показание о Вендусе с преданиями об Аттиле, который в своем Гуналанде (восток Балтики) имел тоже двенадцать королевств. В тех же преданиях нередко поминается и Вендское море. Все это дает повод предполагать, не напоминает ли имя Аттилы и один из главных городов Славонии, Тилса, нынешний Тильзит, называемый на немецких картах Славеном (Schalauen), – Словенском. Если здесь существовало первобытное жилище уннов, то становится очень понятным и выражение немецких сказаний об Аттиле, что все ему принадлежало «от моря до моря», т. е. весь путь от Балтийского до Черного моря, по которому свободно переходили и роксоланы, и скирры, и герулы. И там и здесь эти имена оказываются своеземцами.
Но откуда же могли прийти в Неманскую страну руссы и славяне, занявшие самый важный край на сообщении по Неману – его устье? Вся эта поморская сторона между Вислой и Двиной была искони заселена литовскими племенами, которые крепко сидели и внутри материка. Сейчас за Вислой к западу, по указанию нашей летописи, находилось Варяжское поморье, где пониже Гданьска (Данцига) стоял и славянский город Староград. Это поморье простиралось до устья Одера. Теперь здесь живут еще не совсем онемеченные славянские остатки кашубов, а в древности, во II веке, здесь, по географии Птолемея, жили руги, рутиклы, и на морском берегу при устье Вепри находился город Ругион (Ругенвальд), вблизи которого южнее и доселе существует город Словин (Словно). Этот угол вендской земли, прилегавши к Венедскому заливу, на памяти истории XII–XIII веков именуется Славо, Славна, Словена, Словене. Малые остатки здешних славян, особенно по морскому берегу, и теперь прозывают себя словенцами, свой язык словинским, словенским[39].
Какое же славно, неманское или поморское, населилось прежде и дало другому начало бытия? Где была матерь населения, метрополия, и где была колония – дочь?
Нам кажется, что заселение славянами Немана произошло позже, чем заселение ими же всего побережья между Вислой и Одером. Неманское население пришло, несомненно, с моря, поэтому и осталось в устье. Население поморья шло по Висле и Одеру. Эти две реки были прямыми дорогами от Карпатских гор к морю, и нельзя сомневаться, что еще в глубокой древности послужили первыми проводниками славян на Балтийское побережье. Лингвисты думают, что при разделении славянства на отдельные племена балтийское (полабское) племя выделилось раньше других.
В VIII веке впервые упоминается, что в устьях Одера, где находится и остров Ругия, живут велеты-лютичи, о которых современный писатель Эйнхард (ум. 840) говорит, что это был самый знатный народ на всем южном побережье Балтийского моря. Во II веке Птолемей, показывая ругов на Варяжском поморье, указывает и жилище велетов на восточной стороне Венедского залива, следовательно, при устье Немана. Вот в какое время велеты, или волоты наших народных преданий, занимали уже первый ближайший от славянского поморья вход в глубь нашей страны. Очевидно, что как в VIII, так и во II веке они одинаково были знатным народом, конечно, больше всего по своей торговле, для которой непременно они основались и на устье Немана. Однако можно говорить, что славянское переселение к Неману шло в обратном направлении, не из-за моря, а из глубины нашей равнины. Так предполагает и Шафарик[40]. Но его принуждает к этому выученная у немцев мысль, которую он или опасался, или не хотел разобрать основательно, та мысль, что Балтийское поморье от начала принадлежало германцам, которые неизвестно как и неизвестно когда ушли оттуда и на их место в V веке явились славяне. Мы уже говорили, что балтийское славянство было древнейшим старожилом на своем месте, о чем свидетельствовал сам Шлецер.
Но утверждению Шафарика всего более противоречит то обстоятельство, что неманский край и до сих пор остается литовским. Если бы поток славянского населения на Балтийское море шел из нашей страны по Неману, то он непременно бы залил славянской породой все берега Древней Пруссии, точно так, как он залил балтийские берега от Вислы до Травы, до самых англов и датчан. Очень многое нас убеждает, что население неманского края славянами происходило главным образом от славян-вендов, с Балтийского поморья; что вообще венды были деятельными колонизаторами не только древнелитовской Пруссии, но и всего севера нашей равнины.
У нас утвердилось мнение, что, например, Новгородский край заселен с Киевского Днепра. Доказательства тому, довольно слабые, находят даже в языке. Но кроме лингвистики и исторических соображений, в этих вопросах необходимее всего принимать во внимание экономические причины, от которых всегда зависело то или другое направление народных переселений.
В отношении этих переселений, особенно мирных, так сказать, растительных, необходимо иметь в виду, что люди, избирая новые жилища, всегда руководствуются какими-либо выгодами для своих поселений. Даже в случаях нашествия иноплеменных, люди в переполохе бегут во все стороны, но все-таки на постоянное жительство выбирают земли, наиболее подходящие требованиям и условиям их быта, выбирают сторону наиболее им родную по привычкам жизни и хозяйства.
Наши восточные славяне все были земледельцы, но природа страны довольно резко разделила их на две совсем особые половины соответственно особым свойствам их земледельческого хозяйства. Одни были степняки – поляне, другие лесовики – древляне. Это разделение и начиналось почти у самого Киева, между полянами и древлянами, но оно в истинной точности может обозначать и различие в характере народного быта по всей нашей древней равнине. Все наши племена были, говоря вообще, или поляне, или древляне по своему хозяйству.
С глубокой древности, еще геродотовской, область полян на юго-восток от Киева принадлежала южнорусскому (малорусскому) племени, а область древлян, геродотовсвих нуров, на северо-запад от Киева, белорусскому племени. Великорусское северо-восточное племя, несомненно, образовалось после, хотя и не на памяти нашей истории.
Кто знает и теперешнее степное хозяйство, образ жизни и привычки южного племени, тот, конечно, едва ли поверит, чтобы полянин в какое-либо время мог променять свой порядок жизни на порядки жизни лесного обитателя наших северных болот.
Уже одна привычка к ландшафту своей родины, к чистому полю – широкому раздолью, очень попрепятствует выбору переселения в глухие леса и болота. Скорее древлянин переменит свой лес на чистое поле, чем полянин выбежит из степного раздолья в лесную глушь и тесноту. Здесь, как нам кажется, и скрывались причины, почему юго-восточный, понтийский отдел нашего славянства распространялся по преимуществу только в полях и для этого от нашествия иноплеменных не бежал дальше к северу, а уходил только к Дунаю и за Дунай или теснился у Карпатских гор, т. е. вообще шел все к югу. Таким порядком создались народности хорватов, сербов, болгар. Напротив того, северо-западный, балтийский отдел русского славянства, нуры-белорусы, живя в лесах и болотах, а потому и называясь древлянами, легко и удобно переселялись все дальше к северо-востоку. Их образ жизни и все привычки едва ли в чем изменялись, если они попадали, например, в ильменские или волжские леса и болота, где настоящего полянина странствующим и ищущим поселения нельзя и вообразить. Особого рода земледельческое хозяйство и привычки жизни требовали, чтобы поляне-степняки шли в поля, а лесовики древляне шли в леса. Так это и происходило с незапамятных времен, когда еще за 600 лет до Р. X. невры передвинулись в земли вудинов. Самые свидетельства истории подтверждают эту естественную истину и говорят больше всего о переселениях с севера на юг, а не наоборот.
При первых князьях южные города населяются людьми, т. е. обывателями, с севера. В последующее время южане появляются на севере не народом, обывателями, а только чиновниками, властителями, каковы были, например, в Залесском Владимире русские «детские».
Что касается Новгорода, то в эту страну киевские поляне могли переселиться только по крайней необходимости, больше всего в видах торгового промысла.
В самом деле, какая нужда или выгода заставила бы их, коренных землепашцев, так далеко углубиться на финский север, где посреди глухих лесов и непроходимых болот едва было возможно найти место для разведения пашни, где вокруг озера возможно было только одно рыболовство или в лесах одно звероловство; а славянин, как помнит история, всегда питался хлебом, всегда был силен только своею пашнею. Новгород и в следующие века постоянно бедствовал хлебом и в этом отношении всегда зависел от остальной Руси.
Таким образом трудно предположить, чтобы киевский хлебопашец променял свой благодатный юг на этот бедный и бедственный север.
Необходимо допустить, что первое поселение на Ильмене завелось с целью торгового промысла. Одна только торговая промышленность способна поселить человека на самом бедном по природе месте, лишь бы оно было богато торгом. Но в этом случае сам собой возникает вопрос: какой торговли мог искать в ильменском углу нашего севера киевский юг? Ильменская сторона прилегала к Финскому заливу, следовательно, к торгу на Балтийском море, на которое, однако, можно было выезжать несравненно ближайшею дорогой, по Западной Двине, не говоря о древнейшей дороге по Неману. Самые норманны – шведы и прочие, если они ходили по нашей стране в Грецию, должны были предпочитать этот двинский путь, как ближайший и прямой, всякому другому. Пробираться по Финскому заливу и через Новгород было почти вдвое дальше и в несколько раз затруднительнее: надо было переходить, кроме залива, три реки, два озера, два-три волока, между тем как из Двины в Березину лежал только один переволок. Кроме того, европейские товары, на которые киевский юг у Балтийского моря мог променивать свои русские, приходили в Киев прямой сухопутной дорогой через польские земли. Польский летописец Галл рассказывает, что с X века торговые европейцы только по пути в Русь знакомились даже и с самой Польшей[41], а баварские купцы из Регенсбурга, торговавшие в Киеве, так и прозывались Ruzarii, т. е. русскими, как и наши «гречниками» от торговли с Грецией. Это показывает, что торговля Киева с европейским Западом с незапамятных времен происходила и независимо от речных и морских дорог, сухопутьем, или «горой», как выражались наши предки.
Вообще очень трудно предполагать, чтобы древнейшие киевские или днепровские люди могли когда-либо отыскивать и пролагать пути к европейским товарам через Ильменский угол. А они необходимо должны были это делать, если стремились заселить и Новгородский край. Киевская сторона вовсе не нуждалась в этой далекой и болотной украйне. Самый важнейший русский товар, пушные меха, шел в Киев от Верхней Волги и вообще с северо-востока, из Ростовской и Муромской земель. Мед и воск добывались по сторонам самого Днепра. Все необходимое для Киева доставлялось главным образом с юга.
Тем не менее появление Новгорода на своем болотистом месте, как и впоследствии появление Петербурга у Финского залива, должно показывать, что существовали значительные внутренние или внешние причины для развития на этом месте нового поселения.
Петербург вырос из сокровенных потребностей страны владеть морским берегом; он явился на своем месте выразителем нашей государственной силы, искавшей света и просвещения на европейском Западе и потому придвинувшей даже свою столицу к самому рубежу этого Запада. Словом сказать, Петербург своим появлением обозначил великую нужду Русской страны в материалах и началах жизни западной, общечеловеческой.
Не был ли Новгород выразителем каких-либо внутренних, домашних стремлений Русской страны, указавшей еще в незапамятные века место для его поселения? Вообще был ли он порожден потребностями самой страны или явился по необходимости служить больше всего потребностям чужого мира?
Нам кажется, что история появления Новгорода шла совсем в противоположном направлении с историей появления Петербурга. Мы отчасти обозначили отсутствие внутренних причин к появлению на Ильменском болоте такого сильного города и потому очень сомневаемся, чтобы он впервые населен был днепровским племенем. По нашему мнению, и самый город, и его население могли народиться только из потребностей балтийской торговой промышленности, от которой развитие нашего севера вполне зависело с самых древних времен.
Мы сказали, что в эти отдаленные времена Русская южная страна нисколько не нуждалась в связях с Балтийским поморьем. Все надобное она находила или у себя дома, или на южных своих морях. Напротив, только Балтийское поморье всегда и очень нуждалось в промыслах и богатствах и во всяких добытках нашей страны. Известно уже из истории XII–XVI столетий, как европейцы неутомимо отыскивали и открывали новые для них пути в нашу страну все с одной целью – обогащаться нашим торгом. Так, европейские летописи говорят, что бременцы в половине XII века открыли путь в Западную Двину. В XIII веке венецианцы, а за ними генуэзцы открывают устье Дона и другие углы наших южных берегов. В половине XVI века англичане открывают путь в Северную Двину. Недавно и шведы открыли путь в сибирские реки.
Конечно, это вовсе не значило, что каждый раз европейцы открывали Америку. Это значило только, что их монопольные компании открывали лично для себя новые монопольные торги с нашею страной, ибо, по старинным торговым обычаям, каждый вновь открытый торговый путь или торговый угол составлял собственность открывателя. Так точно промысловые и торговые пути наших древних городов, а впоследствии княжеств тоже всегда составляли их земскую собственность.
Но это самое открывательство вообще обнаруживает, что Русская страна, особенно на Ильменском севере, никогда не нуждалась, или не была способна, или те же европейцы ей препятствовали разводить с Европой самостоятельные торги. Нам кажется, что последнее обстоятельство было главнейшей причиной нашей неподвижности в сношениях с Европой, по крайней мере со времени устройства Ганзейского союза. До того времени сами новгородцы хаживали по всему Балтийскому поморью, и между прочим в Данию. Но до того времени на Балтийском море господствовали варяги-славяне, родные люди этим новгородцам.
Итак, не нужды Русской страны, а нужды Балтийского моря должны были возродить на нашем Севере не только Новгород, но и все другие города, стоявшие на торговых перепутьях. Новгород вырос как колония всего Балтийского поторжья, которое главным образом сосредоточивалось на южных берегах моря, особенно в юго-западном его углу, где и впоследствии процветали Любек и Гамбург. Новгород не мог быть колонией шведов, норвежцев, англичан, датчан; их торги, взятые в совокупности, никак не равнялись торгу из немецких земель, т. е. с самого материка Средней Европы, обширные и разнообразные потребности которого постоянно создавали и развивали балтийский торг, открывали себе новые пути, учреждали свои колонии и на нашем далеком севере. Такой колонией, и самой сильной, возродился и наш Новгород.
До Ганзейского союза, когда южнобалтийский, или в собственном смысле европейский, торг находился по преимуществу в руках балтийских славян, то и наш Новгород естественно был их же колонией, как и после он стал главной конторой немецкой Ганзы, принявшей его по наследству от славян.
Как Петербург вырос на своем месте из внутренних потребностей Русской страны, так в свое время и Новгород вырос из торговых потребностей всего Балтийского моря, всей Балтийской страны. По этой причине он и в Ганзе остался главным средоточием восточнобалтийского торга. Он упал тогда, когда совсем изменились пути и ходы европейской торговли.
Таково было происхождение Новгорода. Мы также знаем, что первыми открывателями и заселителями нашего финского севера были люди, называемые словенами, так должно заключать по имени новгородцев, издревле называвшихся словенами в отличие от других русских племен. Но как и откуда они принесли это имя, когда по показанию географии II века по Р. X. оно является старейшим в славянском мире? Могло ли оно народиться в самом Новгороде или принесено из Киевской стороны? В этом случае имя объясняет самую историю города.
Спустя 300 лет после Птолемея мы получаем сведения, что именем славян в собственном значении прозывается западное их племя, о чем ясно засвидетельствовал византиец Прокопий, говоря о переселении с юга на север герулов через славянские земли.
Можно с достоверностью предполагать, что имя словенин народилось само собой в одно время с именем немец и в той именно стране, где славянское племя жило более или менее раздробленно и тесно перемешивалось с чужеродцами по преимуществу германского племени, так как слово немец в славянском мире осталось навсегда исключительным наименованием германца. Выражение словый должно было отмечать людей, понимающих друг друга, говорящих на понятном языке, в отличие от немых, немотствующих, иноязычных, которых понимать невозможно. Так это имя словенин объясняли еще ученые XVI века, и это объяснение, говорит сам Шафарик, основательнее и вероятнее всех других[42]. По нашему мнению, оно вполне достоверно. Оно распространилось не из одного какого-либо места, как имя этнографическое или географическое; оно появлялось повсюду, где словене пребывали в смешанной среде разных чужеродцев, где они селились с ними вперемежку.
По той же причине и земли с именем Словиний возникали в одно время в разных местах и обнаруживали только население словых, словесных людей, как понимали это славяне.
Там, где существовало сплошное славянское население рядом со сплошным же населением инородцев того или другого языка, – в этом имени для различения народностей не было надобности. Всякий прозывался именем племени или именем места, страны. Но где разноплеменные и, главное, разноязычные люди были перепутаны своими поселками, как это случалось на западных окраинах славянского мира, посреди германцев, кельтов, греков, римлян и т. д., посреди многих немотствующих, там и должно было утвердиться обозначение всех одноязычных именем словый, словенин.
Писатели VI века Иордан и Прокопий уже ясно разделяют древних венедов на две ветви, из которых западную именуют славянами, а восточную, русскую, храбрейшую, антами. О той и о другой ветвях они говорят, что их поселения занимают к северу неизмеримые пространства, покрытые болотами и лесами. Видимо, что прозвание «словый» гораздо древнее этого времени. Оно непременно сокрылось в германском имени Suevi, у Павла Диакона в одном месте – свовы, как и у Птолемея свовены, которое по латинскому написанию еще в I веке принадлежало северо-восточным германским племенам, в числе которых многие являются потом чистыми славянами. По этой причине и имя славян более употребительным остается между славянами Балтийского поморья. Быть может, отсюда по преимуществу и разносилось имя славян в южные места, когда вследствие борьбы с германством славяне переселялись даже и в греческие земли. По всему вероятью, таким путем утвердилось и местное прозвание особой земли в пределах Македонии, к северу от Солуня[43], названной уже в VII веке Славинией. Здесь впервые появилась и славянская грамота, распространившая это особое местное имя славян уже на весь славянский род.
Можно полагать, что македонские славяне составились вообще из славянских военных и торговых дружин, с незапамятных времен приходивших в Грецию и от Балтийского моря и из наших сторон. Славянское имя осталось за ними, несомненно, по той причине, что оно уже в VI веке употребляется на Западе, как общее для всей западной ветви.
Но в то время как это имя постоянно разносилось в свидетельствах VI, VII и VIII столетий о западных и южных славянах, на востоке оно совсем не было известно. Птолемеевы ставаны-славяне промелькнули как бы падучею звездой и тотчас скрылись от глаз истории.
Об этом самом древнейшем и самом северном имени славян можно, однако, сказать, что славянское киевское племя, встретившись на Ильмене с инородцами, необходимо должно было обозначить себя именем славян. Но в таком случае оно должно было обозначать себя этим именем и по всем украйнам нашей равнины, повсюду, где встречало инородцев. И во всяком случае, так прозывать себя между инородцами могли именно те люди, в сознании которых уже глубоко коренилось убеждение о единстве их породы и их родового имени. Между тем никто из живших у Днестра и Днепра не прозывался таким именем, если не упоминать о скифах, сколотах-слоутах, в которых не хотят верить, что они могли быть славяне, и если не предполагать, что эти сколоты первые удалились в новгородские пределы. Для Киевской стороны славянское имя так было несвойственно, что начальный летописец даже и в XI столетии почитал необходимым усердно и настойчиво доказывать, что и древние поляне, а теперь зовомая русь были такие же славяне, как и все прочие.
Эти простодушные доказательства лучше всего и объясняют, что даже и в XI или XII столетии, когда составлялась летопись, на Руси еще не установилось сознание о всеобщности славянского имени. Лет двести раньше о таком сознании едва ли помышляли и те самые славяне, у которых впервые явилась кирилловская грамота. А эта самая грамота и была тем родным сокровищем для всего славянского мира, которое заставило и нашего летописца распространить славянское имя на все славянские племена и усердно доказывать, что и русь, как славяне, имеют все права почитать эту грамоту своею. В сущности, он доказывал, что славянский Восток, известный под другим именем, состоит в кровном родстве со славянским Западом, где славянское имя было общенародным, географическим. В середине X века Константин Багрянородный и наших кривичей, дреговичей, северян обозначает общим именем славян. Но византийцы стали обобщать это имя, несомненно, по случаю славянской же грамоты.
Очень многие указания заставляюсь предполагать, что наши ильменские славяне принесли свое имя тоже с запада. Древний летописец об этом прямо не говорит, как не говорит и того, что новгородцы пришли от Днепра, или пришли прямо от Дуная. Он ограничивается одним словом: «Седоша на Ильмене». Но он присваивает новгородцам варяжскую породу и отмечает, что радимичи и вятичи пришли в нашу страну от ляхов. Здесь дается смутное понятие, что ильменское население пришло хотя и от Дуная, наравне со всеми племенами, но варяжским путем через Балтийское море. Поздние летописные сборники начала XVI века ведут новгородских славян прямо с Дуная, но через Ладожское озеро и оттуда же к Ильменю, что оставляет в своей силе коренное представление, что они пришли с Балтийской стороны. К тому же вслед за повестью о расселении славян в Русской стране летописец тотчас описывает варяжский путь мимо Новгорода и Киева, вокруг всей Европы, как бы указывая проторенную дорогу, по которой и происходили переселения к нам славян-варягов.
В этом случае более надежными свидетелями могут быть не одни прямые указания письменности, но также имена земли и воды. Всегда переселенцы в новой стране сохраняют свои старые имена – или родовые и личные, или местные, географические.
Как на западе Европы балтийские славяне повсюду в своих поселках оставляли по себе имя венедов, венетов или виндов, так и в нашей равнине они оставили память о своих поселениях в имени Славно, Словянск, Словогощ и т. п. Первое имя давали им германцы и кельты, оно шло от енетов Трои, вторым сами они стали прозывать себя и тем обозначали свое западное происхождение, свое соседство с западным европейским миром. Приходя в нашу страну из страны поморской между Вислой, Одером и Лабой, где, неподалеку от Вислы, с запада и с востока, существовала особая земля Славия, Славно, они необходимо приносили и к нам свое земское имя. На Нижнем Немане литовцы называли их шлаунами, шлаванами, шалаванами, на латыни скаловитами. И здесь, как мы видели, у них был городок Салавно, Славно. И до сих пор по всей Литовской Пруссии, уже вполне онемеченной, еще рассеяны подобные имена вместе с другими, не оставляющими никакого сомнения в том, что Венедский залив недаром носил свое имя, обозначая племя славянское.
От главного города здешней Славонии, Рагнеты, на 40 верст[44] к востоку, на левом притоке Шмона, Шешупе, находится селение Словики против селения Визборинена, а отсюда за Неманом к северу верст на 50 стоит очень древний город Россиены на правом притоке Немана, Шешуве.
Дальше вверх по Неману встречаем Венцлавишки, Богослов – Богословенство.
От города Ковнонеманская дорога вверх по реке круто поворачивает и идет прямо на юг до Гродно, огибая великие пущи, посреди которых и начинается упомянутая река Шешупа. Здесь с левой стороны в нее впадает река Рось, а с правой – Давина. Вблизи этого места упоминается в старых записях река Слованка[45], а теперь к западу от города Пренна и Олиты находится селение Слованта, иначе Шалаванта у одного озерка, и рядом – Пилаванты. Несколько к северо-западу – Пошлаванцы и Пошлаванты. Эти имена достаточно обнаруживают, что уголок был славянский.
Верстах в 25 к юго-востоку от Славанты находится Мирослав, а против него в 10 верстах на правом берегу Немана – Неманайцы, селение, достопамятное преданием, что в этом месте вождь каких-то пришельцев из-за моря, Неман, получил божеские почести от литовцев и основал город в X веке[46]. В 25 верстах к северу от Неманайцев – Словенцишка у озера Дауги, а в 15 верстах к юго-востоку – Руска Весь. Против тех же мест, на западе, на другом, левом берегу, южнее Мирослава – Шлаванты, Русанце. Не ясно ли по именам мест, какие это были заморские пришельцы в эту Литовскую сторону. «Предания, – говорит Нарбут, – существующие от времен глубочайшей древности над Нижним Неманом, беспрестанно толкуют о каких-то мореходцах, прибывших в сию реку из стран далеких». В устьях Немана были Славония и Русия, и здесь в среднем его течении те же предания сопровождаются теми же именами.
Дальше, все поднимаясь вверх по Неману, находим город Гродно, от которого неманская верховая дорога поворачивает круто на восток. В окрестностях Гродно, в 30 верстах к юго-западу, обращает на себя внимание река Сокольда (не источник ли для имени Аскольда?), впадающая в Супросль, приток Нарева или Нарова, вблизи которой и Нурская сторона, и реки Нур, Нурчик, Нурец.
В 40 верстах выше Гродно в Неман впадает слева река Росса, текущая от юга к северу с возвышенности, с которой берет начало Нарев, текущий к западу в Буг и с ним в Вислу, и Ясельда, текущая к юго-востоку в Припять. На Россе заметим городок Россу. Вершина Россы почти совпадает с вершиной Яселды, следовательно, здесь мог существовать переволок из Немана в Днепр по Припяти.
Как известно, верх Немана в окрестностях Минска приближается к притокам Днепровской Березины. Но неманская дорога к Днепру была очень крива, а потому длинна и обходиста. На перевал из Россы в Яселду путь тоже был очень длинен. Несравненно прямее была дорога по северному притоку Немана, по реке Вилие[47], впадающей в Неман у города Ковно. Вилия направляется в Неман почти прямо с востока на запад и притом почти от верха Березины. Промышленники венды – славяне, по-видимому, здесь и искали более прямого пути к Черному морю. Между верховьями Вилии, Березины и Немана мы находим довольно обширный и, быть может, после неманского самый древнейший поселок славянского имени. Здесь, к одной стороне, в Вилию впадает река Двиноса, а к другой – в Березину река Гайна. В верховьях Двиносы находится местечко Плещеницы, а от него в 20 верстах, в верховьях Гайны, стоит Логойск, древний город, теперь тоже местечко. Почти на середине между этими поселками на переволоке и доселе существует село Словогощ, явно показывающее, какой народ переваливал здесь с Балтийского моря в Черное. Явственно также, что, еще не добираясь до Двиносы, славяне двигались к этому Словогощу и сухим путем, почему на дороге между Вилией и Гайной находим два селения Стайки.
На этой же речной высоте, откуда во все стороны протекают небольшие речки и где находятся города Радошковичи и Минск, берет, между прочим, начало небольшая река Березина, другая, не Днепровская, а приток Немана, впадающая в него справа, с севера. На этой Березине стоит теперь местечко Словенск – древний город, окруженный именами мест, которые знакомы нам из Новгородского землеслова: Неров, Неровы, Холхло, Доры, Шевец, Воложин, Волма, Витковщизна. Притоки Березины: реки Воложина, Ислочь, Волма, Войка.
Против впадения Березины в Неман, на левой его стороне, заметим уездный город Новогрудок, некогда столицу литовских князей; а в 40 верстах к юго-западу от Новогрудка место Ишкольд (Искольд, опять имя, равное Аскольду). Это не далее 80 верст к югу от Словенска. На север от него в 30 верстах находим селение Словиненту (по карте Шуберта – Вен-Славененты). Еще выше к северу на 30 верст находим селение Славчину, выше которой в 5 верстах протягивается от юга к северу долгое озеро Свирь, переволочка в реку Одер.
От города Словянска, на Неманской Березине, почти в прямом направлении к востоку в 90 верстах существует, как мы упомянули, Словогощ; отсюда в 35 верстах город Борисов на Днепровской Березине, быть может, родоначальник имени Борисфена – Днепра. От Борисова в 75 верстах прямо на восток Словени в верховьях реки Бобра, березинского притока; дальше к востоку еще в 50 верстах Славяня, слева от Днепра у Шклова; еще дальше в 50 верстах в том же направлении – Славное в верховьях Прони. Затем следуют города Мстиславль, Рославль[48]. Если этими именами могут обозначиться, так сказать, шаги словен в их хождении и расселении по нашему Северу, то они же указывают и направление главной дороги от устья Немана, и те местности, где расселение как бы останавливалось, сосредоточивалось, утверждалось в избранной столице на пребывание более или менее продолжительное. По всей видимости, такой местностью, после Словонии на Нижнем Немане, был Словянск на Неманской Березине, или вообще речная высота около вершин Немана, Вилии и Днепровской Березины, где стоит, как мы упоминали, древний город Минск, вблизи которого в 7 верстах к востоку, есть тоже селение Словцы. Очень вероятно, что Птолемей, указывая своих ставан, имел в виду этот самый Принеманский угол славянских жилищ, потому что он упоминает о ставанах сейчас после галиндов и судинов, которые несомненно оставили свои имена в древнепрусских областях – Галиндии и Судавии, соприкасавшихся со средним течением Немана, между Ковно и Гродно[49].
Дальше к востоку жили скифы-алауны, знатный народ всей Сарматии. В то время, вероятно, так прозывались наши восточные славянские племена. О других народностях в этой местности историческая этнография не оставила никакой памяти. Но указание Птолемея, что ставане жили до алаунов, дает полное основание распространять их жилище от Верхнего Немана и до самого Новгорода, где народное имя славян не стерлось временем и где сохранялось самое могущественное и сравнительно уже позднее сосредоточение славянского населения.
По всему вероятию, занятие славянами Ильменской стороны произошло из того же неманского угла, т. е. внутренними речными дорогами, но не обходом по морю. От верха Днепровской Березины течет в Двину река Ула. В 25 верстах на запад от ее впадения находим, ниже Полоцка на 30 верст, селение Словену при озере. От Улы к верховьям Двины дорога идет до Сурожа, где в Двину впадает река Усвячь, текущая из озер Усвята и Усменья, а от этих озер в 5 верстах протекает Ловать к городу Великим Лукам, мимо погоста Словуя, при озере, на левом берегу, и потом Купуя, на правом. На этом самом пути в новое время предполагали провести канал. Река Ловать, или Волоть, Ловолоть, уже прямо напоминает Волотов, да и все курганы в этой стороне именуются волотоуками.
Проплывши по Ловати и по Ильменю до Волхова, словены и здесь отыскали самое выгоднейшее место для поселения в новгородском Славне, которое лежит между истоком Волхова и впадением в Ильмень реки Мсты, открывавшей путь через Вышний Волочек в Тверцу и Волгу, и дальше через Нижний, или Ламский, Волок в реку Москву, в Рязанскую Оку и на Верхний Дон.
Но словены не миновали и Чудского озера. Древний Изборск стоял на Словенских Ключах, и самое имя города, которое мы слышали еще на Немане (Визборинен, Визбор под Россиенами), сходно с болгарским Извор, что значит родник, источник[50].
Затем, Псковская летопись, выражаясь о Триворе, что он «седе в Словенске», указывает, что и самый Изборск именовался некогда Словенском. Теперь о Словенских Ключах не помнят, но указывают вблизи города поле Словенец. Отсюда ясно, что призывавшая князей чудь была сильна и знатна только потому, что над нею сидели словены. То же самое должно сказать и о белозерской веси.
От Новгорода к Белоозеру[51] не было прямой дороги. В обход по озерам Ладожскому и Онежскому и реками Свирью, Вытегрой и Ковжей был путь далекий и притом вначале вовсе не известный. Поэтому первые словени могли попадать на Белоозеро только посредством лесных рек и многих переволоков. Древнейшая, или одна из первых, дорог, по-видимому, шла Мстой, до волока Держковского, пониже Борович; отсюда частью переволоками, частью реками в реку Шексну. По прямизне это была самая ближайшая дорога. Но зато название волока Держков уже показывает, сколько было здесь затруднений, остановок, задержки. По сторонам этого пути, наверху рек Колпи и Суды находим озеро Славное, а в Боровичском уезде – Славню на реке Иловенке и две-три Славы.
Другая более удобная дорога проходила вниз по Волхову Ладожским озером, поворотя в реку Сясь, потом южнее теперешнего Тихвинского канала рекой Воложей и волоком Хотславлем к Смердомле и в Чагодащу. В окрестностях волока у Воложи находим село Славково, а у реки Смердомли – Славню.
В Белоозеро надо было плыть вверх по Шексне. По всему вероятью, самое это озеро, как узел словенской торговли в пределах веси, стало известным и знаменитым не само по себе, а больше всего потому, что оно находилось в центре сообщений ильменской и приволжской сторон с заволочской чудью, пермью, печерой, югрой и с Ледовитым морем.
Здесь, между Белым и Кубенским озерами, существовал небольшой волок, легко соединявший упомянутые водные пути. Этот волок и запечатлен именем первых его открывателей – словен.
Направляясь вверх Шексны и не доходя Белоозера, словени поворачивали вверх по реке Словенке, вытекавшей из озера Словинского (теперь Никольское). С озера к северу шел пятиверстный волок в реку Порозовицу, которая течет в озеро Кубенское, а из Кубенского течет Сухона, составляющая от соединения с рекой Югом Северную Двину. Этот самый волок и прозывался Словинским Волочком. Какой народ в древнее время ходил в белозерских краях, указывают имена тамошних волостей: Даргун, Комонев, Лупсарь[52]. Это самые дорогие и очень древние свидетельства о колонизаторских путях балтийского славянства.
Не забудем, что и сообщение с Финским заливом на Нижней Неве также обозначено славянским именем, рекой Словенской, Словенкой, текущей в Неву рядом с Ижорой. Последняя, по всему вероятью, родня по имени князю Игорю[53].
В южном краю от неманского пути, в долине Припяти, точно так же встречаем имя славян в селении Словиске, между озером Споровским, через которое проходит поток Яселды, и рекой Мухавцем, впадающим у Бреста, древнего Берестия, в Западный Буг. Этот Словиск стоит, следовательно, на перевале, соединяющем водные пути Балтийского и Черного морей, где, как при всех других словенских местах, проходит теперь канал (Королевский[54]).
Это наверху Припяти. Внизу ее один из значительных левых притоков носит имя Словечны, в него впадает речка Словешинка. Отсюда выше к северу, при впадении Березины в Днепр, есть озеро Словенское.
Предание о пришедшем из-за моря Туре, или Турые, сидевшем на Припяти в Турове, отчего и туровцы прозвались, как говорит летопись, по всему вероятью, – предание очень древнее.
Летопись поминает о нем мимоходом, говоря о полоцком Рогволоде, и объясняет, что и тот и другой пришли в нашу страну сами собой, независимо от Новгородского призвания; но в какое время, об этом она умалчивает. Имя Туро упоминается Иорданом при описании событий III века.
Можно полагать, что имя словен в долине Припяти обозначает переселения из-за моря дружин этого Тура.
Но примечательнее всего то обстоятельство, что словенское имя является повсюду, где только открывается связь водных сообщений. Сейчас мы упомянули о Словиске, возле которого теперь существует Королевский канал. У Березинского канала существует древний Словогощ; у Тихвинского канала – волок Хотьславль, Славково, Славня; белозерский Словинский Волочок, Словинское озеро и река Словянка составляют канал Герцога Вюртембергского[55] – предполагавшееся соединение Двины с Ловатью идет мимо Словуя.
Все это показывает, в какой степени древние славяне были знакомы со всеми подробностями топографии на всех важнейших перевалах в водных сообщениях. Там, где эти древние знатоки нашей страны не указали своим именем возможности легкого водного сообщения, там и новые попытки Ведомства путей сообщения вполне не удались, как, например, случилось с каналом из Волги в Москву-реку через реки Сестру и Истру.
Все эти поселки с именем славянским мы относим к давним промысловым и торговым походам по нашей стране прибалтийских славян, отважнейших моряков своего времени. Их история не записана или записана иноземцами уже в позднее время, когда она совсем оканчивалась. Немудрено, что об их связях с нашей страной нет прямых документальных свидетельств. Но совокупность преданий о волотах, о приходе заморцев, преданий, которые рассказываются теперь на Немане, рассказывались в X веке на Камской Волге, откуда записаны арабами, преданий, о которых рассказывает и наш летописец, говоря о приходе от ляхов радимичей и вятичей и из-за моря самых варягов, а вместе с преданиями разнесенное по всем местам, где только находились важнейшие узлы сообщений, славянское имя, сопровождаемое именем тех же волотов, – все это разве не составляет свидетельства более ценного, чем какое-либо показание старого писателя, вроде Тацита или Плиния, иногда вовсе не имевшего надлежащих сведений о том, о чем приходилось ему писать. Здесь говорит не случайно помянутое имя, не мертвая буква, а живой смысл древнейших отношений страны.
Нам скажут, что славянское имя в этом случае ничего не значит, что славяне, конечно, повсюду прозывали сами себя славянами. Но мы уже говорили, что по несомненным свидетельства истории это имя возникло и стало распространяться только на западной окраине славянского мира.
Если, как толковал Суровецкий[56], имя славянской восточной ветви анты значит то же, что венеты, венды, и если наши вя́тичи есть только русское произношение носового венты, венды, то этим именем анты лучше всего и подтверждается, какое племя в нашей стране в VI веке было руководителем всех набегов на византийских греков. Эти вятичи-анты, эти унны-ваны, эти роксоланы, росоланы, росомоны, а в конце концов этот русс, рос, по преданию тоже пришедший из-за моря, – все это имена балтийских вендов, и все эти показания и намеки истории могут утверждать только одно: что в стране, в течение веков и целого тысячелетия, руководили действиями живших в ней народов и давали им свое имя пришельцы из-за моря, от заморских славян.
Нам кажется, что особым именем словенин в Русской стране прозывался хотя и славянский по родству, но все-таки иной народ, отличный от туземных племен. Иноземное имя, народное, племенное или родовое, как и местное, географическое, появляется вообще в таких местах, где пришелец по известным причинам должен отличать себя от остального населения, или где это самое население неизбежно обозначает свойственным именем пришедшего нового поселенца. Очень трудно объяснить, по какой бы причине славяне посреди своей славянской земли стали бы прозывать свои поселки славянскими. Только смешение с инородцами или встреча с ними бок о бок заставляет человека определять своим именем свой род и племя или свою страну, откуда он пришел. Откуда кто приходит, оттуда и приносит себе имя и свой топографический язык. Имена мест обоих материков Америки лучше всего расскажут, откуда, из каких именно земель, городов, городков и даже сел приходили туда новые поселенцы.
На нашей равнине имя словен больше всего разносится по северо-западному краю именно по тому пути от устьев Немана до Верхней Волги и до Белоозера, с поворотами направо и налево, который мы проследили выше. Здесь жили дреговичи и кривичи, а ко Пскову, Новгороду и Белоозеру – чудь, водь, весь. У этих финских племен, как и у первобытных неманцев, понятно появление на местах славянского имени, если б славяне пришли даже и от Днепра. Но как объяснить его появление у древлян на Припяти, у дреговичей, у кривичей на Двине, Верхнем Днепре и Верхней Волге, у таких же славян по происхождению? Мы это объясняем теми же причинами, какие заставляли неманцев и финнов называть приходивших к ним людей не полянами, древлянами или северянами, не дреговичами и кривичами, а именно словенами (или ванами у чуди), потому что эти славяне приходили к ним из собственной словенской земли, которая так прозывалась по преимуществу только у славян балтийских.
Говорят еще, что топографический язык одинаков у всех славян и повсюду в славянских землях можно отыскать сходные имена, которые поэтому ничего, никаких переселений доказывать не могут.
Действительно, этот язык одинаков, насколько одинакова славянская речь и славянский разум слова; но если и эта речь распадается на множество наречий, весьма различных, отделяемых даже в особые языки, то естественно, что и топографически язык каждого славянского племени должен кроме общих основ иметь свои частности, свой местный облик, так сказать, свои областные слова. Свойства местности, иное небо, иная земля, а потому и иной род жизни, иная история всегда кладут достаточное различие в употреблении тех или других имен земли и воды, как и имен личных; всегда там или здесь мы встречаем особенные излюбленные имена, которые употребляются чаще других и тем обнаруживают отличие одного племени от других родных же племен. В Польше и на Руси, например, княжеские имена так различны, что одно такое имя (Болеслав, Казимир, Владимир, Ярослав) тотчас дает понятие, к какой народности оно должно принадлежать.
Так и в именах мест: белозерская волость Даргун, конечно, ближе напоминает Вагорскую область или тоже волость Даргун и вообще ободритские имена мест и лиц, сохраняющие в себе слово дарг, чем такие же имена других славянских племен, произносящих это слово как драг, или, по-нашему, Дорогобуж. И в этом слове буж (бог) тоже слышится звук балтийского славянства. Подобным образом и новгородский древний погост Прибуже на реке Плюсе, к востоку от города Гдова, скорее всего, получит объяснение в западном же славянстве.
Новграды встречаются во всех славянских землях, но почему в нашей равнине они встречаются в особом количестве и почему один из самых старейших наших городов носит имя Новгород, а не Старгород, как у вендов, где, напротив, особое количество встречается именно Старградов[57]? Это показывает только, что наша славянская, а именно северная, ильменская старина есть нечто новое в отношении старины вендов, у которых история уже оканчивалась, когда наша только начиналась.
Это нечто новое, ознаменованное постройкой нового города, заключлось в новой почве для старых деяний той предприимчивости, наименее военной, разбойничьей, норманнской, и наиболее промысловой и торговой – вендо-славянской, которая искони выходила к нам от балтийского славянства и которая, как родовой облик, просвечивает во всех лицах и событиях начальной нашей истории.
С именем первого же князя Олега она является уже исторической силой и, можно сказать, мгновенно создает из разрозненных земель и племен народное единство. Притом она является в полном смысле народной силой и основывает свое могущество не на одном мече завоевателя, но главным образом на торговом договоре с греками. А это лучше всего и обнаруживает, что прямым источником ее происхождения были торговые потребности страны, но не завоевательные потребности пришедшей военной дружины. Одним словом, в самом начале нашей истории, в самом первом ее деянии, каково изгнание и призвание варягов, мы встречаемся с предприятиями народа, ищущего хорошего и выгодного для себя устройства не одних домашних дел, но и сношений с соседями. Призванная дружина является только орудием для достижения этих основных целей народного существования. Таким образом, уже в самом начале истории чувствуется присутствие какого-то невидимого, но сильного деятеля, направляющего ход дел по своему разуму. Этим деятелем и была промысловая община или город как новое начало жизни, уже достаточно развитое и могущественное, распространенное по всей земле. В этом-то деятеле и скрывается наша истинная история, которая неизменно продолжалась и в последующие века также невидимо, закрытая неугомонным, но для страны бедственным шумом княжеских мелких дел, старательно изображаемых летописью и принимаемых нами за голос самой всенародной жизни.
Великим и могущественным типом промыслового города в течение всей нашей древней истории является Новгород. Он же был и зародышем нашей исторической жизни. Мы думаем, что вместе с тем он был полным выразителем тех жизненных бытовых начал, которые с течением веков постепенно нарастали и развивались от влияния проходивших через нашу равнину торговых связей. Он был славным детищем незнаемой, но очень старой истории, прожитой Русской страной без всякого так называемого исторического шума.
На исторической почве всегда вырастает лишь то, что скрывается в недрах земли – народа. На нашей исторической почве к самому началу наших исторических деяний выросло гнездо свободного промысла. Ясно, что оно могло вырасти только из тех же промысловых семян, какими с давних веков была насеяна окружная земля. Другие семена возрождали другие формы быта. Черноморские украйны ничего не могли произвести, кроме казачества, кроме Запорожской Сечи или донских городков, составлявших тоже своего рода осеки, сечи. Вообще мы думаем, что Новгород есть не только потомок вендо-славянских балтийских городов, но и могучий образ той славянской промышленной старины, которая в свое время была высотой славянского развития и славянского могущества на Балтийском же море.
Русская словенская область, пределы которой хотя и не в полной точности обозначены летописью, по случаю призвания и прихода варягов, и запечатлены словенскими именами земли и воды, должна вообще обозначать господствующее положение в ней древнейших пришельцев, балтийских славян. По всей видимости, они овладели страной не военными походами, а настойчивой мирной торговой промышленностью, причем, конечно, пускался в дело и меч, но как единственное средство добиться или свободного прохода в какой-либо угол, или свободного поселения на выгодном месте, или как отмщение за нанесенные обиды. Следов прямого военного занятия, завоевания земли и самодержавия над землей нигде не примечается. Словени живут как союзники, как равные и между собой, и с племенами чуди, веси, мери, муромы. Завоевание необходимо внесло бы начало феодальное, начало личного господства и над землей, и над людьми. Между тем такого господства даже и в призванных варягах нигде не видно. Напротив, очень заметно отношение к земле самое первобытное, как к обширному Божьему миру, в котором место найдется для каждого.
С другой стороны подобные, главным образом только союзные отношения к стране показывают, что первобытная славянская колонизация распространялась в нашей стране мало-помалу, расселяя повсюду только свои промыслы и торги, для которых важнее всего другого было не владение землей по феодальному порядку, а владение путями сообщений и именно свободой этих сообщений, равно как и бойкими рынками, необходимо возникавшими на этих путях. Весь смысл первобытного отношения к земле приходивших в нее словен выражается в имени Словогощ, что значит: словенская гостьба-торговля.
Такой торговлей балтийские славяне могли легко владычествовать над туземцами и славянского, и финского племени, как необходимые и дорогие люди, способствовавшие лучшему устройству жизни, доставляя все надобное, без чего нельзя существовать, в обмен на произведения страны, которые можно было добывать в изобилии.
С этой точки зрения особенного внимания заслуживают имена мест, составные со словом гость-гощ, каких в древней Новгородской области встречается больше, чем где-либо[58]. По всему вероятию, это древнейшие памятники местных торжков, которые в дальнейшем развитии усваивали себе уже общее нарицательное имя погоста, дающее намек, что и самое хождение гостьбы могло именоваться погостьем, как другое хождение именовалось полюдьем.
Славянское имя, разнесенное по стольким углам нашей страны, раскрывает довольно явственно, что повсеместной гостьбой с особой настойчивостью занимались не другие племена, а именно словени. Этот род занятия принадлежал им исключительно и составлял как бы особенную черту их племенного характера. По-видимому, в народном быту имя словенин значило то же, что теперь у нас на юге значит крамарь, а на севере варяг, офень – мелочной бродящий по деревне торговец, с тем различием, что в древности такой торговец странствовал не одиноким, а целой ватагой, артелью, как, впрочем, случается и теперь и как, например, в свое время странствовали скоморохи, однажды взявшие приступом даже целый город[59].
Вот по какой причине и другое имя пришельцев, варяг, быть может, с большим правдоподобием можно толковать, как толковал Ф. Круг, именем скорого и борзого путника, ходока, борзого пловца, дромита-бегуна, как понимали и переводили это имя и греки.
В областном языке, в котором сохраняется много слов глубокой древности, варяг значит мелочной купец, разнощик (моск.), кочующий с места на место со своим товаром, составляющим целую лавку; варять значит заниматься развозной торговлей (тамб.); варяжа (арханг.) значит заморец, заморье, заморская сторона; варяги, варяжки (новгор.) значит проворный, ловкий, острый, «может быть, памятник того понятия, какое в старину имели об удальцах норманнских», – говорит Ходаковский, совсем забывая, что существовали на свете и удальцы балтийские славяне. В середине XVI столетия в Новгороде, в числе разных ремесленников и промышленников, проживали также люди, которых обозначали именем варежник. Вероятно, это значило то же, что ходящий, странствующий торговец[60]. Такова народная память о значении слова варяг.
В древнем языке варяти значило ходить, предупреждая кого, ускорять ходом, пред-идти, перегонять, перестигать, упреждать; в существенном смысле – ходить скоро, борзо. Могла ли отсюда образоваться форма варяг, должны решить лингвисты[61].
Тот же смысл предварителей остается за варягами и в древнерусском ратном деле. У первых князей варяги всегда занимали передовое место, всегда составляли чело рати и первые вступали в бой – «варяли переди», предваряли общую битву. Так продолжалось с лишком сто лет. Уже это одно передовое военное положение варягов дает много оснований к заключению, что и самое их имя действительно происходить от глагола варять – упреждать. Оно нисколько не противоречит и высказанному нами предположению, что так, от глубокой древности, могли прозываться балтийские славяне в качестве передового, самого крайнего, западного племени из всего славянства. Это тем более вероятно, что имя варяг только на Руси и было известно и из Руси перешло уже в XI столетии и к грекам, и к скандинавам[62]. Отсюда же, вероятнее всего, установилось и прозвание моря Варяжским. Но вместе с обозначением передового племени в русских понятиях именем варяг, как и именем словенин, обозначался и самый род жизни, свойственный этому племени, его неутомимая, повсюду ходящая промышленная торговая деятельность. Мы видели, что варяжничание, или хождение по нашей стране балтийских промышленников относится к глубочайшей древности, начинаясь еще с торговли янтарем. В торговом деле варяги были гости-пришельцы, неутомимые ходоки, ходебщики, которые сновали по нашей стране из конца в конец, первые прокладывали новые пути-дороги, первые появлялись в самых удаленных и пустынных углах страны, разнося повсюду свой торговый промысел, связывая население в один общий узел кругового гощения.
По всей видимости, уже с древнейшего времени это словено-варяжское гощение в нашей стране должно было представлять немаловажную образовательную силу, и именно общественную силу, которая мало-помалу связывала все разбросанные племенные части страны в одно живое целое. Уже в доисторическое время эта сила создала для всех раздельных углов Русской равнины общие интересы, общие цели и задачи, создала известного рода земское единство. Такое единство на севере существовало уже до призвания князей и выразило свою крепость именно в этом призвании. Только при помощи этого единства Олег мог перебраться в Киев, а потом поднимать всю землю в поход на Царьград. Призванные князья употребляют в дело орудие, давно созданное самим населением под влиянием беспрестанной и с незапамятных времен свободной гостьбы словен-варегов.
Страна была бедна городским развитием, пустынна и очень обширна, поэтому заезжий гость-купец, особенно на севере, всегда бывал дорогим лицом и во многих случаях истинным благодетелем. Что земля так именно ценила услуги купцов, это подтверждают древнейшие ее предания и уставы. Припомним сказание Маврикия[63] о славянском гостеприимстве или, в сущности, о льготах и заботах, какими пользовались в славянских землях заезжие торговые люди – гости.
Маврикий это говорит о славянах и антах, т. е. и о западной, и о восточной ветвях славян. Анты занимали безмерное пространство в нашей равнине, поэтому ограничивать свидетельство Маврикия только одними придунайскими краями, как этого иные желают, мы не имеем оснований уже по той причине, что сама древняя география (Птолемеева), описывающая нашу страну, не иначе могла быть составлена, как по указанию купеческих дорожников, т. е. бывалых в стране людей.
Припомним устав Русской Правды о преимуществах заезжего гостя в получении долгов, первому пред туземцами наравне с князем, что обнаруживает великую заботливость о выгодах, о безопасности гостя, идущую, конечно, из давних времен.
Припомним заботливость первых князей в договорах с греками, чтобы русские гости в Царьграде на целые полгода бывали обеспечены всяким продовольствием и даже баней, чтобы и на возвратном пути получали надобные корабельные снасти и т. п. В этом случае князья, конечно, требовали лишь таких обеспечений для гостя, какие от века почитались обычными и необходимыми и в Русской земле. Здесь выражались только обычные и обязательные уставы домашнего гощения. И в наше время странствующие торговцы – варяги на время своего приезда всегда получали от помещиков продовольствие и для коней, и для людей.
Заезжий гость, был ли то чужеземец или только иноселец и иногородец, во всяком случае являлся человеком бывалым и знающим, следовательно, необходимо приносил в замкнутый и глухой деревенский и сельский круг нечто просветительное, хотя бы это нечто ограничивалось немногими сведениями о других местах и других странах, откуда приходил гость.
Мы полагаем, что этим путем уже в историческое время доходили до летописцев все известия о случаях и событиях, происходивших очень далеко от тех городов, где писались летописи. Эту, можно сказать, образовательную сторону гостьбы очень хорошо понимали и древние князья. Мономах заповедует детям: «Больше других чтите гостя, откуда бы к вам ни пришел, простец или знатный, или посол, если не можете дарами, то брашном и питьем, ибо те, мимо ходячи, прославят человека по всем землям либо добром, либо злом».
Нет сомнения, что Мономах говорил детям не новую заповедь, а утверждал между ними старый прапрадедовский и общеземский обычай доброго поведения с заезжими гостями.
Вот это самое распространение сведений о местах и людях по всем землям и являлось тем особым и дорогим качеством древней гостьбы, которое, по всему вероятию, очень способствовало развитию в населении сознания об однородности его происхождения и быта, о единстве его выгод в сношениях с далекими морями, и на Балтийском севере, и на Черноморском юге, и на Каспийском востоке. Только такими связями постоянной гостьбы объясняются и в последующей истории многие совсем неразгаданные или непонятные случаи, указывающие, например, что в Новгороде очень хорошо и всегда вовремя знали, что делается не только в Киеве или Чернигове, но и в далекой Тмутаракани. География и этнография первой летописи, конечно, могла составиться только при помощи тех же промышленных связей земли. По многим своим отметкам она носит следы более ранней древности, чем то время, когда составлялась наша первая летопись.
Если в отдаленной древности эти связи не распространялись так далеко, то, во всяком случае, они делали свое дело и на небольшом пространстве. По крайней мере, перед призванием варягов они успели уже сплотить в один народный союз все окрестные племена в Новгородской области.
История Новгорода показывает также, что этот промышленный нрав, эта необыкновенная предприимчивость и горячая бойкая подвижность едва ли могли народиться и воспитаться внутри страны, выйти, так сказать, из собственных домашних пеленок. Конечно, леса и болота Ильменской области вызывали человека искать себе пропитание по сторонам, а многочисленные реки и озера доставляли легкие способы перебираться из угла в угол и зарабатывать продовольствие в достаточном изобилии. Но здесь-то и мог оканчиваться круг промысловой деятельности, как он существует и теперь и как он всегда существовал во всех подобных углах страны.
Ильменский словенин, напротив того, постоянно думает о морях и, живя вблизи Балтийского моря, хорошо знает дорогу и в Черное, так что увековечил своими именами даже Днепровские пороги, по которым, следовательно, плавал, как по давнишнему проторенному пути. Он больше всего думает о Царьграде, о всемирной столице тогдашнего времени; но не меньше думает и о хазарах, где арабы сохраняют его имя в названии главной славянской реки (Волги, а также и Дона), в названии даже Черноморской страны славянской, причем и волжские булгары, и сами хазары являются как бы наполовину славянами. Так широко распространялось славянское имя и по Каспийскому морю. Вообще должно сказать, что морская предприимчивость словен уже в IX веке обнимает такой круг торгового промысла, который и в последующие столетия не был обширнее, а затем постепенно даже сокращался. Ясно, что это добро было нажито многими веками прежней, незнаемой истории.
Возможно ли, чтобы эта обширная мореходная предприимчивость зародилась сначала только в пределах Ильмень-озера и оттуда перешла на ближайшие, а потом и на далекие моря, распространившись вместе с тем и по всей равнине? Нам кажется, что этот морской нрав ильменских словен, которым ознаменованы все начальные предприятия Русской земли, зародился непременно где-либо тоже на морском берегу или, по крайней мере, воспитывался и всегда руководился самыми близкими и постоянными связями с морем. Большое озеро или большая река внутри равнины, каковы были Ильмень для Новгорода и Днепр для Киева, если и развивают в людях известную отвагу и предприимчивость. то все-таки ограничивают круг этой предприимчивости пределами своей страны. Все, что мог выразить Киев в своем положении, – это служить только проводником к морю, что он и исполнил с великой доблестью. Но морская жизнь в ее полном существе не была ему свойственна, не могла в нем развить характер истинного поморянина. То же должно сказать и о Новгороде.
Море в человеческом развитии есть стихия вызывающая, дающая людям особую бодрость, смелость, подвижность, особую отвагу и пытливость. На морском берегу человек не может сидеть 30 лет сиднем, как сидел в своей деревне наш богатырь Илья Муромец. Живя на морском берегу, человек необходимо бросится в этот мир беспрестанного движения и сам превратится в странствующую волну, не знающую ни опасностей, ни пределов своей подвижности. Только море научает и вызывает человека странствовать и по безмерным пустыням внутренних земель, которые, как известно из истории, всегда остаются, как и самая их природа, неподвижными, спокойными, можно сказать, ленивыми в отношении человеческого развития.
Поэтому весьма трудно поверить, чтобы русская морская отвага первых веков народилась и развилась из собственных, так сказать, из материковых начал жизни. Поэтому очень естественным кажется, что первыми водителями русской жизни были именно норманны, как говорят, единственные моряки во всем свете и во всей средневековой истории. Но так можно было соображать и думать только по незнанию древней балтийской истории, которая, наряду с норманнами, очень помнит другое племя, ни в чем им не уступавшее и даже превосходившее их всеми качествами не разбойной, но промышленной, торговой и земледельческой жизни. У самих норманнов ваны, венеды почитались мудрейшими людьми.
Норманнское имя очень важно и очень знаменито в западной истории, а потому и мы, хорошо выучивая западные исторические учебники и вовсе не примечая особенных обстоятельств своей истории, раболепно, совсем по-ученически, без всякой поверки и разбора, повторяем это имя, как руководящее и в нашей истории.
Между тем даже и малое знакомство со славянской балтийской историей, поставленной рядом с начальными делами нашей истории, вполне выясняет, что, как на Западе были важны норманны, в той же степени велики были для Востока варяги-славяне – обитатели южного Балтийского побережья.
И там и здесь люди моря, отважные мореходы, вносят новые начала жизни. Но только в этом обстоятельстве и оказывается видимое сходство исторических отношений. Затем во всех подробностях дела идет полнейшее различие. Там эти моряки завоевывают землю, делят ее по феодальному порядку, вносят самодержавие, личное господство и коренное различие между завоевателем и завоеванным, образуют два разряда людей – господ и рабов, совсем отделяют себя от городского общества и на этих основах развивают дальнейшую историю, которая даже и в новых явлениях осязательно раскрывает свои начальные корни.
Наши русские варяги, как славяне, наоборот, вовсе не приносят к нам этих благ норманнского завоевания. Они являются к нам со своим славянским добром и благом. Как отважные моряки, они приносят нам промысловую и торговую подвижность и предприимчивость, стремление проникнуть с торгом во все края нашей равнины. Это добро главным образом и служит основанием для постройки русской народности и русской истории. Затем они приносят однородный нрав и обычай, однородный язык, однородный порядок всей жизни; никакого деления земли, никакого разделения на господ и рабов, никакой обособленности от городской общины и т. д. Все это, как одно родное и хотя бы по характеру мест несколько различное, сливается в один общий исторический поток, и пришельцы совсем исчезают в нем, не оставляя ярких следов и способствуя только быстроте развития первоначальной русской славы и истории.
Глава II. Начало русской самобытности
Новгородское поселение. Его зависимость от Варяжского поморья. Начало новгородской самобытности. Рюрик как политическая идея. Начало самобытности Киева. Его поселение. Его значение для Русской страны. Дела Аскольда. Переселение Новгорода в Киев и дела Олега
Много было мест, где приходящие славяне заводили себе словогощи, торговые поселки, городки и города: мы упоминали о Словянске на верхнем притоке Немана, о Словенске-Изборске, о Словиске на перевале от Немана к Припяти и Западному Бугу и др.; но не было выгоднее и значительнее места, чем ильменское Славно. Оно находилось на таком узле водяных сообщений, с которого можно было свободнее, чем из иных мест, достигать самых отдаленных краев Русской равнины. Отсюда водяными дорогами можно было плавать и в Черное море, и в Каспийское, и на дальний север к морю Студеному, не говоря уже о Балтийском поморье, откуда приходили сами славяне.
Само собой разумеется, что если славяне прошли в нашу страну прежде всего вверх по Неману, то ильменское Славно должно было заселиться уже позднее Славна усть-неманской Руси – Словонии или немано-березинского Словянска или вообще позднее всех тех мест, через которые славяне передвигались в Ильменскую область. Вот почему и самое имя Новгород должно указывать и на старые города Вендского поморья, и на старые славянские города в нашей Сарматии, ибо показание Птолемея о древнейшем поселке ставан ближе всего упадает на неманские славянские края. Правильные раскопки курганов и городищ в тех местностях могли бы раскрыть многое в отношении поверки этого предположения.
Как бы ни было, но Новый город указывает на новое городское поселение, которое начиналось уже не от родового быта, а прямо от быта городового, не из села и деревни, а из старого города. Сюда собрались для поселения люди, связанные не кровным родством, а целями и задачами промысла и торга, собрались, следовательно, не роды, а дружины, в смысле промысловых ватаг и артелей. Вот почему зародыш Новгорода не мог быть родовым; он был дружинный, общинный, в собственном смысле городовой, т. е. смешанный из разных людей, не только разнородных, но отчасти, быть может, и разноплеменных. Если бы собрались сюда люди и не из города, а из сел и деревень, но разные люди, от разных мест и сторон, то и в этом случае их дружина необходимо должна была сложить свой быт по городскому, т. е. общинному, порядку. А люди сюда пришли действительно разные, из разных мест и сторон.
Несомненно, что древнейшим поселком Новгорода должно почитать Славно, возвышенную и выдающуюся мысом местность на правом восточном берегу Волхова, у истока Волховского рукава, называемого Малым Волховом и Волховцем. По пути из Ильмень-озера в Волхов это единственная местность, наиболее пригодная для городского поселения как по удобствам пристанища, так и по целям первоначальной защиты и безопасности. Она господствует над широкой поемной долиной, где проходит Волховец с протоком Жилотугом и где, дальше к югу, разливает свои протоки и озера устье реки Мсты, впадающей в Ильмень верстах в 12 южнее Новгорода. В весеннее время все это пространство покрывается водой, так что подгородные деревни, монастыри, самый Новгород с этой стороны, именно Славно, остаются на островах и представляют, по замечанию Ходаковского, вид, подобный архипелагу. Господствуя над множеством протоков и заводей, Славно тем самым обозначает вообще топографический характер древнейших славянских поселений, которые повсюду отыскивали себе тех же удобств – скрываться от преследований и нападений врага или внезапно выходить на него из засады и в то же время быть близко к цели своих промыслов. Таков был славянский поселок на устьях Немана, такова была Запорожская Сечь, таков был и русский Переяславец на устьях Дуная (место Преслав у Тульчи), таков был у лютичей и Воллин на устьях Одера. Новгородское Славно помещалось на устьях Мсты и Волхова. Припомним и помещение венетов Галлии и Адриатики. Выбрать для поселения такое место могли, конечно, только люди, вечно жившие на воде в лодках, и притом люди, пришедшие в чужую сторону или окруженные чужеродцами. Славно над Волховом и над всей Мстинской долиной возвышалось холмом и мысом, смотревшим прямо на озеро, вдоль Волховского потока, так что этот Холм красовался еще издалека. На Холму еще в 1105 году упоминается уже церковь Св. Илии, что дает повод предполагать, что здесь стоял новгородский Перун, и не это ли место именовалось в то время Перынью, откуда свержен идол, поплывший под мост города и бросивший на этот мост знаменитую палицу в наследие задорным старым вечникам?
Ходаковский полагал, что языческое святилище находилось в двух поприщах (в 3 верстах) южнее Славенского Холма и против него, на том же берегу Волхова, тоже на небольшом островке или холме, который издревле прозывался Городищем. Это Городище было особым жилищем князей, так как здесь находился их дворец и здесь же происходил княжеский суд. Оно могло быть выстроено еще в глубокой древности с целью уходить в него для осады. В этом смысле оно могло соответствовать запорожской Скарбнице, существовавшей тоже на островке посреди протоков и лесов. Оно же имело значение передовой тверди в войнах с суздальской русью, которая приходила по течению Мсты.
Подле древнего Славна, по берегу Волхова, дальше к северу, распространялся Плотницкий конец, имевший население такое же славянское, ибо сами новгородцы известны были по всей Руси как плотники. Оба конца составляли одну возвышенность вроде острова, в длину по берегу Волхова версты на две, в ширину на версту. В Славянском конце, на береговой, особо возвышенной и выдающейся мысом его средине, находился Торг, торговище, а подле него Ярославово дворище. Это была Торговая сторона всего города. Вот почему здесь же мы находим и жилище варягов, в Варяжской (Варецкой) улице, облегающей самое Славно с севера, и Варяжскую церковь Св. Пятницы, стоявшую на Торговище[64]; находим ручей Витков, улицу Нутную, которая, огибая Славно, следует после Варяжской и Бардовой и объясняется вендскими именами[65].
На плане Новгорода 1756 года еще можно видеть, что древнейший поселок, Славно, направлением самых улиц выделяется особым средоточием жизни. Эти улицы Варяжская, Бардова, Нутная идут около него по круговой линии, пересекая или упираясь в главную улицу, которая и называлась Славной и направлялась от Ильменского мыса к Торгу по направлению Волхова. Ильменский мыс с храмом Ильи Пророка и составлял средоточие или главную высоту всего Славна. Мы уже говорили, что здесь в языческое время мог стоять истукан Перуна.
На другой стороне Волхова против Славна и Плотников распространялось смешанное население, посреди которого еще при Рюрике был выстроен кремль – детинец.
Здешний древнейший поселок, находившийся прямо против Плотников, именовался Неревским концом, быть может, так прозванным от стороны, где жила нерева, или нерова, упоминаемая летописцем, между Корсью и Либью, в одном месте взамен Сетьголы, и оставившая свое имя в теперешней реке Неров, текущей из Чудского озера в Финский залив, где находится и город Нарва, древний Ругодив.
Но, основываясь на этом имени, нельзя утверждать, что население Неревского конца было чудское – финское. Финское племя, населявшее Новгородскую землю, особенно на запад от Волхова, прозывалось собственно водью. Имя нар, нер, нор, нур[66] с различными приставками встречается по большой части в среде славянских поселений, а начальный летописец самим славянам дает древнейшее имя «норци», как колену от 72 язык, разошедшихся по земле после Столпотворения. Это имя невольно переносит нас к геродотовским неврам и к их переселению в землю вудинов, быть может, в землю и новгородской води.
Подле Неревского конца к югу распространялся конец Людин, иначе Горнчарский, противоположный Славну Торговой стороны. Это общее обозначание люди, людь, люд-гощь, откуда улица Легоща, показывало, что здесь население было смешанное, так сказать, всенародное.
Действительно, между обоими концами в стороне поля находились пруссы, или Прусская улица у Людина конца, и поселок Чудинец, улица Чудинская у Неревского конца, а также улица Корельская. В этой же местности жили деигуницы, обитатели Западной Двины.
Но и в этих концах, в улицах и переулках, сохранились имена варяжские, по сходству их с вендскими именами Балтийского поморья, каковы: Янева улица, Росткина, Щеркова-Черкова, Куники. На берегу Волхова в Людином конце находим Шетиничей, вероятных жильцов из Штеттина, у церкви Троицы на Редятиной улице[67]. Заметим, что и в Людином конце существовало языческое капище Волоса, на месте которого, вероятно, и построена церковь Власия, обозначенная урочищем, что на Волосове, и Волосовой улицей. Эта церковь существует доселе. Подле Волосовой улицы находилась улица Добрынина.
Вот основные четыре конца Древнего Новгорода. Пятый конец заключал в себе наседение загородное, а потому и назывался Загородским концом. Ясно, что он возник в то время, когда около посада были выстроены деревянные стены, о которых упоминается уже в 1165 году. Другие концы образовались уже после[68].
Нам скажут, что все приведенные свидетельства о смешанном населении Новгорода относятся уже к XI и XII векам и потому не могут объяснять состояние города в древнейшее время, например во время призвания князей. Но имена мест живут долго, даже и тогда, когда уже вовсе не существует и памяти о людях, от которых произошли эти имена. Затем наши заключения в этом случае основываются на простом логическом законе народного развития, по которому неизменно выводится, что если где образовалось людское торжище, то к этому торжищу тотчас пристанут именно разные люди, от разных сторон, племен и мест. Как только на Волхове поселилось наше Славно, уже по самому выбору места заключавшее в себе смесь предприимчивых промышленников, так необходимо около этого поселка нескольких промышленных и торговых ватаг должны были собраться многие разные люди из окрестных и далеких мест, нуждавшиеся в промене товара излишнего на товар надобный.
Само собой разумеется, что иноземные имена могут обозначать и тутошнее население, которое, например, ведя торги с пруссами, могло так и прозываться пруссами; но несомненно также, что в составе прусских купцов бывали и природные пруссы, приезжавшие и жившие в городе временно в качестве гостей. При самом начале городского заселения именно приезжие гости и давали имена тем городским поселкам, где они останавливались случайно или по выгодам местности. В самом начале это бывали только подворья, разраставшиеся потом в особые слободы и улицы. Тем же способом образовались и другие иноземные поселки, упомянутые выше, а также и городские сотни, названные по тем украйнам Новгородской области, откуда приходили насельники, каковы: Ржевская от города Ржева, Бежицкая, Водская, Обонежская, Лужская от реки Луги, Лопьская, Яжелбицкая.
Само собой разумеется, что если славянское население в Новгороде и во всех местах у чуди, веси, мери в действительности было пришлым с Балтийского поморья, то его зависимость от своих старых городов являлась делом весьма естественным и обыкновенным. Там, за морем, всегда находилась точка опоры и для торговых дел, и для военных, когда возникали ссоры с туземцами, когда нужно было отомстить за какую-либо обиду или вновь проложить запертую дорогу. Такое тяготение к своей земле-матери Новгород чувствовал и после призвания князей в течение первых 200 лет своей истории. Все важнейшие дела этого времени: занятие Киева, походы на греков, новые занятия того же Киева при Владимире и Ярославе – совершались при помощи вновь призываемых варяжских дружин, а князья в опасных случаях поспешали уходить к тем же варягам. Такие отношения к Варяжскому заморью уже на памяти истории вполне могут объяснять, почему и в доисторическое время не кто другой, а те же славянские варяги являются господами нашего новгородского севера и берут дань именно с тех племен, у которых колонистами сидят славяне. Как известно, эта дань, хотя, быть может, в меньшем размере, уплачивалась до смерти Ярослава – для мира, т. е. для безопасности и спокойствия со стороны Варяжского заморья, как равно и в видах ожидаемой от него помощи. Она прекратилась не столько потому, что после Ярослава усилилась Русь, стала на свои ноги и находила средства оборонять себя и без варягов, но более всего потому, что сами варяги с середины XI столетия в борьбе с немцами год от году теряли свои силы и не были уже способны держать твердо свое влияние и могущество в наших землях. Нельзя сомневаться, что начало этой дани уходило в те далекие времена, когда она выплачивалась старым заморским городам, как своим отцам, от новых и младших их поселков посреди нашего финского севера. Вообще варяжская дань показывала, что наш Ильменский север с незапамятных времен находился в торговой и промышленной зависимости от Балтийского поморья, так точно, как и наш киевский юг всегда находился в такой же зависимости от южных морей.
Вот почему, по летописной памяти, первоначальное состояние наших исторических дел было таково, что на севере брали дань варяги, на юге брали дань хазары. Это был видимый для летописца горизонт нашей первоначальной истории. Что находилось дальше, правдивая летопись уже ничего не могла сказать и не позволила себе даже и гадать об этом. Но здесь-то особенно и обнаруживаются ее высокие литературные достоинства и правдивые качества ее преданий. Пользуясь этими преданиями, она чертит очень верно положение наших доисторических дел. Она ни слова не говорит о завоевании, о нашествии варягов на север или хазар на юг. Она прямо начинает выражением: «Имаху (многократно) дань варязи (приходяще) из заморья, на чуди, на оловенех, на мери, на веси[69], на кривичех, а хазары имаху на полянех, и на северех, и на вятичех, имаху по беле и веверице от дыма».
Отсутствие свидетельства о завоевании этими народами нашей земли должны объяснять или незапамятность, когда началась эта дань, или мирное, так сказать, промысловое ее начало. Хазар мы знаем. Они над окрестными странами владычествовали больше всего торговлей. С VII века они владели всей Азовской и Крымской страной, начиная от Днепра, что все вместе и называлось Хазарией. Поэтому зависимость от них днепровских полян, донских северян и их верхних соседей, вятичей, было делом самым естественным. Как русский перекрестный торжок, Киев тянул своим промыслом именно к хазарским местам и потому необходимо, и на Каспийском, и на Азовском, и на Черном морях, повсюду попадал в руки тех же хазар. От них вполне зависело его торговое существование, так что и без особого завоевательного похода он мог или, по своей слабости, был принужден отдаться хазарам по простой необходимости свободно вести с ними свои торги. В сущности, он платил дань близлежащим своим морям и тем откупал себе свободу жить с этими морями в торговом промысловом союзе.
Так точно и на Ильменском севере, в Новгороде, господствовали варяги, т. е., в сущности, господствовало Балтийское поморье, и вовсе не одним мечом, а по преимуществу промыслом и торгом. От меча ильменское население, конечно, разбрелось бы кто куда, лишь бы подальше внутрь страны, а мы, напротив, видим, что издавна к этому озерному, болотному и бесхлебному краю славянское население теснится с особенной охотой. Ясно, что его влекут туда выгоды промысла-торга, который мог поддерживаться и развиваться только выгодами же Балтийского поморья. Как хазары в отношении к Русской равнине держали в своих руках торг каспийский и черноморский, так и варяги держали в своих руках торг балтийский. Вот по какой причине наша страна и платила дань этим двум торговым и, конечно, наполовину военным силам VIII и IX веков.
Какие варяги господствовали своим торгом на Балтийском поморье, это лучше всего разъясняет последующая история, когда варягов сменяют не скандинавы, а ганзейские немцы, не северное, а южное, т. е. славянское, побережье Балтийского моря. Коренным основанием для Ганзы послужили все те же славянские (вендские) поморские города, которые развивали балтийскую торговлю с древнейшего времени. Немцы основались в готовых и давно уже насиженных славянами гнездах. А Новгород и у немцев стал главнейшим торговым гнездом в сношениях с востоком. Однако немцы и в Новгороде приперли славян к стене, закрывши для них дорогу свободного вывоза товаров и заставивши их сидеть со своими товарами у себя дома, и из иноземных товаров довольствоваться лишь тем, что привезут немцы.
Как обширный материк, богатый произведениями природы, но слабый политическим развитием, Русская равнина, именно по случаю этой слабости, всегда находилась в зависимости от своих же морских углов. Кто в них становился владыкой, тому по необходимости она и платила дань, или прямой данью, как было в IX веке, или теснотой торговли, как бывало после. Историческая задача Русской равнины искони веков заключалась в том, чтобы овладеть навсегда этими морскими углами, ибо в них собственно находились самые источники ее развития, промышленного, а следовательно, и политического. Только эти далекие моря с незапамятных времен возбуждали к делу жизнь равнины, объединяли ее интересы, заставляли население пролагать свои торговые пути по всем направлениям, что главным образом и способствовало общению различных племен и соединению их в одну русскую народность.
От перемещения морских торгов, от возникновения торговых городов на других местах переменялось и направление торговых путей внутри равнины, изменялось и направление ее исторических дел.
Каково было устройство новгородской жизни до призвания князей, об этом мы можем судить уже по первым действиям Новгорода. Он начинает свою историю изгнанием своих властителей, т. е. начинает деянием, которое не иначе могло возникнуть, как только по согласию и совещанию всенародного множества, по согласию и при помощи всех волостей земли. Иные скажут, что это было народное восстание, о котором еще нельзя судить, явилось ли оно буйством угнетенного сплошного рабства или сознательным делом населения, хотя и платившего заморскую дань, но свободного в своем внутреннем устройстве. Дальнейший ход дела вполне раскрывает, что народ действовал сознательно, по разуму общего соглашения. Изгнавши варягов, он стал жить сам по себе. Но он не в силах был побороть собственной вражды и усобицы, той неправды сторон, которую некому было судить и разбирать, ибо в усобицах каждая сторона, почитала себя правой. Для правдивого суда была необходима третья сила, совсем чуждая не только враждующим сторонам, но и всему городу, всем интересам тутошних людей. В ответ на эту необходимость третьего лица раздалось общенародное слово: поищем себе князя, который судил бы по праву и рядил бы по ряду.
Призвание князя произошло в тот же самый год, когда изгнаны были варяги. Это дает повод догадываться, что изгнание происходило уже с мыслью о призвании, как всегда такие дела устраивались в городах и после. По всему вероятию, люди уже вперед знали, кого они позовут или могут позвать к себе на княжение. Позднейшие летописцы в пояснение обстоятельств прибавляют, что выбор происходил с великой молвой или разногласием, одним хотелось того, другим другого; избирали от хазар, от полян, от дунайцев (болгар?) и от варягов. Наконец утвердились и послали к варягам. Так естественно должно было происходить на народном совещании. И эти позднейшие сказания имеют цену только как здравомысленное объяснение голых слов первой летописи. Но едва ли круг избрания мог распространяться в такой широте. По многим причинам он необходимо ограничивался только Варяжским поморьем, ибо если было легко изгнать варягов и разорвать связи с племенем, которое до тех пор владычествовало в стране, то возможно ли было порушить связи вообще с Поморьем, которое с незапамятного времени давало жизнь новгородскому славянству и хранило в себе матерые основы его существования. Варяжский торг и варяжская храбрая дружина для защиты от врагов варягов и врагов туземцев, – вот две жизненные статьи, без которых Ильменский край не мог существовать, да не мог никогда и возродиться. Несомненно, что для этих выгод он откупался данью и в прежнее время, и платил дань за море даже и при князьях.
Естественно предполагать, что призваны были другие варяги, не те люди, которых только что выпроводили вон из страны. Изгнаны были варяги без имени, но призваны варяги-русь, русские варяги. Поставляя в соотношение начало нашей истории с историей балтийского славянства, можно с большой вероятностью догадываться, что изгнаны были варяги-ободриты, быть может, самые вагры, жившие в самом углу южного Балтийского поморья, подле датчан, англов, саксов, и которые в начале IX столетия уже теряли свою самостоятельность, служили Карлу Великому и немцам и за то терпели разорения и даже завоевания от датчан. Так было по крайней мере в 808–811 годах. Надо сказать, что в войне Карла Великого с саксами ободриты всегда были его верными союзниками; всегда стояли на стороне франков, быть может, по той особенной причине, что, живя по соседству с саксами, много терпели от них обид и тесноты. В тех же враждебных отношениях ободриты жили и с датчанами. Между тем против Карла и на стороне датчан всегда стояли велеты, лютичи, постоянно и жестоко враждовавшие с ободритами. Неизвестно, что делили между собой эти славянские племена, хозяева всего южного Балтийского побережья, но с достоверностью можно полагать, что в этой правде немалую долю занимало и соперничество на море, в торгах и промыслах. Как бы ни было, только эти враждебные отношения двух варяжских племен могут в известной степени объяснять и начальный ход варяжских дел в нашей истории.
Изгнание варягов, поднявшееся со всех концов, могло произойти не только от их варяжского насилья, но и от их домашних раздоров, даже при помощи одного из соперников. Мы не знаем, как варяги распределяли свое владычество в нашей стране; не знаем, из каких городов и от каких именно племен шли в нашу землю их варяжские торги, но по последующей истории уже немецкого Ганзейского торгового союза можем заключать, что торговые сношения с нашей страной находились в руках и в древнейшее время у тех же вендских городов, у Любека и Висмара, у Воллина и Штеттина, т. е. в руках ободритов илютичей. Если старинными владыками нашей страны были велеты, как можно судить по их жительству еще во II веке в устьях Немана, то нет оснований отвергать, что в последующее время, вместе с именем варягов, распространилось владычество и ободритов. Мы уже говорили, что имя варягов могло обозначать самую крайнюю западную ветвь всего славянства в смысле ее передового поселения. Именно об этих передних украинцах, о ваграх, которые принадлежали к ободритскому племени[70], история отмечает, что они некогда, в конце VIII и в начале IX века, господствовали над многими, даже отдаленными славянскими народами, стало быть, вообще господствовали по Балтийскому славянскому побережью, а потому должны были господствовать и на ильменском севере. Вот, по всему вероятию, кто мог приходить из-за моря и собирать дань на нашем севере. Здесь же скрывается и причина изгнания этих варягов и призвания ругенцев-велетов. Враждуя между собой в своих родных местах, ободриты и велеты очень естественно должны были враждовать и на далеких окраинах своего владычества. Не происходило ли в их отношениях подобного же соперничества, какое в последующие века господствовало на Черном море между венецианцами и генуэзцами?
Без малого за двадцать лет перед тем годом, в который наш летописец полагает изгнание варягов, именно в 844 году, король немецкий Людовик извоевал ободритов, причем в битве погиб и их старейший князь Гостомысл. Остальные князья сделались подданными Людовика, и земля была разделена между ними по усмотрению завоевателя, т. е. как подобало феодалам-германцам.
В позднейших наших летописях конца XV и начала XVI века поминается старейшина Гостомысл, которого пришедшие от Дуная славяне, построив Новгород, посадили у себя старейшинствовать. Можно полагать, что этот новгородец Гостомысл заимствован из латинских сказаний об истории балтийских славян. Если же в какой-либо русской древней хартии поминалось о нем как о личности действительно существовавшей во времена призвания варягов, то это обстоятельство может давать намек, что Новгородской волостью в то время владели именно ободриты, с их старейшиной Гостомыслом. В Новгородской летописи первым посадником именуется тоже Гостомысл. Очень замечательно и то обстоятельство, что с 839 года почти целое столетие в западных хрониках ни словом не упоминается о велетах, которые очень славились своей борьбой с немцами и очень ревниво отстаивали свою независимость[71]. Летописцы замолчали, конечно, по той причине, что умолкли действия самих велетов. Но не потому ли замолкли велеты, что их дружинные силы были отвлечены и направлены на нашу сторону? В эту эпоху, во второй половине IX и в начале X века, Русская страна поднимается, так сказать, на ноги именно при помощи варяжских дружин.
Призванные варяги, как мы говорили, были другой народ, который летопись прямо обозначает русью и прямо указывает в своей географии жительство этой руси на западном славянском Балтийском поморье возле готов (датчан) и англов, где, кроме острова Ругия, другой значительной области с подобным именем не существует. Если б не это показание летописи, довольно отчетливое и ясное, то можно было бы с большой вероятностью предполагать, что призванная русь жила на Прусском берегу, в устьях Немана[72]. Во всяком случае, несомненным мы почитаем одно: что русь была призвана не из Швеции, а от славянского поморья, с острова ли Руген или от устья Немана – это все равно, она была русь славянская, родная и во всем понятная для призывавших, а потому и не оставившая никакого следа от своего небывалого норманнства. Русь – Ругия поморская была старее неманской руси, была известна на своем месте с первых веков христианского летосчисления и, по всем вероятиям, еще в давнее время отделила свою колонию к устью Немана.
Остров Ругия лежит возле устьев Одера у самой средины Велетского поморья, где искони процветало на все стороны широкое торговое движение. Если призванная к нам русь была русь ругенская, то несомненно, что и те варяги, о которых так часто и неопределенно говорит наш летописец, которых постоянно призывали себе на помощь наши первые князья, были ее же ближайшие соседи – велеты, от устьев Одера, из городов Воллина (Волыня) и Щетина, где и в XI веке уже русская русь живала как у себя дома. Вот объяснение, почему с середины IX века велеты умолкли на западе: их дружины здесь, на востоке, сосредоточивались в Киеве и в 865 году нападали на Царьград; в 881 году завоевывали весь южный Киевский край, в 907 и 941 годах ходили опять под Царьград и в то же время справляли свои каспийские походы. Для всех этих дел требовались немалые дружины, которые, по всему вероятию, постоянно и пополнялись из своего же родного Велетского края, не устраняя от участия в своих ополчениях и храбрых норманнов, живших в велетских городах тоже как свои люди. Не говорим о том, что славянская борьба с немцами и датчанами, которые именно в эти времена стали с особой силой теснить славянство и припирать его к морю, была едва ли не самой главной причиной для постоянного выселения славяно-варяжских дружин на наш пустынный, но гостеприимный север. Вот причина, почему населились варягами и наши древние города. Несомненно, что венды, спасая свое родное язычество, бежали и от германского меча, и от латинского креста, и от тесноты земельной. С IX века немцы горячо и дружно стали выбивать славян с их родных земель, от Эльбы. С течением лет все дальше и дальше они теснили их к морю. Кто не желал покоряться, тому оставалось одно – броситься в море, как говорил уже в XII веке вагорский князь Прибислав. «Налоги и невыносимое рабство, – говорил он, – сделали для нас смерть приятнее жизни… Нет места на земле, где мы могли бы приютиться и убежать от врагов. Остается покинуть землю, броситься в море и жить с морскими пучинами»[73]. Так могли говорить и мыслить многие из тех славянских дружин, которые еще в IX и X веках испытывали натиск немецкого нашествия. Покорение немцами ободритов в 844 году несомненно заставило всех желавших свободы искать убежища где-либо за морем и, вернее всего, в далеких странах нашего севера.
Нет прямых и точных летописных свидетельств о наших связях с Балтийским побережьем; поэтому исследователи, одержимые немецкими мнениями о норманнстве руси и знающие в средневековой истории одних только германцев, никак не желают допустить, что были таковые связи. Но в нашей первой летописи нет свидетельств и о наших связях с Каспийским морем. Она говорит только, что хазары брали дань, и не появись свидетели-арабы, что бы мы знали о наших каспийских делах? Лерберг в свое время никак не мог поверить, что Русь когда-либо могла торговать и на Каспие, и с большим удивлением приводит свидетельство одного испанского посла к Тамерлану, откуда видно, что уже в начале XV века из России в Самарканд привозились кожи, меха и холст[74]. «Как ни одиноко это сведение, – замечает осторожный ученый, – но мы должны считать его достоверным!» Таково было влияние шлецеровской буквы во всех изысканиях. Она теснила и истребляла всякое живое понимание вещей и исторических отношений, вселяя величайшую осторожность и, можно сказать, величайшую ревнивость по отношению к случаям, где сама собой оказывалась какая-либо самобытность Руси, и в то же время поощряя всякую смелость в заключениях о ее норманнском происхождении. Тот же Лерберг не очень руководился осторожностью в толковании имен днепровских порогов только по-норманнски. Очевидно, что при этом направлении ученых изысканий мы и до сих пор не можем поверить, чтобы существовали когда-либо связи русских славян с балтийскими. Это нам кажется так же дико, как Лербергу показалось диким даже несомненное известие о торговле Руси с Самаркандом.
На призыв великой и обильной, но беспорядочной земли избрались три брата, старейший Рюрик, другой Синеус, младший Трувор. Они пришли со своими родами, забравши с собой всю русь, вероятно, всю свою дружину, какая была способна действовать мечом. Они пришли, как их звали, судить и рядить по праву и по ряду, т. е. пришли владеть и княжить не иначе как по уговору с землей, что делать и чего не делать, иначе летописец не поставил бы здесь таких слов, как право и ряд, всегда в древнем языке означавших правду и порядок уговора или договора. Это в полной силе подтверждается всей последующей историей. Рюрик сел сначала в Ладоге и по смерти братьев уже перешел в Новгород, а по другим свидетельствам, прямо в Новгороде, – и там, и здесь над озером; второй брат сел у веси на Белом озере; третий – в Изборске у Чудского озера. Все разместились по озерам и собственно по границам словенской Ильменской области, и притом по старшинству столов или мест, если глядеть в лицо опасностям с Балтийского поморья: старший занял место в средине, в большом полку, средний – по правой руке, младший по левой. Такое размещение вполне обнаруживает, что финские племена особой самостоятельности в призвании князей не имели, что под именем призывавшей чуди должно разуметь собственно славянский город Изборск – Словенск, который господствовал над Чудской страной; как и под именем веси в Белозерском городе, мери с ее Ростовом и пр. должно разуметь тоже славянские города, владевшие этими финскими странами; что, следовательно, дело призвания, как и дело изгнания должно принадлежать одним славянам и собственно одному Новгороду, который является центром и в размещении княжеских столов.
Спустя два года братья Рюрика померли бездетными и притом в один год. Очевидно, что все известие об этих трех лицах было, в сущности, далеким преданием, имеющим вид сказки, хотя повесть летописи именно в этом месте не носит в себе ничего сказочного. Родоначальная троица была общим поверьем и у других исторических народов. Кроме того, в этом предании о трех братьях может также скрываться и неясная память о трех периодах славянского расселения по финским местам нашего Севера, со старшинством поселения в Новгороде.
По смерти братьев Рюрик остался единовластцем. Тогда он из Ладоги перешел к озеру Ильмень, срубил городок над Волховом, прозвал его Новгородом и сел в нем княжить, раздавая своим мужам волости и города рубить: иному дал Полоцк, иному Ростов, другому Белоозеро. Такая речь летописи может указывать, что Рюрик как бы вообще раздавал города своим дружинникам, вассалам, как отмечает Шлецер. Однако летопись упоминает только о тех, которые с самого начала являются уже отделенными от Новгородской области.
Здесь, по-видимому, высказывается только древнее предание, что упомянутые города некогда составляли один союз с Новгородом и находились в зависимости от него, что ко времени призвания князей они были уже независимыми волостями, почему и обозначаются розданными. По всему вероятию, это были такие же независимые особые варяжские гнезда, каким в то же время явился и Киев со своими Аскольдом и Диром. Из последующей истории открывается, что Полоцком и Туровом владели особые варяги, и можно полагать, что Новгород первенствовал только по той причине, что призванный его владетель был княжеского рода. С этой мыслью летопись ставит его единовластителем земли, заставляя братьев вовремя помереть. Подобные сказания не могут даже называться и преданием, а тем более легендой, сказкой. Это простые соображения, как могли идти дела с самого начала. Они и идут даже по земле от самой границы, от Ладоги. Видно, что летописец и сам идет от пустого места, начинает как бы с зародыша, почему призвавший варягов Новгород еще не существует и является впервые в образе рюриковского новопостроенного городка.
Как бы ни было, но в лице Рюрика летопись рисует только свои понятия о значении для земли князя, о его правах – владеть землею, о его обязанностях – воевать, городки рубить, сажать в них своих мужей, раздавать волости мужам. Таким образом, первое лицо истории не есть собственно живое лицо; оно и не миф, а одно лишь общее представление о княжеской власти.
Собственно личные дела Рюрика, по позднейшим летописным вставкам, заключались в том, что его властью очень оскорбились новгородцы и восстали против него, что он убил тогда храброго Вадима и иных многих горожан, советников Вадима. Это случилось через два года после призвания, в год смерти братьев; а через пять лет многие из снова оскорбленных новгородцев побежали в Киев. Поздние повести вставили между прочим известие, что Рюрик в 866 году послал в Корелу своего воеводу Валета (Волита), повоевал корелу и дань на нее возложил, а затем даже и умер в Кореле, в войне. Здесь предание, быть может, очень справедливо возводит новгородские отношения к Кореле к древним временам Рюрика.
Итак, обрисовывая личность Рюрика, летопись, вместо сказки и легенды, передает только простые здравые соображения о том, как должны были идти начальные дела первого времени. В сущности, она чертит портрет княжеской власти, она говорит то же, что сказал бы сам историк-критик, сам Шлецер, если б захотел пояснить голое сведение о призвании князей, об их первых делах и местах, где они впервые должны были утвердиться, и т. д. Во всем рассказе качеством легенды может быть отмечена только братская троица с ее именами. Однако у нас нет никаких разумных оснований относить и эти имена к позднему вымыслу. Княжеский род, который является владетелем Русской земли, – живой факт. Игорь – живое лицо, имевшее своего отца. Летопись XI века называет его отца Рюриком. В этом случае она передает или предание, или, что еще вероятнее, древнюю запись, ибо при том же Игоре русские умели уже писать и знали грамоту и вполне могли где-либо вписать имена призванных князей. Самый рассказ летописи вполне утверждает это предположение. В нем основанием служат только одни голые имена, обставленные, как мы сказали, простыми соображениями о первых делах, но отнюдь не легендами и сказками, не повестями о походах, завоеваниях и т. д. Эти имена являются и в древнейшем писаном свидетельстве, в «скором», или кратком, летописце патриарха Никифора (список XIII века), где призывать варягов идет даже сама русь, наравне со славянами, чудью и пр. Подобные летописцы древнейшего времени сохранили нам множество коротких, отрывочных свидетельств, входивших потом в состав сборных летописей. Если б это была норманнская сага, то ее рассказ необходимо оставил бы свой след и в летописи, которая в этом случае, хотя бы по обычаю и кратко, но непременно сказала бы что-нибудь о родословной Рюрика, от каких великих, знатных и храбрых людей он происходит; летопись, напротив того, меньше всего думает о каком бы то ни было славном и благородном происхождении и если обозначает Рюрика князем, то не в смысле его происхождения, а в смысле его властного положения в Новгороде. Он князь потому, что призван владеть Новгородской землей.
Затем и мифическая троица, как справедливо заметил покойный Гедеонов, тоже не может вполне отзываться мифом, сказкой, легендой. Эта троичность не раз повторяется в живых лицах. После Святослава остаются три сына, после Ярослава тоже землею владеют три его сына, три брата, при которых положено и начало летописи. После Ивана Калиты в начале московской истории тоже являются три сына.
Вообще нет и малейших оснований доказывать вместе с г. Иловайским, что призвание Рюрика есть легенда, сочиненная будто бы в честь Рюрика Ростиславича в конце XII или в начале XIII века. Для этого прежде всего необходимо доказать наклонность и способность нашей древней летописи сочинять подобные легенды. Эта наклонность действительно появляется, но уже впоследствии, когда летопись подверглась литературной обработке по идеям самодержавия и под влиянием этих идей, или вообще идей о русской государственной самобытности и самостоятельности, вставила, например, легенду о происхождении князей даже от Августа Цезаря[75].
Кстати, подобные голые сведения о происхождении династии или народа всегда объясняются сообразно понятиям и образованности века.
Рисуя в лице Рюрика общий портрет княжеской власти, начальная летопись ничего больше и не разумела в этом лице, кроме как старейшину. Последующие летописцы, стоявшие ближе к первоначальным понятиям о своей истории, прямо и называют призванных князей старейшинами: «И бысть Рюрик старейшина в Новгороде, а Синеус старейшина бысть на Беле озере, а Тривор в Изборске»[76].
Но по мере того как развивались в жизни государственные идеи, портрет Рюрика приобретал новые черты: в XVI веке Рюрик происходит уже от Августа Цезаря, следовательно, усвоил себе кесарские черты и стал именоваться государем. В XVIII веке немецкие ученые (Байер, Миллер, Шлецер) разрисовали его полным феодалом, «владетелем неограниченным», основателем русской монархии, который, как норманн, ввел даже феодальные порядки, раздавши своим мужам города и области.
Как известно, в первой половине XVIII века наши доморощенные крепостные идеи очень сильно просвещались и развивались идеями немецкого феодализма, и потому портрет Рюрика по необходимости должен был получить окончательную, даже художественную отделку «первого российского самодержца, основателя российской монархии», как по указанию Шлецера наименовал его Карамзин.
Таким образом, в это время в русскую историю, или, вернее сказать, в политическое сознание русского общества, внесено было понятие, которое со всех сторон противоречило самой природе нашего первоначального исторического и политического развития.
Важнейшее противоречие заключалось в том, что неограниченный владетель, феодал Рюрик, был призван народом добровольно, что народ добровольно поступил к нему в рабство. На первой же странице русской истории, в самом начале этой страницы, поместился, как говорит сам же Карамзин, «удивительный и едва ли не беспримерный в летописях случай: славяне добровольно уничтожают свое древнее народное правление и требуют государей от варягов, которые были их неприятелями. Везде меч сильных или хитрость честолюбивых вводили самовластие: в России оно утвердилось с общего согласия граждан…».
Поставивши этот изумительный случай во главу угла русской истории, а следовательно, и во главу угла русской политической философии, знаменитый историк спешит умягчить производимое им впечатление и замечает: «Великие народы, подобно великим мужам, имеют свое младенчество и не должны его стыдиться: отечество наше слабое, только что изгнавши варягов, разделенное на малые области, обязано величием своим счастливому введению монархической власти».
Напрасно думают, что подобные истины остаются только в книге и не проходят в жизнь. Родная история в том виде, как ее изображают историки, всегда воспитывает политическое сознание народа и отдельных лиц. Изумительная идея о добровольном призвании самовластия, – и именно самовластия, а не простого порядка, – на известной почве принимала большое участие если не в развитии, то в оправдании внутренних крепостных отношений государства во всех путях его действий. Изображенное историей глупое младенчество народа давало людям, почитавшим себя возрастными, широкое основание и, так сказать, философскую точку опоры поступать с народом как с младенцем, держать его вечно в люльке, т. е. в границах безответного владычества над ним и вечно водить его на помочах. В особенной силе это учение, как мы заметили, поддерживалось немецкими феодальными идеями, приходившими просвещать и преобразовывать нашу варварскую страну.
Раcсказавши, как в самом начале устроилось народное дело в Новгороде, летописец тотчас переносится в Киев и повествует следующее: «Были у Рюрика два мужа, Аскольд и Дир, ни родственники ему, ни бояре», – стало быть, люди, не имевшие права на получение волости в Новгородском краю. Поздние списки летописи так и объясняют, что, не получив от Рюрика волости, они отпросились у него идти дальше, в Царьград, с родом своим. На днепровском пути они увидели городок Киев, спросили: «Чей это городок?» Киевляне рассказали, что жили тут три брата, которые и построили городок, и померли, а теперь «седим мы, их род, платим дань козарам». Как бы в ответ на эти речи Аскольд и Дир остались в Киеве, скопили в нем много варягов и начали владеть Польской землей, следовательно, освободили ее от владычества хазар[77].
Основная истина этого предания заключается, конечно, не в именах, которые, как одни голые слова, могут всегда возбуждать бесконечные толки и споры. Настоящая истина предания раскрывается в том существенном обстоятельстве, что в былое время в Киеве оставались на житье люди, проходившие этой дорогой в Царьград, что в былое время этим способом Киев населился сборищем варягов и при их силе сделался владыкой страны; что Киев, одним словом, в свое время был таким же гнездом для проходящих, странствующих варягов, как и северный Новгород.
Но и самые варяги поселялись в Киеве, конечно, по той причине, что здесь место было вольное, отворявшее двери во всякое время всякому проходящему, что это вообще был перекресток или общий стан для проходивших людей от всех окрестных сторон.
В самом деле, в отношении ко всем верхним, северным землям киевское место представляло окраину, речное устье, куда стекались речные дороги от всего населения по притокам кормильца Днепра, из которых важнейшие, Припять от запада и Десна от востока, вливались в Днепр почти у самого Киева.
Точно так же и по отношению к низовым, степным землям киевское место тоже было украйной. Оно вообще лежало на сумежье, посреди рубежей, которые сходились здесь от разных племен. После Вышгорода, стоявшего на 15 верст выше, Киев был самым северным поселком племени полян. Вышгород оттого, вероятно, и прозван своим именем, что лежал не только выше Киева, но выше всех городских поселков этого племени.
Летописец не обозначил племенных границ славянского расселения, указывая только главные его города. О полянах он сказал, что они сидели в полях, и средоточие их указал в Киеве. Но Киев не был серединным местом полянских земель. По всему вероятию, в давние времена их сердцем было течение Роси; оттого же они и прозывались русью, росоланами и роксоланами. Можно полагать, что на юге их границами был тот угол, где в Днепр с востока вливалась река Орель, или Ерель, которую русь называла углом, и где с правой, западной стороны Днепра находились источники Ингула и Ингульца, которые тоже означают угол. Не потому ли эти реки и прозваны углами, что на самом деле они составляли углы или границы собственно русского оседлого племени? Можно полагать также, что западная граница полян не переходила дальше Верхнего Буга на юго-запад и Тетерева на северо-запад; восточной границей был Днепр. От Киева за Вышгородом тотчас начиналась земля древлян, затем по Припяти – земля дреговичей, на Десне – земля северян, а несколько выше, по Сожу, жили радимичи; дальше само течение Днепра составляло тоже границу со смоленскими кривичами.
Этим пограничным местоположением Киева объясняется и особая вражда к нему ближайших его соседей, древлян, которые вначале причиняли ему большие обиды. Вольный город раскидывал свое поселение в их земле или очень близко от их рубежа, и вражда необходимо возникала от тесноты, от захвата мест и угодьев. Быть может, вся местность Киева в древности принадлежала древлянской области. Имя полян в коренном смысле обозначает земледельцев – степняков, которые с течением времени, как видно, забирались по течению Днепра все выше и выше и прежде всего захватывали, конечно, вольные берега. Точно так же и промышленность севера, спускаясь все ниже по Днепру, могла указать выгоднейшее место для поселения города, хотя и на древлянской земле, но в области владычества полян, т. е. на самом течении Днепра. Все это заставляет предполагать, что Киев с самого своего зарождения не был городом какого-либо одного племени, а, напротив, народился в чужой земле древлянской, из сборища всяких племен, из прилива вольных промышленников и торговцев от всех окрестных городов и земель.
Само собой разумеется, что по всем этим обстоятельствам, находясь на большой дороге и на великом сумежье разных племен, город Киев не мог сохранять в своем населении характер племенной однородности и не мог оставаться чистым, без примеси поселком одних только полян. Он, как мы сказали, по всему вероятью, и зародился из племенной промышленной смеси. Мы уже говорили в первой части труда, что самые имена трех братьев могут указывать на три разноплеменных источника, из которых составилось его население еще в незапамятное время[78]. С юга от Черноморских краев сюда приходили люди, которым нужны были товары севера, особенно так называемая мягкая рухлядь, дорогие меха, о торговле которыми в этом месте еще в IV веке прямо упоминает готский историк Иордан; а о древнейшей торговле янтарем упоминает писатель II века Дионисий. Но, конечно, еще более значительный прилив разноплеменного населения должен был идти сюда от верхних земель, чему много способствовали свободные речные дороги с запада, севера и востока. Кому были необходимее сношения с богатым Черноморьем, тот, конечно, в большом числе приходил на это киевское распутье, стоявшее в известном смысле у самых Черноморских ворот. А верхним землям, несомненно, черноморский торговый юг был еще необходимее, чем самим полянам, которые в этом отношении являлись только посредниками сношений севера и юга.
Первый летописец знал и еще предание или современное ему мнение, гадание о первом киевском человеке. Некоторые сказывали ему, что Кий был перевозник, что тут некогда был перевоз с этой стороны Днепра на другую, восточную, а потому люди говаривали так: «Пойдем на перевоз, на Киев». «Но так объясняли дело незнающие, несведущие, – замечает летописец, – потому что Кий был князь в роде своем, т. е. старейшина, и как князь ходил даже в Царьград к какому-то царю, и великую честь принял от того царя. Как все это могло случиться, если бы он был перевозник?» – заключает летописец. Здесь коренную идею предания, или основную общую мысль о значении древнего Киева, летописец толкует обстоятельствами самых дел и потому не только не находит между ними связи, но и указывает великую несообразность, чтобы перевозник, ходивши в Царьград, получил там великую почесть от самого царя.
Между тем сказание о перевознике, быть может, еще вернее обозначает древнейшее значение Киева для всей Русской страны. Как перевозник, Киев был посредником сношений западной стороны Днепра с восточной, т. е. с Доном, Волгой и Каспием; но в то же время, как перевозник, он на самом деле был посредником и пособником в сношениях далекого севера с черноморским югом и в качестве такого посредника всегда был принимаем в Царьграде с немалой почестью.
Греческий же царь Константин Багрянородный подробно описывает, что киевские люди, русь, в первой половине X века занимались переправлением, или перевозом, больших лодочных караванов по Днепру до самого Царьграда, что эти люди являлись в Царьград послами и гостями, следовательно, были принимаемы и в царском дворце. Доселе говорят, основываясь только на одном имени «русь», что эту переправу, как и плавание по морю, могли предпринимать не иные люди, как только норманны, что туземцы, т. е. киевские славяне, одержимы были водобоязнью и никогда прежде норманнов не были способны на морские предприятия[79]. Этому по необходимости мы верили, потому что совсем не знали или совсем позабывали, что на Балтийском море предприимчивыми варягами были не одни норманны и что морские походы от нашего Черноморского берега процветали еще в половине III века, что летописцы случайно об них упоминают и в следующие века до призвания варягов. Эти походы становятся очень известными в IX и X веках, конечно, только по причине государственного зарождения самой Руси, которая в это время показала и свою давнишнюю способность и силу. С XI по XIII век, как и прежде, эти походы продолжаются непрерывно, как обычное торговое дело, хотя упоминания о них даже в наших летописях точно так же случайны и кратки. Затем после татарского разгрома морские походы переходят в руки казачества, этого прямого потомка давних мореходов III века. Не говорим о временах Геродота. Отец истории прямо свидетельствует, что плавание по Запорожскому Днепру и по Бугу в его время было обычным делом. Самый путь внутрь страны он измеряет днями плавания по рекам. Другие свидетельства о том же плавании показаны нами выше.
Все такие свидетельства приводят к одному очень достоверному заключению, что жившие на Днепре земледельческие племена умели плавать и по реке, и по морю с незапамятных времен, что выучиться такому делу они должны были если не у самой природы, то еще у античных греков, что их морские походы вызывались самым положением местности, на которой они жили и, конечно, торговыми связями с теми же греками, как равно и враждебными отношениями и к грекам, и к другим приморским соседним народам; что во всей этой истории, тянувшейся более тысячи лет, норманнам вовсе не остается никакого места. Если в IX и X веках они и плавали по нашим рекам, то все-таки при посредничестве наших же пловцов-лоцманов и в полной зависимости от наших же хозяев земли. Притом плавание на лодках по морю еще не столь отважно и значительно, как переправа с большим караваном именно через Днепровские пороги. Здесь была необходима особая школа, которая могла возродиться только веками и усилиями целого ряда поколений. Никакая вновь пришедшая дружина норманнов и каких бы то ни было мореходов не могла руководить этой переправой по простой причине – по незнанию всех местных подробностей и обстоятельств плавания. Знакомство же с этими обстоятельствами приобреталось не иначе как опытом целой жизни, при помощи всякой науки от старых пловцов, при помощи живых преданий от поколения к поколению. Чтобы пройти безопасно по этим каменным грядам, и теперь, как известно, требуются кроме смелости и отваги большое искусство и, главное, многолетний навык; требуется знать, как свои пять пальцев, все свойства и направление потока на целые 70 верст, требуется знать всякие приметы благоприятной или неблагоприятной погоды, свойства и характер каждого угла в реке, каждого встречного камня, каждой полосы течения и волнения и т. д. Все это каменное протяжение реки почти на 70 верст посреди бесчисленных скал всякого вида и объема, посреди всяких омутов и быстрин, должно знать как одну знакомую, давно пробитую тропинку. Очень понятно, что хорошо знать эту тропинку могли только люди, родившиеся тут же, так сказать, посреди самых порогов. Это же объясняет, почему не только каждый порог, но и каждая его гряда или лава[80], каждый его камень как теперь, так, несомненно, и в древности носили и носят свое особое имя, свое прозвание какой-либо существенной их приметы или, так сказать, существенной черты их характера. Видимо, что, прежде чем овладеть плаваньем, в порогах, пловец долго и настойчиво боролся с каждым препятствием, с каждой опасностью на своем пути, боролся с ними, как с живыми существами, а потому и олицетворял их в своем воображении меткими прозвищами[81]. Эти самые имена и должны свидетельствовать, что прошло много времени и сменилось не одно поколение пловцов, пока весь порожистый поток не заговорил, можно сказать, своим особым языком, понятным только очень бывалому и очень опытному вождю караванов.
Но кто же другой мог быть таким знающим вождем в этой переправе, как не живущее здесь же племя туземцев, некогда обожествлявших самую реку, быть может, особенно ввиду ее же грозных порогов? Какой другой мореходный народ мог знать все камни и омуты и все извилистые быстрины этого порожистого потока, как не тот самый, для которого переправа через пороги с незапамятного времени составляла задачу существования, главным образом задачу промышленной и торговой жизни?
В этом смысле предание о первом человеке Киева справедливо разумеет в нем перевозника на тот берег и к Каспию от западных земель, и к Царьграду от наших верхних земель. В этом смысле, как перевозник, Киев приобретает особое значение для древнерусской жизни вообще. Он является главнейшим посредником торговых сношений севера с югом и запада с востоком по той особенно причине, что в своих руках держит всю работу опасной переправы к Царьграду, что несет на своих плечах все тягости этой трудной переправы и свободно отворяет ворота из всей русской земли в самый Царьград. Это не гнездо Соловья-разбойника, не дающего дороги ни конному, ни пешему, это, напротив, гнездо опытных и знающих лоцманов-перевозников, пролагавших безопасный путь сквозь всякие преграды, работавших своими веслами на всю страну, которая впервые и сосредоточилась в Киеве, несомненно благодаря доброй работе того же весла.
По всей нашей равнине, по всем сказаниям и намекам истории, связи торговые предшествовали завоеваниям меча, а потому и киевское весло положило основание для этих связей несравненно раньше, чем пришел завоевательный меч.
Само собой разумеется, что в те отдаленные и варварские века, точно так же как и в наш просвещенный век, свобода и независимость народной жизни добывалась и поддерживалась только мечом, а потому те же киевские лодочники-перевозники необходимо должны были к своему товариществу весла присоединять и товарищество меча. Работая веслом, переплывая не только пороги, но и пучину моря, подвергаясь опасностям не только от бури, непогоды, но, быть может, еще чаще от людского хищничества, они по необходимости должны были с равным искусством владеть и веслом, и мечом. Вот первая причина, почему в Киеве с развитием походов через пороги необходимо должна была возникнуть и военная дружина.
В точности мы не знаем, когда Киев впервые стал заниматься перевозничеством через пороги и мореходством по Черному морю. Но вышеизложенная достоверная история торговых связей нашей страны не оставляет сомнения, что это случилось в незапамятные времена, по крайней мере лет за тысячу до появления в истории славных норманнов. Сама по себе Киевская сторона могла сноситься с Черноморьем еще раньше, во времена самых финикийцев. Но, говоря о вендах, о варягах-славянах, нам необходимо знать точнее, в какое время они впервые потянулись с Балтийского моря в Черное.
Выше мы указали следы славянского расселения от Немана к верху Березины и в самый Днепр. Эти следы должно относить по крайней мере ко времени Птолемея, т. е. ко II веку нашего летосчисления.
Очень вероятно, что еще с этого времени славянские варяги заняли на Днепре все наиболее способные и выгодные местности, как для поселения, так и для временных остановок. Киевское место по своей природе должно было привлечь поселенцев на первых же порах. Древность киевского поселения недавно подтвердилась случайной находкой римских монет второй половины III и первой половины IV века, найденных на киевском Подоле, т. е. на северной окраине города. Но еще прежде, в 1846 году, при постройке жандармских казарм, было найдено до 80 римских монет и два динария: один времен Августа, другой начала III века[82]. Ясно, что теперешний Киев был занят поселением уже в III веке.
И в самом деле, на всем Днепре не было места привольнее и приютнее, особенно для первоначальных действий торга и промысла. Оно доставляло все способы защиты и засады при нападениях врага, давало всякие средства вовремя уйти от опасности и в то же время открывало всякие пути для обеспечения себя продовольствием. Со стороны Днепра оно было защищено, как стеной, высоким нагорным берегом, который, идя внутрь равнины в разных направлениях, пересекался глубокими оврагами, яругами, долинами, весьма удобными для потаенных проходов и выходов между гор и представлявшими в своих разветвлениях такой лабиринт сообщений, что в нем незнакомому пришельцу очень легко было совсем потеряться. К тому же вся изрытая местность в древнее время была покрыта непроходимым лесом, в котором водилось множество всякого зверя. Кормилец Днепр изобиловал всякой рыбой.
При таких выгодах и удобствах поселения здешние жилища еще в самом начале должны были раскинуться на несколько отдельных, самостоятельных поселков. Вот почему в Киеве жило предание о трех братьях, живших на горах, и четвертой сестре, обладавшей долиной реки Лыбеди. Три горы, Щекавица, Хоревица и Киевица, если так можно назвать гору самого города Киева, были расположены рядом, в указанном порядке, начиная от севера. Прямо перед ними раскидывалась береговая низменность, получившая наименование Подола. В древности здесь было пристанище лодок и Торговище. Летописец помнил, что в прежние времена Днепр протекал под самыми горами и Подол еще не был заселен, что ладьи приставали под Боричевым взвозом[83], у самой Киевской горы. Таким образом, топография древнего Киева обозначалась двумя существенными чертами: Горой, где находился город-крепость, и Подолом, где размещался торг с пристанью, которая прозывалась Почайной, потому что находилась в устье речки Почайны. На Подоле, конечно, проживали приходящие торговцы и промышленники. Здесь, над каким-то ручьем, стояла соборная церковь первых христиан-варягов во имя Св. Ильи, несомненно, поставленная на месте Перунова капища. Церковь находилась в конце местности, называемой Козарой, что указывает на хазар, другой приходящий разряд населения. На Подоле же проживали и новгородцы, впоследствии имевшие здесь свою особую божницу в церкви Св. Михаила. На горе в городе упоминаются Жидовские и Лядские ворота, обозначающие особые поселки жидов и ляхов.
Верстах в двух от древнего города и Подола, вниз по течению Днепра, находилось еще совсем особое пристанище для лодок у самых гор, которое, быть может, потому и называлось Угорским, хотя летописец объясняет его именем угров-венгров, будто бы прошедших в этом месте через Киев. Против этого места в Днепр впадает его сердитый проток Черторый, который выходит от самой Десны. По этому протоку можно было проплывать, минуя Киев, почему и Угорское представлялось совсем независимой местностью от горы собственно Киевской[84].
Судя по тому, что здесь выходил на берег к Олегу киевский князь Аскольд, тут же и убитый, можно предполагать, что и самое жилище Аскольда находилось в этой же местности. В середине XII века здесь действительно существовал княжий двор, быть может, на Берестове, любимом селе святого Владимира, но обозначенный «под Угрьскимъ», так как Берестово находится ниже по течению Днепра.
Отсюда, вдоль берега, в самых горах начиналось особое поселение варягов, быть может, очень древнее, это варяжские пещеры, где в первое время, несомненно, скрывались для богослужения первые христиане Киева. Впоследствии здесь основался Печерский монастырь. Известно также, что и в других береговых горах Киева также находятся пещеры, ибо первобытное его население, особенно мимоходячее, собиравшееся сюда на работу или на промысел от всех верхних земель, всегда нуждалось во временном приюте, который устроить легче всего было в береговой пещере.
Таковы существенные черты киевского первоначального обиталища.
Выгоды местоположения должны были очень рано сосредоточить здесь те рабочие промышленные руки, в каких наиболее нуждалась вся страна. А вся страна, как мы упоминали, очень нуждалась в безопасном и правильном сношении с Царьградом. Для ее целей Киев, естественным порядком, сделался перевозником или собственно посредником этих сношений.
По всему вероятию, долгое время киевское население работало только одним веслом, да и то вместе с северными людьми, чему доказательством могут служить особые славянские, т. е. северные, названия порогов, так как несомненно, что славянские варяги были если не первыми, то сильнейшими двигателями торговых сношений с югом. Можно с вероятностью предполагать, что караваны, собиравшиеся от верхних земель в Киеве, в начальное время переправлялись общими усилиями всех участников греческого торга, купцами и мореходами всех верхних городов, которые нуждались в этом торге.
Это могут подтверждать походы на Царьград Олега и Игоря, в которых обыкновенно участвовали, кроме варягов, славяне, кривичи, чудь, меря, весь, радимичи, древляне, северяне – вся земля. Если эти верховые племена заодно с Киевом хаживали на Черное море воевать, то нельзя сомневаться, что в мирное время они туда же хаживали и торговать. Сам их сбор для военного похода не мог возникать только по повелению князя, ибо этот князь не был еще полновластным владыкой всей земли и его повеление для отдаленных и независимых земель еще ничего не значило.
Такой сбор мог устраиваться с особым успехом не иначе как по случаю давнего участия верховых племен в обычных торговых походах в Черное море, о которых имеем достоверное и подробное свидетельство уже от первой половины X века. Поэтому сборище верховых племен в военных походах Олега и Игоря может обнаруживать состав обычных торговых караванов, конечно, на случай войны, взамен купцов и послов, пополняемых военного дружиной.
Впрочем, важнейшим подтверждением обычных торговых путешествий в Царьград купцов и послов из всех главных городов Русской земли, как от киевских, так и от верхних, служат договоры с греками Олега и Игоря, где торговцы и послы обеспечиваются цареградским кормлением и где Олег устанавливает даже оброки – уклады на все эти города. В это время Киев находился уже под рукой великого князя, принадлежал сам себе и все-таки выговаривал льготы и всем прочим городам Руси, да и послов посылал не только от себя, но и ото всех прочих городов, общих послов[85].
Все это показывает, что в прежнее время, когда в Киеве еще не было общей руководящей власти, города, по крайней мере наиболее сильные в сношениях с греками, действовали сами собой, независимо и самостоятельно. Так, например, могли действовать Новгород, Полоцк, Смоленск, Чернигов.
Служа сборным местом для всех северных ватаг, отправлявшихся в Черное море, Киев на первое время, как мы сказали, не мог принадлежать никакому племени исключительно. Мы говорили, что и в земле полян он был крайним, почти пограничным местом с другими племенами, а по значению сборного места он, в сущности, должен был принадлежать всем племенам, всей земле. Вот по какой причине летописец отмечает, что киевляне были обижаемы не только древлянами, но и иными окольными племенами, так что, по ходу летописной речи, и самое владычество хазар явилось как бы на помощь от этих обид. Обиды, конечно, заключались в том, что каждое верховое племя, проходя мимо и оставаясь до времени сбора всех ватаг, хозяйничало здесь как у себя дома, как в своей земле; почитало киевское место как бы общей собственностью. Если так было, то становится очень понятным, почему все верхние земли смотрели на Киев как на свое средоточие, почему они все собрались с Олегом, дабы овладеть этим средоточием и почему, наконец, Киев получил имя Матери всех городов русских. Действительно, он был воспитателем и кормильцем промысловой жизни всего севера. Он передвигал эту жизнь и прямо на юг в греческий Царьград, и на юго-восток к древнему Танаису – Боспору, и к берегам Каспия, в страну хазар.
Если бы это был город одного племени, то по своему торговому местоположению он необходимо возродился бы в особое самобытное и самостоятельное княжество еще до прихода варяжских князей. А его самобытность и владычество над Днепровскими воротами необходимо держали бы в известной тесноте и подчиненности и весь север страны. О таком положении вещей летопись не помнит. Владычество хазар тоже едва ли касалось свободы сообщений по днепровскому руслу. Собирая дань с населения по восточным берегам Днепра, хазары едва ли могли владеть его широким и порожистым потоком и потому Божья дорога – этот поток больше всего находился в зависимости от верхних земель. Припомним, сколько усилий в поздние века употребляли турки, чтобы запереть ворота Дона от донских казаков или самый Днепр от удалых запорожцев. Быть может, в этих самых обстоятельствах скрывались причины, почему киевское место должно было находиться во всегдашней зависимости от северных людей и возродилось в полной самобытности только по случаю окончательного переселения этих людей в Киев.
Каким образом из простого перевозника и крепкого узла сношений севера с югом или же из простого волостного родового городка Киев, наконец, делается господином окрестной страны, на это мы имеем ответ уже в показаниях начального летописца.
Мы говорили в первой части нашего сочинения, что значение волостного городка вполне зависело от скопления в нем достаточно храброй и отважной дружины. Тогда из оборонителя своей родовой волости он легко вырастал в завоевателя чужих волостей и городков и распространял свое владычество куда было возможно. Так, несомненно, сложились особые большие волости или области, на которые распределялось наше славянское население перед призванием варягов. Мы узнаем и из последующей истории, что по тем же причинам одни города и области возвышались, другие упадали, как потом упал и самый Киев и как, быть может, возвышались и упадали города в более отдаленную эпоху, о которой не осталось памяти[86].
По летописной памяти, Киев усилился от сборища в нем варягов. Первый почин принадлежал варягам из Новгорода. Затем Аскольд собрал множество варягов уже независимо от Новгорода. К нему же собирались и сами новгородцы, как беглецы, недовольные Рюриком или спасавшиеся в борьбе с ним. Стало быть, все варяжское, ибо новгородцы были те же варяги, уходило в Киев как в общее пристанище всякого рода людей, или обиженных и оскорбленных, или искавших более выгодного дела своему мечу и дарованиям, или остававшихся где-либо совсем без дела. Но летописец населяет Киев главным образом из Новгорода и тем дает понятие, что, в сущности, теперь это была новгородская варяжская колония.
По какому случаю в это же время обнаруживается в Русской стране особенное скопление варягов, об этом мы уже говорили выше. Заметим только, что свободный прием варяжских дружин в главных городах и даже в Киеве уже показывает, что это были люди давно знакомые и родные по обычаю и по языку.
Итак, в середине IX века древний родовой городок Киев становится новгородской колонией варягов и вообще людей, пришедших от разных сторон. Такое население должно было вскоре обнаружить задатки совсем иного развития, чем было прежде в родовом или промысловом городке. Скопившаяся дружина, как видно, по преимуществу военная, должна была прежде всего добывать себе кормление. Если накануне для малого городка оно было достаточно, то с приливом новых людей необходимо было добывать его больше. Вот первое, для всех общее дело, которое одно способно соединить и связать в один узел все помышления и стремления новых людей, хотя и собравшихся от разных сторон, от разных племен и родов, с различными целями и задачами жизни.
Кормление, таким образом, становится задачей жизни для этого нового общества, основной стихией его быта, коренной силой его деятельности.
Для земледельца, зверолова, рыболова и всякого другого промышленника, питавшегося от матери-земли, такое кормление давала сама природа, лишь бы не ослабевали руки пользоваться ее дарами. Для военного города, который олицетворял в себе по преимуществу только работу мечом, это кормление приходилось добывать именно концом меча, не от матери-земли, а от людского мира.
Несомненно, что в Киеве военная дружина явилась прежде всего на помощь веслу, для охраны торговых караванов, спускавшихся к Корсуню[87] или Царьграду. За эту работу, вероятно, от караванов же она и получала кормление. Но с умножением промысла умножались и приходящие люди, а скопление дружины должно было распространять способы кормления, отыскивать для него новые пути. Ближайшим из всех таких путей было завоевание даней в окрестных поселках, завоевание с этой целью окрестных земель и целых областей.
Киев, таким образом, в своем новом зерне носит уже зародыш того завоевательного, военно-дружинного начала, которое впоследствии охватило всю землю и покрыло своей славой прежние, только союзные и промысловые отношения земли, какие развивал с давнего времени по преимуществу один Новгород. В конце концов из этого-то начала и должно было возродиться уже Московское государство, которое никак не могло понять, для какой цели существует Новгород, как равно и Новгород никак не мог взять себе в толк, каким образом древний великий князь сделался государем и даже самодержцем на греческий манер.
О деяниях Аскодьда и Дира древние списки летописей говорят только одно: что они ходили на Царьград, и вовсе не упоминают о других каких-либо делах. Но поход на Царьград такое событие для зарождавшегося могущества Киевской страны, которое уже само собой объясняет, что оно составляло, так сказать, увенчание многих других дел и различных отношений и к самому Царьграду, и к соседним племенам.
По этой причине получают немалую достоверность и те отрывочные летописные показания о делах Аскольда, какие внесены уже в поздние списки. Эти показания свидетельствуют, что Аскольд и Дир начали свое поселение в Киеве войной с древлянами и уличами, быть может, заграждавшими свободный путь, одни наверху, другие внизу Днепра. Затем упоминается, что Аскольдов сын погиб от болгар, конечно, дунайских. Самое это сведение могло попасть в наши летописи от древних болгарских летописцев. Потом Аскольд и Дир воевали с полочанами и много зла им сотворили. Это свидетельство указывает уже на варяжские отношения.
Вот события, которые предшествовали цареградскому походу. Сам поход красноречиво изображен патриархом Фотием, который дает намек, что до похода между Русью и греками существовал союз, со стороны Руси именно вспомогательный союз, расторгнутый убийством одного русина в Царьграде. Фотий рассказывает также и о последствиях похода, именно о крещении Руси и утверждении с нею союза, договора, что подтверждает Константин Багрянородный, говоря, что Русь, не знавшая ни кротости, ни уступчивости, была привлечена к договору богатыми дарами золота, серебра и шелковых одежд. Утвержденный союз и договор несомненно был письменный. Но об этих важнейших событиях наша древняя летопись ничего не знает. Воспользовавшись только хроникой Георгия Амартола, и то в болгарском переводе, она изображает этот поход очень неудачным, к чему поздние вставки прибавляют, что по возвращении Аскольда в малой дружине в Киеве был «плач великий, а потом был глад великий». Однако в то же лето Аскольд и Дир избили множество печенегов. Летописные поздние вставки о киевских делах заключаются известием, что из Новгорода в Киев от Рюрика выбежало много новгородских мужей[88].
Все эти свидетельства, и домашние, и византийские, явно раскрывают только одно: что Киев при Аскольде возродился как самостоятельное княжество и достославно начал русское историческое дело, положил первое основание для русской самобытности. Пользовался ли он в походе на греков помощью Новгорода и других верхних земель, об этом летопись ничего не говорит. Она, напротив, выставляет его действия независимыми от Новгорода. Киев в ее глазах хотя и колония варягов из Новгорода, но земля особая, самостоятельная, как Полоцк, как Туров, как сам Новгород. Вообще положение дел в Русской стране в середине IX века изображается летописью так, что во всех важнейших местах, во всех главных городах сидят пришельцы варяги, зависимые и независимые от Новгорода, о котором об одном говорится не без мысли, что он сам был варяжского рода. Из призванных князей старший поселился в Новгороде, чем показал вообще новгородское старшинство пред всеми другими колониями варягов. В этом положении дел очень значительно то обстоятельство, что эти варяги, хотя бы и пришедшие особо от Рюрика, прежде или после него, от разных варяжских мест, все-таки во имя своего варяжства связывали все отдельные русские области и земли в одно целое, а потому и право на варяжское наследство, где бы оно ни оказалось, все-таки принадлежало старшему в варяжском роде. А старшим в варяжском роде был Рюриков род; старшим гнездом варяжества был Новгород. Из этого узла и стала развиваться дальнейшая история страны. По рассказу летописи, Рюрик перед кончиной отдал княжение Олегу, своему родственнику; ему же на руки отдал и своего очень малолетнего сына Игоря. Три года ничего не слышно о новом князе. Но в тишине происходили важные дела. В это время весь Север готовился идти в далекий поход. Олег собрал варягов и чудь (Изборск), славян (Новгород), мерю (Ростов), весь (Белоозеро), кривичей (Полоцк) и выступил в поход на Киев. По какому поводу, неизвестно. Летопись молчит, как она молчит вообще о поводах и причинах событий. Видим только, что поднимается поход большой, что весь Север собрался с целью покорить своей власти южную землю, Киев; и не только покорить, но и поселиться в ней навсегда. На пути по Днепру Олегу отдается Смоленск, старший город кривичей на Верхнем Днепре. Он сажает здесь своего мужа – посадника. Затем по Днепру же Олег берет Любеч, вероятно старший город в земле радимичей, и тоже сажает в нем своего посадника. Он очищает таким образом днепровский путь до самого Киева. Здесь вся эта северная сила прячется коварно в лодках и засадах. Сам Олег, с Игорем на руках, выходит на берег, посылает с вестью к Аскольду и Диру, что «пришли, мол, гости, идут в Грецию от Олега и Игоря-княжича и желают повидаться с земляками-варягами». Отчего же не пойти к землякам. Аскольд и Дир пришли к берегу. Но из лодок повыскакивала дружина, и Олег сказал киевским владыкам: «Вы владеете, но вы не князья и не княжего роду: я есть княжий род, а это сын Рюрика!» – примолвил он, вынося вперед маленького Игоря. Аскольд и Дир тут же были убиты. Весь Киев молчит, представляется пустым местом, где, кроме Аскольда и Дира, нет и живущих. Так обыкновенно рассказывает свои повести народная былина, и мы не имеем оснований сомневаться в существенных чертах всего события. Было так или иначе, но явно одно: что новгородская дружина завоевала себе Киев и осталась в нем; что Киев был страшен своей силой и требовалось взять его не иначе как обманом, хитростью, коварством; а этого тоже невозможно было сделать без предательства со стороны киевской дружины. Вот почему эта киевская дружина и не подает никакого голоса. Она выдает своих князей обеими руками. Такие дела позднее делывались очень часто. Всего любопытнее здесь разговор о княжем роде. Словами Олега высказывается как бы разумение всей земли, что владеть землей потомственно должен только княжий род, именно род, а не лица; что никакой другой человек, хотя бы и боярин, а тем более воевода-простец, не должен иметь никаких прав на владение страной, кроме прав кормления, временного пользования своим городом. Положим, что такие идеи присвоены рассуждению Олега уже позднейшими летописцами, обнаружившими в этом случае современные им воззрения XI и XII веков; но ничто не противоречит и тому заключению, что те же воззрения существовали и в IX веке. Они по своему существу так первобытны, что их начало можно относить к глубокой древности. Они объясняют только, что земля, как и воздух, и лес, и поле, есть достояние общее, никому не принадлежащее в полную собственность; что ею владеть может только власть самой земли – народа, княжий род.
Однако какие же могли быть настоящие поводы к занятию Киева? Полагаем, что главнейший повод заключался в самом положения тогдашних дел. Киев и Новгород, два торговых средоточия, стояли на концах греческого пути. Могли ли они оставаться друг от друга независимыми? Могла ли эта бойкая дорога в Царьград находиться во власти двух хозяев? Каждый хозяин, отдельно на севере или отдельно на юге, становясь сильным, необходимо должен был владычествовать по всему пути и, следовательно, при случае стеснять или совсем затворять эту торговую дорогу. Равновесия отношений севера и юга в варварское время не могло и существовать.
Засевшие в Киеве варяги освободили страну от хазарской дани, от обиды древлян и уличей и скоро распространили владычество на всю окрестность. Образовалось варяжское гнездо, совсем независимое от варяжского старейшины – Новгорода. Старейшина естественно должен был воспользоваться всеми плодами, какие были достигнуты на юге его молодежью, тем более что весь север почитал Киев, или, вернее сказать, сообщение по Днепру, своим общим убежищем и пристанищем, и потому не один Новгород, но весь торговый север, как один человек, задумал сам перейти в приготовленное уютное гнездо в Киеве, конечно, под руководством своего старейшины – Новгорода. Прежде всего в его руках должен был находиться весь греческий путь, от одного конца до другого. Нехорошо было бы, если б младшее гнездо независимо владело прямоезжей дорогой. Не только старейшина Новгород, но и весь север необходимо желал на этом пути полной свободы, прямого проезда, без всяких зацепок, какие в чужом владении, по обычаю, непременно должны были существовать. И вот Новгород, собравши варягов и военные дружины подвластных или союзных городов чуди, славян, мери, веси, кривичей, переселился торжественным походом на южный конец большой дороги, поближе к тому великому всемирному торжищу, к которому и был проложен этот заветный путь «из варяг в греки».
Коварный поступок такой большой рати с князьями Киева показывает, с одной стороны, что эти князья, как мы говорили, были независимы от Новгорода и сильны своими заслугами для Киевской страны; с другой – что в самой киевской дружине, вероятно, было много сторонников Новгорода, которые и поспешили выдать своих князей без всякой борьбы. Еще от Рюрика много новгородцев убежало в Киев. Затем, если припомним свидетельство Фотия о водворении в Киеве Христовой веры еще в 866 году, то является и другая вероятность о новгородском недовольстве новыми киевскими порядками. Языческий север, конечно, не мог совсем равнодушно смотреть на перемену веры и обычая в своей же варяжской колонии, которая в этой перемене естественно приобретала еще больше самостоятельности и независимости от своего старого гнезда. Здесь, быть может, скрывалась и еще причина для занятия Киева и убийства его князей как руководителей в распространении новой веры. В предании они остаются неповинными мучениками. На Аскольдовой могиле впоследствии поставлен был храм Св. Николая, чего не могло случиться, если б предание почитало эту могилу языческой.
«Это будет матерь городам русским!» Вот первое слово, какое сказал Олег, севши в Киеве княжить. Многое, что летописец приписывает деяниям Олега, по всему вероятию, принадлежит собственно, тому воззрению или созерцанию о давней старине, какое еще сохранялось даже и во время составления первой летописи. Поэтому и вложенное в уста Олега понятие о городе-матери отзывается еще античной древностью и, быть может, составляет даже прямое ее наследство для Киева как древнейшего и первоначального города в Русской земле. Птолемей упоминает о городе-матери, Митрополе, в устье Днепра, неподалеку от Ольвии. Это город загадочный, настоящее место которого почти невозможно определить. Его имя, во всяком случае, служит намеком, что такой город существовал где-либо на Днепре, а потому и киевское предание о городе-матери, хотя бы и не о самом Киеве, а о каком-либо другом городе, может уходить в глубокую древность[89]. Кроме того, понятие о матери могло относиться к самому кормильцу Днепру и связывалось с мифами скифов, у которых первый человек рожден был от Зевса и дочери реки Днепра.
На Балтийском поморье, в земле лютичей-велетов, тоже существовал город-мать: это Щетин, по всему вероятию, древнейший из тамошних городов. Могло случиться, что варяги-славяне принесли и в Киев свое балтийское предание о городе-матери как о начальном и главном городе всей земли; поэтому слова Олега могут обозначать, что теперь, с поселением здесь старших варягов из Новгорода, главным и старейшим их гнездом будет уже не Новгород, а Киев, ибо все это старейшее гнездо, Новгород, теперь совсем переселилось на киевское место.
Идея о городе-матери могла возникнуть, конечно, у тех людей, у которых существовали города-дети, прямо происходившие от известного города-матери. Детство русских городов прямо уже обозначается именем Новгорода, по понятиям XIII века старейшего города во всей Русской земле. Все это роднит русские старые идеи с идеями античных черноморских греков, точно так же развивавших свои колонии и вначале вполне зависевших от своих митрополий, матерей-городов.
Поселившиеся в Матери русских городов варяги, славяне и прочие, кто ни пришел, все стали прозываться русью. Для безопасности нового княжения Олег начал ставить города, вероятно, по окраинам тогдашней Киевской области. Сюда же, в Киев, он перевел и новгородские дани, постановив их платить от славян, т. е. от самого Новгорода, от кривичей из Смоленска и от мери из Ростова. О чуди и веси Олеговы уставы не упоминают и тем дают понятие, что дань этих областей входила в состав словенской или новгородской дани. Олег успокоил и заморских варягов, постановив платить им от года до года 300 гривен, для мира, и эта дань исправно выплачивалась до смерти Ярослава, т. е. до тех пор, когда славяне-варяги от борьбы с немцами и сами стали уже бессильны. Быть может, это была дань старая, установленная еще по случаю призвания князей.
Устроившись таким образом с Севером, Олег начал воевать с соседями Киева, от которых поляне с давних лет терпели тесноту и обиды. В первое лето Олег примучил древлян, обложив их данью по черной куне (от дыма или хозяйства). На второе победил северян и возложил на них дань легкую, дабы не платили хазарам. «Я, хазарам недруг, а вам, – промолвил победитель, – чего еще (желать) – дань легкая!» На третье лето Олег спросил радимичей: «Кому дань даете?» И те отвечали: «Хазарам». «Не давайте хазарам, но мне давайте», – порешил Олег. Радимичи стали платить по щлягу[90], как платили хазарам.
Таким образом Олегово владение, или первоначальное русское владение, простиралось от Новгорода до Киева и обнимало больше всего восточную сторону греческого пути по Днепру; на западе были покорены только соседи Киева, древляне. О дреговичах, живших между Припятью и Двиной, летопись не говорит ни слова. По ее показанию, там, в Турове, и у западных кривичей, в Полоцке, жили особые варяги, по-видимому, независимые от Олега. Точно так же независимыми оставались уличи на Нижнем Днепре и тиверцы на Нижнем Днестре. С теми и другими Олег держал рать, т. е. воевал, добиваясь, вероятно, свободного и чистого пути в Царьград по Днепру и по самому морю.
По рассказу Фотия, все эти дела, т. е. покорение Киеву окрестной страны, должны были случиться еще до 866 года. Очевидно, что летопись, помня существенные обстоятельства своей старины, приписывает времени Олега все деяния, какие случились при Аскольде или вообще при поколении, от которого происходил сам Олег. Видимо, что вся слава того поколения, как и слава Аскольда, скрылась в имени одного Олега. Он действительно мог воспользоваться с особой мудростью всеми подвигами своих отцов и, идя по их направлению, совершил свой собственный подвиг, переселил Новгород в Киев, т. е. связал оба конца греческого пути в один узел, установил порядок в данях, установил правило и порядок в сношениях с греками.
Глава III. Устройство сношений с греками
Славный поход Олега на Царьград. Договоры с греками. Черты общественного и политического быта первой Руси. Заслуги Олега. Дела Игоря. Очищение Запорожья и Каспийские походы. Печенеги. Злосчастный поход Игоря на Царьград. Новый поход и договор с греками. Новый Каспийский поход. Погибель Игоря у древлян
Наша летопись рассказывает о большом и славном походе Олега на Царьград, о котором византийские хроники вовсе не упоминают, не дают даже и намека о чем-либо похожем на такое предприятие со стороны Руси. Был или нет такой поход, это лучше всего раскроет рассказ самой летописи.
В 25-е лето своего княжения, собравши множество варягов, славян, чуди, кривичей, мери, полян, северян, древлян, радимичей, хорватов, дулебов (волынян), тиверцев, собравши все, что прозывалось у греков Великой Скифией, прибавляет летопись, Олег пошел на Царьград в кораблях и на конях. Кораблей числом было 2 тысячи, в каждом по 40 человек, всего 80 тысяч; да по берегу шла конница.
Эти цифры велики, но не совсем баснословны, если мы их сравним с древнейшими цифрами подобных же походов. Великий Митридат на войну против римлян собрал в той же Великой Скифии 190 тысяч пехоты и 16 тысяч конных. Историк Зосим рассказывает, что в середине III века скифы в окрестностях Днестра собрали 6 тысяч кораблей и посадили в них 320 тысяч войска для набега на те же византийские страны, принадлежавшие тогда римлянам.
Вот что рассказывали киевляне о походе Олега спустя лет полтораста: он подошел к самому Царьграду; греки затворили город железными цепями, заперли и городскую пазуху, или гавань. Олег вылез на берег, повелел и корабли выволочить на берег и стал воевать около города. Многие палаты разбил, многие церкви пожег, многое убийство сотворил грекам, одних посекал, других мучил, иных расстреливал, иных в море кидал, и всякое злодейство русь творила грекам, как обыкновенно бывает на войне. Выволокши на берег корабли, Олег велел поставить их на колеса. Ветер был попутный, с поля. Подняли паруса и посуху, как по морю, поехали на кораблях, как на возах, под самый город. Увидевши такую беду, греки перепугались и выслали к Олегу с покорным словом: «Не погубляй город; дадим тебе дань, как ты пожелаешь». Олег остановил поход. Греки, по обычаю, вынесли ему угощение, яства и вино; но мудрый вождь не принял угощения, ибо знал, что оно непременно с отравой. С ужасом греки воскликнули: «Это не Олег, это сам святой Димитрий, посланный на нас от Бога!»[91] И заповедал Олег взять с греков дань на 2 тысячи кораблей по 12 гривен на человека, а в корабле по 40 человек. Греки соглашались на все и просили только мира. Отступив немного от города, Олег послал к царям послов творить мир. Утвердил сказанную дань по 12 гривен на ключ (на уключину, на каждое весло) и потом постановил давать уклады на русские города: первое на Киев, также на Чернигов, Переяславль, Полоцк, Ростов, Любеч и на прочие города, где сидели князья под рукой Олега.
Брать дань было делом обычным у каждого победителя, и Олег не затем поднимался в поход. Главное, что сказали его послы грекам, заключалось в следующем:
«Да приходят русь-послы в Царьград и берут посольское (хлебное, столовый запас) сколько хотят; а придут которые гости (купцы), пусть берут месячину на полгода: хлеб, вино, мясо, рыбу, овощи, и да творят им мовь (баню), сколько хотят. А пойдут русь домой, пусть берут у вашего царя на дорогу брашно (съестной запас), якори, канаты, паруса, сколько надобно».
Чего же так страшились греки и чего требует грозный победитель, эта варварская, свирепая, кровожадная русь, как обыкновенно называли ее греки; эта норманнская разбойная русь, как ее описывали историки? Она больше ничего не требует, как только одного: чтобы в Царьграде принимали ее как доброго гостя. Она просит права приходить в город, просит при этом хорошего угощения и именно для купцов-гостей, по крайней мере на целые полгода; просит, чтоб вдоволь можно было париться в бане, ибо для доброго и далекого гостя это было первое угощение; наконец, просит, чтобы, как пойдет домой, ее отпускали, как всякого доброго гостя, давали бы съестное и все, что надобно заезжему человеку на дальний путь. Значит, все существенное заключалось только в том, что русь желала проживать в Царьграде со всеми правами доброго гостя, как понимала эти права по русскому обычаю. Народные предания, хотя и украшают события небывалыми обстоятельствами, расписывают их небывалыми красками, но всегда очень верно изображают основную их идею, так сказать, их существо. Такова вообще работа народного поэтического творчества.
Как ни кажутся просты и невинны русские желания в договоре Олега, но исполнение их для греков, по-видимому, не совсем было легко. Нет сомнения, что русь ходила в Царьград и проживала там с незапамятных времен; но тогда она являлась простым странником, так сказать, простым рабочим, ищущим работы, и по необходимости должна была испытывать в городе всякую тесноту. Как странник, случайно попавший на это всемирное торжище, она должна была нищенствовать, кланяться, принижаться или же добывать себе даже необходимые вещи насилием, воровством, разбоем, что было опасно и редко сходило с рук. О свободной купле и продаже и помышлять было нечего. У греков существовало множество зацепок и прижимок для каждого иностранца и особенно для скифов-варваров, которых они боялись как огня и, вероятно, с немалым трудом позволяли им не только входить в город, но даже и приближаться к его воротам.
Как принимали греки иностранцев и особенно людей сомнительных и подозрительных, даже послов от сильных государей, пусть об этом расскажет сам испытавший такой прием, посол от германского императора Оттона Великого, кремонский епископ Лиутпранд, почти современник Олега, ездивший в Константинополь в 946 и 968 годах. В этот последний год он приезжал с предложением мира и с просьбой выдать падчерицу греческого царя Феофану в супруги молодому Оттону II, и вот что рассказывает о своем пребывании в Царьграде:
«Июня 1-го мы, прибыв перед Константинополь, принуждены были стоять несколько часов на сильном дожде, как будто для того, чтобы запачкать и измять платье… Наконец нас впустили; ввели в большое здание, которое хотя выстроено было из мрамора, но находилось в таком худом состоянии, что вовсе не предохраняло нас от дождя, зноя и холода. В нем не было даже никакого колодца, и мы ни разу не могли достать себе за деньги сносного питья, а принуждены были утолять жажду соленой водой; вина же в Константинополе невозможно пить, ибо в него обыкновенно примешивают гипс и смолу. Мы не получили ни подушек, ни сена, ни соломы; твердый мрамор служил нам постелью, камень изголовьем. С нами обращались, как с пленными, чрезвычайно сурово и не допускали нас ни до каких сношений с посторонними. Притом человек, который снабжал нас ежедневными потребностями, был такой жестокосердый и такой ненавистный обманщик, что в четырехмесячное пребывание наше в Константинополе не проходило ни одного дня без того, чтобы он не заставил нас тяжело вздыхать и проливать слезы»[92]. Это было гостеприимство для большого посланника. Положим, что такой неприязненный прием был изготовлен и по политическим или дипломатическим целям, но, во всяком случае, он уже дает ясное понятие, как греки могли обращаться с простыми скифами-варварами.
Когда Русь платила дань хазарам и была в их подданстве, тогда, конечно, всякие сношения с греками и торговые дела происходили под покровительством тех же хазар и сами киевляне могли являться в Царьград тоже под именем хазар. Известно, что вся наша днепровская Украина вместе с Крымом долгое время прозывалась Хазарией. Освободившись от хазарского владычества, Русь стала совсем чужой и в Царьграде и должна была пробивать себе туда дорогу, действуя уже от своего, русского лица. Вот объяснение Аскольдова похода в 865 году, который необходимо завершился мирным и писаным договором с греками. Олег, по всему вероятию, только подтвердил и, быть может, распространил этот договор, и в этом его истинная заслуга.
Греки согласились на мирные и невинные требования Руси. Но они поставили и свои условия. Цари, посудивши с боярством, решили: «Пусть приходит русь в Царьград; но если придут без купли, то месячины не получают. Да запретит князь своим словом, чтобы приходящая русь не творила пакости в наших селах. Когда приходит русь, пусть живет за городом, у Св. Мамонта. Там напишут их имена и по той росписи они будут получать свое месячное, первое от Киева, также из Чернигова, Переяславля и прочие города. В Царьград русь входит только в одни ворота, с царевым мужем, без оружия, не больше 50 человек. И пусть творят куплю, как им надобно, не платя пошлин ни в чем». Цари утвердили мир и целовали крест, а Олег и его мужи, по русскому закону, клялись своим оружием, своим богом Перуном и Волосом, скотьим богом.
Корабли Олега наполнились всяким греческим товаром. Шелковых и других тканей так было много, что на возвратном пути Олег велел руси сшить паруса паволочитые (шелковые), а славянам кропийные (ветхий. – Примеч. ред.). Как подняли эти паруса, случилась беда: у славян кропинные разорвал ветер, и сказали славяне: «Останемся при своих толстинах, не пригодны славянам парусы кропинные».
Отходя от Царьграда, руссы повесили на воротах свои щиты, показуя победу. Пришел Олег к Киеву, неся золото, паволоки, овощи, вина и всякое узорочье, всякий товар, который был редок и дорог в Русской стороне. «И люди прозвали Олега Вещий. Были те люди язычники и невежды», – замечает летопись.
Так повествовали в Киеве о давних делах Олега. Ясно, что это была похвальба народных песен-былин, которые, быть может, воспевались на веселых пирах у князей и дружины и которые потом в существенных чертах занесены в летопись, как предание любезной старины. Впрочем, главнейшим источником летописного рассказа об этом походе, как видно, послужили самые хартии договоров с греками, из которых одну летописец сокращает, а другую приводит целиком. Обычное дело в Древней Руси, договор, ряд, мир, в смысле точного определения отношений, устраивался почти всегда после распри и очень часто после военного похода. Вообще договор являлся окончанием несогласия, ссоры. Люди утверждали мир и любовь, значит, и то и другое было ими же нарушено; а утвердить выгодный мир по общим понятиям древности иначе было невозможно, как после войны, и непременно победоносной. Поэтому поздний летописец, прочитав Олеговы хартии и вовсе не зная, был ли при этом случае какой военный поход, очень основательно заключал, что такой поход неизменно был. Об этом несомненно говорило и предание, которое, зная только общий смысл всех дел Олеговых, точно так же не могло иначе мыслить по поводу его успехов, как в том направлении, что они были добыты по преимуществу военным подвигом. И до сей поры в международных отношениях никакие успехи не достигаются без войны. Славный болгарский царь Симеон, современник Олега, собираясь в поход на греков и слушая их увещевания о мире, говорил им: «Без кровопролития нельзя получить того, чего хочешь, значит, достигнуть желаемого можно только войной»[93]. И особенно это применялось к надменным грекам, почитавшим всякого варвара за ничтожество до тех пор, пока этот варвар не наносил им крепкого удара. Припомним безуспешные переговоры сыновей Аттилы о свободе торга. Русь в Олеговых договорах в полной мере достигла желаемого. Вот немалое доказательство, что поход был. Вероятно, греки устрашились и пошли на мир прежде, чем Олег мог подступить к Царьграду. Гроза собиралась, но прошла стороной. Поход был в сборе, но окончился миром, а это самое, при достигнутых выгодах без войны, должно было еще больше возвысить славу Вещего Олега. Если люди с давних времен по опыту знали, что у греков ничего не добьешься без войны, и если Олег успел все устроить, именно не вынимая меча, то разве не был он человек в действительности гениальный, вещий, в простом смысле колдун. Самое ополчение Русской страны от Белоозера и Финского залива до гор Карпатских и Черного моря вполне объясняет всеобщую значительность греческого договора, которого, по-видимому, желала и в котором нуждалась вся земля, почему вся она и поднялась для устройства такого великого дела. Здесь же скрываются и те причины или поводы, почему народное предание разукрасило славный подвиг славными чертами. Оно изобразило славный поход в том размере и по тому облику, какой, быть может, с давних времен воспевался в былинах как желанный подвиг борьбы с Царьградом, как богатырское дело, которое хотя бы никогда и не случалось в действительности, но всегда рисовалось воображению предприимчивых богатырей. В рассказе летописца нет ничего сказочного, вымышленного, сочиненного. Лодки на колесах перевозились по всем нашим волокам, причем в помощь людям или лошадям в известных случаях могли быть употребляемы даже и паруса[94]. Затем остаются обстоятельства, рисующие только общий облик славного победоносного похода и собранные, вероятно, по памяти о таких походах в давние века не одних руссов, но вообще победителей, ходивших на Царьград еще при уннах и аварах.
Были те люди невежды и неверующие в истинного Бога, как говорит летопись, но они хорошо понимали значение Олеговых дел и по своему языческому разумению увековечили его имя прозванием Вещий, которое по нашим понятиям прямо означает гений.
Короткий летописный рассказ о делах Олега несомненно скрывает от нас многое, чем была особенно памятна народу эта великая личность и что вообще послужило поводом поименовать его Вещим. К тому же, как мы говорили, в лице Олега народная память могла сосредоточить и всю славу поколения ему предшествовавшего. История видит в этой личности первого основателя русской независимости, а следовательно, и свободы; первого устроителя земских отношений, внутренних, по уставам о данях, и внешних, по уставам связей на севере с варягами, на юге с греками. О хазарах, как вообще о делах с прикаспийским и приазовским краями, летопись не поминает, но, по ее же словам, Олег был недруг хазарам и отнял у них дани радимичей и северян, обложив последних легкой данью. Это освобождение от чужого ига и облегчение в данях должно было весь левый берег Днепра окончательно привязать к Киеву. Другие враги Киева, древляне, были укрощены и примучены к тяжелой дани, но именно потому, что они были злодеи Киева. Олег, стало быть, главным образом освобождал Киев и работал для Киева. Вот по какой причине предание о Россе-освободителе, записанное византийцами, ближе всего может относиться к Олегу.
Самое это имя, Олег, по всей видимости, заключает в себе тот же смысл освободителя, ибо его корень льгъ-кий, лег-кий, льг-чити, ольгъ-чити есть русский корень, означающей льготу, вольготу, в смысле свободы, облегчения от тягостей жизни податной, покоренной; облегчение от даней, от налогов, от работы.
Теперь нам это имя кажется норманнским, так мы далеко ушли от русского корня наших помыслов, но в Древней Руси это имя, по-видимому, носило в себе живой смысл, было имя очень понятное. Оно объясняется, например, такими отметками летописей: «Приде (в 1225 году) князь Михаилъ въ Новгородъ, сынъ Всеволожь, внукъ Олговъ, и бысть льгъко по волости Новугороду (в другом списке: по волости и по городу. – Примеч. авт.)». Псковский летописец о временах царя Федора Иоанновича говорит между прочим: «И дарова ему Бог державу его мирно и тишину и благоденствие и умножение плодов земных, и бысть лгота всей Русской земле, и не обретеся ни разбойник, ни тать, ни грабитель, и бысть радость и веселие по всей Русской земле»… От того же корня происходить лга-лзя, легкость, свобода, по-лга, по-льза, вольга – вольные люди, вольница, и, быть можеть, Волга в смысле вольной, свободной реки, по которой можно было плавать не так, как по Днепру, не опасаясь никаких порожистых задержек и остановок.
В Новгородской области по писцовым книгам много мест носят такие названия: Лза, Лзя, Лзи, Лзена, Лзени, Волзе, Вольжа река, Олзова гора и пр., и в самом Новгороде был остров Нелезин. Смысл этих имен отчасти раскрывается в летописных выражениях: «Ни сена лзе добыти, не бяше льзе коня напоити». Отсюда образовалось известное нам «нельзя», или, по-древнему, «не-лга», например, «не-лга (не-льзе) вылезти».
Подобные имена встречаются и в других местах. Припомним Льгов, город Курской губ., Льжу, речку Псковской губ., впадающую в реку Великую возле города Острова. Льгово, Ольгово и Льговка – рязанские селения; Льгина, Льгова, Льговка – калужские селения и мн. др. На юге в Волынской губ. река Льза, текущая между Горынью и Припятью в 25 верстах к юго-западу от древнего Турова, в одном месте изворачивает свой поток очень круто, именно около селения Олгомли, что явно показывает, откуда или по какому случаю и самое селение получило свое имя. Его окружает с трех сторон река Льза, оттого оно и прозывается О-лг-омля.
Приставка О– к корню льг, Олег, дает этому имени тот же смысл, как и приставка в словеах о-свободитель, о-хранитель и в бесчисленном множестве других подобных слов. То же должно сказать и об имени О-лга, Ольга, которое образовалось от корня лга так же самостоятельно, как и имя Олег от своего корня. Для первобытного общества уже один порядок в данях, порядок в сношениях с соседями, уряд между Греческой землей и Русской составляли великое приобретение народной свободы, и потому герой таких дел необходимо получал соответственное своим подвигам имя.
Важнейшим подвигом освободительных дел Олега было, конечно, облегчение сношений с Царьградом, посредством точного договора, и главным образом то простое, но по народным понятиям и нуждам очень великое обстоятельство, что Русь, приходя в Царьград и уходя оттуда, будет вполне обеспечена всяким продовольствием, получит в этом случае всякую вольготу. Мы видели, что еще поход Аскольда заставил греков заключить с Русью мирный договор. Но с того времени прошло 40 лет: сношения развивались; несомненно встречались новые случаи, о которых следовало условиться по-новому, и, быть может, именно вопрос о продовольствии составлял главнейшую заботу Руси. К тому же на византийском престоле царствовал другой царь, и даже не один, от которых неизвестно чего можно было ожидать. Сама собой возникала необходимость поновить ветхий мир. Очень вероятно также, что Олег пользовался обстоятельствами, и в то время как весь Царьград исполнен был смут по случаю незаконного четвертого брака царя Леона, именно в 907 году русский князь с угрозой войны постарался вырвать у греков надобный договор.
На пятое лето после этого первого уговора Олег снова послал к грекам послов «построить мир и положить ряды».
На этот раз летописец вносит в свой временник всю договорную грамоту целиком. Но, по всей видимости, и первый уговор был утвержден также на письме, откуда летописец и сделал надобное извлечение. Если б этот первый договор был только словесным предварительным соглашением для той цели, что подробности будут изложены после, то непонятно, зачем было ждать этих подробностей почти целых пять лет. Несомненно, что оба договора были самостоятельны и один вовсе не служил предисловием для другого и даже не вошел в его состав.
Новый договор был устроен, вероятнее всего, по случаю новой перемены на византийском престоле, где в тот самый год вступил на царство Константин Багрянородный, еще семилетний малютка. В таких случаях всегда подтверждались старые или устраивались новые ряды и договоры.
Четырнадцать послов[95], в числе которых находились и пятеро устроивших первый договор, говорили царям, что они посланы от Олга, великого князя русского, и от всех под его рукой светлых бояр; от всех из Руси, живущих под рукой великого князя; посланы укрепить, удостоверить и утвердить от многих лет бывшую любовь между греками и Русью; что Русь больше других желает по-божески сохранить и укрепить такую любовь не только правым словом, но писанием и клятвой твердой, поклявшись своим оружием; желает удостоверить и утвердить эту любовь по вере и по закону русскому.
«Первое слово, – сказали послы, – да умиримся с вами. Греки! Да любим друг друга от всей души и изволенья, и сколько будет нашей воли, не допустим случая, чтобы кто из живущих под рукой наших светлых князей учинил какое зло или какую вину; но всеми силами постараемся не превратно и не постыдно во всякое время, вовеки сохранить любовь с вами, греки, утвержденную с клятвой нашим словом и написанием. Так и вы, греки, храните таковую же любовь непоколебимую и непреложную, во всякое время, во все лета, к князьям светлым нашим русским и ко всем, кто живет под рукой нашего светлого князя».
«Введение, слишком похожее на новейшее, не возбудит ли сомнения о подлинности сего древнего акта?» – замечает Шлецер, и вслед за тем говорит, что не видит в акте «ни одной настоящей подделки». Составив себе понятие о древних руссах как о краснокожих дикарях, славный критик, конечно, недоумевал, встретивши документ этих дикарей, по существу дела весьма мало отличающийся от современных нам подобных же документов.
Первый ряд-уговор послы положили о головах. В русских сношениях с Царьградом это было первое дело, из-за которого, как знаем, поднимался поход и в 865 году. Греки смотрели на варваров с высоты доставшегося им по наследству римского величия и высокомерия и дозволяли себе не только притеснения, но и обиды, даже уголовные. Русские, по всей видимости, не выносили никаких обид и насилий. Чувство мести, первобытный закон мести строго охранял их варварское достоинство, и, конечно, все неудовольствия и ссоры происходили больше всего от столкновений этих греческих и русских понятий о собственном достоинстве. Кроме того, при разбирательстве подобных дел сталкивались обычаи и законы русские и греческие, возникали бесконечные споры и препирательства. Греческий закон был закон писаный, известный, утвержденный. Русский закон был неписаный, словесный, неизвестный, т. е. закон крепкого обычая, в котором греки всегда могли и видеть, и находить только действия личного произвола. Для греков это был закон неутвержденный; русские обычаи им не были известны. Дабы устранить всякие недоразумения и споры по этому поводу, было необходимо обнародовать особый устав, согласовать русский закон с греческим и, таким образом, устроить любовь, т. е. добрые отношения, между греками и Русью. Естественно, что такой устав должен быть написан и отдан той и другой стороне для руководства; естественно, что он должен был в написанных же копиях сохраняться и у всех русских людей, ходивших с торгом в Грецию. Вот причина, почему он попал в летопись. Вообще можно сказать, что договор Олега является своего рода «Русской правдой», русским законом для устройства и обеспечения русской жизни в Царьграде и во всей Греческой стране. Он и начинается общей статьей о судебных свидетельствах и уликах.
«А о головах, если случится такая беда, – говорили послы, – урядимся так: если преступление будете обнаружено уликами явными, несомненными, то надлежит иметь веру к таким уликам; а чему не дадут веры, пусть ищущая сторона клянется в том, чему не дает веры, и когда клянется кто по вере своей ложно, то будет наказанье, если окажется такой грех.
Если кто убьет, русин христианина или христианин русина, да умрет на самом месте, где сотворил убийство.
Если убежит убийца и будет имовит (обеспечен), то его имение, какое принадлежит ему по закону, да возьмет ближний убиенного; но и жена убившего возьмет свое, что следует по закону.
Убежит убийца неимущий, то тяжба продолжается, доколе его найдут, дабы казнить смертью.
Если кто кого ударит мечом или бьет каким орудием, за то ударение или побои пусть отдаст 5 литр[96] серебра, по закону русскому. Если так сотворит неимущий, да отдаст, сколько имеет; пусть снимет с себя и ту самую одежду, в которой ходит; а затем да клянется по своей вере, что нет у него ничего и никто ему помочь не может, тогда тяжба оканчивается, взыскание прекращается.
Если украдет что русин у христианина или христианин у русина и будет пойман в тот час и, сопротивляясь, будет убит, да не взыщется его смерть ни от христиан, ни от руси, а хозяин возьмет свое покраденое. Если вор отдастся в руки беспрекословно и возвратит покраденое, пусть за воровство заплатит втрое против покраденого.
Если кто творит обыск (покраденого) с мучением и явным насилием или возьмет что-либо вместо своего чужое – да возвратит втрое.
Если греческая ладья будет выброшена ветром великим на чужую землю и случится там кто из нас, русских, то мы, русские, охраним ту ладью и с грузом, отправим ее в землю христианскую; проводим ладью сквозь всякое страшное место, пока не придет в место безопасное. Если такая ладья, или от бури, или от противного ветра (боронения) не сможет идти в свои места сама собой, то мы, русские, потрудимся с гребцами той ладьи и допровадим с товаром их поздорову в свое место, если то случится близ Греческой земли. Если такая беда приключится ладье близ земли Русской, то проводим ее в Русскую землю. И пусть продают товар той ладьи, и если чего не могут продать, то мы, русь, отвезем им, когда пойдем в Грецию, или с куплею, или с посольством; отпустим их с честью и непроданный товар их ладьи.
Если случится кому с той ладьи быть в ней убиту, или потерпеть побои от нас, русских, или возьмут русские что-либо, да будут повинны наказаниям, положенным прежде.
Что касается пленных, то на Руси им уставлена торговая и выкупная цена 20 золотых. Пленных на обе стороны, или от руси, или от греков, должно продавать в свою страну. Проданный в чужую страну возвращается в свою с возвратом купившему той цены, за какую был продан, если дал и больше установленной цены челядина. Таким же образом, если на войне будет взят кто из греков, да возвратится в свою страну со взносом его выкупной цены.
Когда потребуется вам, грекам, на войну идти и будете собирать войско, а наши русские захотят из почести служить царю вашему, в какое время сколько бы их к вам не пришло, пусть остаются у царя вашего по своей воле.
Если русский челядин будет украден, или убежит, или насильно будет продан, и начнут русские жаловаться и подтвердит это сам челядин, тогда да возьмут его в Русь. Равно, если жалуются и гости, потерявшие челядина, да ищут его, отыскавши, да возьмут его. Если кто, местный житель, в этом случае не даст сделать обыска, тот потерял правду свою (отдаст цену челядина?).
Кто из русских работает в Греции у христианского царя и умрет, не урядивши своего именья (не сделав завещания), или из своих никого при нем не будет, да возвратится то именье его наследникам в Русь. Если сделает завещание, то кому писал наследство, тот его и наследует.
Кто из ходящих в Грецию, торгуя на Руси, задолжает и, укрываясь, злодей, не воротится в Русь, то Русь жалуется Христианскому царству, и таковый да будет взят и возвращен в Русь, если бы и не хотел[97]. Это же все да творит Русь грекам, если где таковое случится».
В утверждение и неподвижность мира договор был написан на двух хартиях и подписан царем греческим и своей рукой послов, причем русь клялась, как Божье создание, по закону и по покону своего народа, не отступать от установленных глав мира и любви.
Царь Леон почтил русских послов дарами: золотом, паволоками, фофудьями – и велел показать им город – «церковную красоту, палаты золотыя, и в них всякое богатство, многое злато, паволоки и каменье драгое – и особенно христианскую святыню: Страсти Господни – венец, гвоздье, и хламиду багряную, и мощи святых, поучая послов к своей вере. И так отпустил их в свою землю с честью великой».
«Если договор этот был действительно, – говорит Шлецер, очень сомневавшийся в его подлинности, – то он составляет одну из величайших достопамятностей всего Среднего века, что-то единственное во всем историческом мире. Ибо есть ли у нас хотя один такой договор, так подробно написанный и слово в слово из времен около 912 года?»
В настоящее время уже никому не приходит в голову сомневаться в подлинности этого единственного во всем историческом мире памятника. С каждым днем он все больше и больше раскрывает свою достоверность и свое, так сказать, материковое значение для познания древней русской истории. Несмотря на то что и до сих пор эта хартия вполне ясно и с точностью никем не прочтена, все-таки ее язык служит первым основанием ее достоверности. Это язык перевода, и притом русского, а не болгарского перевода[98], язык, приспособлявший себя к известному, уже не устному, а грамотному, или собственно книжному изложению, следовательно, боровшийся с известными формами речи и потому оставивший в себе несомненные следы этой борьбы, т. е. крайнюю темноту и видимую нескладицу некоторых выражений. Можно надеяться, что общими усилиями ученых эта первая русская хартия со временем будет прочтена вполне точно и ясно во всех подробностях.
Впрочем, для истории очень многое ясно и теперь, по крайней мере в общем и существенном смысле, который, сколько было нашего умения, мы и старались удержать в своем переложении этого памятника.
Очень справедливо заключают, что этот несомненный документ служит изобразителем умственного, нравственного и общественного состояния Древней Руси. Еще Шлецер говорил, что «критика дел на каждую статью договора была бы приятной работой». К сожалению, он отложил эту критику до времени, пока будет очищен текст. А это обстоятельство и было главной причиной, почему мы и до сих пор ведем препирательства больше всего только о буквах и словах. Это же обстоятельство вообще показывает, как бесплодно вести исторические работы, задаваясь какой-либо односторонней задачей и не осматривая существа истории по всей его совокупности, по всем сторонам и во всех направлениях. Ведь каждый древний памятник, хотя бы лоскуток древней хартии, есть отрывок некогда цельной жизни. Ограничиваясь критикой слов и букв и не обращая в то же время внимания на критику дел, невозможно читать и объяснять правильно и сами слова. И вот почему историк и доселе все-таки не может представить достойной страницы, дабы раскрыть вполне значение этого бесценного русского памятника.
Что наговорил Шлецер и вообще норманисты о великой дикости, грубости, о варварстве и разбойничестве русских IX и X веков, все это, точка за точкой, опровергается тем же несомненным документом, современным официальным документом. Хартия, во-первых, свидетельствует, что руссы, хотя бы и немногие, уже в 911 году знали «грамоте и писать». Они о том и хлопочут у греков, чтобы им дано было письменное утверждение мира или установленного ими закона для обоюдных сношений с греками, которое они и скрепляют написанием своею рукой. Может быть, это написание исполнил один из послов в качестве дьяка или как бы статс-секретаря. Этим дьяком, по-видимому, был посол Стемид, или Стемир, который последним является в обоих посольствах, и в числе пяти послов, и в числе четырнадцати. Дьяки-секретари, как известно, всегда занимали последнее место между послами. Кроме того, хартия указывает, что руссы писали духовные завещания.
Предлагаемый мир руссы понимали не иначе как в образе искренней любви «от всей души и изволенья». Слово «любовь» для них яснее и точнее выражало дело, чем слово «мир» (первое употреблено в договоре семь раз, второе – четыре); поэтому, начиная договор, они, как заметил Шлецер, говорят «не только кротко, но даже по-христиански». Но, в сущности, они говорили только по-человечески, чистосердечно, искренно, движимые простым чувством простой и еще девственной природы своих нравов. Это чувство действующей, а не мертвой любви, называемой в обыкновенных договорах миром, руссы подтверждают делами. Из хартии видно, что на Черном море повсюду они были полными хозяевами, как у себя дома, поэтому они радушно предлагают грекам свои услуги в несчастных случаях мореплавания. Они являются истинными друзьями, когда ладья потерпит крушение; они спасают ее, провожают до дому сквозь всякое страшное место, или в бурю и при противном ветре помогают гребцам, доставляют ладью в Грецию; или, по близости к Руси, отводят до времени в Русскую землю, с тем чтобы и проданный товар с нее, и саму ладью при обычном своем походе в Царьград возвратить восвояси. И за все за это они не требуют никакой платы. Напротив, за всякую обиду пловцам ладьи или за взятое их имущество они ставят себя под ответственность установленного наказания. Читатель может судить, насколько здесь обнаруживаются уже достаточно развитые общественные и международные понятия, которые, конечно, могли возродиться только в земле, с давних веков промышлявшей не разбоем, а торгом и потому искавшей повсюду всяких льгот и охран для водворения дружеских, миролюбивых сношений с соседями. Припомним к этому о господстве на Немецком и Балтийском морях так называемого берегового права, возникшего, по всему вероятию, уже по истреблении немцами балтийских славян и, во всяком случае, господствовавшего по преимуществу только у германских народностей еще в XIII и даже в XV столетии. По этому праву потерпевший крушение и с кораблем, и с грузом поступал в собственность владельца земли, у берега которой произошло несчастие. Ясно, что подобным промыслом могли заниматься только люди, не имевшие никаких побуждений жить в крепком союзе и с соседями, и с дальними странами. Что балтийские славяне, а за ними и русские не так смотрели на это дело, это отчасти видно из заметки Адама Бременского о пруссах. Он говорит, что «пруссы, жившие при море, подавали помощь мореходцам, претерпевавшим кораблекрушение, и плавали по морю с целью защищать их от разбойников». Это было в половине XI века, когда только еще разгоралась борьба немцев с вендами, а на Прусском берегу, как мы уже знаем, существовал русс в своей Славонии в устьях Немана и море называется «Русское море» и земля Русская. Те же побуждения и потребности русс заявляет и на Черном море в начале X века.
Относительно пленных эти руссы, по договору Олега, учреждают на обе стороны выкуп; во избежание споров и ссор соглашаются и у себя установить обязательную греческую определенную цену пленника, 20 золотых[99]. Дозволение руссам по своей воле оставаться в Греции на военной службе указывает на новую услугу грекам, которая, несомненно, идет из давнего времени, по крайней мере со времен Аскольда, ибо в 902 году, прежде этого договора, там уже служат 700 руссов[100]. С другой стороны, это же обстоятельство открывает и ту степень свободы, какой пользовался русский у себя дома. «Да будут своею волею», – говорит договор, объясняя тем, что свободному русину была открыта дорога на все стороны.
Закон о наследстве показывает, что в Царьграде жили из русских не только простые работники, вроде Фотиевых молотильщиков и провевальщиков зерна[101], но и обеспеченные люди, об имении которых стоило хлопотать и даже стоило установить по этому предмету закон, не говоря уже о том, что такой закон свидетельствует также о крепких правомерных понятиях относительно имущества вообще.
«Все это, – замечает Эверс по поводу этой статьи, – свидетельствует о неожиданном развитии купеческой промышленности». К тому же кругу крепкого состояния этой промышленности относится и объясненный нами закон о скрывающемся злодее-должнике. Неожиданное в немецком воззрении на Древнюю Русь происходит от того пустого места, какое было расчищено для норманнских деяний самими же немецкими учеными. Олегов договор лучше всего показывает, что он был только увенчанием очень древнего развития купеческой промышленности по всей стране и особенно между Балтийским и Черным морями.
В обеих хартиях Олега говорит и пишет к грекам Русь. Она является главным деятелем и устроителем договора. Она изъявляет и предлагает мир и любовь от всей души и всей воли, на всегдашние лета. Ясно, что в этой любви и мире больше всего нуждается она, Русь, а не греки. А как она разумеет этот мир и любовь, на это весьма обстоятельно отвечает содержание договоров, которые вообще очень явственно рисуют стремление первоначальной Руси установить с греками добрый и прочный порядок не в военных, а именно в гражданских, торговых делах.
В обеих хартиях Русь представляется как бы купцом, предлагающим свой товар, под видом различных условий; грек стоит, слушает, рассматривает и утверждаешь сделку своим согласием исполнить сказанные условия. Но и он выторговал себе необходимые ограничения для свободных действий Руси, которые вполне и обличают, какова была Русь с другой, собственно военной стороны. Он потребовал, чтобы продовольствия не давать тем, кто ходит в Царьград без купли-торговли, следовательно, было немало и таких, которые назывались только купцами, но приходили в Царьград с иными целями. Вот почему греки требовали, чтобы русь не творила бесчиния в Греческой земле, чтобы жила за городом, в одном указанном месте, да и то с паспортами, и в город за торгом ходила бы одними назначенными воротами, под охраной царского чиновника, без оружия, числом не более 50 человек. Ясно, что и купеческая русь отличалась характером мстителя, который не выносил и малейшего оскорбления и тотчас разделывался с обидчиком по русскому обычаю. В этом характере руси и заключался ее страшный, разбойный облик, который и до сих пор выставляется как бы существенным качеством ее древнего политического бытия. Что в ее среде бывали озорники, воры, злодеи, об этом нечего и спорить; но именно договор Олега вполне и обнаруживает, как сама Русь смотрела на таких злодеев и как она хлопочет об уставе и законе, хорошо понимая, что злодейские дела происходили больше всего от неправды самих же греков.
Русь, судя по договору, имеет весьма отчетливое понятие о широте и полноте власти греческого царя, которого поэтому называет не только царем, но и великим самодержцем. Она таким образом хорошо знает, в чем заключается идея самодержавия, но она вовсе не ведает этой идеи в своем политическом устройстве. Хартии Олега раскрывают, что политическое существо Руси заключалось в городовом дружинном быте, что Русская земля составляла союз независимых между собой городов, во главе которых стоял Киев. В городах сидели светлые князья или светлые бояре. В Киеве сидел великий князь, старший над всеми остальными, у которого остальные князья находились под рукой. Однако эти подручники, по-видимому, были совсем независимы, по крайней мере настолько, насколько это объясняет очень простой титул великого, старейшего – и только. Вот почему мир и договор с греками устраивается «по желанию всех князей» и вдобавок по повелению от всей Руси. Послы идут от великого князя и от всех светлых бояр-князей, дают ручательство от всех князей, требуют и от греков, чтобы хранили любовь к князьям светлым русским и ко всем живущим под рукой великого князя. Таким образом, с греками договаривается не один великий князь, а вся община князей, все княжье. Князья же, как заметил и договор, сидели в своих особых городах. От каждого города в Царьград хаживали свои особые послы и свои гости, которые особо по городам получали и месячное содержание от греков, а это, со своей стороны, свидетельствует, что главнейшими деятелями в этих сношениях были собственно города, а не князья и что князь в древнейшем русском городе значил то же, что он значил впоследствии в Новгороде. По этой причине и самые имена князей нисколько не были важны для установления договора. Договор о них и не упоминает.
Очень любопытно постановление Олега давать на русские города уклады. Если такой устав вместе с данью на две тысячи кораблей по 12 гривен на человека можно почитать эпической похвальбой и прикрасой, то все-таки несомненно, что эти уклады явились в предании не с ветра, а были отголоском действительно существовавших когда-либо греческих же даней, распределяемых именно по городам.
Уклад в отношении дани значит то, что уложено, положено, определено до постоянной уплаты. Это то же, что и теперешний подушный оклад подати или оклад жалованья. Ежегодные дани, дары, стипендии, субсидии еще Рим давал роксоланам, например при императоре Адриане в 117–138 годах. Затем унны получали с Царьграда ежегодную дань сначала в 350 литр, а при Аттиле в 750 и даже 2100. В VI столетии ежегодную дань получали унны-котригуры. Все это были жители нашей Днепровской стороны. Естественно также предполагать, что получаемая дань распределялась между варварами в меру участия разных их племен или земель в общей помощи, в общих походах. Несомненно, что дележ был справедливый и каждый получал столько, сколько приносил своим мечом пользы общему делу. Если очень многие никак не желают признавать в роксоланах и уннах наших славян, то все согласны по крайней мере в том, что в полках Аттилы ходили среди прочих и славяне; а если они ходили, то, стало быть, непременно участвовали и в дележе ежегодных укладов, а потому память, предание о таких укладах по землям, по городам, могла сохраняться на Руси еще с роксоланских времен, и народная былина очень основательно могла присвоить эти уклады победоносному Олегу.
Варвары античного и Среднего века при нашествиях на римские и византийские области всегда собирали свои дружины с разных концов своей дикой страны, всегда и везде, в Галлии, например, при Цезаре, и в Скифии еще от времени Митридата, собирались в поход точно так же, как наш Олег, приглашая на общую добычу или для общей цели всех соседей. Все так называемые полчища Атиллы, подобно полчищам Наполеона, состояли из множества разнородных дружин, которые по естественным причинам должны были получать из завоеванных ежегодных даней свои уклады – оклады. Все это необходимо наводит на мысль, что Олеговы уклады могут служить драгоценным свидетельством участия наших северных и днепровских племен в войнах роксолан, готов, уннов, аваров и т. д.; а уклады именно на города могут свидетельствовать и о существовании у нас городов от самых древних времен.
По летописи Олег называется Вещим больше всего за мирный договор, за то, что воротился в Киев как купец, неся золото, паволоки, овощи, вина и всякое узорочье, т. е. за то, что дал Киеву способ свободно получать все греческие товары. Оттого и народная память о нем исполнена любви и благодарности. Она в летописи отметила, что он жил, имея мир ко всем сторонам, и что о смерти его плакались по нем все люди плачем великим. Так народ почитал необходимым поминать хорошего князя. Эти люди провожали в могилу не только освободителя и первого строителя Русской земли, но и первого ее доброго хозяина, первого ее великого промышленника, выразившего в своем лице основные черты общенародных целей и задач жизни.
По случаю смерти Олега летопись рассказывает легенду, что он умер от своего любимого коня. Однажды, еще до Цареградского похода, Олег спросил волхвов-кудесников: от чего приключится ему смерть? Один кудесник утвердил, что он умрет от коня, на котором ездит и которого больше всех любит. Олег поверил и удалил любимого коня, повелев его беречь и кормить, но к себе никогда не приводить. Так прошло несколько лет. Уже на пятый год после славного похода он вспомнил о коне и спросил конюшего, где любимый конь? «Давно умер», – ответил конюший. Олег с укоризной посмеялся над кудесником: «То-то волхвы, все неправду говорят, все ложь! Конь умер, а я жив!» Он захотел взглянуть хотя бы на кости своего старого друга. Велел оседлать коня и поехал на место, где лежали останки. Кости были голы, и череп голый. Князь подошел к костям, двинул ногой череп и, посмеявшись, примолвил: «От сего ли черепа смерть мне взять!» В ту минуту из черепа взвилась змея и ужалила князя в ногу. С того он разболелся и помер.
Не во всем, но сходный рассказ существует и в поздних исландских сагах, куда он мог попасть или из одного общего источника с нашим, или прямо из Руси, ибо основа его, по-видимому, принадлежит еще античной, скифской древности и может скрывать в себе иносказание или миф о погибели героя от любимого, но коварного друга.
Киевляне погребли Олега на горе Щекавице. И спустя двести лет его могила оставалась памятной, потому что была насыпана курганом и обозначала как бы особое урочище под Киевом[102].
Мы уже говорили о том, что имя Олега, как нередко случается в истории, могло покрыть собой и деяния Аскольда. Нам кажется, что самый договор Олега носит в себе следы того договора, какой мог быть заключен еще при Аскольде.
Первая статья о головах, о проказе убийства, прямо свидетельствует, что повод начинать договор такой статьей существовал именно при Аскольде и подробно изображен Фотием. Мы увидим, что договоры вообще ставили на первом месте именно те обстоятельства, из-за которых возникали затруднения и ссоры приводили к договорному соглашению. Святослав начинает тем, что клянется никогда даже и не помышлять о походе на греков; Игорь начинает тем, что обещается давать русским послам и гостям грамоты с обозначением, сколько именно русских кораблей идет в Грецию. Эти обстоятельства прямо указывают конечные цели или существенные поводы для соглашений. Олегова же первая статья вполне объясняется только рассказом Фотия о наглом убийстве русского в Царьграде. Могло случиться и при Олеге такое же событие, но тем естественнее было повторить и при Олеге те ряды, какими установлен был мир после Аскольдова похода. Весь Олегов договор развивает главным образом уставы для обеспечения и охраны личности, чего добивалась Русь и в 865 году. Итак, нам кажется, что основу для договорных сношений с греками впервые положил Аскольд или его поколение и что Олег только еще больше утвердил и распространил положенное основание, и, по всему вероятью, без кровопролития, чем и заслужил особую признательность народа. Таким образом, уже поколение Аскольда своими деяниями довольно явственно обозначило зарождение Руси в смысле политического тела.
Подвиг Аскольда окончился водворением правила и порядка в сношениях с Царьградом. После Фотиева рассказа нельзя и сомневаться в том, что этот подвиг был предпринят именно только с целью обуздать наглое своеволие греков в отношении хотя бы и к варварской Руси.
По рассказу летописи, в одно и то же время, почти в один год, на севере и на юге кто-то действует одинаково, по одной идее, хотя и из особых гнезд, вполне независимых друг от друга. Одинаково, почти в один год, и Новгород, и Киев начинают одно всенародное дело, а именно ищут правила и порядка; один ищет правильной власти для домашнего употребления, другой – правильных сношений с центром всемирного торга. Все это делают только одни норманны, говорит Шлецер. Только одни норманны, повторяет школа. Но и сам Шлецер, и вся его школа постоянно изображают норманнов разбойниками, наглыми грабителями, которые только о том думают, как бы где что схватить и захватить, почему и самые походы Руси на Царьград описываются по преимуществу разбойными делами. А между тем основной смысл этих первых движений Руси вполне наглядно и в точности обличает только одни самые мирные побуждения, обнажавшие меч в крайней необходимости, из одного желания добыть себе долгий и благодатный мир и спокойствие.
Кто же на самом деле так действовал? Несомненно, так действовали люди, для которых целью жизни быль правильный торговый промысл, а вовсе не разбойный норманнский захват чужого добра. Так действовал разум всего передового, наиболее деятельного населения нашей страны; так действовала вся земля или та соль земли, которая держала в руках торги и промыслы по всем главнейшим углам страны. Здесь опять невольно вспоминается летописное предание, что по всем главным городам к началу нашей истории сидели пришельцы варяги – конечно, венды, балтийские славяне, распространявшие по Русской земле совсем иные порядки и нравы, чем те, какие обыкновенно приписывают варягам-норманнам. Поколение, призвавшее в Новгород Рюрика и в Киеве давшее место Аскольду, само собой строило уже основание для будущей русской народности. Оно сосредоточивалось на двух окраинах торгового греческого пути разрозненно, но с одной целью – чтобы владеть самостоятельно и независимо морским ходом, за море к варягам и за море к грекам. Оно образовало два особых гнезда, две особые народные силы, которые и дальше могли бы идти друг от друга независимо и самостоятельно, если б в их политических корнях лежали начала разнородности. Но они даже и по имени были однородны. Они были созданы одним племенем варягов-вендов.
Олег соединил разрозненную силу в одно место, дал ей одно средоточие, одну волю и тем, как бы следуя закону первобытного творчества, основал Русскую твердь. Но, повторим, Олег был исторический деятель и из ничего творить не мог. Твердь эта готовилась быть твердью с незапамятных времен. Она успела выработать в своей жизни самое существенное начало для дальнейшего развития – живую потребность порядка, правила, устава и, стало быть, потребность правильной власти. Но все это вырабатывается и создается повсюду у всех исторических народностей не столько историческими деятелями, сколько самой жизнью народа, многообразными отношениями народа между собой и с соседями. Исторические деятели в этих случаях являются, по призыву ли, по захвату ли, только выразителями давнишнего народного хотения, давнишней назревшей народной потребности.
Русская твердь вместе с тем еще до призвания князей успела выработать и особую форму, особый образ для своего политического существования. Она выработала город, особое земское общество, которое и владело всей землей, которое и с призванием князей не изменяет своих дел и стремлений и ведет самого князя к тем же старозаветным целям. По-прежнему, хотя и с новыми силами Русь является только дружиной городов, где были старшие и младшие, но еще не рождалось и помышления о государе в смысле норманнского феодала или греческого самодержца. С призванием князей только с большей самостоятельностью отделяется военное сословие и действует как передовая главная общественная сила под именем княжей дружины.
По смерти Олега стал княжить Игорь, сын Рюрика. Но если сам Рюрик только легенда, мечта, то откуда же происходил этот Игорь, живой человек, памятный даже и грекам, записанный в их летописи? На это нет другого ответа, кроме летописного сказания, что он действительно был сыном Рюрика. Олегом он принесен в Киев малюткой. Олег его вырастил и женил на Ольге, приведенной из Пскова. Во все время Олегова княжения он оставался совсем незаметным и не помянут даже в договорной греческой грамоте. Имя Игорь, как уверяют, скандинавское, написанное по-гречески Ингор, а у скандинавов был Ингвар. Покойный Гедеонов раскрыл до очевидности, что это имя может быть также и славянским. Но по-русски и по смыслу многих, очень важных обстоятельств его жизни Игоря можно именовать Горяем, как прозывали у нас людей несчастливых, злосчастных. Многое в жизни ему не удавалось, и самая жизнь его окончилась злосчастной погибелью. Иначе такие люди назывались Гориславичами, Гориславами[103]. Однако первое дело Игоря было удачно. Древляне, сидевшие у Олега долгое время мирно, тотчас после его смерти заратились против Игоря, или, по другому выражению, «затворились» от него, отказались платить дань. Игорь победил их и наложил дань больше Олеговой. Тем же порядком было усмирено и другое родственное Руси, но совсем непокорное племя – уличи. Они жили в низовьях Днепра, по всему вероятью, в запорожских местах, в геродотовской Илее, в болотистой и лесной земле, известной у нас под именем Олешья. В соответствие позднейшей Запорожской Сечи у них был также неприступный город Пересечен, как видно, значивший то же самое, что и Сеча, осек. Нет также сомнения, что они по месту своего жительства и по своей независимости и неукротимости могли создавать Руси значительную помеху во время торговых походов в Царьград. Чем больше развивались и устраивались связи с Грецией, тем необходимее становилось окончательно устроиться и с уличами. Вот почему летопись, не говоря прямо, в чем было дело, указывает, однако, что войны с уличами начались еще при Аскольде, продолжались при Олеге, который водил уличей уже на греков, и окончились при Игоре. Был у Игоря воевода Свентелд, который так же, как Олег древлян, примучил и это племя. Игорь возложил на них дань и отдал ее в пользование Свентелду. Долго не поддавался только один город Пересечен. Воевода сидел около него три года и едва взял. Тогда уличи совсем перебрались с Днепра в землю геродотовских алазонов, между Бугом и Днестром. Да и сами они, по всему вероятию, были потомками тех же алазонов или средневековых днепровских аланов, улцинцуров, аульциагров. Указание летописи, что только один их город не сдавался три года, заставляет предполагать, что были и другие города, взятые без особых усилий. Действительно, в середине X века, когда эта Днепровская сторона принадлежала уже печенегам, Константин Багрянородный упоминает о развалинах шести городов, лежавших по западному берегу Днепра, при переправах через реку. Один из городов назывался по-гречески Белым; другие носили печенежские имена, все с окончанием – кат, что может указывать и на славянское «ката», «кота», «хата». Между развалинами находились следы церквей и каменных крестов, почему иные думали, что там некогда жили греки[104].
Таким образом, греческий путь от варягов до самого Царьграда был вполне прочищен и теперь находился уже в одной руке, которая поэтому и могла твердо подписывать разные обязательства в договорах с греками.
Но от варягов по Русской стране существовала еще дорога в иной морской угол, от которого страна также во многом зависела и нуждалась в нем. То был Симов жребий, далекий восток, богатое и цветущее в то время Каспийское поморье.
Об отношениях Руси к этому краю летопись ничего не помнила и не знала и как бы ничего не хотела знать. Она в своей географии не упомянула даже о реке Доне. Можно полагать, что составителю Повести временных лет не встретился ни один человек, который что-либо знал или помнил о русских делах с востоком. В этом случае очень заметный пробел нашей летописи значительно пополняют ученые арабы.
Мы уже говорили, что, по их свидетельству, еще в 60–70-х годах IX столетия, когда впервые и над Царьградом пронеслось имя Руси, русские купцы, они же и славяне, ходили по Волге не только в Хазарию, но и к юго-восточным берегам Каспийского моря (Астрабад[105]) в страну Джурджан, где высаживались на любой им берег, а иногда провозили свои товары по тамошнему порядку на верблюдах даже в Багдад. Быть может, это были походы новгородские, независимые от Киева. Киевская Русь освободилась от хазарского владычества еще при Аскольде, что вполне согласуется и с рассказом патриарха Фотия. При Олеге Новгород перебрался в Киев: разрозненная Русь соединилась и теперь уже из Киева стала действовать еще сильнее. Однако освобождения от хазарских даней было недостаточно. Теперь, по-видимому, Русь добивалась уже прямой и вполне свободной дороги в закаспийские страны и, кроме того, очень желала устроить себе независимое, безопасное и самостоятельное пребывание в тамошних местах, подобно тому как она добилась наконец того же самого даже и в Царьграде. Хазары, потерявши свои дани, все-таки не могли жить без русских товаров и потому не препятствовали русской торговле. Они, напротив, как сейчас увидим, действовали даже заодно с Русью.
Немудрено, что их политические и торговые выгоды в сношениях с закаспийскими странами в иных случаях могли с русскими попадать на один путь. Для промышленника, купца важнее всего был порядок, устав, закон, ограждавший безопасность его личности и его имущества, дававший известную свободу действий. Какие были порядки на этот счет в закаспийских странах, нам неизвестно; но несомненно, что и там, как и в Царьграде, случались беспорядки, обиды и даже убийства, которые по русским понятиям всегда требовали отмщения. Конечно, для бессильной Руси отмщение было невозможно; но в это время, явившись народной силой, она уже не могла прощать обид и рано ли, поздно ли, выждав случай и время, всегда наносила своему обидчику более или менее чувствительный удар.
Арабы рассказывают, что еще около 880 года русские приходили в устье реки Джурджан, воевали и были все побиты; что через 30 лет они снова приходили туда же на 16 кораблях, успели произвести опустошения, грабежи и убийства и были тоже побиты или взяты в плен. Это случилось в 909–910 годах. Вскоре после этой второй неудачи русь собралась в таком количестве и произвела повсюду такое мщение, о котором рассказывали, что это было первое вражеское нашествие на мирный Каспий, никогда до той поры не испытавший ничего подобного.
Об этом походе оставил довольно обстоятельный рассказ араб Масуди, почти современник происшествия. Время похода относят к 913–914 годам, когда были усмирены древляне и Игорева дружина могла свободно располагать своими силами.
Из Киева к устьям Волги на кораблях в то время чаще всего плавали вниз по Днепру и по Черному морю, оно же и Русское море, говорит Масуди, ибо оно принадлежит русским и никто, кроме них, руссов, не плавает по нему. На этот раз Русь скопилась в пятистах кораблях, в каждом по сто человек. Обогнув Таврический полуостров[106], она пришла в Боспорский (Керченский) пролив, где хазарский царь держал сильную стражу и никого не пропускал в свои земли. И теперь еще по всему Таманскому полуострову на видных и высоких местах встречаются следы старых городков, иногда сложенных из камней, выбранных от древнегреческих городищ и даже надгробных памятников. Несомненно, что с этих вышек наблюдали по морю во все стороны и хазары. Внезапный приход руси в таком множестве кораблей наделал бы, конечно, большую тревогу и потому естественно предполагать, что этот поход заранее, по уговору, был уже известен хазарам.
Масуди говорит, что руссы, прибыв в пролив, послали просить хазарского царя, чтобы пропустил их на грабеж в Хазарское море, а они за то отдадут ему половину всей добычи. Царь согласился. Руссы прошли Боспор и Азовское море, вошли в устье Дона и поднялись до перевала в Волгу, вероятно, до самого хазарского Саркела, вблизи теперешней Качалинской станицы. Здесь они точно так же, как Олег, должны были перевести свои корабли на колесах в Волгу. Вниз по реке до ее устья или до хазарской столицы было уже недалеко. Переехав в море, корабли распространились отрядами по всем его богатым прикавказским и закавказским берегам, от Баку, или Нефтяной страны, и до Астрабада. «Руссы проливали кровь, брали в плен женщин и детей: грабили имущество, распускали всадников для нападений, жгли села и города». Народы, обитавшие около этого моря, с ужасом возопили. С древнейшего времени не случалось им даже и слышать, чтобы враг когда-либо нападал на них в этих местах. Приходили сюда только корабли купцов да лодки рыболовов.
Разгромив эти мирные и богатые берега, руссы отошли к Нефтяной земле и поселились на отдых на разбросанных против нее островах. Тогда, опомнившись от удара, жители вооружились, сели на корабли и купеческие суда и отправились к островам. Но руссы не дремали и встретили врага таким отпором, что тысяча мусульман были изрублены и потоплены. Многие месяцы руссы оставались на море полными хозяевами. Никто из тамошних народов не осмеливался подступить к ним; все, напротив, в большом страхе только укрепляли береговые места и ежеминутно ждали их прихода. Наконец, обремененные добычей, они ушли. Приплыв к устью Волги, руссы послали хазарскому царю обещанную половину грабежа. Узнали об их возвращении все мусульмане хазарской столицы, особенно гвардия, и стали говорить царю: «Позволь нам отомстить, ведь этот народ нападал на наших братьев, мусульман, проливал их кровь и пленил их жен и детей!» Не мог отговариваться хазарский царь и поспешил только известить руссов, что мусульмане поднимаются на них.
Мусульмане собрались побить руссов при входе их в город. С мусульманами много было и христиан, живших в хазарской столице. Всего собралось около 15 тысяч на конях и в вооружении. Как только завидели враги друг друга, руссы тотчас вышли из судов и началась битва, которая продолжалась три дня. Однако Бог помог мусульманам и руссы были разбиты: кто был убит, кто утоплен. Тысяч пять из них спаслось и убежало вверх по Волге; но и там буртасы-болгары всех побили. Сосчитано убитых мусульманами по берегу хазарской реки около 30 тысяч. Сколько воротилось отважных мореплавателей домой, неизвестно. Но нет сомнения, что кто-нибудь принес же на родину весть о том, какими ручьями русской крови обагрились берега и самый поток Волги. А кровь русская нигде даром не пропадала.
Верны или неверны указанные цифры, но они свидетельствуют одно: что Русь в этом походе была очень несчастна и возвратилась домой не только без добычи, но, быть может, действительно только в незначительном остатке спасшихся бегством героев.
Вслед за этим несчастным подвигом на Русскую землю впервые пришли печенеги. Могло случиться, как и действительно бывало, что эти степняки слышали о несчастном конце русского похода и приблизились к русским землям, дабы воспользоваться обстоятельствами. Они в то время передвигались из-за Волги по следам венгров и, подобно всем кочевникам, имели обычай нападать на неприятеля врасплох, когда не оставалось дома защитников земли. Игорь умирился с ними и они прошли дальше к Дунаю в помощь грекам, призывавшим их на болгар.
Если мы припомним, как были призваны греками авары для укрощения днепровских же и дунайских славян, то можем заключить, что для тех же целей были вызваны со своих мест венгры, а потом и печенеги. Очень хитрая, но близорукая политика византийцев всегда старалась натравливать своих врагов друг на друга. И особенно Византия боялась, когда оседлое население устраивалось в независимое государство, когда у варваров заводились единство и порядок, порождавшие неминуемое народное могущество. В таком могуществе в это время находились соседи византийцев – болгары. Из опасения перед их завоеваниями греки и заводили дружбу с кочевниками, которых вообще нетрудно было привлекать к переселениям и к занятию чужих земель, тем более что на дальнем востоке, за Волгой и Уралом, давно уже шла кочевая борьба и кочевники вытесняли друг друга со старых жилищ.
При владычестве хазар в древних скифских степях, от Нижнего Дона до Нижнего Дуная, не было слышно о больших кочевых народах. Малые остатки прежних кочевых племен вроде торков, берендеев и пр., по всему вероятью, с давних времен жили в подчинении и в услужении у Руси. Сами хазары от кочевой борьбы приходили в упадок. Все это очень помогло возрождению Киевской Руси. Но вот появились венгры, которые мирно прошли мимо Киева еще при Олеге в 898 году, «ходяще, как половцы», замечает летопись, обозначая их кочевой быт. Они прошли мирно, вероятно, по той причине, что не были сильны и опасались Руси. Теперь по пятам венгров показались печенеги. Это был народ сильный, многочисленный и потому могущественный, который не боялся никакого соседа. Мало-помалу они заняли всю область геродотовской Скифии и расположились по сторонам Нижнего Днепра восемью особыми ордами по особности своих племен. Четыре орды находились между Доном и Днепром, и четыре между Днепром и Дунаем. Вся занятая ими страна простиралась на 60 дней пути, от Дористола (Силистрии) на Дунае до хазарского Саркела на Дону у Качалинской станицы. До сих пор один из правых притоков Дона, река Чир, и станица Чиры, по всему вероятию, сохраняют имя самой восточной печенежской орды, которая прозывалась, по написанию греков, Чур и Кварчичур.
Для новорожденной Руси это пришествие сильных кочевников было великим несчастьем. Только что с большими трудами был совсем очищен и по-граждански устроен договорами прямой путь к Царьграду и, следовательно, вообще к странам высшего развития, как поперек этого самого пути растянулось идолище поганое и залегло все дороги, охватило все движения Руси на юг. На первых же порах у русского птенца подрезаны были крылья. Для греков это было хорошо. Греки боялись Руси, боялись болгар и венгров, и потому печенежское могущество для них являлось самым желанным оплотом против северных беспокойных соседей. Они очень здраво и дальновидно рассуждали, что с печенегами надо всегда обходиться очень дружелюбно, вступать в союзы, каждый год посылать к ним послов с дарами, а их послов или заложников принимать и содержать в Царьграде со всякими услугами и почестями. Первое дело – они живут вблизи Херсона, на который могут нападать, а главное – они граничат с Русью и могут ей вредить самым чувствительным образом. Теперь руссы вполне должны зависеть от того, в дружбе или во вражде они с печенегами; теперь без союза с печенегами им нельзя ни с кем воевать, потому что, как скоро они уйдут в поле, печенеги тотчас явятся в их землю и станут ее опустошать; теперь руссы без пропуска печенегов не могут свободно проходить и в Царьград ни для войны, ни для торговли; теперь союзом, письмами, дарами греку всегда можно сподвигнуть печенега на эту кровожадную Русь, а также на венгров и болгар. Так описывал новые обстоятельства Руси сам греческий император, современник Игоря Константин Багрянородный.
Он рассказывает и о порядке, в каком происходили сношения греков с этим варварским народом. Византийский посол приезжал прежде в Херсон и посылал к печенегам, требуя проводников и заложников. С проводниками отправлялся в путь, а заложников оставлял в херсонской крепости под охраной. При этом печенеги, ненасытные и жадные, бесстыдно выпрашивали и даже требовали у посла много подарков, проводники за свой труд и за лошадей, заложники на себя, по случаю сидения в Херсоне, и на своих жен, остававшихся дома, в разлуке с ними. Приезжал посол в их землю, они требовали уже не посольских, а императорских подарков, а проводники опять требовали даров для своих жен и родственников, которых оставили дома. При возвращении в Херсон проводники снова выпрашивали плату за труд и лошадей. Когда посол приплывал на корабле к той орде, которая занимала русский берег моря, между Днестром и Днепром, то он, вероятно из боязни, не выходил из судна на берег, но через посланного давал знать о своем прибытии, требовал заложников, которых помещал у себя на кораблях, и давал заложников со своей стороны. Потом на кораблях же исполнял посольство, приводил союзников к клятве и раздавал им императорские дары.
Особенно печенегов боялись венгры. Однажды греческие послы предложили венграм изгнать печенегов и занять их земли, принадлежавшие прежде венграм же. Тогда все венгерские князья закричали в один голос: «Как это возможно! Это народ бесчисленный и кровожадный, никаких сил не станет победить его. Не говорите нам таких речей. Узнают об этом печенеги – беда нам!» Венгры много раз были побеждаемы и разбиваемы печенегами наижесточайшим образом, почему и жили в большом страхе.
Русские не боялись, но иногда войной, иногда миром заставляли варваров уважать русское имя. Однако, во всяком случае, печенежская дружба доставалась Киеву недешево. Вероятно, Игорь в стесненных обстоятельствах немало заплатил и за то, что бы на первых порах умириться с новым врагом. Спустя пять лет после этого мира он уже воевал с новыми друзьями.
Поселившись в степях Нижнего Днепра, печенеги скоро поняли выгоды своего местожительства между Русью и Корсунем и стали заниматься торгом, т. е., в сущности, стали провожать торговые караваны корсунцев в Русь (к Киеву), в Хазарию, к устью Волги и в Цихию, как тогда называлась вообще сторона Киммерийского Боспора на кавказском его берегу. Так, вероятно, и прежние степняки днепровской местности, начиная со скифов, служили за хорошее вознаграждение проводниками, охранителями в торговых путешествиях греков.
Это был народ великорослый, длиннобородый, усатый, на вид свирепый, отличный наездник на коне, изумительный стрелок из лука. Одевались они в короткие кафтаны до колен; при вооружении носили кольчуги и шлемы. Подобно древним скифам, их главнейшее оружие составляли колчан, наполненный стрелами, и кривой лук в налуче, висевшие сбоку, за спиной, на поясе. Носили также обоюдоострый трехгранный меч – кинжал. Кроме того, употребляли копья, простые, и длинные, и короткие метательные. На копьях же носили прапоры или знамена. Употребляли в дело аркан или железный крюк. Начинали битву ужасным криком и тучею стрел. Наводили ужас своими конными атаками.
По отеческому обычаю, они сначала стремительно бросались на противника, осыпали его тучею стрел, ударяли в копья. Но проходило немного времени, и они с таким же стремлением обращались в бегство, заманивая врага в погоню за собой. Если это удавалось и неприятель бросался вслед за ними, они, выждав минуту, внезапно поворачивались к нему лицом и снова начинали бой, каждый раз с новым мужеством и с новой отвагой, с новым беззаветным натиском. Такую хитрость они повторяли до тех пор, пока значительно не утомляли неприятеля. Тогда, обнажив мечи, они также внезапно со страшным воинственным криком, быстрее мысли, бросались врукопашную и начинали косить без разбора, направо и налево, и нападающих и бегущих. Когда им приходилось обращаться в действительное бегство, они точно так же отступали быстро, всегда «стреляя назад и в то же время не забывая бежать вперед». Если преследование достигало наконец их коша или кочевого стана, состоявшего из крытых кожами повозок, тогда с обычным проворством и быстротой, среди открытого поля, из тех же повозок они устраивали своего рода крепость; они ставили и связывали повозки одну к другой в виде круглого городка и сражались из-за них, как из-за вала. Внутри, из повозок же строили косые проходы, куда скрывались в случае опасности или уходили для отдыха. Это были кочевничьи крепкие стены, которые приходилось брать, как настоящее укрепление. Надо при этом заметить, что в повозках всегда находились их жены и дети и все имущество. По-русски эти повозки назывались вежами. Судя по позднейшим изображениям половецких веж, они состояли из четырехугольного ящика, поставленного на двух колесах и крытого шатром, сшитым из кожи или из толстого холста. Не потому ли Анна Комнина сравнивает их с башнями, говоря, что «печенеги ограждали свое войско крытыми повозками, будто башнями». В днепровских степях у чабанов или пастухов еще и теперь встречаются повозки, устроенные подобным же образом – ящиком на двух колесах, только с другой покрышкой. Вежи составляли сокровище варваров и вместе с тем защиту, а потому употреблялись во всех случаях, где требовалось постоять за себя. Распределяя полки отрядами, они ставили между ними и ряды повозок, так что каждый отряд должен был драться еще с большим ожесточением в виду своих домов, своих семей. Повозки вообще служили в их действиях точкой опоры и, конечно, всегда ставились в наиболее выгодных и безопасных местах.
Для засады печенеги пользовались каждой ложбиной, каждой балкой, откуда появлялись внезапно, вырастая точно из земли. В случаях переправы через реку они устраивались таким образом: вместо лодки спускали на воду мешок, плотно сшитый из воловьей кожи и набитый соломой или тростником; садились на него верхом, складывали на него же седло, оружие и все походное имущество; привязывали мешок к хвосту лошади и пускали ее плыть вперед.
По сказанию арабов, печенеги питались одним просом. Западные писатели уверяли, что они пили звериную кровь и ели сырое лошадиное, лисичье, волчье и кошачье мясо. Греки рассказывали, что они пили лошадиную кровь, отворяя нарочно известную жилу у коня. Когда кто-нибудь из них умирал естественной смертью или на войне, говорит Никита Хониат, писатель XIII века, то с мертвецами вместе закапывали их боевых коней, их луки с тетивами (и колчаны со стрелами), их обоюдоострые мечи и в ту же могилу зарывали живыми и пленников. Так долго сохранялись в наших степях скифские обычаи.
Печенеги сделались страшными врагами Руси уже при Владимире, особенно после всенародного крещения Руси. Быть может, этому очень способствовала перемена в отношениях Руси к грекам, а вследствие того и греков к печенегам. До того времени, за исключением одной войны при Игоре и нападения на Киев при Святославе, по научению греков, печенеги жили с Русью мирно. Вероятно, мир держался обоюдными интересами торговли с Корсунем и Царьградом, с Каспийским и Азовским краями, причем, как мы говорили, печенеги служили оберегателями торговых караванов, получая за это достаточную плату. А на Днепровских порогах они, вероятно, получали дань уже за то только, что не нападали на проезжающих руссов.
В некоторых списках летописей под 921 годом приставлено известие, что Игорь пристроил многое войско и бесчисленно кораблей. Это было на другой год после войны с печенегами. Куда он собирался, летопись не упоминает; но сбор кораблей может указывать только на поход в Царьград или же в Каспийское море. Между тем Русь, по-видимому, жила с греками в мире. В 935 году в греческом флоте, отправленном в Италию, находилось 7 русских кораблей и на них 415 человек руссов. Только в 28-е лето Игорева княжения случилось что-то такое, чего Русь не могла простить и поднялась на Царьград великой силой. Это было в 941 году.
Болгары, завидя на море русские суда, тотчас послали известить греков, потому что в это время их царь Петр был в мире и даже в родстве с греческим царем. Они рассказывали, что 10 тысяч кораблей плывут к Царьграду. Иные византийцы прибавляют до 15 тысяч. Вернее всех свидетельствует западный писатель Лиутпранд, который говорит только о тысяче кораблей с лишком[107]. Корабли названы скедиями. Это имя, быть может, сродни новгородским и псковским скуям и ушкуям и волжским ушкалам. В то время как греки готовились встретить врага, он уже опустошал все побережье Цареградского пролива по обеим сторонам, производя повсюду обычные тому времени ратные дела, сжигая села, церкви и монастыри и без пощады убивая жителей. Иных, поставя вместо цели, пронзали стрелами, иных распинали на кресте, сажали на кол; священникам и монахам связывали назад руки и в голову вбивали железные гвозди. Впрочем, всем этим словам вполне доверять нельзя. Это фразы обычной греческой риторики, которая почти слово в слово повторяется при всех случаях, когда ритор желал изобразить особенное бедствие.
Но вот показался и греческий флот, вооруженный аргументом, т. е. трубами вроде пушек, из которых пускали на врагов знаменитый греческий огонь. Теперь эти трубы были уставлены не только на корме, но и на носу, и сверх того по обоим бортам каждого корабля. Флот встретил русских у Искреста, как по-русски назывался светильник, или маяк, стоявший на скале при выходе из пролива в Черное море. Вероятно, русь сама выманила греков в открытое море, где надеялась с полным успехом не только разбить, но и захватить своих врагов живьем. О таком намерении Игоря прямо говорит современник событий западный писатель Лиутпранд[108]. Руссам к тому же очень благоприятствовала наставшая тишина на море. Но именно это самое обстоятельство больше всего помогло грекам, потому что только в тихую погоду «аргумент греческого огня» мог действовать с настоящей силой и без всяких помех. При ветре он редко достигал цели. Как только приблизились друг к другу корабли, огонь был пущен во все стороны. Главным его составом была нефть, которая горела даже на воде. Облитые корабли и люди и вся поклажа мгновенно воспламенялись и производили пожар со всех сторон. Спасаясь от огня, руссы стали бросаться в море, желая лучше утонуть, чем сгореть. Иные, обремененные латами и шишаками, тотчас шли ко дну; иные, плывя, горели в самых волнах морских. Ушли от погибели только те, которые успели отплыть к азиатскому низменному берегу, в мелководье, куда, вероятно, в подобных случаях всегда спасались руссы и куда греческие огненосные суда не могли пройти из-за своей величины.
Оставшиеся руссы были еще очень многочисленны и потому распространили свой набег на все близлежащее азиатское поморье в Вифинии[109], высаживаясь на берег и углубляясь в страну для всякой добычи. Когда с сухого пути их выбивали собравшиеся сухопутные греческие полки, конные и пешие, тогда руссы держались в своих малых кораблях на мелководье и не без успеха продолжали неравную борьбу в течение всего лета. Мелкая вода была для них своего рода крепостью, так что во все это время они жили и ночевали в своих лодках. Наконец настал сентябрь. Запасы съестного истощались, и добывать их было уже труднее. Руссы порешили возвратиться домой. Но путь был отрезан. На море все время стоял греческий флот и зорко сторожил все движения русских однодеревок. Надо было уйти так, чтобы никто не заметил. В сентябрьскую темную ночь русская флотилия тронулась и направилась к европейскому берегу, конечно, для того, чтобы плыть домой по обычной дороге вдоль берегов. Греки не дремали, по крайней мере днем, настигли отважных беглецов и началось второе морское сражение, в котором многие русские корабли были потоплены, иные взяты в плен, и только снова наступившая ночь спасла оставшихся, в каком количестве, неизвестно. По рассказам греков, возвратились в целости очень немногие. В Царьграде русским пленным, всем, торжественно, в присутствии иноземных послов, отрубили головы. Достаточно было этого одного похода, чтобы прозвать Игоря Горяем.
Возвратившаяся русь с ужасом рассказывала, каждый своим, об этом оляднем огне, т. е. об огне греческих хеландий. «Как есть молонья, что на небесах, – говорили они. – Эту молонью греки пущали в нас и пожигали. Оттого нам и нельзя было одолеть». Оправдание очень любопытное: оно намекает на существовавшее общее и всегдашнее сознание Руси, что, идя в поход, в какой бы ни было борьбе, она непременно должна одолеть. Поэтому несчастный поход, вместо уныния, возбудил только всеобщую злобу, жажду отмщения.
Возвратясь домой, Игорь тотчас же начал собирать многое войско и послал за море приманивать варягов, как можно больше. Сборы продолжались три года, что было естественно при тогдашних обстоятельствах. Чтобы собрать многое войско, требовалось и много времени. Земля не находилась еще в одной руке и была разделена на самостоятельные независимые области, с которыми надо было уговориться через послов. Точно так же и за морем многие варяги не могли собраться в один год.
В это самое время, когда по всей стране и даже за морем разносился военный клич, у Игоря родился сын Святослав в 942 году, будущий мститель за все отцовские неудачи, родившийся именно посреди возбужденных мыслей и чувств пылающего отмщения и, как увидим, начавший первый свой подвиг тоже мщением за смерть отца.
Пришли варяги, собралась русь (Киев), поляне, словени (новгородцы), кривичи с Верхнего Днепра, тиверцы с Нижнего Днестра. Не было только чуди, мери, веси. Но, вероятно, они сокрыты в одном имени словен, как, вероятно, сокрыты радимичи и северяне в имени полян. Игорь приманил и печенегов и для укрепления взял у них заложников. Войско двинулось в ладьях и на конях. Корсунцы первые узнали об этом походе и послали в Царьград сказать, что «идут русские – кораблей нет числа, покрыли все море кораблями!». Болгары со своей стороны тоже дали весть, что «идут русские, наняли себе и печенегов». Царь Роман поспешил послать навстречу не войско, а послов, лучших бояр, со словами к Игорю: «Не ходи, но возьми дань, какую брал Олег, придам и еще к той дани». И к печенегам послал много паволок и золота, разумеется, подкупая их отстать от руси. Игорь в то время дошел уже до Дуная. Он созвал дружину, и начали думать. Дружина решила: «Если царь говорит о мире и дает дань, еще и с прибавкой, то чего же и желать больше: без битвы возьмем злато, сребро, паволоки! Как знать, кто одолеет, мы или они? Али с морем – кто в совете? Ведь не по земле ходим, но по глубине морской – всем общая смерть».
Совет был очень рассудителен и разумен, особенно ввиду памяти о греческом огне. Игорь послушался дружины, взял у греков золото и паволоки на все войско и воротился домой, а печенегам велел воевать Болгарскую землю.
На другое лето греческие цари прислали в Киев послов, снова построить первый, т. е. древний, начальный мир. Все это показывает, что Игорев поход в действительности явился грозой для греков и они, откупив мщение дарами, поспешили восстановить прежние мирные отношения. Ясно также, что в нарушении мира были виноваты они сами. В противном случае высокомерные новые римляне, если б не нуждались, не поехали бы к варварам в Киев. Несомненно, что такие же отношения возбудили и походы Аскольда и Олега.
Поговорив с послами о мире, Игорь потом отправил в Царьград для точных переговоров свое посольство, от себя и от всего русского княжья. По-видимому, участие этого княжья было необходимо. Каждый смотрел за своей выгодой, и каждый должен был отвечать за себя. Поэтому посольство состояло из представителей двух основных сил тогдашней Руси: из послов от всякого княжья, от военной силы, и послов – гостей от торговой силы каждого города, которая несомненно посылала своих избранных. По неясности в написании имен очень трудно в точности определить, сколько всего было послано княжеских послов. Приблизительно можно считать около 27, и столько же купцов-гостей. Можно полагать, что от каждого города ходило по два посла, княжий и гостиный, почему и всех главных мест или главных городов тогдашней Руси можно считать также около 27[110].
Пришли русские послы в палаты к царю Роману. Велел царь им говорить с боярами и велел писать речи тех и других на хартии. Вот причина, почему договор Игорев, как и договор Олегов, носит в себе явные следы, так сказать, совещательного говорения и походит больше всего на протоколы. От той же причины зависит и беспорядочное расположение статей, которые записывались живьем, как шло само совещание.
Эту драгоценную хартию летописец опять помещает в летопись целиком. Список с нее, конечно, он мог достать не только в княжеском книгохранилище, но еще ближе, у кого-либо из старых бояр, а особенно у старых гостей, для которых этот документ был еще дороже и надобнее. Странствуя каждый год в Царьград и проживая там долгое время, гости-купцы на этой хартии основывали не только свое пребывание, но и все свои сношения с греками. Должно полагать, что список хартии находился у каждого большого и богатого гостя.
Послы говорили, что они посланы от Игоря, великого князя русского, и от всей княжьи, и ото всех людей Русской земли; от тех всех им и заповедано обновить ветхий (древний) мир, утвердить любовь между греками и Русью, а ненависть и вражду разорить, причем крещеная Русь напомнила о дьяволе. Самодержавие Греческого царства Русь понимала по-своему, не в одном лице царя-самодержца, а в составе всего народа. Истинным самодержцем-государем она, по-видимому, признавала только всенародное общество, всех людей Русской земли, от лица которых и шло повеление заключать договор; так точно и к греческому самодержавию она обращается как к лицу всенародному, состоящему из всех греческих людей. Все это понятия первобытные, в существенном смысле – славянские, почему они довольно отчетливо рисуют вообще союзные отношения всех раздельных земель Древней Руси, отношения всеобщего равенства при устройстве сношений с греками. «Послали нас, – говорили послы, – к вам, великим царям греческим, сотворить любовь с вами, самими царями, со всем боярством и со всеми греческими людьми, на все лета, доколе сияет солнце и весь мир стоит. И кто помыслит от Русской страны разрушить такую любовь, и сколько их крещенье приняли, да примут месть от Бога Вседержителя – осужденье на погибель в сей век и в будущий, и сколько их есть некрещеных, да не имеют помощи от Бога, ни от Перуна, да не ущитятся своими щитами, и да посечены будут мечами своими, да погибнут от стрел и от иного своего оружия, да будут рабы в сей век и в будущий».
Как в Олеговом договоре, так и здесь Русь говорит первое слово об утверждении любви и дает клятву на вечную любовь. Затем передовая речь идет уже не о головах, как при Олеге, а о кораблях. Русь настаивает, чтобы великий князь и его бояре свободны были посылать в Грецию кораблей сколько хотят, с послами и с гостями, как им уставлено (по прежним договорам). «Пусть посылают, – отвечали греки. – Но теперь надо установить так: прежде ваши послы носили печати золотые, а гости серебряные, тем и распознавались от подозрительных людей[111]. Теперь надо, чтобы они приносили грамоту от вашего князя, в которой пусть он пишет, что послал столько-то кораблей, с послами и гостями, мы и будем знать, что пришли с миром. Если придут без грамоты, то должны без задору отдаться нам в руки; мы будем держать и охранять их, пока возвестим об них вашему князю: если придут без грамоты и в руки не дадутся и станут сопротивляться, такие сопротивники да будут убиты, и да не взыщется их смерть от вашего князя. Если кто из них, убежавши, уйдет в Русь, то об этом мы напишем к вашему князю, пусть он их накажет: как ему любо, так с ними пусть и сотворит».
Эта статья договора, стоящая во главе всех других статей, должна обнаруживать и причину Игорева первого похода. Какой-нибудь русский корабль, пришедший не по правилу, вероятно, был захвачен греками, и сопротивлявшиеся люди побиты, чего Русь не прощала ни в каких случаях.
Затем идут статьи, повторяющие договор Олегов, касательно пребывания русских в Царьграде, причем поясняется обязанность царева мужа, сопровождавшего русь на торг для купли.
Этот муж должен был охранять русских, и кто в сношениях, русин или грек, сделает криво, он оправлял, т. е. разбирал споры и судил. В новом договоре появляется ограничение купли паволок. Русские теперь могли покупать паволоки не дороже 50 золотых, и притом с наложением на каждую купленную свинцовой печати царева мужа. Этот новый устав распространялся, впрочем, на всех иностранцев. Особенно великолепные и дорогие пурпуровые паволоки составляли заповедный товар Византии, которого к тому же нигде нельзя было достать. Отнимая в 968 году у Лиутпранда купленные им пять лучших пурпуровых одежд, греки объяснили ему, что никто, и все народы земные, кроме греков, недостойны носить такой одежды.
«Отходящая русь, – продолжали греки, – пусть берет от нас на дорогу, что ей нужно, съестное и что надо ладьям, по прежнему уставу; но пусть возвращаются в свою страну все приходящие и не остаются зимовать у Св. Мамы». Новое ограничение, о котором при Олеге не было сказано ни слова. Вероятно, в Олегово время греки не предполагали, что русь, пользуясь жилецким правом, будет оставаться и на зиму. Вероятно также, что эти зимние жильцы приносили городу немало беспокойства, именно своим самоуправством в спорных и сомнительных случаях, иные, быть может, буйством, пьянством, воровством и грабежом. По-видимому, очень много споров выходило из-за беглых челядинцев, которых сманивали греки у руси и сманивали русские у греков. Но заметно, что в этих случаях больше жаловались русские, и потому, по прежнему уставу, назначено было платить за неотысканного беглого 2 паволоки, что равнялось прежним 20 золотым, так как ходячая цена паволоки была 10 золотых.
«Убежит раб от греков и принесет что с собой, да будет возвращен, а запринесенное, если оно сохранится в целости, русский берет 2 золотых».
«За воровство русский и грек, вор, будет показнен по уставу и по закону русскому и по закону греческому, а за покраденое заплатит вдвое, т. е. возвратит, что покрал, и уплатит цену покражи». При Олеге в таком случае взыскивалось втрое. «Если найдется, что украденое продано, то продавший отдает цену его вдвое».
Если русь приведет пленных греков, то за юношу или добрую девицу выкуп 10 золотых, за средовича 8, за старого и детища 5 золотых. Если найдутся в работе у греков русские пленники, то русь может выкупать по 10 золотых за человека. Если грек купил дороже, то пусть даст присягу, утверждает крестным целованьем, сколько заплатил, и тогда получит свою цену».
«Случится от греков какая проказа, то русь не должна казнить виновного своею властью самоуправно; виновный да будет наказан по закону греческому».
«Убийца да будет убиен, а убежит и будет богат, да возьмут его именье ближние убитого; если убежить неимущий, то ищут его и когда найдут, да будет убит».
«Кто кого ударить мечом или копьем или другим каким оружием – да заплатит серебра 5 литр по закону русскому. Если будет неимущий, то сколько может, во столько и продан будет. Пусть снимет и одежду, в которой ходит, и затем даст клятву по своей вере, что ничего не имеет, и тогда будет отпущен».
«О Корсунской стране, сколько там ни есть городов, греки заповедали, чтобы русский князь не владел там ни одним городом. Если же будет воевать в других местах и не покоряется какая страна, тогда, если попросит у греков войска, греки помогут, дадут ему войска, сколько потребует».
Можно полагать, что эта статья, не говорящая прямо, с кем придется русскому князю воевать, относится главным образом к печенегам, соседям Корсунской страны. Называть по имени этих варваров ни грекам, ни руси не следовало.
Кроме того, Русь обязывалась не делать никакой обиды корсунцам, ловящим рыбу в устье Днепра, а также не зимовать в этом устье, ни в Белобережье, ни у Св. Ельферья (остров Березань). Как придет осень, русские со своего же моря должны были идти в свои дома, в Русь. «А что касается черных (дунайских) болгар, которые приходят воевать в стране Корсунской, – прибавляли греки, – то князь русский да не пускает их пакостить в стране той»[112].
По-прежнему Русь обязывалась не обижать греческого судна, потерпевшего где-либо крушение. В этом случае по закону русскому и греческому она отвечала за грабеж судна, за убийство или порабощение людей, но уже не предлагала услуг для дальнейших проводов судна, как было при Олеге, быть может, по случаю запрещения зимовки по черноморским берегам.
В последней статье договора обоюдная дружба и любовь закреплялись уставом давать грекам от Руси вспомогательное войско, сколько пожелают. «Тогда узнают и иные страны, – говорили греки, – в какой любви живут Греция с Русью». Мы видели, что и греки обещали помогать Руси в войнах с иными странами.
Договор, как и прежде, написан на двух хартиях: на одной был писан крест и имена царей, на другой русские послы и гости. Он был утвержден клятвой самих царей и русских послов – христиан, которые клялись соборной церковью Св. Ильи, предлежащим честным крестом и хартией договора; клялись не только за себя, крещеных, но и за всех некрещеных.
По договору, в Киев должны были отправиться и греческие послы, чтобы взять клятву от Игоря и от всей Руси в самом ее гнезде.
«Говорите, что сказал ваш царь?» – вопросил Игорь, когда греческие послы явились пред его лицем. «Наш царь рад миру, – отвечали греки, – мир и любовь хочет иметь с князем русским. Твои послы водили нашего царя к клятве, и наш царь послал водить к клятве тебя и твоих мужей». «Хорошо», – сказал Игорь. Утром на другой день с послами он вышел на холм, где стоял Перун. Там русь положила перед истуканом свое оружие: щиты, мечи и прочее, и золото (обручи и с шеи ожерелья – гривны). И клялся Игорь и все люди, сколько их было некрещеных; а христианская русь клялась в своей соборной церкви Св. Илии. Много было христиан-варягов. Сущность клятвы и у христиан, и у язычников выражалась одинаково: да не имеют помощи от Бога, чтобы защитить себя; да будут рабы в сей век и в будущий; да погибнут от своего оружия. Утвердив мир, Игорь на отпуске одарил греческих послов русскими товарами: дорогими мехами, челядью, воском.
Составилось мнение, по толкованию Эверса, что Игорев договор, вынужденный будто бы плохими обстоятельствами Руси, не был для нее выгоден; что в нем содержатся постановления, «исключительно относящиеся к пользе греков; что говорящими, требующими, предлагающими и предписывающими мир являются одни только греки», между тем как в олеговом договоре говорящим лицом является Русь, именно потому будто бы, что Олег был победителем, а Игорь побежденным. Это не совсем так. Нам кажется, что существенный смысл и того и другого договора ставить обстоятельства совсем иначе, наоборот. Нам кажется, что по этому смыслу выходит только одно: что при Олеге Русь просила мира, а при Игоре того же просили именно греки. По этой причине и говорящими лицами являются именно те, которые нуждались в правильном устройстве отношений.
Эверс доказывал также, что Игорев договор, в сущности, есть как бы дополнительная статья, как бы только прибавление к олегову; так он неполон и односторонен. Но, конечно, всякий новый договор, развивающий одни и те же отношения, всегда будет как бы дополнением старого. В Игоревом договоре, после 30 лет мира, мы действительно находим новое подтверждение и дополнение прежних договорных статей, на которые прямо и ссылается договор, выражаясь, «как уставлено прежде». Все новые условия явились по необходимости от развития отношений. Греки выговаривали себе безопасность от беспаспортных кораблей и людей, от того, чтобы русь не зимовала в Царьграде, от того, чтобы русь не поступала самоуправно с виноватыми греками. Все это по опыту обнаруживало, что русь вообще была народ беспокойный и неуступчивый в своих правах. Ей сказано было, чтобы жить в Царьграде у Св. Мамы, но не было определено, когда уезжать; она оставалась жить на зиму, тем более что и съестные припасы установлено было выдавать ей в течение 6 месяцев. Если руссы приезжали в июне, то по уставу же могли оставаться чуть не до декабря, а в декабре по Черному морю в ладьях возврат домой был совсем невозможен. Ясно, что необходимо было зимовать. Тогда выдача съестного прекращалась, и русь добывала пропитание уже собственным промыслом. Вот этот собственный промысл, вероятно, и беспокоил греков. Теперь они с честью выпроваживали русь на зиму домой. Это была теснота только для запоздавших. На подобные требования, кто хотел жить в мире, нельзя было не согласиться. Но запоздавшие в Царьграде могли запоздать и на самом море, могли застать зиму в родном Днепре. В таком случае они поселялись на зиму где-либо в устьях Днестра, Буга и Днепра, и между прочим на острове Березань. Теперь греки и здесь не позволяли зимовать. По-видимому, это запрещение было сделано больше всего для охраны корсунцев, потому что в указанных зимовниках главным образом скрывались, вероятно, разбойные русские ладьи.
Важнейшее постановление Игорева договора заключалось именно в охранении от русского господства и владычества Корсунской страны, которую русский князь обязался защищать и от западных ее соседей, от дунайских болгар, и от восточных, т. е. от печенегов, имени которых хитрые дипломаты-греки прямо не упомянули, потому что боялись их и вели с ними уговор и дружбу, даже против Руси. Но на всякий случай они и с Русью заключали договор, обещаясь Игорю помогать против врагов войском, сколько ни потребует.
Соглашаясь не зимовать по берегам своего родного моря, где, по всему вероятию, зимовали больше всего только разбойные ладьи, Русь тем самым показывала, что ее цели были иного свойства, что она всеми силами добивалась только правильного и безопасного торга с Царьградом, что для выгод торговли она соглашалась оберегать и корсунцев. Всеми предложенными статьями греки стремились отделить от торгового промысла Руси ее разбойные промыслы, желали, чтобы разбойного дела не было совсем. Того желала и соглашалась на все подобные статьи и Киевская Русь, ибо и для торговой Руси, как и для греков, разбойники опасны были одинаково. Недаром и Шлецер замечает о договоре Игоря, что «в некоторых его статьях виден настоящий ум негоциатора и законодателя».
Но именно при помощи шлецеровского же воззрения на Древнюю Русь как на разбойное норманнское гнездо составилось мнение, что все первые походы Руси на Царьград были только разбойными набегами для грабежа, вроде печенежских или половецких набегов на Русь, и что мирные отношения и связи с Византией были уже последствием этих набегов[113]. Эверс прямо говорит, что Игорев набег был предпринят единственно для грабежа, как и Олегов, «только с той целию, чтобы обогатить себя добычею и взять дань». Так необходимо должно выходить, если допустим, что руководителями этих набегов были норманны, истые разбойники, как их описывают Байер, Шлецер и их многочисленные ученики. Между тем, всмотревшись ближе во все обстоятельства, т. е. не в одни слова, а в самые дела, видим, что вообще русские походы на Царьград были предприятиями вынужденными, которые требовали больших забот и хлопот по части собрания войска и кораблей или морских лодок, и руководились единственно только мирными, гражданскими, т. е. торговыми, целями всей земли и, конечно, воинственным желанием восстановить свои права и отмстить свои обиды. Главное, чего добивалась Русь от Царьграда и что очень явственно высказывается в ее договорах, – это главное был цареградский торг, куда греки не совсем радушно допускали иноземцев, особенно варваров. Здесь скрывался узел всех русских отношений с греками и всех ее набегов, которых вдобавок на 80 лет случилось всего четыре, да и то один из них, а именно Олегов, говорят, сомнителен, а другой, Игорев, не состоялся по случаю мирного разрешения ссоры. При этом сомнительный Олегов после Аскольдова случился спустя 40 с лишком лет (865–907), а несчастный Игорев спустя еще 35 лет (941). В таком продолжительном мире очень редко уживаются и теперешние христианские, просвещенные высокообразованные государства, вовсе не похожие на нашу древнюю варварскую и, по рисунку норманистов, грабительскую Русь. Уже это одно показывает, насколько эта грабительская Русь дорожила своими связями с Грецией и как заботливо охраняла себя от враждебных столкновений с богатым и очень полезным ей народом. О грабеже и неистовстве ратных надо припомнить только одно: что в то время это был обычный способ войны не у одних варваров, но и у христиан – греков, как и у всех христиан Западной Европы с Карлом Великим во главе. Однако способ войны не есть характер народности, и норманисты внесли великую ложь в начальную русскую историю, заставивши исследователей беспрестанно повторять заученные фразы о разбойном характере первых руссов и, главное, о том, что будто бы и государство основано разбойными делами. Так действительно основывали государства норманны и вообще германское племя, но не совсем так его основывали славяне и в особенности наши руссы-венды. В течение 80 лет они сделали два похода на Царьград, вынужденные, конечно, греческими обидами и за это прославленные историей кровожадными разбойниками! Так ложная точка отправления всегда превращает и всякую истину в ложь, почему и вопрос о происхождении Руси очень важен именно в том отношении, что его норманнское или собственно немецкое решение во многом совсем исказило первоначальный образ русской истории.
Игорев договор довольно ясно вообще раскрывает, что после 30 лет мира с греками Русь стала сильнее прежнего; по крайней мере так смотрят на нее сами греки. Из опасения к ней они водят дружбу с печенегами, именно по тому поводу, что печенеги могут во всякое время вредить киевскому гнезду. Однако и при печенегах Русь все-таки распространяет свое владычество над Корсунской страной, о чем прямо говорят греки и выговаривают у русского князя даже охранение этой страны. Они теперь останавливают это естественное, так сказать, стихийное течение русской силы на Таврический полуостров. Затем, еще примета явной русской силы – при Олеге сама Русь очень хлопочет, чтобы в Царьграде не было с нею самоуправства, а теперь греки выговаривают, чтоб русь в Греции же не поступала самоуправно с виноватыми греками.
Таким образом, если Игорь вообще не был счастлив в своих предприятиях, зато его княжение неизменно продолжало дело отцов и к концу укрепилось с греками отцовскими же постановлениями. Он с честью обновил ветхий – древний и устаревший – мир, допустив неизбежные дополнения и изменения в условиях, какие сами собой наросли в течение мирных 30 лет.
Ко времени остановленного похода в Грецию, по арабским свидетельствам, относится русский поход на Каспийское море. Очень естественно предполагать, что по заключении мира с греками, оставшись без дела, некоторые дружины руссов вспомнили о Каспийском погроме и пошли мстить и, конечно, грабить тамошние богатые края. Один армянский писатель, почти современник события, рассказывает об этом следующее[114]: «В то время (944 г. – Примеч. авт.) с севера грянул народ дикий и чуждый, рузики. Они подобно вихрю распространились по всему Каспийскому морю… Не было возможности сопротивляться им. Они предали город Бердаа лезвью меча и завладели всем имуществом жителей. Туземный воевода осадил их в городе, но не мог нанесть им никакого вреда, ибо они были непобедимы силой. Женщины города, прибегнув к коварству, стали отравлять рузов; но те, узнав об этой измене, безжалостно истребили женщин и детей их и пробыв в городе 6 месяцев, совершенно опустошили его. Остальные, подобно трусам (!), отправились в страну свою с несметной добычею».
Арабы рассказывают подробнее об этом событии: «В это время в Хазарском море появились руссы. Одна их ватага, поднявшись вверх по реке Куру, внезапно напала на город Бердаа. В один час они разбили выступившее им навстречу туземное войско в числе 5000 чел. Жители метались из города, спасаясь кто куда. Но вступив в город, руссы объявили всем помилование и поступали с жителями хорошо. Народ, однако, очень враждовал и беспокоил пришельцев. Тогда победители послали по городу вестника с объявлением, чтобы все выходили вон из города, и дали сроку три дня. Одни успели выбраться, другие не успели. Оставшихся руссы иных умертвили, иных забрали в плен (будто бы 10 000 чел.). Всех достаточных, от которых надеялись получить выкуп, заперли в мечеть. Тут вступился за несчастных один христианин и сторговался о цене выкупа. Решено было брать 20 диргемов за голову. Большая часть отказалась платить выкуп. Руссы всех до последнего умертвили. После того они разграбили город, взяли в рабство детей и отобрали себе женщин самых красавиц»[115].
По всей стране разнеслись слухи о бедствии города, и мусульмане поднялись всеобщим ополчением; собралось больше 30 тысяч войска. Сражались и утром, и вечером; но руссы разбили ополчение и, собравшись в тамошний кремль, расположились, по-видимому, зимовать в городе. Только один враг мог выжить непрошеных гостей – это чрезвычайное изобилие в стране всякого рода садовых плодов, от употребления которых между руссами распространилась повальная болезнь, еще больше усилившаяся, когда они заперлись в крепости. Смерть опустошала их ряды; они хоронили покойников вместе с их оружием и другим имуществом. После их ухода мусульмане добыли много вещей из их могил. Между тем выпал уже снег. Живя все-таки в осаде со стороны туземцев и видя неминуемую погибель от повальной болезни, руссы порешили уйти домой. Ночью они перебрались с захваченной добычей на свои корабли и удалились без всякого преследования. Так Аллах очистил от них страну. Насчитывали убитыми в это время до 20 тысяч. Но для русских поход все-таки не был особенно благополучен.
В Киеве тоже готовилось общее горе. Наступала осень. По обычаю, следовало идти за сбором дани. Игорь почему-то с особым решением остановился на древлянах и задумал промыслить на них еще большую дань. В то время собралась к нему дружина и стала говорить: «Ты Свентельду отдал древлянскую дань. Ты ему же отдал дань уличей. Ты отдал одному много, а другим мало. Свентельдовы люди довольны всем, изоделись оружием и платьем, а мы у тебя наги. Пойди, княже, в дань, а мы с тобой; и ты, господине, добудешь, и мы». Здесь в летописи в первый раз дружина заговорила своим обычным языком и в первый раз высказала свои обычные стремления и цели.
Не послушать этого голоса храбрых и сильных людей было невозможно. Князь жил дружиной, ею был силен и велик. Без дружины он и сам не значил ничего. Игорь принял совет и отправился в Дерева. Как сказано, он промышлял к установленной первой дани еще большую, конечно, употребляя всякие вымогательства и насилие. Бояре по своим местам делали то же. Вот уже земля была выхожена вдоль и поперек, дань была собрана, и все возвращались домой. Но князь, поразмыслив, сказал боярам: «Вы идите домой, в Киев, а я останусь и еще похожу» – и направился с небольшим отрядом к городу Искоростеню. Услыхавши, что Игорь опять поворотил, древляне стали думать-гадать со своим князем: как быть? Они узнали, что русский князь идет в малой дружине, налегке, и порешили так: «Повадится волк в овцы, то выносит все стадо. Так и волк – русский князь, всех нас погубит, если не убьем его». Однако прежде всего они послали сказать Игорю: «Почто опять ищешь? Ведь ты собрал всю дань, еще и больше своего урока?» Игорь не слушал и шел своею дорогой; но древляне предупредили его, выбежали из города и напали на волчье стадо. Князь был убит, и вся дружина перебита до одного. У греков рассказывали, что древляне совершили над князем убийство позорное. Они привязали его к двум нагнутым деревьям и заживо растерзали пополам, распустивши связанные деревья.
«Есть его могила у города Искоростеня и до сего дня», – прибавляет летописец[116]. Не без особой мысли он рассказывает подробности о злосчастном походе Игоря к древлянам. По-видимому, народная память сохраняла их как любезный пример того возмездия, какое всегда ожидало недоброго князя в его отношениях к земству.
Князь Горяй окончил свою жизнь бедой по той причине, что много слушался дружины, слушался ее без разума и подчинялся ее алчным советам во вред земле. Как видно, советы дружины воспитали в нем лютого волка. По-волчьи он теснил древлян, по-волчьи он совсем отогнал со своих мест уличей. И самый сбор даней между дружинниками он делил также по-волчьи, с обидой, отдавал одному много, другим мало. Наконец, у древлян он сам явился последним из дружинников, сам, как жадный и ненасытный слуга дружины, побежал отнимать у народа последнее, что можно было еще отнять. Все это народ очень хорошо помнил долгое время и на память самим же князьям занес в летопись историю княжеского хищничества с ее поучительным концом.
Однако в этих самых злосчастных делах и неудачах Игорева княжения завязаны были многие узлы, которых молодая Русь не могла оставить без развязки. Таковы были отношения к Поволжью, булгарскому и буртасскому, и к самым хазарам, где совершился бедственный возврат Руси с Каспийского моря. Этого горя, этой обиды невозможно было забыть. Еще тяжелее была кровавая обида от древлян. Накопившаяся обида возбуждала чувство мести и должна была рано или поздно породить свои особые дела. С древлянами расправа произошла очень скоро.
Глава IV. Русская женщина первых времен
Ольгино мщение за смерть мужа. Земская мудрость Ольги. Ее поход в Царьград. Русская княгиня во дворце царей. Царские палаты и приемные торжества. Приемы Ольги. Особая ей почесть. Состав ее свиты. Значение похода
В то время как Игорь погибал у древлянского Искоростеня, в Киеве оставалась его княгиня Ольга с маленьким сыном Святославом. Княгиню и город и всю землю вместо князя оберегал воевода Свентельд, а Святослава хранил его кормилец или дядька Асмуд, иначе Асмолд[117]. Такое событие, как убийство князя подвластным племенем, и притом племенем, издавна враждебным Киеву, должно было произвести сильное возбуждение во всем городе. Летописец об этом умалчивает и передает только народную повесть о том, как совершилось русское мщение над всей Древлянской землей.
Первую весть о смерти Игоря принесли Ольге древлянские же послы. Убивши русского князя, древляне задумали совсем упразднить княжий род в Киеве и рассудили так: «Русского князя мы убили; возьмем его княгиню Ольгу в жены нашему князю; а Святослава тоже возьмем и сотворим с ним, как захочем». В этом по виду сказочном древлянском решении может скрываться действительное обстоятельство, по которому древляне, как победители, намеревались вообще завладеть киевским княжением. Борьба с Киевом, продолжавшаяся со времен Аскольда почти сто лет и окончившаяся теперь такой удачей, давала естественный повод восстановить древлянское могущество именно присоединением киевского княжения к Древлянской земле. Естественно также, что древляне прежде всего желали привести в исполнение свой замысел мирным путем, именно сватовством. Видимо, что теперь они действуют не как данники и рабы Киева, но как земля самостоятельная и независимая, перед которой Киев, потерявши своего князя, представляется вполне бессильным и, по народным понятиям, в образе своей княгини, получает значение невесты для древлянского князя. Порешивши на этой мысли, древляне послали к Ольге послов, или сватов, 20 человек лучших мужей, старейших бояр. Послы приплыли к Киеву в ладьях, потому что сообщение с Древлянской землей шло по рекам. Древляне сидели между реками Тетеревом и Припятью, которые обе впадали в Днепр выше Киева. Середина их поселения, по-видимому, была расположена по реке Уш, впадающей в Припять. Город Искоростень стоял на Уше, в которую слева впадает приток Дерев (Дзерев, Жерев), сохраняющий самое имя древлян, и пониже другой приток, Норын, на котором стоял главный город земли, Овруч.
Вот сказали Ольге, что приплыли под Киев древлянские послы. Княгиня позвала их к себе. «Добрые гости пришли?» – спросила княгиня. «Добрые пришли, княгиня», – ответили послы. Этот вопрос Ольги, как и ответ послов-сватов переносит нас в круг свадебных обрядов, когда сваты обыкновенно являются как совсем незнаемые и неизвестные люди и объясняют только, что пришли люди добрые. Очевидно, что народная повесть начинает именно свадебным обрядом и рисует в своем рассказе сочетание свадебного замысла со стороны древлян с замыслом Ольги – исполнить свою месть и совершить не простое наказание убийцам, но и торжественные похороны мужа по обрядам язычества. Во всей повести разыгрываются в одно и то же время свадьба и похороны, ожидаемое веселье и горький плач.
«Говорите, с каким делом сюда пришли?» – вопрошает Ольга. «Послала нас Древлянская земля, – отвечают послы, – а велела тебе сказать: мужа твоего убили! А за то, что был твой муж, аки волк, хищник неправедный и грабитель. А у нас князья добрые, не хищники и не грабители, распасли, обогатили нашу землю, как добрые пастухи. Пойди замуж за нашего князя». Был их князь именем Мал.
«Любо мне слушать вашу речь, – сказала Ольга, – уже мне своего Игоря не воскресить! Теперь идите в свои ладьи и отдохните. Завтра я пришлю за вами. Хочу вас почтить великой почестью перед своими людьми. Когда за вами пришлю, вы скажите слугам: не едем на конях, не едем и на возах, не хотим идти и пешком, – несите вас в ладьях! И взнесут вас в город в ладьях. Такова будет вам почесть. Таково я люблю вашего князя и вас!»
Послы обрадовались и пошли к своим ладьям пьяны-веселы, воздевая руки и восклицая: «Знаешь ли ты, наш князь, как мы здесь тебе все уладили!»
А Ольга тем временем велела выкопать на своем загородном теремном дворе, вблизи самого терема, великую и глубокую яму, в которую был насыпан горящий дубовый уголь. Наутро она села в тереме и послала звать к себе гостей. «Зовет вас Ольга на любовь!» – сказали послам пришедшие киевляне. Послы все исполнили, как было сказано. Уселись в ладьях, развалившись и величаясь, и потребовали от киевлян, чтобы несли их прямо в ладьях. «Мы люди подневольные, – ответили киевляне, – князь наш убит, а княгиня хочет замуж за вашего князя!» Подняли ладьи и торжественно понесли послов-сватов к княгинину терему. Сидя в ладьях, древлянские послы гордились и величались. Их принесли во двор княгини и побросали в горящую яму вместе с ладьями. «Хороша ли вам честь! – воскликнула Ольга, приникши к яме. «Пуще нам Игоревой смерти», – застонали послы. Ольга велела засыпать их землею живых.
Потом она послала к древлянам сказать так: «Если вы вправду просите меня за вашего князя, то присылайте еще послов, самых честнейших, чтобы могла идти отсюда с великой почестью, а без той почести люди киевские не пустят меня». Древляне избрали в новое посольство самых наибольших мужей, державцев, что держат Древлянскую землю.
А древлянский князь в ожидании невесты устраивал веселие к браку и часто видел сны: вот приходит к нему Ольга и дарит ему многоценные одежды, червленые, все унизаны жемчугом, и одеяла червленые с зелеными узорами, и ладьи осмоленые, в которых понесут на свадьбу жениха и невесту.
Как пришли новые послы, Ольга велела их угощать, велела истопить им баню, избу мовную. Это было старозаветное угощение для всякого доброго и дорогого гостя. Влезли древляне в истопку и начали мыться. Двери за ними затворили и заперли и тут же от дверей зажгли истопку; там они все и сгорели.
После того Ольга посылает к древлянам с вестью: «Пристроивайте – варите меды! Вот уже иду к вам! Иду на могилу моего мужа; для людей поплачу над его гробом: для людей сотворю ему тризну, чтоб видел мой сын и киевляне, чтоб не осудили меня!» Древляне стали варить меды, а Ольга поднялась из Киева налегке с малой дружиной. Придя к гробу мужа, стала плакать, а поплакавши, велела людям сыпать могилу великую. Когда могила была ссыпана в большой курган, княгиня велела творить тризну (поминки). После того древляне, лучшие люди и вельможи, сели пить. Ольга велела отрокам (слугам) угощать и поить их вдоволь. Развеселившись, древляне вспомнили о своих послах. «А где же наша дружина, наши мужи, которых послали за тобой?» – спросили они у Ольги. «А идут за мной с дружиной моего мужа, приставлены беречь скарб», – ответила княгиня. Вот уже древляне упились как следовало. Княгиня велела отрокам пить на них, что значило пить чашу пополам за братство и любовь и за здоровье друг друга, отчего отказываться было невозможно; таков был обычай. Это называлось также перепивать друг друга. Сама княгиня поспешила уйти с пира. Вконец опьяневшие древляне были все посечены, как трава. Тут их погибло пять тысяч. Княгиня возвратилась в Киев и стала готовить войско, чтобы истребить древлянскую силу до остатка.
Окончились торжественные похороны Игоря; окончилась троекратная месть вдовы за кровь своего мужа: погребение живых в земле, в горящей яме; погребение живых в огне – сожжением; заклание их жертвами над самой могилой убитого[118]. Теперь поднималась месть сына.
На другое лето Ольга привела в Древлянскую землю многое и храброе войско под предводительством маленького Святослава с воеводой Свентельдом и с дядькой малютки Асмолдом. Древляне тоже собрались и вышли против. Полки сошлись лицом к лицу, и первым начал битву малютка Святослав. Он первый сунул копье на древлян. Копье полетело между ушей коня и упало коню в ноги. Княжее дело было исполнено. «Князь уже почал! – воскликнули воевода и дядька. – Потягнем, дружина, по князе!» Поле битвы осталось за киевлянами, древляне разбежались по городам и заперлись в осаду. Ольга с сыном пошла прямо к Искоростеню, где был убит Игорь. Этот город знал, что ему пощады не будет, и потому боролся крепко.
Стоит Ольга под городом все лето, а взять его не может. Княгиня наконец умыслила так – послала в город и говорит: «Чего вы хочете досидеть? Все ваши города отдались мне, все люди ваши взялись платить дань; теперь спокойно делают свои нивы, пашут землю, а вы хочете, видно, помереть голодом, что не идете в дань».
«Рады и мы платить дань, – отвечали горожане, – да ты хочешь мстить на нас смерть мужа».
«А я уже мстила обиду мужа, – отвечала Ольга. – Первое, когда пришли ваши первые послы в Киев творить свадьбу; потом второе, со вторыми послами, и потом третье, когда правила мужу тризну. Теперь иду домой, в Киев. Больше мстить не хочу. Покоритесь и платите дань. Хочу умириться с вами. Буду собирать от вас дань легкую». – «Бери, княгиня чего желаешь, – отвечали древляне. – Рады давать медом и дорогими мехами». – «Вы изнемогли в осаде, – говорит Ольга. – Нет у вас теперь ни меду, ни мехов. Хочу взять от вас дань на жертву богам, а мне на исцеление головной болезни, – дайте от двора по три голубя и по три воробья. Те птицы у вас есть, а по другим местам я повсюду собирала, да нет их! И то вам будет дань из рода в род!»
Горожане были рады и скоро исполнили желание княгини, прислали птиц с поклоном. Ольга повестила, чтоб жили теперь спокойно, а наутро она отступит от города и пойдет в Киев. Услышавши такую весть, горожане возрадовались еще больше и разошлись по дворам спать спокойно. Голубей и воробьев Ольга раздала ратным, велела к каждой птице привязать горячую серу с трутом, обернувши в лоскут и завертевши ниткой, и как станет смеркаться, выпустить всех птиц на волю. Птицы полетели в свои гнезда, голуби в голубятни, а воробьи под застрехи. Город в один час загорелся со всех сторон, загорелись голубятни, клети, вежи, одрины, все дворы, так что и гасить было невозможно[119]. Люди повыбежали из города; но тут и началась с ними расправа: одних убивали, других забирали в рабство; старейшин всех забрали и сожгли. Так совершилось русское мщение за смерть русского князя. Все это были жертвы душе убитого. Сожжен целый город с его старейшинами. Самое его имя Искоростень, по всему вероятию, означает костер зажженный, ибо искрестом назывался, как мы упоминали, и Цареградский маяк.
Совершив мщение, Ольга положила на древлян тяжкую дань: по две черных куны, по две веверицы, кроме мехов и меда[120]. Две части этой дани шли в Киев, а третья в Вышгород, самой Ольге, потому что это был ее особый город, Вользин град. Для устройства дани Ольга и с сыном, и с дружиной прошла по всей Древлянской земле, вдоль и поперек, уставляя уставы и уроки, ее тамошние становища и ловища оставались памятны долгое время.
Весь этот рассказ о смерти Игоря и о мщении Ольги очевидно записан летописцем со слов народного предания, которое красками эпического созерцания рисует, однако, действительное событие и отнюдь не сказку-складку. Все обстоятельства рассказа и даже все их подробности очень просты и очень согласны с действительной правдой. Повесть особенно заботится только выставить на вид остроумие или собственно хитрость ума Ольги Остроумной, как называет ее Переяславский летописец начала XIII века. Оттого и древляне, затеявши точно так же остроумно овладеть Киевом, являются пред хитростью русской княгини сущими простаками. Впрочем, они ведут себя добродушно и доверчиво, как подобает простым и добрым людям, вполне уверенным, что они устраивают очень выгодную свадьбу своему князю. Предание вовсе не выставляет их людьми глупыми. Напротив, при всяком случае оно рисует их людьми рассудительными, поступающими весьма осторожно. Они, как лесные обитатели, представляются только проще, добродушнее промышленных киевлян, этих ловких людей с большой днепровской дороги, руководимых к тому же и местью за смерть князя, и своей княгиней, умнейшей от человек. Сама дань городскими птицами объясняется рассудительно и согласно с настоящей правдой, ибо Ольга требует птиц на жертву богам, что в глазах язычника не могло казаться чем-либо необычайным и нелепым, а тем более что древняя дань распространялась на всевозможные предметы, какие только могли идти в потребление. Летописец, видимо, желал показать, что и разумные, и рассудительные люди все-таки не устояли перед остроумием Ольги.
Для язычника, который имел свои понятия о нравственном законе, хитрость ума, в каком бы виде она ни являлась, представляла высокое нравственное качество, всегда приводившее его в восторг и восхищение и всегда имевшее для него значение вещей силы. Поэтому прикладывать наши теперешние нравственные понятия о хитрости в оценке хитрых деяний первых людей, и в том числе деяний Ольги, значит совсем не понимать задач и требований исторической, да и вообще жизненной правды.
В древних понятиях хитрость, даже обманная, означала собственно искусство побеждать остротой ума и врагов, и всякие препятствия, стоявшие на пути к достижению цели. Это в кругу нравственных деяний. В кругу всяких других дел хитрость прямо значила искусство, художество; хитрец, хитрок – художник, творец, отчего и Творец всех вещей именуется Всехитрецом, Доброумом Хитрецом.
Тонким искусником и хитрецом обрисовывается и Ольга в своей мести за смерть мужа и за смерть русского князя. Прямой нравственный долг княгини, матерой вдовы, за малолетством сына державшей русское княжение, требовал от нее беспощадной мести старым врагам – древлянам. В этом заключался высокий нравственный закон языческого общества. Месть могла подняться общим походом на древлян, но сами же древляне дали повод исполнить ее без особых потерь. Они завели сватовство своего князя с русской княгиней, главной целью которого было совсем присоединить Киевскую область к своей Древлянской земле. В этой мысли нет ничего необычайного, сказочного или глупого, как нас уверяют[121]. Напротив, древляне здесь действуют настолько же умно, как действовала и Ольга. Посредством княжеских браков соединились в одно целое и не такие земли. Вспомним соединение Литвы с Польшей. Ольга воспользовалась этим обстоятельством и притворилась желающей выйти замуж за князя Мала. Отсюда и начинается ее искусство вести дело. Она совершает упомянутые три порядка мести в честь убитого мужа и приносит в жертву его душе честнейших людей Древлянской земли. Во всех случаях гибнут избранные лучшие люди, старейшины, державцы, защитники и управители. Выясняется известная политика умных князей-завоевателей – вынимать душу земли, как говорили о Москве новгородцы и псковичи; истреблять или выводить ее верхний, действующий, руководящий, богатый и знатный слой. Без того нельзя было покорить как следует ни одной земли. Это была ходячая и в своих целях мудрая и дальновидная житейская практика при распространении владычества над странами. Судить и осуждать ее может только История.
В числе бытовых порядков, сопровождавших разные обстоятельства этого события, обращает внимание ношение дорогих гостей в лодках. Мы не думаем, чтобы эти ладьи являлись здесь только сказочной прикрасой. Видно, что они употреблялись, как и сани, в качестве почетных носилок, когда требовалось действительно оказать кому-либо высокую почесть. Могло случаться, что при особом торжестве в лодках вносились прямо с берега в город любимые люди и особенно любимые князья. Лодками дарила Ольга князя Мала, как он видел во сне, и именно для того, чтобы в них несли его с невестой на брак. Из этой отметки видно, что лодка и в свадебном обряде занимала свое место. У людей, проводивших большую часть жизни на воде, живших постоянно в лодке, каковы были первые руссы, лодка очень естественно в необходимых случаях могла заменять сухопутную колесницу или носимый чертог и потому могла получить обрядовое значение. В лодке же язычники-руссы хоронили (сожигали) своих покойников, как видел араб Ибн-Фоцлан. Можно полагать, что память о языческих обрядах погребения заставила уже в христианское время покрыть убитого и брошенного между двумя колодами князя Глеба тоже лодкой, что соответствовало как бы исполненному погребению.
Изображая такую языческую старину о порядках княжеского мщения и погребения, народная повесть рисует вместе с тем и народные воззрения на значение личности князя в тогдашнем обществе. В некотором смысле князь является сыном земли. Не сам князь, а вся Древлянская земля, как родная мать, устраивает его брак с Ольгой. Во всех действиях личность князя стоит позади и ничего личного не предпринимает. Князь вообще не представляет собой ничего господарского, самодержавного или феодального; он и после именуется только господином, что имеет большое различие с именем государь, господарь, обозначавшим вообще владельца – собственника земли. Стало быть, круг понятий о значении князя для земли не заключал в себе представления о самодержавном собственнике, но ограничивался больше всего представлениями о пастыре-водителе, как и разумеют древляне своих князей, выражаясь, что они распасли Деревскую землю. Первая и главнейшая обязанность князя выставляется в действии малютки Святослава – починать сражение, битву. Все это самородные бытовые черты, отзывающиеся глубокой древностью.
Кровь Игоря была жестоко отомщена. Она пала на головы целого племени, исстари враждебного Киеву, которое теперь было укрощено и обессилено навсегда. Но эта самая кровь заставила и киевскую дружину опомниться и устроить свои отношения к земле не на волчьих порядках, а на правильных уставах и уроках, на уговорах и договорах. Промышленный путь Игоря к древлянам, как видели, не руководствовался никаким правилом и никаким уставом и основывался лишь на праве сильного грабителя, на праве волка, почитавшего своей добычей все, что ни попадалось под руку. Нет сомнения, что точно так же в первое время действовали очень многие дружинники, сидевшие по городам в покоренных землях. Самое слово дань в первоначальном смысле должно было обозначать только одно даяние, вынужденное силой и ничем не определенное. Первый собиратель даней естественно еще смотрел на эти поборы глазами простого промышленника за зверем и птицей и добывал все, что можно было добывать, нисколько не заботясь о том, что будет дальше. Он ловил зверя и птицу в том количестве, в каком они попадались в его ловецкие снасти; точно так же и самую дань он ловил в том количестве, в каком она представлялась его глазам. Но людское дело не звериное; оно тотчас требует устава и порядка, а в противном случае готовит гибель тому же собирателю дани. Очень памятная для народа мудрость Олега состояла в том, что у одних племен, плативших дань хазарам, он оставил дани в старом порядке, а северянам даже облегчил дани, лишь бы не платили хазарам. Другим племенам, на севере и у древлян, он дал уставы, т. е. поставил правило, как, когда и сколько платить; значит, вообще действовал по-людски, рассудительно и разумно. Дружина, конечно, никогда не могла оставаться в границах, ибо всегда нуждаясь и всегда желая большего, она по необходимости и должна была разносить по земле насилье и обиду. При Игоре она вывела на свой путь и самого князя; и он жестоко поплатился за то, что, забыв княжеские, земские выгоды, стал служить только выгодам дружины. Но княжеская мудрость Олега была восстановлена Ольгой, которая недаром прозывалась его же именем. Вся княжеская деятельность Ольги тем особенно и прославляется, что она уставила хозяйственный порядок по всей Русской земле. На другой же год после древлянского погрома она ходила в Новгород и уставила там погосты, дани и оброки по рекам Мсте и Луге, т. е. направо и налево по всей Новгородской области. И во Пскове оставались ее сани очень долгое время, спустя с лишком сто лет; и по Днепру, и по Десне известны были ее перевесища на ловлю зверей; и по всей земле существовали ее ловища и знамения, и места и погосты. Одно село так и называлось Ольжячи, замечает летописец; но и теперь много сел носят это святое имя. Очень короткие слова летописца вообще могут служить достаточным показанием, что княгиня-хозяйка объездила самолично всю землю вдоль и поперек, уставляя повсюду правило и порядок в самом существенном деле земских отношений. Видно, что она не только определила количество дани, известные сроки для сбора, но и указала места, куда эта дань должна была сосредоточиваться из ближайших окрестных поселков. Все это было памятно русским людям спустя лет полтораста и больше, в XI и в XII веках, когда летописец начал описывать временные лета и прибавлял, что все это есть и до сего дня! И все это было памятно, конечно, по той причине, что глубоко касалось земских выгод, земских порядков, и касалось доброй, хозяйской стороной, где княжеская власть являлась добрым пастухом и зорким охранителем земледельческой и всякой промышленной жизни.
«Все на этом свете остроумная Ольга искала мудростью», – говорит летописец, и естественно, что к концу своего пути она обрела истинный источник мудрости – Христово учение. Так, по всему вероятию, доходили до этого источника многие из тогдашней Руси. Изыскивая и испытывая, что творилось во всей Русской земле, чем и как жила эта земля, объехавши всю эту землю из конца в конец, Ольга, следуя естественному влечению своей пытливости, должна была рано ли, поздно ли побывать и в Царьграде, ибо все лучшее и дорогое в жизни, все, чем украшалась русская жизнь в тот век, приходило из Царьграда и там сосредоточивалось. Царьград для русских людей X века был тем же, чем был для них Париж со второй половины XVIII века. Теперь представлялся к этому самый святой повод. По рассказу летописи, Ольга пожелала принять святое крещение от рук самого патриарха, что очень вероятно, хотя греческие свидетельства и не упоминают об этом. Она могла креститься в Киеве, могла для этого ехать в Корсунь; но ее мысль необходимо уносилась в славный Царьград. Там было средоточие христианской жизни, там хранились святые памятники христианства от первых веков, там только возможно было созерцать неизъяснимое для язычника величие христианского обряда и красоту церкви. Вместе с тем для кого же из тогдашней Руси не был любопытен этот греческий всемирный торг, этот город, изумительный по своей красоте и богатству? Кто не желал видеть своими глазами это «золото, серебро и паволоки», которыми в русском воображении так коротко, но точно обрисовывался весь греческий быт.
Самая поездка в Царьград для тогдашней Руси была таким же обычным делом, как и поездка в Корсунь. Каждое лето днепровские лодки ходили и возвращались по знакомой дороге. Ольга присоединилась к этому обычному посольскому и гостиному каравану, взявши с собой большую свиту из знатных боярынь, своих родственниц, и из своих придворных женщин. Первых было 16, вторых – 18, и, без сомнения, еще больше находилось в этой свите меньших прислужниц. Таким образом Ольгин поход на Царьград был походом русских женщин, представлявших главу всего каравана и ехавших смотреть греческую красоту и искать у греков мудрости.
Нельзя сомневаться, что если Ольга отправлялась в Царьград с прямым намерением принять там святое крещение, то выбор сопровождавших ее женщин, как и мужчин, во всем должен был согласоваться с ее главной целью. Не могла она окружить себя крепкими язычниками, и потому, естественно, она взяла с собой только тех, которые во всем следовали за своей княгиней и были готовы к принятию новой веры настолько же, насколько и сама княгиня. В числе их могли быть и сомневающиеся, но, во всяком случае, способные тоже ей последовать. То же можно сказать о боярах-послах и гостях. По всему вероятию, иные из них давно уже были христианами, иные склонялись уже на истинный путь или же были совсем равнодушны к перемене веры. Вообще состав Ольгиной дружины необходимо должен был во всем отвечать ее мыслям и намерениям. В противном случае и само путешествие не было бы безопасно от вражды язычников.
Очень также вероятно, что греческий путь был делом привычным не для одних русских мужчин, но и для женщин, для многих жен этих отважных мореходов – лодочников. Теперь в лодках через далекое море отправлялись в Царьград не одни рабочие жены, а лучшие, по крайней мере, знатные женщины всего Киева. Проехать описанным путем Днепровские пороги, хотя бы пройти их в виду печенегов по берегу, пешком или при помощи повозок, все-таки это для знатных женщин было делом до крайности мужественным и отважным. А дальше волновалось бесконечное море, где надобны были иное мужество и иная отвага. И все это не казалось чем-либо необыкновенным для тогдашних людей; ни один летописец не заметил никакой особенности в известии, что «иде Ольга в греки и приде Царюгороду». Достопамятный поход обозначен в летописи такими же короткими словами – «иде в греки», какими обозначены и военные походы Олега и Игоря.
Нет сомнения, что Ольга, как мы заметили, приплыла к Царьграду с обычным торговым русским караваном в обычное время, вероятно, в июне или июле. Но принята была царями только 9 сентября. До тех пор она стояла без дела в гавани. Почему так случилось, об этом знал византийский двор, который подобные приемы всегда до мелких точностей соразмерял с честью приходящих, т. е. с большим или меньшим весом их политического значения для Греческой империи, и особенно с честью своих придворных порядков. Как бы ни было, но, по-видимому, Ольга была не совсем довольна этой задержкой, а быть может, и всем приемом. По рассказу летописи, по возвращении ее в Киев греческий царь прислал к ней послов, сказывая, что он много дарил ее и что она обещала, когда воротится домой, взаимно послать и ему русские дары, челядь, воск, меха и в помощь войско. Ольга отвечала так: «Скажите царю: если он постоит у меня в Почайне так же, как я стояла у него в гавани, то после того и дам ему обещанные дары». С этой речью она и отпустила послов.
Быть может, вообще долгое стояние в Цареградской гавани относилось к обычным, так сказать, полицейским стеснениям для приходящей Руси, и летописец, описывая Ольгин поход, припомнил только общую черту русского пребывания в Греции. В самом деле, уже договоры показывают, что грекам надо было достоверно узнать и переписать, кто приехал, зачем приехал, привез ли грамоты на пропуск и т. д. Все это и в обыкновенное время тянулось, вероятно, целые недели. А тут приехала сама русская княгиня. Такой приезд мог потребовать еще большей проволочки, по случаю многих недоразумений о небывалости события.
Но вот, после долгого ожидания, русская княгиня была позвана в императорский дворец. Обряд ее приема по своим почестям не превышал, однако, обычного византийского обряда, который наблюдался вообще при приеме иноземных послов. Ее приняли точно так, как незадолго перед тем принимали послов тарсийского эмира, и Шлецер, на свой взгляд, очень справедливо восклицает по этому поводу: «Какова наглость византийского двора! Там послы своих государей, а здесь является лично сама владетельная особа, и несмотря на то, ее от них не отличают!» По этому же поводу, быть может, и происходили долгие переговоры, в которых Ольга могла настоять лишь на незначительных каких-либо отличиях, но, во всяком случае, мера почестей, оказанных Ольге, обнаруживает и то значение Руси, какое эта Русь имела в глазах греков. А притом греки и не ожидали со стороны Руси ничего грозного, как со стороны тарсийского эмира; не боялись миролюбивой Руси, как боялись эмира.
Надобно сказать, что Ольга была принята в императорском дворце в то время, когда этот дворец, созидаемый в течение шести веков, еще со времен Константина Великого, находился по своему устройству в таком блеске и великолепии, какого он уже никогда более не имел. С этой поры, в исходе X века, он стал упадать.
Как ни скупился наш летописец на рассказы о том, что такое был в X веке славный греческий Царьград, и сам по себе, и особенно для тогдашней Руси, но, приведя целиком договорные грамоты Олега и Игоря, он, вовсе не думая о том, раскрыл перед нами истину, что великий город тогдашнего мира, царь городов во всем свете, был и для Руси царем и повелителем ее зарождавшейся жизни. Он привлекал ее к себе по многим причинам. Конечно, первой существенной приманкой была торговля, потребности материальные, хлебные; о торговле только речь и идет в договорах; но нельзя же представлять русских купцов совсем бесчувственными к красотам города и к обольщениям его блистательной, роскошной жизни. Они оценивали эти обольщения по-своему и тянули их на свой нрав и потому в договоре же выпросили право свободно париться, сколько хотят, в знаменитых цареградских банях. Они добились права свободно жить, хотя бы в предместье города, свободно входить в город, хотя бы и в одни только ворота, не зная никаких других. Они выпросили себе кормление на 6 месяцев – хлеб, вино, овощи, цареградские стручки и всякие лакомства. Они заживались в городе круглый год, так что греки потом уже не позволяли им по крайней мере зимовать. Под видом посла, под видом купца каждый год Русь приезжала в этот славный город и дивилась чудесным его зданиям, несказанному украшению, немыслимому богатству.
«Как подъезжать к Царьгороду от Черного моря (так могли они рассказывать), входишь сначала в морскую проливу, – точная слобода – улица, длинная, по обе стороны видны берега. В конце улицы, направо другая улица – залив морской, называемый Золотой Рог, потому что он как бы воловьим рогом удаляется внутрь земли. Высокий береговой угол между этими двумя морскими потоками и есть место Царя городов. Он тута и распространился по самым берегам моря, выдавшись всею шириной на восток и острым мысом к северу. Стоит он на три углах, как на острову, подобно тому, как ставились и русские городки. С трех сторон вода морская его облила, а с одной стороны, западной, пришло поле. Тот мыс весь каменный; от него внутрь страны пошел холм, как гребень, и тот гребень перещепывается (перемежается) долинами и таким образом разделяется на семь холмов. На этих семи холмах и стоит город. Двор царев начался на самом мысу с берега от моря и пошел все выше и выше в гору. Палаты царские стоят на самом холме, и Святая София стоит на холме. Кругом города у самой воды поставлены каменные стены с четырехугольными башнями. Стены тянутся далеко по заливу, так что можно обойти город на лодке до самого конца». Там в конце, уже в поле, за городскими стенами, за какой-то речкой, находилось предместье с достопамятной церковью Св. Мамы (Мамонта), у которой только и позволялось жить русским. Проплыть надо было по заливу до того места версты две-три. По этой дороге можно было налюбоваться городом вдоволь. Из-за стен ближе всего на холме и на самом мысу виднелись золотые царские палаты; подле них золотой пятиглавый дворцовый собор, а дальше тоже палаты и церкви, церкви и палаты, и над ними величественный храм Софии с громадным куполом, как венец всего города.
Дворец царей находился на береговом холме, который округляли пролив Боспора и его залив Золотой Рог. Здания дворца были расположены по линии от запада к востоку, и притом в главной своей части в таком порядке, что напоминали расположение святилища, почему это отделение и называлось священным, богохранимым дворцом. Во главе этого отделения по берегу на восток стояла Золотая палата, где первое место к восточной же стороне занимал императорский трон. Палата была круглая, как алтарь, устроенная из восьми округлостей вроде наших алтарных выступов. В восточной округлости или впадине и находился императорский трон – Золотое царское место. Этим именем называлась и сама палата. Здесь в приемные дни торжественно восседал император.
Чтобы достигнуть этого святилища царской власти, необходимо было пройти много таких же больших палат и переходов. Прежде всего входили на обширный двор шагов 250 в длину и 200 с лишком шагов в ширину. Этот двор назывался Августеон и находился между храмом Св. Софии и царскими палатами. Вокруг двора со всех сторон тянулись ряды мраморных колонн с перекинутыми на них кружалами или арками, что вместе составляло отдел дворцовых наружных галерей, где можно было скрываться от солнца и непогоды. В северо-восточном углу двора виделось громадное и чудное здание Св. Софии с необъятным куполом и бесчисленными рядами колонн. Посредине двора стоял высокий путевой столб, четырехугольный и сквозной, устроенный по типу храма из колонн и арок. Отсюда считалось расстояние по всем направлениям и во все концы империи. На нем возвышался большой крест с предстоящими царем Константином и матерью его Еленой, взиравшими на восток.
Точно такое же изображение креста возвышалось на особо стоявшей колонне с запада от этого путевого столба, а в противоположной стороне к востоку стояла другая колонна из порфира, которую называли Константином, потому что наверху у нее находилась его статуя в виде Аполлона, с изображением сияния вокруг головы, о котором говорили, что оно сделано из гвоздей, коими был пригвожден ко кресту Спаситель. Тут же на дворе, вблизи храма Св. Софии, против его угла к юго-западу стояла огромная конная статуя Юстиниана, из бронзы, в образе Ахиллеса, лицом к востоку. Одно ее подножие было вышиной в 40 аршинов. В левой руке император держал шар, а правую протягивал на восток.
Таким образом, на этом дворе приходящий видел все, чем было сильно и славно Греческое царство. Сильно оно было крепкой верой в заступление Богоматери. Софийский храм выдвигался на площадь с особой крестительницей для всех ищущих святой веры. Сильно, славно и победоносно это царство было Святым Крестом, которого изображения господствовали над площадью. Славно оно было и первым царем-христианином, святым Константином, и царем – законодателем и строителем Софийского храма, Юстинианом.
В юго-западном углу двора находились ворота и возле них главное крыльцо, через которое входили в обширные сени, называемые Медными, от медных дверей. На сводах и стенах эти сени были изукрашены мозаичными картинами, изображавшими славные победы Велисария, победоносное его возвращение в Царьград с пленными царями, представление этих царей императору Юстиниану и Феодоре, взятые города, покоренные земли в лицах. Тут же были поставлены императорские статуи, в том числе статуя Пульхерии, внучки Феодосия Великого. Вообще в этом входе были представлены царственные дела императоров и их лики; иначе сказать, вся слава империи. В комнаты дворца вели большие бронзовые двери, на которых был изображен лик Спасителя. За дверями начинался длинный ряд обширных палат, сеней и переходов, или галерей, соединявших палаты. Здесь находились особые дворцовые церкви, особая дворцовая крестильня, тронные залы, приемные залы, судилище, столовые и залы для военной стражи или дворцовой гвардии; находилось даже особое коннористалище для дворцовых чинов, и между прочим великолепные бани.
С южной стороны вдоль всего дворца тянулась на 400 с лишком шагов длинная галерея Юстиниана. Стены ее были покрыты мозаикой с изображениями по золотому полю главных подвижников Восточной церкви. Пол был вымощен драгоценными мраморами. Тут же из этой галереи входили в палату трофеев (Скилу), где были выставлены всякие добычи, знамена, доспехи и пр., взятые в боях у варваров.
И вообще все палаты, сени и переходы точно так же были изукрашены цветной мозаикой или расписаны красками с изображением разных ликов или историй, а также трав, цветов, деревьев и различных узоров. Припомним, что в то время особая красота подобных изображений заключалась именно в яркости красок, между которыми больше всего светились цвета: синий, зеленый, красный-пурпуровый и червчатый, желтый, голубой-лазоревый. Все древние краски были вообще крепки, сильны и блестящи. Двери в палатах были железные, расписанные золотом, или бронзовые, резные и литые, или убранные серебром, золотом, слоновой костью с различными изображениями.
Пройдя разными палатами, сенями и коридорами, приближались наконец к священному дворцу, перед которым сначала открывались обширные сени или передняя палат, шагов 60 в длину. Во входной части она выдвигалась полукругом: из нее в следующую палату вели две мраморные лестницы, начинаясь от стен, справа и слева, и восходя кверху тоже по полукругу. Посредине палаты стоял водоем; его чаша была медная, края покрыты серебром; в нем же была устроена золотая чаша в виде раковины, которая наполнялась разными плодами, смотря по времени года. Отсюда по лестницам, как сказано, поднимались в другую палату, называемую Сигмой, потому что в своем расположении она состояла из двух боковых округлостей, представлявших каждое как бы букву сигму – С. Палата была мраморная, купол ее поддерживался 15 колоннами из фригийского мрамора. Посредине ее стоял особый терем, или сень (киворий), на четырех колоннах из зеленого мрамора, а в нем царское место, трон, где садился император во время игр и церемоний, происходивших в передней палате. Здесь также находился фонтан, состоявший из двух бронзовых львов, из пасти которых вода лилась в особую большую чашу.
Три двери, одна серебряная посредине и две бронзовые по сторонам, вводили в следующую палату, которая называлась Три раковины (Триконха), потому что составляла в передней своей части полукружие с тремя глубокими круглыми впадинами и сводами, в виде раковин. Стены были изукрашены разноцветным мрамором, а раковины сводов сплошь вызолочены.
Далее следовали сени и еще палата (Лавзиак), а затем вступали в сени Золотой палаты, в которых находились хитро устроенные часы. Здесь же стояли четыре органа, два золотых, которые назывались царскими, и два серебряных. Эти органы гудели, когда хор певчих воспевал похвалы царю, и потому палата занимала место как бы клироса в соборе.
Из сеней в Золотую палату вводили большие серебряные двери. Золотая палата была круглая, состоявшая из 8 округлых впадин, расположенных звездой, и походившая в самом деле на какое-то святилище или храм божества. Главный вход в нее был с запада, но, кроме того, она имела два боковых входа, с севера и юга, совсем по подобию православного храма. В восточной ее впадине стоял царский престол, а над ним в своде сияло мозаичное изображение Спаса Вседержителя, сидящего на престоле. Свод палаты возвышался обширным куполом, или главой с 16 окнами, посредством которых палата освещалась внутри. В своде против трона висело большое паникадило. Все стены и своды были украшены мозаикой, различными изображениями по золотому полю. Пол также был выстлан мозаикой из мрамора и порфира различных цветов, где переплетались разные узоры и травы, с круглой порфировой плитой посредине и с серебряными каймами вроде рамы по краям. Вверху палаты, ниже купола, были устроены палаты, или хоры, с которых царицы и вообще придворный женский пол смотрели на церемонии.
В этой Золотой палате совершались большие царские приемы всего двора, а также и иноземных посланников. В иных случаях здесь происходили торжественные обеды, за золотым столом. По случаю особых приемов палата убиралась еще с большим великолепием. В восьми ее сводах развешивались золотые венцы и различные произведения из финифти или эмали, также богатейшие царские одежды, мантии, порфиры царей и цариц. На перилах верхних галерей (палатей) ставились большие серебряные вазы и чаши высокой чеканной работы; в 16 окнах также помещались поддонники или блюда от этих ваз и чаш. Только над царским престолом не помещали никаких вещей. Там висели золотые царские венцы. В 8 сводах висели большие серебряные паникадила, а в палате были расставлены 62 больших серебряных подсвечника.
Через сени от Золотой палаты находилась еще приемная палата, называемая Кенургий, построенная Василием Македонянином. Ее свод поддерживался 16 колоннами, из которых половина была из зеленого мрамора, а половина из оникса. Колонны были покрыты обронной резьбой[122], представлявшей виноградные лозы, а в лозах – играющих животных разных пород.
Своды палаты были покрыты превосходной мозаикой, изображавшей на сплошном золотом поле самого строителя палаты сидящим на троне, с предстоящими полководцами, которые приносили ему изображения взятых ими городов. Остальные украшения мозаики, тоже по золотому полю, изображали деяния императора, военные и гражданские.
Возле палаты находилась царская спальня, священная, как ее называли. В нее проходили тоже через сени, небольшие, посреди которых стоял порфировый фонтан на мраморных колоннах, изображавший орла, чеканенного из серебра и сжимавшего в когтях змею. В спальне пол был мозаичный. По самой средине изображен был павлин, в кругу, составленном из лучей из карийского мрамора. Затем из зеленого мрамора составлены были как бы волнистые потоки, направлявшиеся в углы комнаты. Между потоками изображены орлы так живо, что казалось, сейчас готовы улететь. Стены в нижней части были покрыты дощечками из разноцветного стекла, изображавшими различные цветы. В верхнем отделе до потолка по золотому полю мозаика изображала самого царя сидящим на троне и царицу в царской одежде. Кругом по стенам также были изображены их дети в царских же одеждах. Царевичи держали в руках книги, в знак того, что книжное образование составляло главный предмет в их воспитании. Потолок весь сиял золотом: посреди был изображен из зеленого стекла крест и вокруг блистающие звезды; в предстоянии у креста были изображены опять царь, царица и их дети с простертыми руками к символу христианской победы и спасения.
В другом отделении дворца, возле Софийского храма, находилась палата, построенная еще Константином Великим, и не менее богатая, называемая Магнауром, вероятно, от magnus – великий, большой и aunini – золото, что значило бы Большая Золотая. Она также имела вид церкви и была расположена от запада к востоку. Перед нею с западной стороны находились обширные сени, в которых во время приемов собирались знатные придворные люди, начальники, патриции, сенаторы. Вход в палату закрывался дорогими занавесами. Сама палата была четырехугольная, продолговатая, длиной шагов 60, шириной шагов 30. По сторонам высились мраморные колонны (столпы), по шести на каждой, над ними были сведены своды (арки), или кружала, по семь на каждой стороне. За колоннами находились боковые галереи. В промежутках колонн по всей палате висели на посеребренных цепях большие серебряные люстры. Восточная часть палаты была устроена как алтарь, особой округлостью, и на несколько ступеней выше перед всей палатой, так что туда поднимались по ступеням из зеленого мрамора. Это царское возвышение отделялось от палаты четырьмя колоннами, по две со стороны, над которыми возвышалась обширная арка. Между колоннами ниспадали дорогие занавесы, закрывавшие в обыкновенное время это царское святилище.
Возле этого места стоял огромный золотой орган, блиставший дорогими каменьями и финифтью и называемый «царским». В других местах палаты стояли еще два органа, серебряные. В глубине этого алтаря стоял царский престол, золотой трон, весь усыпанный драгоценными камнями и называемый «Соломоновым престолом», по той причине, что он был устроен по образцу библейского престола царя Соломона. У престола были ступени, на которых по обеим сторонам лежали золотые львы. Это были чудные львы: «в известную минуту они поднимались на лапы и издавали рев и рыкание, как живые». Сверху у трона сидели две большие золотые птицы, которые тоже, как живые, пели.
Но еще чуднее представлялось стоявшее неподалеку от трона Золотое дерево, тополь или явор, на котором сидело множество золотых же птиц разной породы, изукрашенных цветной эмалью, которые точно так же в известную минуту все воспевали сладкогласно, точно живые.
Возле престола возвышался, как знамение победы, огромный золотой крест (Константинов, называвшийся Победа), покрытый драгоценными каменьями. Пониже престола помещались золотые седалища для членов царского дома. Во время приемов по стенам были развешиваемы царские золотые порфиры и венцы[123].
Царские приемы в этой палате и в других тронных палатах происходили следующим образом.
Появление царя пред глазами приходящих сопровождалось некоторого рода священнодействием. В палатах, где помещался царский престол, всегда в вышине свода находилось изображение Господа Вседержителя, сидящего на престоле. Когда царю следовало воссесть на свой престол, он, одетый великолепно, в богатейшем царском наряде, с молитвой повергался на землю перед этим изображением и потом торжественно садился. В то время вход в палату был закрыт богатыми занавесами. Когда все было готово для царского лицезрения, тогда занавесы поднимались и придверники с золотыми жезлами в руках пропускали входивших бояр и всех других главных чиновников двора по порядку и по разрядам. Каждый разряд чиновников входил особо. А там, вдали по всем залам дворца, направо и налево, стояли меньшие придворные и разные другие чины и военные дружины в богатых одеждах. В их числе находились и служившие у греческих царей крещеные россы с топорами (секирами) и щитами.
Напоследок вводили иноземных послов с их свитой, которые, увидя царя, должны были воздать ему почесть, упасть ниц, поклониться в землю, что значило по-русски ударить челом. В ту же минуту играл орган, играли трубы. Вставши, посол подходил ближе к царскому престолу и останавливался на указанном месте. В ту минуту играл другой орган, ударяли в литавры. За послом следовали знатнейшие члены посольства, точно так же ударявшие челом императору. Они останавливались у входной ограды. Канцлер (логофет) торжественно вопрошал пришедшего, вероятно, о здоровье и о предмете посольства. В ту минуту золотые львы у трона начинали реветь, золотые птицы на троне и на золотых деревьях начинали сладкогласно воспевать; звери на нижних ступенях поднимались из своих логовищ и становились на задние лапы. Пока все это происходило, протонотариус[124] подносил царю посольские подарки. Вслед за тем снова ударяли в литавры и все успокаивалось: львы переставали реветь, птицы умолкали, а звери опускались в логовища. При отпуске послов снова играли органы, ревели львы, воспевали птицы и дикие звери спускались со ступеней трона, что продолжалось до того времени, как посол уходил за ограду, тогда игра на литаврах снова давала знак и все умолкало и приходило в прежний порядок. По выходе посольства препозит[125] громко возглашал придворным: «Ежели вам будет угодно!» – что значило, не угодно ли вам тоже выходить. Это возглашение делалось несколько раз, особо каждому чиновному отделу придворных. Все выходили в том порядке, как входили, по чинам, младшие вперед, при этом все провозглашали царю многолетие, которое тотчас подхватывалось хором певчих, а певчим вторили все три органа, все птицы, львы и дикие звери, исполняя каждый свою ноту в этом общем торжественном хоре и производя оглушительный, но все-таки, как говорят, стройный гам и шум.
Константин Багрянородный сам описывает прием русской княгини и говорит, что этот прием происходил во всем сходно с предыдущими, а именно с приемом тарсийских или сарацинских послов. Из его слов обнаруживается, что русская княгиня, как мы говорили, была принята только как главный посол русского князя, но не так, как независимая государыня, владетельница Русской земли[126].
Это можно объяснять различными обстоятельствами. С одной стороны, византийский двор, согласно договорам, знал на Руси только русского князя и потому его вдову, русскую княгиню, не мог признать владетельной государыней и не захотел воздавать ей почести государские. С другой стороны, и по русским понятиям матерая вдова, хотя и оставалась владеющей княжеским столом, но все-таки владела не сама по себе, а именем своего сына; в это время Святославу было по крайней мере 15 лет, возраст по тому времени вполне достаточный для княжеского совершеннолетия. Нельзя предполагать, чтобы и в понятиях самой Ольги являлись какие-либо особые притязания на значение, так сказать, венчанной государыни. Быть может, как мать русского князя, она и добивалась соответственного приема и потому стояла так долго в гавани Царьграда; но порядки византийского двора ничего не уступили ей в главном, в том понятии, что она только большой посол от Русской земли, и воздавая ей лишь одно посольское, возвеличили ее, как сейчас увидим, отменой только некоторых обрядов, не свойственных ее лицу, как женщине и русской княгине.
Прием совершился в большой Золотой палате, в Магнауре, по описанному порядку. Пройдя многими палатами, Ольга сама вошла в этот Магнаур. В этом заключалась первая отмена в обрядах посольского приема, потому что, как видели, посла обыкновенно вводили в залу под руки. Она вошла в сопровождении своих родственниц, т. е. женщин княжеского рода и боярынь, быть может, жен послов, а также и ее придворных. Она шествовала впереди, а за нею, вероятно, по порядку старшинства, следовали одна за другой княгини и боярыни, числом первых 6, вторых 18. Она остановилась на том месте, где логофет (государственный канцлер, по-московски думный дьяк) обыкновенно вопрошал посла о здоровье. Здесь произошла вторая отмена обрядов. Послы, узрев царское величество, должны были падать ниц, бить челом. Русская княгиня на этом месте только остановилась. Вслед за княгиней и ее женской свитой вошли русские послы и гости и другие лица посольства. В числе послов находился племянник княгини и 8 ее бояр, а самых послов было 20 человек, гостей было 43 человека. Кроме того, тут же находились: переводчик княгини и ее священник Григорий, два переводчика посольских, Святославова дружина (в каком числе, неизвестно) и 6 посольских служителей.
Вся эта мужская свита остановилась у переграды, где стояли греческие придворные чины[127]. Было ли при этом случае исполнено и русское ударение челом византийскому императору, как следовало по обряднику, неизвестно, но, судя по независимому характеру древних руссов, от которых греки всячески старались себя оградить даже особыми статьями в договорах, едва ли можно было ожидать от них указанного челобитья. Несомненно, что византийский обрядник относительно такого челобитья вообще хвастает, если не имеет в виду только очень покорных послов, из стран завоеванных и покоренных, собственно подданных, необходимо соглашавшихся на всякие унижения перед высокомерным греком.
В остальных действиях приема все происходило так, как повелевал обрядник, т. е. играл орган, когда Ольга вошла и стала на своем месте; затем, когда логофет вопросил ее о здоровье, два золотых льва Соломонова трона вдруг заревели, птицы на троне и на деревьях засвистали разными голосами, звери на ступенях трона поднялись на задние лапы. Несомненно, что в это же время были поднесены императору и русские дары – дорогие собольи меха и т. п.
Когда княгиня, поговоривши с царем, стала выходить из палаты, то снова заиграли органы, заревели львы, засвистали птицы и звери также двигались со ступеней трона. Выйди из Магнаура, княгиня прошла через комнатный сад, потом через несколько палат и в пятой из них, которая именовалась Золотой Рукой (портик Августеона), села отдыхать. В это время ей готовился другой прием, у императрицы, что также было особенностью общего посольского приема и сделано было в особую честь русской княгине.
В великолепной Юстиниановой палате возвышался особый рундук, или помост, покрытый пурпуровыми коврами. На нем стоял большой престол императора Феофила, а сбоку возле – золотое царское кресло. По сторонам, между двух переград из занавесей, стояли два серебряных органа, а за переградами стояли духовые органы.
На престоле сидела сама императрица, а в кресле – ее невестка. Перед престолом с обеих сторон в палате собрались придворные женщины и стояли чинно, рядами, по степеням. Всего их было семь чинов или семь степеней. Церемонией их входа в палату и указанием им своих мест распоряжался препозит – церемониймейстер, и придверники-камергеры.
Когда все чины боярынь вошли и стали по местам, препозит с камергерами отправился звать русскую княгиню. Из Золотой Руки она прошла через другие портики, и между прочим через дворцовый ипподром, и осталась в Скилах – так называлась царская оружейная палата. Вероятно, отсюда она могла видеть всю церемонию, как входили в приемную палату греческие придворные боярыни, тем и объясняется ее остановка в царской оружейной, которая находилась на одной линии с Юстиниановой приемной палатой. Княгиня вступила в эту палату, сопровождаемая по сторонам тем же препозитом и камергерами. За нею по-прежнему следовала ее свита в том же порядке, как и на первом приеме. Препозит именем императрицы вопрошал княгиню о здоровье. После церемонии, именем же царицы, он сказал ей нечто шепотом, и княгиня немедленно пошла вон из залы и села по-прежнему в Скилах. Тем временем царица тоже встала с трона и, пройдя разные палаты, удалилась в свою священную спальню. По уходе царицы и княгиня перешла из Скил в Кенургий, пройдя Юстинианову залу, палату Лавзиак и Трипетон, или сени с хитрыми часами. В Кенургии она тоже села в ожидании зова.
Между тем к царице в спальню пришел и царь. Они сели на свои места с царицей и с порфирородными своими детьми. Тогда была приглашена к ним и русская княгиня. Занявши предложенное царем седалище, она разговаривала с ним, о чем ей было угодно.
Здесь была оказана величайшая почесть русской княгине. В этом случае царь несомненно принимал ее как христианку, и, быть может, именно по случаю ее крещения в Царьграде. Византиец Кедрин прямо говорит, что «крестясь (в Царьграде), показав ревность к православной вере, Ольга достойно была за то почтена». Тоже повторяют и другие греческие летописцы[128].
Беседа с царским семейством по-домашнему, в «священной их спальне», показывала, что греческий царь относился к новообращенной с особым благоволением, ибо едва ли кто из иностранных удостаивался такой чести и едва ли был другой повод к этому, как укрепление в истинах новой веры и желание указать владетельной княгине, как живут христианские цари у себя дома. Несомненно также, что царь и царица очень желали поговорить с русской княгиней запросто о разных предметах, касавшихся Русской страны и самой княгини, о чем нельзя было говорить на церемониальных приемах. Вообще этот самый прием не оставляет сомнения, что Ольга если не была уже и прежде христианкой, то именно в это время крестилась в Царьграде.
В тот же день после этой домашней беседы русской княгини с царской семьей ей дан был обед у царицы в Юстиниановой палате. На том же царском месте, или троне, сидела там царица и особо, в золотом кресле, ее невестка. Русская княгиня сначала стояла в стороне у особого стола, пока входили к столу царицыны родственницы и знатные боярыни, поклоняясь царице до земли и занимая места по указанию главного стольника.
Когда окончилась эта церемония, «русская княгиня, слегка наклонив голову пред царицею», села за тем же столом, где стояла, вместе с первостепенными придворными боярынями. Этот стол был расположен на некотором расстоянии от царского.
Во время обеда два хора отборных певчих от церкви Св. Апостол и от Св. Софии воспевали гимны в честь императорской фамилии, и тут же разыгрывались разные театральные представления, состоявшие из плясок и других игр. Это происходило таким образом: как только царь и все прочие садились за стол, в палату вступали дружины актеров и танцовщиков со своими распорядителями. Действие открывалось гимном: «Ныне давши власть в руки твои, Бог поставил тебя самодержцем и владыкой! Великий архистратиг, сошед с неба, отверз пред лицем твоим врата царства! Мир, поверженный под скипетр десницы твоей, благодарит Господа, благоизволившего о тебе, государь! Он чтит тебя, благочестивого императора, владыку и правителя!»
После этой песни префект стола, дворецкий, подавал знак правой рукой, то распуская пальцы наподобие лучей, то сжимая их. Начиналась пляска и трижды обходила вокруг стола. Потом плясуны удалялись к нижнему отделению стола, где и становились в своем порядке. Тогда начинали певцы: «Господи, утверди царство сие!» За ними хор повторял этот воспев трижды. Опять певцы: «Жизнь государей ради нашей жизни!» То же самое воспевал хор трижды. Певцы: «Многая, многая, многая!» Хор: «Многая лета, многая лета!»
Затем воспевался гимн приличный пляске: «Сияют цари, веселится мир! Сияют царицы, веселится мир! Сияют порфирородные дети, веселится мир! Торжествует синклит[129] и вся палата, веселится мир! Торжествует город и вся Романия (Византия), веселится мир! Августы наше богатство, наша радость! Господи, пошли им долгия лета!» Певцы: «Императорам!» Хор: «Многие лета!» Певцы: «Счастливые годы императорам!» Хор: «Господи, пошли им многие и счастливые годы!» Певцы: «И августам (царицам)!» Хор: «Многие лета!» Певцы: «Счастливые годы!» Хор: «Даждь им Господи многие и счастливые годы!» Певцы: «Детям их порфирородным!» Хор: «Многие лета!» Певцы: «Счастливые им годы!» Хор: «Подай им, Господи, многие и счастливые годы!»
С такими песнями и представлениями продолжалась церемония столового кушанья до конца. Каждая перемена кушанья сопровождалась новой пляской или новой песней. Распорядители актеров и танцовщиков были одеты в цветное платье, зеленое, красное, с белыми коротенькими рукавами, которое переменяли при каждом новой действии. Главное их украшение, которое не переменялось, составляли золотые, искусно вычеканенные ожерелья. Сапоги на них были красно-желтые. Перемена платья придворными во время всяких церемоний и торжеств была вообще среди обычных порядков византийского двора.
Что касается яств, то Лиутпранд, посол германского императора Оттона, бывший в Царьграде лет 10 спустя после Ольги, в 968 году, пишет, что он весьма неохотно ел царские яства, ибо они были приготовлены с деревянным маслом или с рыбьим рассолом. Однажды царь прислал ему самое лучшее лакомство от своего стола, даже собственное блюдо: жирного козла, туго начиненного чесноком с луком и облитого рыбьим рассолом[130]. Очевидно, что кушанья приготовлялись на восточные вкусы, на которых воспитаны были и русские, несомненно находившие все подобные блюда очень вкусными.
В то же время происходит другая трапеза в Золотой палате, где обедали цари и с ними русские послы и гости и прочая свита русской княгини.
По окончании стола у царицы приготовлен был десерт в особой комнате, на небольшом золотом столике в золотых тарелках и блюдах, осыпанных дорогими камнями. Здесь сидели по своим местам царь Константин Багрянородный и другой царь, его сын Роман, царские дети, невестка царя и русская княгиня. Угощение таким образом происходило за семейным царским столом, После того княгине поднесен подарок: 500 милиарезий на золотом, осыпанном драгоценными каменьями блюде[131]. Затем одарили ее свиту; шести ее родственницам подано по 20 милиарезий каждой. 18 боярыням подано каждой по 8 милиарезий. Такие же дары розданы были и за царским столом, послам и гостям, причем племянник княгини получил 30 милиарезий, 8 бояр – каждый по 20; 20 послов – каждый по 12; 43 гостя – каждый тоже по 12, священник Григорий 8, два переводчика, каждый по 12; Святославова дружина, как, вероятно, обозначены несколько отроков – детей бояр, каждый по 5; 6 посольских служителей – каждый по 3, и, наконец, переводчик княгини – 15 милиарезий.
Спустя месяц с небольшим, в воскресенье 18 октября 957 года, был второй, собственно отпускной стол для русской княгини и всего посольства. Царь угощал послов и гостей, вероятно, в той же Золотой столовой, а царица с детьми и невесткой угощала княгиню в палате Св. Павла. После стола княгиня и вся ее свита получили такие же подарки, только в меньшем количестве. Княгине поднесено 200 милиарезий, ее племяннику 20, священнику 8; 16 родственницам княгини – по 12 каждой; 18 боярыням – каждой по 6; 22 послам – каждому по 12: 44 гостям – каждому по 6; двум переводчикам по 6. Святославовой дружины и дворовых служителей в это время не было.
В обоих случаях свита русской княгини состояла из ста с лишним человек. На первом приеме при ней находилось 24 женщины и 82 мужчины. На отпуске 34 женщины и 70 мужчин. Любопытно количество послов и гостей. На отпуске их было: послов 22, гостей 44, следовательно, каждого посла сопровождали два гостя. В Игоревом посольстве гостей при послах было по одному. Несомненно, что и послы, и гости приходили в Царьград каждый посол с гостем от своего города или от своего князя, который сидел в том городе.
Русская княгиня со своей многочисленной свитой княгинь, боярынь, бояр, послов и гостей два раза была принята торжественно с выполнением всяких обрядов византийского двора и с показанием всей цареградской красоты, всего богатства и всякого блеска. Нельзя сомневаться, что, проживши четыре месяца если не в стенах, то у стен Царьграда, в его гавани, как после жаловалась Ольга, что долго стояла там, или же проживши в обычном пристанище руссов у Св. Мамонта, русские люди, кроме двух церемониальных приемов, конечно, нередко бывали из простого любопытства и в царских палатах, и в разных местах великого города, в его многочисленных храмах, на знаменитом ипподроме, в роскошных банях, на торжищах и т. д., не говоря уже именно о торжищах, для которых, собственно, они и переплывали Черное море. Греки еще Олеговым послам радушно и не без намерения показывали все достойное удивления варварам и язычникам, конечно, с той целью, дабы обратить их к христианству. В настоящем случае Ольга пришла в Царьград искать именно христианской мудрости и принять святую веру в самом ее средоточии. Естественно, что теперь греки еще с большим радушием открывали русским все двери, где возможно было научить их вере или обнаружить великое могущество царства и со стороны всякого богатства, и со стороны всяких порядков их просвещенной и мудрой жизни. Мы не сомневаемся также, что многие из женщин, сопровождавших княгиню, крестились вместе с нею. Намеком на это обстоятельство служит присутствие этих женщин за царским семейным угощением русской княгини разными сластями после первого приемного стола, где вместе с княгиней эти женщины получили обычные подарки. Общее впечатление всего виденного и узнанного должно было сильно возбудить простые чувства и умы наших путешественниц. Великий Царьград должен был оставить в их воображении столько новых представлений, а в уме столько новых понятий, что это приобретенное богатство не могло остаться без пользы и без влияния и в родном Киеве.
Русские прабабы возвратились на родимый Днепр, конечно, обогатившись всякими обновами: дорогими паволоками и другими редкими тканями для своих нарядов, дорогими вещицами убора из золота и серебра, вроде серег, колец, перстней, обручей (браслет), ожерелий и т. п., не исключая отсюда ни грецкого мыла, ни грецкой губки для умывания, даже ни румян, ни белил для украшения лица – все это были обыкновенные предметы женского быта, известные и в то время богатым и знатным людям с давних веков; но главное богатство, какое вывезли наши прабабы из славного Царьграда, заключалось именно в их впечатлениях, которых простому человеку, видевшему Царьград, невозможно было никогда изгладить, особенно посреди сельской и деревенской простоты языческого Киева.
Прабабы видели Христову веру и христианскую жизнь в такой чудной, немыслимой обстановке и посреди такого чудного узорочья и блеска, что, возвратившись домой, разве могли они рассказывать об этом иначе, как только словами неизъяснимого изумления и удивления. «Повели нас греки, где служат Богу своему, – могли они говорить, как говорили после Владимировы послы, – и не ведаем, на небесах мы были, или на земле. Нет на земле такого чуда, такой красоты!.. Не умеем и рассказать! Только одно знаем, что сам Бог там пребывает… Не можем забыть той красоты!»
А красота самого города и особенно царского дворца, разве и она не действовала на языческие и притом женские понятия, вообще более пристрастные ко всякой красоте, разве и она не производила смягчающего влияния вообще на суровые и загрубелые понятия язычника?
Как бы ни было, но с возвращением из Царьграда русских женщин по городу Киеву не скоро должны были умолкнуть беседы о чудесах христианского царства, о святынях христианского поклонения. Распространяясь из уст женщины, у домашнего очага, в той среде, где женщина и была главным деятелем и домодержцем по преимуществу, эти беседы, особенно для детей и вообще для молодого поколения, несомненно имели воспитательное значение. Об этом говорит и летописец. По его словам, Ольга, придя в Киев и живя с сыном Святославом, стала учить и часто говорить ему, чтобы крестился. Он и в уши не принимал этого учения, но не возбранял тем, кто хотел крещения и только ругался тому – позорил и смеялся. «Как это я приму новую веру один, – отвечал он матери, – а дружина ведь этому смеяться будет!» Иногда увещания матери вызывали только гнев со стороны сына. В этих разговорах вполне и выразились отношения домашнего очага к обществу. В лице русских передовых женщин русский домашний быт осветился новым светом. Хотя бы на первых порах таких женщин и не было много, но во главе их стояла сама княгиня, мудрейшая от человек, успевшая прославить свою мудрость по всей Русской земле[132], и за нею следовал, конечно, ею же избранный и по мыслям ей родственный кружок женской доброты ума и нрава, – всего этого было очень достаточно для того, чтобы осветить новым светом все наиболее способные к водворению христианства домашние углы древнего Киева, и все это необходимо должно было воспитать поколение новых людей, для которых предстоял уже один шаг – отворить двери своей храмины и высказать решительно и всенародно, на улицах, на торгах и площадях, что есть на свете вера и есть жизнь выше и лучше языческого древнего закона. Современное Ольге возрастное общество, отцы, эта дружина, о которой говорил Святослав, еще не были способны для такого решительного подвига. В их среде язычество еще могло постоять за себя с особой силой, как и случилось; но дети послужили уже готовой почвой для христианских идей и ожидали только, как всегда бывает, одного святого вождя на святое дело.
Глава V. Расцвет русского могущества
Святослав – воспитанник дружины. Его обычаи. Его победоносный поход в низовое Поволжье на камских болгар, буртасов и хазар и к устьям Дона и Кубани на ясов и касогов. Греческое золото и походы на дунайских болгар. Война с греками. Великие битвы. Недостаток дружины. Мир и свидание Святослава с греческим царем. Погибель Святослава. Значение его Дунайских походов. Владычество дружины при детях Святослава. Торжество Владимира и его первые дела. Торжество язычества
Святослав, как и отец его Игорь, еще в малых летах начинает княжить, т. е. делает княжеское дело. Хоть на руках Олега приехал доискиваться своих прав на Киев, но не был поставлен на прямое дело, а спрятанный тайком в лодку, достиг цели посредством коварного убийства. Первым делом его жизни был кровавый путь насилия. На том же пути и в конце поприща он бесчестно сложил свою голову. Маленький Святослав на руках дядьки Асмуда, посаженный на коня, храбро выехал на древлян мстить за смерть отца, и первый бросил в них копье. Первое дело его жизни было открытое, прямое, отважное и, по языческому обычаю, даже дело святой правды.
Действуют ли такие обстоятельства на умы и понятия малых детей? Мы думаем, что действуют, как и всегда действовали, если не в самое малолетство, то после, посредством рассказов от мамок и дядек о тех случаях и событиях, какие сопровождали младенчество героя. Подобные события детской жизни решают судьбу людей.
Вся жизнь Святослава была отважным военным походом, в котором прямая открытая битва ставилась выше всего. Такую битву он почитал святым, или светлым, делом. Вероятно, у наших язычников все честное, благородное, прямое выражалось в одном слове святой, или светый, отчего герой таких нравственных качеств и получил имя Святослав. Он и покончил свои боевые дни с той же прямотой, отвагой и честью. И первые, и последние жизненные подвиги отца и сына рисуют их характеры одинаково, хотя и очень различными чертами. Один погиб, искавши насилия людям, другой погиб, искавши отваги и мужества и высокой чести вождя не покидать на произвол судьбы дружину.
Святослав остался после отца по четвертому году и был уже передан с рук матери из женских теремов на руки дядьки, а собственно, на руки дружины. Тогда водилось, что в это время ребенку делались с большим торжеством постриги, торжественное стрижение первых волос, которое, вероятно, как обычай, шло из отдаленной древности и могло заключаться в том, что голову кругом стригли под гребенку, оставляя заветный запорожский чуб напереди, на лбу, с которым ходил и Святослав. Тут же ребенка сажали впервые на коня и справляли веселым пиром общую радость всей дружины. У Всеволода Суздальского в 1196 году постриги его сына Владимира справлялись пирами больше месяца. Дружина и заезжие гости, которые созывались на торжество, получали при этом богатые подарки золотыми и серебряными сосудами, дорогими мехами, паволоками, одеждами и особенно конями. Это было торжество по преимуществу дружинное; это было дружинное посвящение ребенка в князья, в ратники. Вот почему маленький Святослав выехал на древлян на коне: он был уже в постригах, в посвящении. Само собой разумеется, что при жизни отца он еще не скоро бы выбрался из-под опеки матери; но теперь он стал князем вполне. Он один был князь во всей Русской земле и потому должен был тотчас перейти на руки дружины, которая теперь стала для него родным отцом, воспитателем и кормильцем. Хотя летопись и отмечает, что Ольга сама кормила сына до мужества его и до возраста его, но это свидетельство принадлежит к общим местам летописного рассуждения, которое раскрывает здесь лишь обычные отношения матери к сыну. Напротив того, Константин Багрянородный, описывая около 950 года торговые походы руссов, говорит, что Святослав жил в Новгороде, что Новгород был его столицей. Ольга на другой же год после древлянского погрома ходила в Новгород и в действительности могла оставить там сына на княжении, тем более что новгородцы очень не любили жить без князя и самому Святославу потом говорили, когда взяли к себе маленького же Владимира, что если не даст им князя, то они найдут себе и другого. Таким образом, свидетельство греческого императора, что маленький Святослав жил в Новгороде, может почитаться несомненным. Во всяком случае, верно одно: что Святослав был истинный воспитанник дружины, был прямой ее сын. Поэтому он не поддался на сторону матери, когда она его учила принять христианский закон. Он прямо отвечал, что дружина будет смеяться, и тем обнаружил, что дружина была для него дороже, роднее самой матери. Живя только на руках матери, не так бы он мыслил, не так бы и говорил. Его личность в полной мере изображает нам ту первозданную силу Русской земли, которая отважно наметила далекие границы будущего государства, честно усеявши их своими костями, честно поливши их своей кровью. Русская кровь, разнесенная по странам, стала потом Русской землей.
Воспитанник дружины, Святослав, в свой черед сам же первый из князей был ее создателем. При Олеге, при Игоре войско собиралось от всех союзных и покоренных племен и заключало в себе отдельные дружины варягов, славян, чуди, веси, радимичей, северян, полян и пр. Святослав собрал около себя единую русскую, т. е. киевскую, дружину, которая, без сомнения, составилась от всех племен, но в которой собранные богатыри уже забывали свою племенную родину и становились сынами всей Русской земли, а главное, друзьями своего князя. Очень вероятно, что эта дружина набиралась еще в отроческие лета Святослава, подобно тому как другой Святослав, Великий Петр, составил себе из своих же малолетних потешных сверстников целые полки. Мы видели, что в Царьграде с Ольгой находилась также и Святославова дружина, которая даже обедала за царским столом и получила по пяти червонцев на человека в подарок; очень вероятно, что это были детские сверстники Святослава, т. е. дети тех бояр, которые тут же находились в свите Ольги. Стало быть, как Петр, так и Святослав росли вместе с дружиной; с ними заодно, на одном хлебе, вырастала и их дружина, совсем новое, особенное колено людей, совершившее небывалые подвиги. Подобно Петру, и Святослав жил с дружиной душа в душу, ничем не хотел себя отличать от дружины, заодно с нею переносил все труды и походные нужды. В походе он не возил за собой повозок с разным добром, чтобы утешаться на роздыхе сладкой пищей, хорошим питьем или мягкой постелью. Он не брал с собой даже и котла и не варил мяса, а, тонко изрезавши конину, зверину или говядину, жарил прямо на углях, быть может, на копье или на мече, и так и ел. Он не возил с собой и шатра, чтобы укрыться на время отдыха, но расстилал на земле подседельный войлок, в головы клал седло и отлично спал под открытым небом[133]. Так жила и вся его дружина. Вот почему, ведя многие войны, он с той дружиной стремительно и легко, как барс, прядал из страны в другую страну, а потому без боязни посылал врагам наперед сказать: «Хочу на вас идти».
Возросши и возмужавши и собравши много храбрых, Святослав первый свой поход направил на Волгу. Там оставались еще старые счеты его отца, при котором на Волге у хазар, у буртасов и болгар погибла русская рать, возвращаясь из Каспийского похода в 914 году. Русь, по языческому закону, не могла оставлять старых обид без отмщения и помнила их по крайней мере до колена внуков, а теперь собрались именно дети и внуки мстить за смерть дедов и отцов. Кроме того, обиды, как видно, еще продолжались и на Волге; вероятно, испытывалась теснота для русских торгов, особенно для Новгорода. Святослав вышел, стало быть, с намерением очистить как следует волжский путь и с этой целью, быть может, собирал так много храбрых. Из Киева он плыл в лодках по Десне и по Оке. По Десне жили свои люди, северяне, а на Оке сидело племя вятичей, еще независимое от Киева. «Кому дань даете?» – вопросил их Святослав. «Козарам дань платим, даем по щлягу от рала», – отвечали вятичи. Должно полагать, что Святослав очень хорошо знал об этом и прежде, но летописец, верный своей мысли начинать всякую историю с пустого места, только объяснил этим переговором независимость вятичей от Киева. Святослав промолчал и поплыл дальше. Ясно, что в это время его цели не простирались еще на вятичей. Если он думал о волжских болгарах и хазарах, то с вятичами в это время воевать не следовало, ибо они, хотя бы и побежденные, все-таки остались бы в тылу русской рати, шедшей, по-видимому, прежде всего на камских болгар, где бог весть что могло случиться. На возвратном пути, при бедственном окончании похода, вятичи могли быть очень страшными. Русская летопись тоже ничего не сказала о волжских делах Святослава, а прямо говорит о войне с хазарами. Но если поход шел по Волге, то чтобы добраться до хазар, т. е. до самого моря, надо было сначала переведаться с болгарами и буртасами. Арабский писатель Ибн-Хаукаль и говорит, что теперь (976 год) не осталось и следа ни от булгара, ни от буртаса, ни от хазара. Руссы, говорит он, истребили их всех, отняли у них все их области и присвоили себе[134]. Те, которые спаслись от их рук, все разбежались по ближним местам, все еще желая остаться на своей родине и надеясь условиться с руссами о мире и покориться им. «Руссы разрушили все, овладели всем, что было по реке Волге булгарского, буртаского, хазарского», – прибавляет Хаукаль и указывает год этого подвига – 969-й. По русской летописи, Святослав пошел на Волгу в 964 году, на хазар в 965 году, и можно полагать, что он очищал тамошний путь в течение четырех или пяти лет. Вместе с тем он разрушил хазарский город Саркел на Дону и добрался даже до ясов и касогов, которых тоже победил и таким образом занес русскую границу на самую Кубань, т. е. до Киммерийского Боспора, где потом является наше русское Тмутараканское княжество.
Однако вятичи не устрашились такого погрома, и несмотря на то что их властители хазары были рассеяны Святославом, они все-таки не поддавались, и Святослав принужден был идти на них особым походом, победил их и возложил дань.
Само собой разумеется, что от этих славных походов была привезена в Киев славная добыча. И княжеская казна, и хоромы дружинников наполнились всяким азиатским добром, добытым в булгарских и хазарских городах, а буртасы, вероятно, поплатились дорогими мехами; не говорим о пленных, которые всегда составляли одну из главных добыч на войне.
Но это было только начало подвигов, и славное начало! Русским мечом были прочищены все пути на Дальний Восток. Славянская или русская река Волга, как ее прозывали арабские писатели, на самом деле вполне стала русской, а с нею вместе освободились и стали тоже русскими Дон с Азовским морем и проливом, в который прежде, не более 25 лет назад, так трудно было пробраться русским ладьям. Русь близко придвинулась к магометанскому миру, и естественно, что и сама открыла двери его влиянию даже в своем средоточии, в Киеве. Лет чрез 20 магометанство уже хлопочет о водворении в Киеве своей веры.
В то время как Святослав барсом скакал по этим местам, разнося повсюду славу и страх русского имени и собирая в Киеве добытые богатства, однажды в Киев же к нему прибыл посол от греческого царя, знатный вельможа и сын корсунского градоправителя, именем Калокир. Он привез тоже много золота и приехал с тем, чтобы подвинуть Святослава на войну против славянских болгар, которые издавна очень теснили греков. С давних времен болгары наносили грекам постоянные беспокойства своими набегами и войнами, разоряя и опустошая греческие области из конца в конец. В Царьграде сложилась даже пословица, которая всякий случай какого-либо разорения и опустошения именовала добычей мизян – так назывались у греков болгары по имени старой области, где они поселились на жительство. Это значило то же, что наше присловье: как Мамай воевал. Несмотря на то что болгары были уже целых сто лет христианами, их ссоры с греками не прекращались. Главными поводами к войнам бывали со стороны же греков торговые стеснения и разные другие греческие неправды. При Олеге славный болгарский царь Симеон не раз приводил в страх и трепет сам Царьград. Для греков не было никакой возможности укротить такого врага по той причине, что болгары жили в лесистой и гористой стране, где всюду опасность на опасности; за горным и лесным местом следовало утесистое и наполненное оврагами, а там болота и топи, – нельзя пройти, а если пройдешь, нельзя выйти. В этой земле греческие войска очень часто погибали без остатка. Много гибло там знатных полководцев, а греческие цари очень хорошо помнили, как в начале IX века (811 год) один из них, Никифор, зашедший в Болгарскую землю, пропал там со всем войском; как царская его голова, воткнутая на кол, выставлялась долгое время всем напоказ, а потом, по скифскому обычаю, череп его был оправлен в золото и служил братиной на веселых попойках у болгарской дружины.
С того времени воевать с болгарами в их земле греки почитали безрассудным. Теперь, в 963 году, царствовал другой Никифор, называемый Фока, начавший свое царствование блестящими победами над сарацинами в Азии. Однажды, именно в то самое время, как он праздновал первую свою победу над сарацинами, к нему пришли болгары за получением положенной дани. Царем в Болгарии был в это время Петр, сын славного Симеона, но сам человек не очень мудрый. Никифор Фока взбесился. Как победитель над более сильными врагами, теперь он не мог снести такого унижения. Послов он принял, но на самом празднике в торжественном собрании всего двора, сказавши громкую речь о том унижении, какое греки должны испытывать, как рабы платя дань этому бедному и гнусному скифскому народу, царь в ярости повелел бить по щекам этих послов и приговаривать: «Подите и скажите вашему князю, этому дикарю, одетому в шкуру, который и питается только сырыми шкурами, – скажите ему, что самодержавный, сильный и великий греческий царь скоро сам придет в его страну с полной данью и научит, как должно обращаться к греческим повелителям». Конечно, не одна гордыня победоносца заставила царя подняться на болгар. Были и другие причины. Никифор просил у болгар помощи против венгров и не получил, узнав при этом, что они заключили даже союз с его врагами. Нисколько не медля, Никифор вышел на болгар с великим ополчением; скоро овладел всеми их пограничными городами, но дальше идти не посмел, опасаясь, как бы не пожертвовать свой череп для болгарской братины.
Он придумал другое средство наказать болгар. Еще по договору Игоря Русь обязывалась помогать грекам, когда потребуется, поэтому ее корабли с греческим флотом хаживали к острову Криту и сам Никифор добывал свои победы тоже при помощи руссов. В 962–963 годах он с ними же совсем отвоевал остров Крит. Все это показывает, что он должен был очень хорошо знать нашу Киевскую Русь, особенно ее славного вождя. В этих отношениях, по всему вероятию, и скрывается объяснение, почему царь решился призвать на болгар Святослава. Он поручил устроить это дело упомянутому Калокиру, а для того, чтобы действовать успешно, отправил с ним целые возы греческого золота, 1500 литр, т. е. 26–27 пудов[135], которое и велел раздать князю и дружине[136]. Вместе с тем Калокир был пожалован в сан патрикия, или в бояре. Это был человек отважный и пылкий; он очень хорошо знал, что с помощью русских все можно совершить. Он хорошо знал также, что отважный и смелый человек легко может и сам воссесть на царский греческий престол. Как ни был высок и величествен этот славный престол, а он весьма часто попадал в руки первому хитрецу и смельчаку. И вот Калокир обдумал дело совсем по-другому, нежели приказывать ему царь Никифор. Он вознамерился сам заместить этого царя и овладеть царством. Смелое, отважное и великое предприятие было по душе нашему Святославу, а рассыпанное золото изумило и обольстило глаза дружины; купцы, вероятно, тоже смекали, что на свободном Дунае и поближе к Царьграду торги будут прибыльнее. Говорили же тогда греки, правду или нет, что русский народ до чрезвычайности корыстолюбив, жаден к подаркам и даже любит самые обещания. Калокир, кроме золотых подарков, употребил еще больше самых заманчивых обещаний. Он предложил Святославу завоевать Болгарию и удержать ее себе в собственность, а ему помочь только овладеть Греческим царством, за что сулил, как будет царем, вознаградить еще бесчисленными сокровищами из государственной казны. Вообще этот грек так очаровал простодушного и храброго князя своими планами и обещаниями, а больше всего своею пылкой отвагой, что Святослав полюбил его, как родного брата.
«Восхищенный надеждой получить богатство, – говорит современник этих событий, византиец Лев Диакон, – мечтая о завоевании Болгарской страны и сам человек пылкий, отважный, сильный и деятельный, Святослав возбудил все русское юношество к этому походу». Собрав дружину в 60 тысяч храбрых[137], кроме обозных отрядов, он отправился вместе с Калокиром обычным русским путем по Днепру и в море на лодках. Это было в августе 967 года. Болгары узнали об опасности в то время, когда руссы приблизились уже к Дунаю и готовились высадиться на берег. Болгары выступили против врага с 30 тысячами войска. Руссы быстро сошли со своих судов, простерли перед собой щиты, извлекли мечи и начали поражать сопротивника без всякой пощады. Болгары не выдержали, побежали и заперлись в Дористоле (Силистрии)[138]. Болгарский царь Петр так огорчился этим неожиданным бегством своей рати, что был поражен параличным ударом. Руссы прошли по Дунаю, как и по Волге, страшной грозой и возвратились на зиму домой с неисчислимой добычей. На другой год (968) они снова явились и окончили начатое, произведя еще большие опустошения. По нашей летописи, они забрали 80 городов, т. е., вероятно, овладели всеми населенными местами по Дунаю. Святослав сел княжить в Переяславце, в устье Дуная[139]. Калокир не покидал храброго князя, тоже остался в Переяславце и оттуда делал свои цареградские дела.
Начало общего замысла было исполнено блистательно. Не политическое ослабление Болгарии и не смуты ее бояр, как иные говорят[140], помогли Святославу так легко и скоро овладеть дунайским побережьем этой страны – Святославу всюду помогала его беззаветная отвага и неукротимая быстрота нападения. Недаром же летописец сравнивает его походы с поскоками легкого барса: «Легко ходя, аки пардус».
Однако царь Никифор скоро прозрел и узнал, в чем дело и что замышляет хитрый Калокир вместе со Святославом. Поселение русского князя в Переяславце обнаруживало, что вместо ослабевшей, как бы устаревшей и распущенной теперь Болгарии на Дунае может возродиться новая народность, настолько же, если еще не более опасная, чем была сама Болгария в знаменитый век Симеонов. Притом эта новая народность была язычница, почему ладить с нею было еще труднее. Никифор ясно увидал, что он призвал Русь на свою же голову не только для погибели собственной, но и на погибель всего Греческого царства. Быть может, это самое обстоятельство послужило одним из сильных поводов к возмущениям против царя, а потом и к его погибели.
Теперь Никифор принужден быль переменить свою политику с болгарами. Забыв прежнюю гордыню самодержца, он сам же первый отправил к ним послов, напоминая, что по единоверию болгары братья с греками и должны жить по-братски. В утверждение дружбы он просил у них невест барского рода для сыновей бывшего императора Романа и при этом обещал полную защиту от русского князя. Болгары, конечно, приняли это предложение с величайшей радостью и неотступно просили о защите против Руси. По всему видно, что первым действием этого союза греков и болгар против общего врага быль подкуп печенегов напасть на Киев и тем вызвать из Переяславца и самого Святослава. Так и случилось.
Летом 968 года печенеги подкрались врасплох и обступили город в бесчисленном множестве. В городе затворилась Ольга с тремя малолетними внуками. Дружина по какому-то случаю находилась на той стороне Днепра и даже не ведала об опасности. Люди уже стали изнемогать от голода и жажды, ибо добыть воды из Днепра не было возможности. Нельзя было уведомить и дружину. Однако выискался один молодец и, пробравшись обманом сквозь стан печенегов, переплыл реку и дал знать воеводе Претичу, что если не поможет, то город отворит ворота и отдастся врагам.
«Спасем хотя княгиню с княжатами, умчим их на эту сторону, иначе погубит нас Святослав!» – решил воевода и наутро, до рассвета, посадил дружину в лодки и поплыл к городу, а чтобы навести страх на врагов, люди затрубили поход что есть мочи во все трубы. Услыхав трубы, горожане что есть мочи кликнули радостный клич. Печенеги дрогнули, думая, что сам князь пришел, и побежали от города в разные стороны. Ольга со внуками поспешила выйти на берег; высыпали на берег и все граждане. Печенежский князь потребовал свидания с Претичем, все думая, что пришел сам Святослава. «Нет, я муж его, – ответил воевода. – Я пришел состорожевым полком, а князь идет следом за мной с полком, без числа множество!» – прибавил воевода, грозя печенегам. Вероятно, тут же была заключена мировая, потому что предание об этом событии, ничего не объясняя, вдруг рассказывает, что печенежский князь предложил Претичу свою дружбу; они подали друг другу руки и печенег подарил ему коня, саблю и стрелы, а Претич отдарил его броней, щитом и мечом. Пеший воин отдал пеший русский наряд, конный кочевник отдал свой кочевой убор. Печенеги отступили, но не совсем: на Лыбеди, за городом, нельзя было коня напоить – все стояли враги. Но все-таки одного имени русского князя было достаточно, чтобы устрашить врагов. Киевляне тотчас послали к Святославу такую речь: «Ты, княже, чужой земли ищешь и чужую землю соблюдаешь, а свою совсем бросил. Чуть было нас не взяли печенеги, и матерь твою, и детей твоих! Если не придешь и не оборонишь нас, опять нас возьмут. Или тебе не жаль своей отчины, своей старой матери и детей своих!» Услышав эти вести, Святослав барсом перескочил с Дуная в Киев, расцеловал свою мать и детей, пожалел о случившемся и прогнал печенегов в поле, как говорит летопись, а вернее – посредством подарков и обещаний устроил с ними мир, потому что они были ему очень надобны.
И посреди киевских дел он помышлял все о Болгарии. Тамошнее дело еще только начиналось, а здесь, в Киеве, теперь не оставалось никакого дела. Там свивалось новое гнездо Руси, там ожидали князя славные и великие дела.
«Не любо мне жить в Киеве! – сказал Святослав матери и всем боярам. – Хочу жить на Дунае, в Переяславце. Тот город есть середа в моей земле. Туда сходится все добро, от греков золото, паволоки, вина, овощи разноличные; от чехов и венгров серебро и кони; из Руси меха, воск, медь, челядь».
Эти речи показывали, что киевский князь хочет совсем оставить Киев. Киевский князь, быть может, повторяет речи новгородского князя Олега, точно так же не полюбившего Новгород и переселившегося в середу Русской земли, в Киев. Внуки повторяют речи дедов. Новгород переселился в Киев, теперь Новгород хочет переселиться на Дунай, в середу земли своей. Чья это мысль – одного ли Святослава или общая мысль Руси, искавшей лучшего гнезда для торгов? По-видимому, здесь высказывается старозаветная задача русской жизни – идти туда, где сильнее торг и промысел. И потому еще неизвестно, был ли Святослав завоевателем ради завоевания, или он был орудием других идей, распространявших себе поле действия сначала на Днепре, потом на Каспие, на Киммерийском Боспоре, и, наконец, на устьях Дуная, которые оказываются даже середой чьей-то земли? Как эта мысль связывает историю X века с историей древних роксолан, у которых устья Дуная действительно были середой их земли; и как вообще эта мысль выражает больше всего интересы всей Русской страны, чем интересы одного единоличного русского князя, хотя бы и завоевателя? Вот почему лик Святослава отчасти напоминает лик Великого Петра, избравшего свою середу на финском севере, но в начале пытавшегося поместиться и на Азовском море. Вообще нам кажется, что завоеватель Святослав не был таким пустым завоевателем, каким он представляется на первый взгляд.
Решение Святослава происходило в 969 году, весной. А Ольга в это время при старости изнемогала болезнью. «Видишь, я больна, куда ты хочешь от меня идти? – ответила она сыну. – Ты похорони меня, а там и иди куда желаешь!» Спустя несколько дней она скончалась. Плакал по ней сын и внуки, плакали все люди великим плачем. Она заповедала не справлять над нею языческой тризны, а похоронить по христианскому обряду, что и совершил ее пресвитер.
Плакали по ней христиане, теряя в ней твердую опору для своей жизни в Киеве; плакали и язычники, теряя в ней мудрейшую устроительницу Русской земли, которая теперь оставалась в полном смысле сиротой, ибо славный ее князь покидал ее совсем, оставлял сиротами и своих малых детей. Он посадил в Киеве на княжение старшего сына Ярополка, которому было лет 9, а другого, Олега, посадил у древлян, следовательно, разделил землю надвое. Летописец ни слова не говорит о поступлении в этот раздел остальных волостей или племен, покоренных Олегом. Имеем ли мы основание заключать, что такое поступление подразумевается уже само собой[141], что прямое владение киевского князя распространялось на всю землю, которая собиралась в походы с Олегом и Игорем? Нам кажется, что так заключать возможно только с точки зрения понятий о созданном в Киеве государстве, о государственном владении землей, чего, однако, нигде не примечается в надлежащей ясности. Договоры Олега и Игоря с греками указывают только на союз волостей и княжений под рукой Киева. Но рука Киева была ли владыкой полновластным, или ее власть ограничивалась только сбором даней, а во всем остальном раздельные земли и волости жили сами собой, управлялись собственными князьями или старейшинами, хотя бы и посадниками от Киева, но все-таки независимо, как вообще управлялся Новгород в течение всей своей истории, всегда призывая к себе и князя? Нам кажется, что последующие отношения Новгорода к великим князьям могут в полной мере объяснять и древнейшие отношения подданнических волостей к Киеву. Все они были настолько независимы от Киева, насколько Новгород до его падения был независим от великих князей. Древляне были мучимы Олегом и Игорем, а все-таки имели своего князя до их окончательного порабощения Ольгой. Это последнее обстоятельство и было причиной, почему Древлянская земля поступила не в удел, а в надел одному из киевских князей. Все остальные: радимичи, вятичи, северяне, как в Новгородской стране полочане, кривичи, чудь, весь, меря – платили только дань, но управлялись независимо своими старейшинами и даже князьями, которых они, подобно Новгороду, вероятно, могли призывать и могли изгонять. Новгородская форма политической жизни была самая древняя форма. В Полоцке и Турове даже при Владимире существуют свои особые князья. Свидетельство летописца, что каждое племя имело свое княжение, в Деревах свое, дреговичи свое, словени свое и т. д., вполне ясно обозначает состояние первобытных дел Русской страны. Мы полагаем, что при Святославе этот строй земских отношений был еще в полной силе. Насколько и в каком направлении он изменился впоследствии, увидим. Но согласно с показанием летописца мы должны отделить для первого Русского, или собственно Киевского, княжества только землю Киевскую и Древлянскую. Святослав ничего не подумал даже о Новгороде, где он в малолетстве сам был князем; не подумал потому, что не сознавал своих прав распоряжаться этой областью как своим имуществом. Он собирался уже отправиться в свой любимый Дунайский Переяславль, как пришли люди новгородские. Они прослышали, что на Руси строится дело неладное, что князь совсем уходит, оставляя землю малолетним детям, стало быть, во власть дружины. Новгородские люди пришли к Святославу просить себе князя. «А если не пойдете к нам, – примолвили они, – так мы на стороне отыщем себе князя». «Только бы кто пошел к вам!» – ответил Святослав и объявил новгородскую просьбу сыновьям, т. е. на самом деле их дружинам. Очень понятно, что и Ярополк, и Олег не захотели в Новгород; их дружинам было бы очень тесно в независимой области. Добрыня, посадник новгородский, поддакнул новгородцам: «Просите Владимира!» Владимир был сын Святослава от Ольгиной ключницы Малуши. Добрыня был брат Малуши и, стало быть, дядя Владимиру. Отец у них был любечанин Малко. «Отдай нам Владимира!» – решили новгородцы, вероятно, еще прежде обдумавшие это дело по уговору с Добрыней. «Вот он вам!» – сказал Святослав, отдавая малютку с рук на руки и, вероятно, очень радуясь, что и это дело окончилось хорошо и скоро. Он спешил на Дунай.
И пошел Владимир с Добрынею в Новгород, а Святослав – в Переяславец.
Нам кажется, что этот новгородский выбор княжича Владимира лучше всего объясняет, в какой зависимости от Киева находились все самостоятельные племена и земли. Они платили дань, но князей могли выбирать отовсюду, потому что князь для них был только воевода и судья, зависимый от веча, но не феодал-самовластитель в норманнском смысле. Само собой разумеется, что выбор прежде всего падал на княжий род, наиболее сильный и могущественный, способный всегда защитить своих данников от всякого врага. Но и сильный княжий род Рюриков распространился и утвердился по всей земле едва ли не потому, что при Владимире он явился распространителем Христовой веры.
Святослав особенно спешил в свой любезный Переяславец, вероятно, уже хорошо зная, что тамошние дела пошли совсем другим путем. Действительно, по Дунаю тянул уже другой ветер, вовсе не попутный русским ладьям.
Болгары, подружившись с греками, охрабрились и в отсутствие Святослава успели завладеть не только всей потерянной страной, но и самым Переяславцем. Святославу пришлось начинать дело сызнова. Когда появились русские ладьи, болгары вышли из города, и началась отчаянная битва. Болгары так одолевали, что потребовалось последнее отчаянное усилие. «Здесь нам погибнуть! Потягнем же мужески, братья и дружино!» – воскликнул Святослав и к вечеру одолел, взявши город с копья, приступом. Быстрым походом он вскоре снова забрал все города между Дунаем и Балканами, взял и самую столицу, Великую Преславу, а в ней самого царя Бориса со всей семьей и двором. После того, разузнавши, что виной всему были греки, и возбуждаемый другом Калокиром, Святослав поднялся на греков и послал им сказать: «Хочу на вас идти, хочу взять ваш город, как этот, болгарский Переславль».
Царь Никифор готовился встретить врага и на всякий случай укреплял самый Царьград. Он протянул даже через пролив тяжелую железную цепь, предупреждая и с этой стороны нападение руссов. Он собирался уже выступить в поход, как получена была нерадостная весть, что арабы взяли Антиохию, а дома, во дворце, получены были такие сведения, которые должны были остановить всякие приготовления к войне с далекими врагами. Во дворце таился заговор на жизнь царя, в котором главными руководителями были сама царица и воевода Иоанн Цимисхий. В декабре 969 года Никифор, подобно многим византийским императорам, был коварно умерщвлен, и на престол вступил его же убийца – Цимисхий.
По происхождению это был армянин, и имя Цимисхий по-армянски значило «маленький». Маленький царь обладал, однако, большими воинскими способностями и даже чрезвычайной физической силой. Он вступил на престол на 45 году, как говорит Лев Диакон, который оставил нам и портрет этого героя. «Видом он был таков: лицо белое и красивое, волосы на голове русые и на лбу редкие; глаза острые, голубые; нос тонкий, надлежащей величины; борода рыжая, со сторон сжатая, но красивая; ростом был мал, но имел широкую грудь; сила у него была исполинская и в руках чрезвычайная гибкость и непреодолимая крепость. Он не страшился нападать один на целую неприятельскую фалангу и, побивши множество врагов, с быстротой, невредим, отступал к своему войску. В прыганьи, в игре мячом, в метании копий, в натягивании луков и стрельбе он превосходил всех людей того времени. Говорят, что он, поставив рядом четырех коней, прыгал, как птица, и садился на самого последнего. Он так метко умел стрелять в цель, что мог попадать в отверстие кольца. Был очень ласков в обхождении; был очень щедр и благотворителен; но слишком любил веселые пиры, напитки и чувственные удовольствия, в чем и заключалась его слабость».
Таков был герой, с которым приходилось померяться нашему Святославу. Взойдя на престол без всякой помехи, посредством злодейского убийства, он, однако, в первое время находился в величайшем затруднении и не знал, с чего начать. По всему царству свирепствовал голод уже третий год; с севера русские угрожали превеликим бедствием, с юга арабы не давали царству покоя. Против арабов он выслал войско, но со Святославом решился искать мира.
Верный своему слову взять сам Царьград, Святослав весной 970 года перешел Балканы и тотчас овладел Филиппополем[142], где, по рассказам греков, чтобы навести страх на восставших болгар, посадил их 20 тысяч на кол. Мы не скажем, что это преувеличение, и не скажем, что это ложь. 20 тысяч есть только пустая риторская фраза, вроде сильного присловья, когда требовалось обозначить вообще какой-либо ужас. И теперь часто употребляют выражения: тысячу раз, тысячекратно, желая выразить понятие особого множества. Святослав, конечно, был сын века, был варвар, не меньше других из своих современников и особенно не меньше самих греков, занимавшихся по преимуществу пред другими народами сажанием людей на кол. Это был обычай в особенном смысле – южный, едва ли столько известный на севере, и если северные люди употребляли такую казнь в войнах с греками, так они старались только казнить их их же собственным орудием. Некоторые исследователи говорят, что это свидетельство важно в том смысле, что знакомит нас со способом ведения войны Святославом[143]. Но способ войны Святослава если по обычаям войны и заключался в распространении между врагами ужаса, то главным образом он заключался в быстроте нападения. Такому воителю-барсу некогда было заниматься кропотливой операцией сажания на кол. Невозможно было отвлекать для этого и своей дружины. Он мог делать одно – без пощады умерщвлять сопротивников теми же мечами, которыми начинал и самую битву. Для сажания на кол необходимы были новые орудия, на изготовление которых требовалось время, и материал, и для самой операции множество людей.
Святослав спешил к Царьграду. Он сказал, что теперь идет на греков. Очень естественно, что теперь и болгары становились на его же сторону вместе с венграми и печенегами, которые тоже соглашались помогать ему. Богатый, коварный грек всегда бывал общей добычей для всех варваров. В этом случае не для чего было устрашать и болгар.
По русскому преданию, греки, ведя переговоры, только обманывали Русь, они говорили, что не в силах бороться, предлагали дань на всю дружину, по числу голов, прося только сказать, сколько счетом всего войска. Греки обманывали, и Святослав их обманул, сказавши, что всей Руси 20 тысяч. Он прибавил 10 тысяч, потому что Руси было только 10 тысяч. Вот по какой причине она и не могла пересажать на кол 20 тысяч болгар. Узнавши число руси, греки вывели 100 тысяч войска и не дали дани. Полки сошлись у Адрианополя[144]. Русь струсила, увидавши такое множество греков. Не струсил один Святослав и стал говорить дружине: «Уже нам некуда деться; волею или неволею стать против… Не посрамим Русской земли, ляжем тут костями. Мертвым нет срама. Если побежим, – осрамим себя, но убежать не можем. Станем же крепко, а я перед вами пойду. Если моя голова ляжет, то промыслите сами о себе». – «Где упадет твоя голова, тут и свои головы сложим!» – ответила дружина. Русь исполчилась. Сеча была великая. Одолел Святослав, греки побежали. Святослав пошел к Царьграду, воюя и города разбивая – стоят и теперь пусты, прибавляет летопись.
Вот он уже мало что не дошел до самого Царьграда. Царь созвал бояр в палату и стал думать думу. «Как нам быть, что нам делать? – говорил он. – Нельзя нам бороться со Святославом!» – «Пошли к нему дары, – сказали бояре, – испытаем его, любит ли он золото али паволоки?» Тогда послали золото и паволоки и мудрейшего мужа, чтобы глядел для испытания. «Как увидишь Святослава, гляди его взора лица, его смысла», – говорили бояре. «Вот греки с поклоном пришли!» – сказали люди Святославу, когда прибыл в его стан мудрый посол. «Введите их сюда!» – ответил князь. Вошел посол, и поклонился и разложил перед ним золото и паволоки. «Раздайте отрокам (слугам)!» – молвил Святослав своим приближенными, а сам и не взглянул на дары и ни слова не сказал послам, так их и отпустил. Когда возвратился посол с ответом и рассказал, как было дело, царь опять созвал бояр, и решили еще попытать русского князя, – послали ему в дар меч и другое оружие. Как только принесли эти дары, Святослав обрадовался им как ребенок, стал хвалить дары, любовался ими, целовал их, говорил, что целует за это царя. Все это в точности было передано царю. Подумавши и посудивши, бояре сказали так: «Золото презирает, оружию радуется; это будет лютый человек. Лучше взять с ним мир и выплатить дань». И послал царь сказать Святославу: «Не ходи к городу, возьми дань, как ты хочешь». И отдали ему дань. Он брал и за убитых, говоря, что родичи их возьмут. Взял и дары многие и возвратился в Переславец с похвалой великой.
Можно ли сказать, что в этом предании заключается особое русское хвастовство и неправда, как уверял Шлецер, говоря, что «Русский временник» в этой «глупой сказке только лжет и ребячится». Строгий и суровый критик изучал простодушный рассказ нашего предания рядом с цветистыми риторскими повестями византийских писателей, которые, как Лев Диакон, высоко восхваляя подвиги своих царей, описали эту войну приятно и подробно, отчего, конечно, наш рассказ, сохранивший только русское воспоминание о событиях, потерял для критика всякое значение[145]. Но ближайшая поверка этого рассказа с действительными событиями и обстоятельствами войны[146], напротив того, раскрывает великую правдивость не только русской летописи, но и русской народной памяти, которая вообще очень мало предавалась самолюбивому хвастовству и в этом отношении никогда не могла тягаться с напыщенным риторским хвастовством греков, отчего их истории и описания особенно приятны и подробны. Лев Диакон говорит, что к русскому вождю были отправлены послы с требованием, чтобы он возвратился теперь восвояси и оставил бы Болгарию, так как обещанная прежним царем за этот болгарский поход награда (по-русски дань) выплачена ему сполна. Здесь византиец противоречит сам себе. Когда ищут мира, то не требуют, а просят, обходятся мягко и любовно, по крайней мере, относятся друг к другу с приветом, а по тогдашним посольским обычаям – непременно с дарами. Вознося своего героя и притом царя, грек, конечно, не мог сказать иначе. Точно так же, как и русский, говоря настоящую правду, не мог сказать ничего другого, как только то, что греки приходили к Святославу с поклоном и с дарами, с обещанием дани, все льстя, обманывая и испытывая его силу. Лев Диакон продолжает: «Святослав, надменный одержанными победами, исполненный варварской своей гордости, устрашивший и изумивший болгар своею свирепостью, ибо сказывают, что при взятии города Филиппополя, жестоким и бесчеловечным образом, для одного страха, он посажал на кол 20 тысяч человек пленных и тем заставил болгар себе покориться, – этот Святослав ответил греческим послам, что не выйдет из Болгарии, если не дадут ему великой суммы денег, если не выкупят завоеванных городов и пленных. “Если же греки, – говорил он, – не захотят столько заплатить, то пусть убираются вовсе из Европы, которая им не принадлежит, пусть идут в Азию, и пусть не мечтают, что Русь помирится с ними даром”. Выслушав эти гордые речи, царь Иоанн вторично отправил послов к Святославу. “Мы, греки, – посылал он сказать, – исполняя христианские законы, не должны сами разрывать мир, непоколебимо до нас дошедший от наших предков, в котором сам Бог был посредником, а потому советуем вам, как друзьям, немедленно и без всяких отговорок идти домой, оставить землю, вам не принадлежащую. Не послушаете нашего совета, то не мы, а вы сами разорвете наш союз и за то, – в этом мы надеемся на Христа Господа, – будете изгнаны из страны против вашей воли. Я думаю, – прибавлял царь, – что ты, Святослав, еще не забыл бедствие своего отца Игоря, который, презревши клятву, с великим ополчением на 10 тысячах судов подступил к царствующему граду Византии и едва только успел с 10 ладьями убежать в Боспор Киммерийский с известием о собственном бедствии. Я не упоминаю об его несчастной смерти, когда, плененный на войне с древлянами, он привязан был к двум деревам и разорван на две части, не думаю, чтобы и ты мог здорово возвратиться в свое отечество, если заставишь нас выступить против тебя со всем греческим войском. Тогда со всею ратью ты погибнешь в этой стране и ни одна лодка не придет в Скифию, чтобы известить о твоей жестокой погибели!”
Раздраженный этими словами, увлеченный своею яростью и безумием, Святослав дал послам такой ответ: “Какая необходимость идти царю к нам с своим войском? Пусть не трудится напрасно! Мы скоро сами поставим свои шатры перед воротами Царьграда; завалим город крепким валом, и если царь попытается выступить, то покажем ему на самом деле, что значит Русь. Мы не бедные какие ремесленники, ищущие поденной работы. Русь – храбрая дружина, побеждающая врагов оружием. Невежда, ваш царь, этого еще не знает. Он почитает русских слабыми женщинами и запугивает угрозами, как пугают малых детей разными чучелами!”» Цимисхий, однако, очень хорошо знал, с кем имеет дело, и, пока шли переговоры, неутомимо готовился к войне, «чтобы упредить приход врага и преградить приступ к Царьграду». Он поспешно вызвал свои полки с Востока, где они воевали с арабами. Для охранения собственной особы набрал себе опричный полк отчаянных храбрецов, назвавши их и самый полк бессмертными.
Святослав тоже не дремал. К русской дружине он присовокупил покоренных болгар, призвал на помощь печенегов и венгров и пошел прямой дорогой на Царьград, производя повсюду страшные опустошения. Он стоял уже у Адрианополя, следовательно, в действительности едва не дошел до Царьграда, как свидетельствует русское предание. Греки говорят, что в это время у него было 300 и даже 308 тысяч войска. У страха глаза велики, и цифра войска здесь может показывать только меру опасности и страха, в каком греки тогда находились. Защищать Адрианополь пришел воевода Варда Склир (Жестокий), человек храбрый, деятельный, пламенный духом и силой, вызванный нарочно с полками из Азии. С ним было только 12 тысяч. Он сел в городе и притворился, что не смеет, боится идти на прямое дело, а сам между прочим употреблял всякие хитрости, чтобы узнать, в какой силе находится русь, в каком количестве пришла, где стоит и что замышляет. Об этих то самых хитростях и рассказывает русское предание, прибавляя, что русь тоже обманула врага, показавши цифру своего войска вдвое, т. е., в 20 тысяч, когда у нее было всего только 10 тысяч. Варда хитрыми путями посредством засад и вразбивку стал поражать будто бы русские полки и сначала разбил печенегов. Затем сошелся и с главной силой. Какое-то время битва продолжалась с равным успехом для обеих сторон, но в пользу греков ее решили следующие подвиги: один русс необыкновенной величины и храбрости, заметив Варду, разъезжавшего перед войском для охрабрения людей, устремился на него и нанес ему удар по голове; однако крепкий шлем спас полководца. Варда в свою очередь ударил русса и разрубил его пополам. Между тем брат Варды, патриций Константин, имевший еще только пушок на подбородке, сцепился с другим руссом, который бросился было своему на помощь. «Он нанес было ему страшный удар по голове, но русс уклонился и удар попал по коню, у которого разом была отрублена голова. Русс упал на землю. Константин слез с коня и заколол врага». Этих богатырских подвигов русские так испугались, что потеряли всякую храбрость и со срамом в беспорядке побежали. Греки погнались за ними, побивая направо и налево и устилая путь трупами. Однако больше всего взято в плен. Если б не наступившая ночь, то никто бы не спасся.
Впрочем, греки рассказывают и так, что первым делом был подвиг Константина, отрубившего мечом голову коня у того русса, который ударил было Варду; а вторым и решительным делом было вот что: сам Варда, увидав знатного русса, отличавшегося великим ростом и блеском доспехов, который ходил перед рядами своей дружины и поощрял на битву, – сам Варда Склир подскакал к этому руссу и «ударил его мечом по голове с такой силой, что разрубил пополам; ни шлем не защитил его, ни броня не выдержала силы удара. Греки, увидевши его разрубленного на две части и поверженного на землю, закричали от радости и с храбростью устремились вперед; а руссы, устрашенные сим новым и удивительным поражением, с воплем разорвали свои ряды и обратились в бегство. Греки гнались за ними до самой ночи и без пощады убивали». «У нас, – продолжают греки, – в этой битве, кроме многих раненых, было убито 55 человек, а всего больше пало коней; но у русских погибло больше 20 тысяч человек!» Другие утверждали, что русских вообще уцелело очень немного, а греков пало в сражении только 25 человек, но зато все были ранены[147].
Не ясно ли, что все это сказки, рассказанные в похвалу себе самому Вардой или его ласкателями? После этой битвы дальнейший поход Руси к Царьграду был остановлен, а Варда был внезапно отозван из Азии воевать с заговорщиками императора. Там другой Варда, именем Фока, провозгласить себя императором и шел на смену Цимисхию. Требовалось скорее утушить этот мятеж. Варда Жестокий и там стал действовать обманом, как он непременно действовал и со Святославом. По наставлению самого Цимисхия, подкупая и обещая великие дары, он разрушил союз мятежников, так что Варда Фока остался один-одинехонек и опасность миновала. Очень вероятно, что в этом восстании принимал участие и наш Калокир.
Как бы ни было, но Варда Склир не мог удалиться с места битвы, не успокоивши чем-либо русскую рать. Быть может, в этом случае помогло самое время года, наступившая зима. Но вероятнее всего, Святослава остановила какая-либо хитрая греческая уловка, вроде решительных переговоров о мире с посылкой богатых даров и обещаниями уплачивать верную дань. Ведь смеялись же греки, что Русь до того жадна, что любит даже и сами обещания.
О подобных обманных делах византийские летописцы всегда молчат, но описывают деяния, которые их же обличают. И здесь они рассказывают, что когда ранней весной сам царь выступил в поход, то к нему приходили русские послы, очень шумели и жаловались на какие-то обиды. Как можно жаловаться на обиды, если вражда не была замирена и если не было уговоров и обещаний, из нарушения которых, конечно, и возникли жалобы? Сами же греки прямо говорят, что Варда выиграл свою победу обманом, хитростью, коварством. Он успел также расстроить и союз Руси с печенегами и венграми[148]. В тех обстоятельствах, в каких находился Цимисхий во время Адрианопольского дела, когда он принужден был отозвать оттуда самого Варду, ему иначе нельзя было остановить Святослава, как дарами и каким-либо окупом, а главное, обещаниями и переговорами. Вот почему русское предание правильно могло говорить, что дань взята и за убитых и что Святослав возвратился в Переяславец с великой похвалой. Но нет сомнения, что обман греков руссы почувствовали тотчас, как только удалились от Адрианополя. Они и в зимнее время продолжали опустошать Македонию и, по словам греков, сделались еще надменнее оттого будто бы, что воевода, заступивший на место Варды, был человек ленивый, неопытный, неискусный и преданный пьянству.
Описание несчастной Святославовой войны в существенных чертах очень правдиво и у греков, но оно, по греческому обычаю, представлено в виде похвального слова и полководцу Варде, и особенно самому царю и потому, для полноты надлежащего впечатления, о многих не подходящих под похвалу вещах скромно умалчивает. Во всем повествовании у Кедрина и Льва Диакона видно какое-то особое старание представить греков постоянными победителями даже в мелких делах.
Из этого самого описания всякий может видеть, что до Адрианополя руссы шли победоносно и неукротимо, а тут все дело покончили со стороны греков богатырские рассечения коня и богатыря, а главным образом наставшая ночь, во тьме которой руссы исчезли совсем и больше не возвращались. А между тем император, «не могши более сносить высокомерной их дерзости и явного к себе презрения, решился сам вести с ними войну и всю зиму готовился к этому походу, обучая сухопутное и морское войско, производя смотры огненосным судам, устраивая полк бессмертных, заготовляя и перевозя к Андрианополю запасы и т. д.».
Все это он мог спокойно делать, обольстив и усыпив врагов заключенным миром, дарами, данью. В это время он даже женился и очень весело справлял свою свадьбу праздниками, торжественными играми, щедрой раздачей милостыни бедным и особенно наград всем чиновникам.
«Как скоро зимняя мрачность переменилась в весеннюю ясность, государь, поднявши крестное знамение, изготовился в поход против руссов». Прямо из дворца пошел он прежде всего молиться в храм Христа Спасителя, оттуда в славную церковь Софии, просить у Бога себе ангела-путеводителя и предшественника войску, и затем в храм Богоматери Влахернской, избавительницы Царьграда от нападения той же Руси. Уже эти выходы хорошо объясняют, какой опасности ожидал себе Цимисхий.
Из Влахернского дворца он любовался на собранные в заливе огненосные суда, числом 300, смотрел искусное и стройное их плавание и примерное сражение и, наградив гребцов и воинов деньгами, повелел им идти в реку Истр (Дунай), чтобы запереть руссам возвращение домой. Корабли поднимались к Дунаю, а император тем временем дошел до Адрианополя. Здесь он с радостью узнал, что о русских нигде не было слышно, что тесные и опасные горные проходы к Болгарии, называемые мешками, оставались без защиты. Он поспешил пройти эти ущелья и первый пустился в путь с полком своих бессмертных. За ним следовало 15 тысяч пехоты и 13 тысяч конницы. Прочее войско с обозами и осадными орудиями шло позади, не спеша.
Скоро и совсем неожиданно для русских он явился у самой Преславы, или Переяславца Балканского. Он подходил к городу с великим торжеством: гром бубен отзывался в тамошних горах, стучали кимвалы (тарелки), громко трубили трубы, доспехи бряцали, кони ржали, ратные криком возвещали победу. Все это приводило руссов в изумление и ужас, восклицает ритор и продолжает: «Но несмотря на то, они немедленно схватили оружие подняли щиты на рамена (щиты у них были крепкие и длинные до самых ног), стали в сильный боевой порядок и как рыкающие дикие звери, с ужасным и страшным воплем выступили против греков на ровное поле перед городом». Битва с обеих сторон была ровная, пока царь не пустил своих бессмертных на левое крыло руси. Это была отчаянная конница, а русь не имела обычая сражаться на конях и никогда тому не училась. Здесь, конечно, разумеется та русь, которая приплывала на Дунай и в Грецию на лодках. Однако у руси искони веков бывало и конное войско, хотя и не особенно многочисленное и сильное. Главную ее силу в далеких морских походах, конечно, всегда составляла пешая рать, они же пловцы и гребцы. Бессмертные смяли эту рать; она побежала и заперлась в городе. Тут греки побили 8500 человек.
В Переяславце сидел известный нам грек Калокир. Он скоро увидал, что с войсками пришел сам император. И нельзя было этого не увидать, потому что золотые царские знаки излучали чрезвычайный блеск и сияние. Калокир тайно, в самую глухую ночь, ускакал к Святославу в Дористол. В городе остался воевода Сфенкел, занимавший третье место после Святослава.
На другой день, это было в великую пятницу, Цимисхий пошел на осаду. После упорного боя город был взят. Кедрин говорит, что ворота были отворены как-то тайно, изменой. Лев Диакон уверяет, что они были сломаны греками; но есть свидетельство, что ворота отворены самими болгарами, которые, по обычаю, встретили Цимисхия с дарами. При этом плененный русью болгарский государь Борис с женой и двумя детьми был снова взять в плен греками. Цимисхий принял его великодушно, объявив, что греки пришли отмстить русским и защитить от них болгар. На болгар такая речь, конечно, подействовала сильно, и после того царь во многих случаях мог рассчитывать на них как на своих союзников. Но русь не ушла из города, а вся собралась в царском дворце, обнесенном оградой. Это, вероятно, был кремль, детинец. В нем хранилась болгарская казна. Овладеть русью в этом ее убежище не было ни какой возможности. Сам император пускался на приступ, но без успеха; греки падали у стен крепости, как снопы. Видя, что приступом ничего хорошего сделать нельзя, царь велел со всех сторон бросать через стены огонь. Кремль запылал. Русские, числом более 7 тысяч, вышли на открытое поле, построились, но тотчас были окружены храбрыми полками Варды и болгарами, сражавшимися теперь за греков. Они отбивались до последнего, ни один не подавался назад, все полегли честно на том же поле, где стояли. Только воевода Сфенкел с немногой дружиной пробил себе дорогу и ушел к Святославу.
Овладев Преславой, император радостно праздновал в ней день Св. Пасхи. К Святославу он отправил русских пленных рассказать, что случилось, и объявить русскому князю, чтобы немедленно выбирал одно из двух: или с покорностью положил бы оружие и, испросив прощения в дерзости, тотчас удалился бы из Болгарии; или готовился бы защищаться и принять конечную погибель.
Святослав, услышав эти вести, печалился и досадовал, но «побуждаемый скифским своим безумием и надменный победой над болгарами, надеялся скоро победить и греков и потому с готовностью собирался встретить императора у Дористола». Дористол был то место, где царь Константин после одержанной победы над скифами увидел на небе крестное знамение и слышал глас с неба: «Сим победиши!» В память этого чуда он и основал здесь город.
Цимисхий спустя несколько дней двинулся к Дористолу и на пути побрал много болгарских городов, которые, отложившись от Руси, сдавались ему беспрекословно. Тогда, чтобы приостановить измену болгарского населения, Святослав захватил всех знатных родом и богатых болгар, числом до 300 человек, и всем велел отрубить головы, а прочих в оковах запер в темницы. Таких было, конечно, 20 тысяч, как уверяет Кедрин, но мы уже знаем, что означало это присловье.
На борьбу с царем Святослав вывел всю свою дружину числом до 60 тысяч человек[149]. Сомкнув щиты и копья наподобие стены, русские встретили греков, действительно как несокрушимая стена. Началась сильная битва и долго стояла с обеих сторон в равновесии. Сражение колебалось, и победа до самого вечера казалась неизвестной. Двенадцать раз та и другая рать обращалась в бегство. Греческая конница, предводимая самим императором, который сам бросил первое копье, и здесь решила дело. Руссы не выдержали, рассыпались по полю, побежали и затворились в городе. Греки пели победные песни, восхваляли императора, а он раздавал им чины, угощал пирами и тем возбуждал их воинственность.
Император стал под городом, укрепивши свой лагерь рвами и валами. Он все-таки очень боялся руси. Сделавши один безуспешный приступ, он боялся начать осаду и поджидал огненосных кораблей. Как скоро эти страшные корабли показались на Дунае, греки подняли радостный крик. Русские были объяты ужасом – они пуще всего боялись этого мидийского огня. В этой боязни русские поспешили убрать свои ладьи поближе к стенам города. На другой день, с длинными, до самых ног, щитами, в кольчужных бронях, они снова вышли в поле переведаться с греками. Опять такая же отчаянная битва и равенство сил. Попеременно то та, то другая сторона преодолевала до тех пор, пока один из греков не поразил копьем храброго великана Сфенкела. Потерявши воеводу, руссы отступили.
Тут один греческий богатырь, Феодор Лалакон, побил их множество своей железной булавой, размахивая во все стороны, он раздроблял ею и шлемы, и головы.
С прибытием огненных лодок, запиравших выход по Дунаю, Святослав увидел, что надо сесть в крепкую осаду, и потому в ту же ночь укрепил город глубоким рвом. Но у него недоставало главного – съестных припасов. Добывать их приходилось каким-либо отчаянным способом. И вот, в одну темную ночь, когда лил с неба пресильный дождь, блистала страшная молния и гремели ужасные громы, две тысячи руссов садятся в свои утлые однодеревки и отправляются отыскивать хлеба. Они успели обшарить все добрые места далеко по берегам реки и возвращались уже домой. В то время заметили они на одном берегу греческий обозный стан – людей, поивших коней, собиравших дрова и сено. В одну минуту они высадились из лодок, обошли греков через лес, внезапно разгромили их до последнего и с довольной добычей воротились в крепость. Весть об этом походе сильно поразила царя. Он объявил своим воеводам, особенно корабельным, смертную казнь, если вперед случится что-либо подобное. С той поры руссы еще теснее были окружены в своем городе. Повсюду выкопаны были рвы, поставлена стража и по берегу, и по реке, чтобы окончательно сморить осажденных голодом. Это было одно средство воевать с русью, потому что она вовсе не думала прятаться от врага и наносила ему страшные беспокойства своими вылазками. На одной вылазке, когда руссы очень старались истребить греческие осадные орудия, выехал на них сам воевода, близкий родственника царю, Иоанн Куркуй. Он был во хмелю и потому скоро слетел с лошади. Превосходные доспехи, блистающая золочеными бляхами конская сбруя навели русских на мысль, что это сам государь. Они бросились на него и мечами и секирами изрубили его в мелкие части, вместе и с доспехами. Отрубленную голову вздернули на копье и поставили на башне, потешаясь, что закололи самого царя. Летописцы замечают, что воевода Иоанн Куркуй потерпел достойное наказание за безумные преступления против священных храмов. Он, говорят, ограбил многие церкви в Болгарии; ризы и священные сосуды переделал в собственные вещи.
Ободренная этим делом русь на другой день снова вышла в поле и построилась к битве. Греки двинулись на нее густой фалангой. Русский воевода, первый муж после Святослава, именем Икмор, с яростью врезался со своим отрядом в эту фалангу и без пощады побивал греков направо и налево. Тогда один из греческих богатырей, Анема, извлек свой меч и, сильно разгорячив коня, бросился на исполина и поразил его так, что отрубленная вместе с правой рукой голова отлетела далеко на землю. Руссы в изумлении подняли ужасный крик и вопль. С криком радости, тем поспешнее, бросились на них греки. Руссы дрогнули. Закинув щиты на спину, они начали отступать к городу. Греки преследовали их и побивали. После этой битвы греки, обдирая трупы убитых для добычи, находили и женщин, которые в мужской одежде сражались, как храбрые мужчины.
Здесь Лев Диакон рассказывает, что «как только наступила ночь и явилась на небе полная луна, руссы вышли на поле, собрали все трупы убитых к городской стене и на разложенных кострах сожгли, заколов над ними множество пленных и женщин. Совершив эту кровавую жертву, они погрузили в струи Дуная живыми младенцев и петухов. Они всегда совершали над умершими жертвы и возлияния, потому что уважали эллинские таинства, которым научились или от своих философов, Анахарсиса и Замолксиса, – прибавляет ритор, – или от товарищей Ахилла. Ахилл ведь тоже был родом скиф, чему ясным доказательством служат: покрой его плаща с пряжкой, навык сражаться пешим, светло-русые волосы, голубые глаза, безумная отважность, вспыльчивость и жестокость, за что порицает его Агамемнон в сих словах: “Тебе приятны всегда споры, раздоры и битвы!” Тавроскифы (руссы) еще и ныне обыкновенно решают свои распри убийством и кровию. Нечего говорить о том, что русский народ отважен до безумия, храбр, силен, что нападает на всех соседственных народов. Об этом свидетельствуют многие, – прибавляет Л. Диакон, – и даже божественный Иезекиил об этом упоминает в следующих словах: “Се аз навожу на тя Гога и Магога, князя росс”».
Рассуждения византийского ритора очень любопытны. Они показывают, как наша Русь своими подвигами действовала на воображение тогдашних греков и как греческая литература того времени успела связать с русским именем все лучшие предания о скифах, не забывая в том числе и Ахилла, Пелеева сына, и Гога и Магога. В этом отношении очень примечателен и портрет Ахилла в воображении Льва Диакона. Он вполне точно обрисовывал портрет Святославовой руси, а потому и для нас должен служить первым достовернейшим изображением, так сказать, живого лица Древней Руси.
Настал день после этих обрядов и кровавых жертв. Святослав стал думать с дружиной: как быть и что предпринимать дальше? Одни советовали тихо, в глухую ночь, сесть на суда и спасаться бегством. Другие говорили, что лучше заключить мир с греками и таким образом сохранить по крайней мере остаток войска, ибо уплыть тайно невозможно: «Огненные корабли с обеих сторон стоят у берегов и зорко стерегут нас!» Все в один голос советовали прекратить войну. Тогда Святослав, вздохнув от глубины сердца, сказал дружине: «Если мы теперь постыдно уступим грекам, то где же слава русского меча, без труда побеждавшего врагов; где слава русского имени, без пролития крови покорявшего целые страны! До этой поры русская сила была непобедима! Деды и отцы наши завещали нам храбрые дела! Станем крепко. Нет у нас обычая спасать себя постыдным бегством. Или останемся живы и победим, или умрем со славой! Мертвые срама не знают, а убежавши от битвы, как покажемся людям на глаза?» Так говорил Святослав.
Лев Диакон замечает при этом следующее: говорят, что побежденные руссы никогда живые не сдаются неприятелям, но, вонзая в чрево мечи, убивают себя. Они это делают в том веровании, что убитые в сражении на том свете поступают в рабство к своим убийцам.
Дружина не могла устоять против этой речи, и все восторженно решили лечь костьми за славу русского имени.
24 июля 971 года, рано на заре, все руссы под предводительством князя вышли из города и, дабы никто в него не возвратился, крепко заперли все городские ворота. Настала битва жестокая. К полудню греки, палимые солнечным зноем, томимые жаждой, почувствовали изнеможение и начали отступать. Руссы, конечно, еще больше горели от зноя и жажды, но теснили греков жестоко. Опять является на помощь император, воодушевляет греков, повелевает принести вина и воды. Утолив жажду, греки снова вступают в бой; но сражение идет равносильно, не поддается ни та, ни другая сторона. Вот греки лукаво побежали. Руссы бросились за ними. Но это была только хитрая уловка вызвать русь в далекое поле. Произошла еще более ожесточенная схватка. Здесь греческий воевода Феодор Мисфианин упал с убитого коня. Обе рати бросились к нему, одни хотели изрубить его, другие хотели его спасти. Воевода успел сам себя защитить. Он, схватив за пояс одного русса и размахивая им туда и сюда, наподобие легкого щитика, отражал удары копий и мечей. Греки вскоре спасли своего героя, и оба воинства, не уступив друг другу, прекратили битву.
Испытавши такой натиск, видя, что с русью вообще трудно бороться, не ожидая и конца этой борьбе, царь Иоанн задумал решить брань единоборством и послал к Святославу вызов на поединок. «Лучше смертью одного прекратить борьбу, чем помалу губить и истреблять народ, – говорил он. – Из нас двоих кто победит, тот пусть и останется обладателем всего!» Святослав не принял вызова. Быть может, хорошо зная, что здесь могла скрываться какая-либо хитрость льстивого грека, он с презрением ответил царю: «Я лучше своего врага знаю, что мне полезно. Если царю жизнь наскучила, то на свете есть бесчисленное множество других путей, приводящих к смерти. Пусть он избирает, какой ему угодно!» По всему видно, что этот вызов был только хитрой проволочкой дела с целью приостановить битву и собраться с силами. Император в это время успел отрезать руссам возвращение в крепость, что, конечно, возбудило еще больше их стойкость и неустрашимость. С новой яростью восстало кровопролитное побоище. Обе стороны боролись отчаянно. Долгое время не было видно, кто останется победителем. Греческий богатырь Анема, поразивший накануне Икмора, напал теперь на самого Святослава, который с бешенством и яростью руководил своими полками. Разгорячив коня несколькими скачками в разные стороны (причем всегда побивал великое множество неприятелей), Анема поскакал прямо на русского князя, поразил его в плечо и повергнул на землю. Только кольчужная броня и щит спасли Святослава от смерти. Зато богатырь тут же погиб вместе с конем под ударами русских копий и мечей. Кедрин говорит, что удар был «нанесен мечом посреди головы» и что только шлем спас поверженного князя. В ярости с громким и диким криком руссы бросились на греческие полки, которые наконец не выдержали необыкновенного стремления и стали отступать. Тогда сам император с копьем в руке храбро выехал со своим отрядом навстречу и остановил отступление. Загремели бубны, зазвучали трубы: греки вслед за царем оборотили коней и быстро пустились на неприятеля. Тут внезапно приблизилась с юга свирепая буря, поднялась пыль, полил дождь прямо в глаза русской рати, и, говорят, кто-то на белом коне явился впереди греческих полков, ободрял их идти на врага и чудесным образом рассекал и расстраивал ряды руссов. Никто в стане не видывал этого воина ни прежде, ни после битвы. Его долго и напрасно искали и после, когда царь хотел достойно его наградить. Впоследствии распространилось мнение, что это был великий мученик Феодор Стратилат, которого царь молил о защите и помощи. Да и случилось, что эта самая битва происходила в день празднования памяти святого Феодора Стратилата. Сказывали еще, что и в Царьграде, в ночь накануне этой битвы, некая девица, посвятившая себя Богу, видела во сне Богородицу, говорящую огненным воинам, ее сопровождавшим: «Призовите ко мне мученика Феодора!» Воины тотчас привели храброго вооруженного юношу. Тогда Богоматерь сказала ему: «Феодор! Твой Иоанн (царь), воюющий со скифами, в крайних обстоятельствах, поспеши к нему на помощь. Если опоздаешь, то он подвергнется опасности». Воин повиновался и тотчас ушел. С тем вместе исчез и сон девы.
Предводимые верой в святое заступничество, греки одолели русских и гнали их, побивая без пощады, до самой стены города. А ворота в городе уже успел затворить Варда Жестокий.
Сам Святослав, израненный и истекавший кровью, не остался бы жив, если б не спасла его наступившая ночь. Говорят, в этой битве у руссов было побито 15 тысяч человек, взято 20 тысяч щитов и множество мечей; а у греков убитых сосчитали только 350 человек и множество раненых. В таких случаях мера хвастовства всегда определяет меру испытанного страха и опасности.
Святослав всю ночь печалился о побиении своей рати, досадовал и пылал гневом, говорит Дев Диакон. Но, чувствуя, что все уже потеряно, и желая сохранить остаток дружины, он стал хлопотать о мире. На другой день утром он послал к царю мирные условия, которые состояли в следующем: русские отдадут грекам Дористол и возвратят пленных; совсем оставят Болгарию и возвратятся на своих судах домой; для чего греки должны безопасно пропустить их суда, не нападая на них с огненными кораблями. Затем греки позволяют свободно привозить к ним из Руси хлеб и посылаемых из Руси в Царьград купцов считают по старому обычаю друзьями.
Цимисхий весьма охотно принял предложение мира, утвердил условия и дал на каждого из русской рати по две меры хлеба. Тогда получивших хлеб было насчитано 22 тысячи. Столько осталось от 60 тысяч; прочие 38 тысяч пали от греческого меча.
Русское предание ничего не говорит о борьбе Святослава с самим царем при Дористоле (Дерестре) и прямо оканчивает свою повесть последним решением Святослава взять у греков мир. Но в этом месте в летописи существует видимый пропуск[150]. От славной победы у Адрианополя сказание вдруг переносится к последним переговорам о мире. Святослав думает сначала сам про себя: «Дружины мало, многие в полку погибли… Что, если какой хитростью греки избиют остальную мою дружину и меня? Пойду лучше в Русь и приведу больше дружины». С этой мыслью он посылает сказать царю: «Хочу иметь с тобой мир твердый и любовь». Царь обрадовался и прислал дары больше первых. Принявши дары, Святослав стал рассуждать с дружиной: «Если не устроим мира с царем, а он узнает, что нас мало, и придет и обступит нас в городе, – что тогда? Русская земля далече, печенеги с нами воюют, кто нам поможет? Возьмем лучше мир с царем, благо он взялся давать дань. И того будет довольно нам. А не исправить дани, тогда соберем войска больше прежнего и вновь из Руси пойдем к Царюграду». Эта мысль полюбилась всем. Тотчас отправили к царю послов с решением: «Так говорит наш князь: хочу иметь любовь с греческим царем, совершенную на все лета».
Летописец опять списывает документ с подлинника. Из слов документа видно, что на основании уже бывшего совещания или договора, при Святославе и при Свенельде, теперь написана особая хартия при после царя, Феофиле, в Дерестре, где, стало быть, русь оставалась до окончательного заключения мира.
По своему существу эта хартия есть только утвердительная клятвенная запись, которую греки потребовали, вероятно, для большего уверения в исполнении сделанного уговора. Святославу бояре и вся Русь поклялись иметь мир и любовь со всеми (и будущими) греческими царями; никак и никогда не помышлять и никого другого не приводить на Греческую страну, и на Корсунскую с ее городами, и на Болгарскую; если и другой кто помыслит, то воевать и бороться с ним за греков. Клялись опять Перуном и Волосом.
Шлецер, прочтя приятно и подробно описанную историю этой войны у византийцев, напал со свойственным ему ожесточением на нашего летописца, упрекая его «в нестерпимо глупом, самом смешном хвастовстве и очевидном противоречии самому себе», не только византийцам. «Русский временник, – говорить он, – в сем отделении подвергается опасности потерять к себе всякое доверие и лишиться всякой чести». Критик, однако, утешает себя надеждой, что «найдутся, быть может, списки, в которых все это рассказывается иначе…». «Когда руссы теряют сражение за сражением, город за городом, – продолжает критик, – тут именно побитые руссы получают от победителей большие дары, кои они называют данью и проч. Глупый человек, лгавший так безрассудно, верно, думал, что патриот непременно должен лгать! <…> Напротив того, византийским временникам я верю во всем», – утверждает критик и употребляет старание действительно во всем их оправдать[151], даже и в несообразности чисел побитого русского войска, прибавляя, что «с тем и рассуждать нечего, кто прямо говорит, что византийцы лгут, а один Нестор только говорит правду».
Здесь увлечение знаменитого критика именно своею критикой, направленной только на Нестора, высказалось в полной силе. К сожалению, он задался одной мыслью, что если конец Святославовой войны был несчастлив, то, следовательно, и ее начало, и все ее продолжение тоже не могло быть счастливо. Византийцы рассказали, что с самого начала Святослав терпел постоянные поражения; но они же при описании каждой битвы отмечают, что дело на обе стороны происходило равно успешно и что только ночь и всегда одна ночь мешала совсем истребить русское войско; что если греческие герои проигрывали и падали, то по большей части оттого, что бывали во хмелю. Русское предание ставит одну битву, самую начальную, и говорит, как бы делая общую оценку и всех других побоищ, что она была трудна, что Русь испугалась множества войска и что Святослав едва одолел. Затем он воюет дальше и грады разбивает до самого Адрианополя, о чем утверждают и византийцы. Русское предание вообще выставляет на вид, что борьба шла с великим трудом и опасностями и что, главное дело, у Святослава не было достаточно войска. Русский герой почти на каждом шагу старается обмануть греков количеством своего войска и постоянно заботится о том, как бы не погибла вся дружина.
Скромное хвастовство (а вернее всего, пропуск) русского предания заключается лишь в том, что оно позабыло или вовсе не хотело упоминать о трудных и все-таки достославных для Руси битвах у Дористола, которые продолжались целых три месяца и нисколько не укрощали Святослава. Он при всяком случае постоянно и свободно вылезал из города и наносил врагу удар за ударом, так что Цимисхий принужден быль звать его лучше на единоборство.
Шлецер, прочитавши Льва Диакона, приятно и подробно написавшего похвальное слово Цимисхию, до того сделался пристрастен к этому герою, что прямо уже говорит, вопреки самому панегиристу, что Дористол был взят, только неизвестно как.
Дористол был оставлен по договору о мире самим Святославом, запросившим мира, по благоразумному рассуждению всей дружины, что в голоде и без всякой помощи со стороны воевать дальше невозможно. Об этом подробнее других рассказывает Кедрин. «Все обстоятельства брани стекались к утеснению россиян, – говорит он. – Им не оставалось надежды получить от других себе помощь; единоплеменники их находились далече, а соседи, венгры, печенеги, боясь греков, отреклись от всякого вспомоществования. Болгарская земля (не ведая своего настоящего врага) город за городом отдавалась в руки грекам. Что оставалось делать? Бедствовали руссы в припасах, ибо ниоткуда их нельзя было достать; греческие корабли на Дунае тщательно за этим наблюдали. Между тем к грекам повседневно притекало обилие всех благ, и прибавлялись силы, конные и пешие…»[152] Вот что говорит Кедрин.
И все-таки честь русского меча нисколько не была оскорблена. Этот меч не вырвали из рук у Руси и не принудили положить его после кровавого дела. Напротив, его страшились до последней минуты. Последнюю победу над Русью, как видели, одержала собственно буря, отчего византийцы и приписывали свой успех чудесному заступлению святого Феодора. Цимисхий так был рад и так благословлял благополучный для него конец этой войны, что: 1) выстроил великолепный храм над мощами святого Феодора и на его содержание определил великие доходы. Самый город, где почивали мощи, вместо Евхании проименовал Феодорополем; 2) выстроил во дворце новый храм Спасителю, не пощадив никаких издержек на великолепное его украшение; 3) отложил обременительную народную подать с домов; 4) повелел на монетах изображать образ Спасителя и на обеих сторонах начертывать слова: «Иисус Христос. Царь царей», чего прежде не бывало и что соблюдали и последующие императоры. Все это показывает, в какой степени была опасна и тяжела для греков борьба с Русью. Все это служит также свидетельством, что русское предание без всякого хвастовства рассказывает одну полную правду и излагает дело вполне исторически, т. е. в его существенных чертах. Оно рисует достовернейший общий очерк всего события, всех битв, всех переговоров, всех обстоятельств войны и всех отношений к грекам. Это общий приговор народной памяти над совершившимся народном делом. Все русское патриотическое хвастовство, которое так смутило Шлецера, высказывается лишь в одном обстоятельстве, что Святославу греки давали дары и соглашались платить дань. Они это непременно и исполнили, чтобы удалить его от Адрианополя, где, по всей видимости, заключен был мир, усыпивший Святослава в его Переяславце – до того, что Цимисхий коварным образом мог свободно и спокойно перебраться через Балканы. Выдача Цимисхием хлеба на каждого ратника в глазах русских была тоже данью; иначе эту помощь и назвать было нельзя, потому что в простом рассуждении данью называлось все то, что давали. О дарах Ольге в царском дворце «Паломник» Антония выражается также, как о дани: «Когда взяла дань, ходивши к Царюграду». Понятие о дани, конечно, выражало народную гордость, но в настоящем случае оно имело большие основания выражаться так, а не иначе. Эту черту народной гордости летописец занес в свою летопись, как обычное присловье в рассказе о последствиях войны. Но он тут же занес в летопись и свою исповедь о том тяжелом затруднении, в каком находилась Русь, и привел самый документ, нарисовавший в полной истине русскую неудачу.
Святослав, до того времени никогда не побеждаемый, вовсе не знавший, что значит уступать в чем бы ни было врагу, конечно, очень желал поглядеть на этого богатыря, с которым он не успел сладить, у которого принужден был просить не пощады, что было страшное слово, несбыточное дело, а просить мира и прежней любви. «По утверждении мира, – говорит свидетель события, – Святослав просил позволения у греческого царя прийти к нему для личных переговоров. Цимисхий, вероятно, и сам очень желал посмотреть на этого Святослава и потому согласился на свидание. В позлащенном вооружении, на коне приехал он к берегу Дуная, сопровождаемый великим отрядом всадников в блистающих доспехах». В это время «Святослав переезжал через реку в некоторой скифской ладье и, сидя за веслом, работал наравне с прочими, без всякого различия. Видом он был таков: среднего роста, не слишком высок, не слишком мал, с густыми бровями, с голубыми глазами, с плоским (т. е. обыкновенным. – Примеч. авт.) носом, с бритой бородой и с густыми длинными усами. Голова у него была совсем голая, но только на одной ее стороне висел локон волос, означающий знатность рода; шея толстая, плечи широкие и весь стан довольно стройный. Он казался мрачным и диким. В одном ухе висела у него золотая серьга, украшенная двумя жемчужинами с рубином посредине. Одежда на нем была белая, ничем кроме чистоты от других неотличная (следовательно, простая сорочка. – Примеч. авт.). Поговорив немного с императором о мире, сидя в ладье на лавке, он переправился обратно».
Картина достопамятная! На берегу Дуная съехались посмотреть друг на друга две власти, руководительницы двух различный земель. Одна уже создавшая и державшая громадное и богатейшее государство, раззолоченная и обремененная ласкательством и поклонением, аки богу, вечно колеблющаяся, вечно трепещущая от заговоров и предательства, исхитренная до последней мысли, вполне зависимая от своих милостивцев, робкая, но кровожадная, никогда не разбирающая никаких злодейских средств к своему достижению. Другая – еще только искавшая землю для создания государства и потому с Ильмень-озера перескочившая на Днепр, а теперь овладевшая было Дунаем; еще бедная, неодетая, в одной сорочке, но без обмана, прямая и твердая, вполне зависимая от той мысли, что она у своего народа только передовой работник, для которого меч, как и весло, – свойское дело, лишь бы достигнута была народная цель; власть, ничем себя не отличающая от народа, не имеющая и понятия о божественном себе поклонении, простодушная, как последний селянин ее земли, жившая в братском доверии к дружине и ко всей земле.
Победив русских и захватив Болгарию, как завоевание, разом совершив два подвига, Цимисхий с великим торжеством возвращался в Царьград. Патриарх со всем духовенством, все вельможи и граждане у стен города встретили его похвальными и победными песнями, вручив ему знаки торжествующего победителя, драгоценные скипетры и златые венцы[153]. Для торжественного въезда в город ему изготовили великолепную колесницу, обитую золотом и запряженную четверкой белых коней. Венцы и скипетры император принял, но сесть в колесницу отказался. Он являл смирение и скромность. Он постановил в колесницу взятую в Болгарии икону Богородицы, а на златой беседке колесницы, как трофеи, расположил багряные одеяния и венцы болгарского царя. Сам же на быстром коне, увенчанный диадемой, следовал позади, держа в руках знаки победы – венцы и скипетры. Весь город был убран как брачный терем. Повсюду были развешены багряные одежды, золотые паволоки, лавровые ветви. Окончив шествие, царь вступил в храм Св. Софии и, совершив благодарственные моления, посвятил Богу великолепный царский венец Болгарии, как первую и главную корысть победы. После того он шествовал во дворец в сопровождении болгарского царя Бориса, где торжественно повелел бедному царю сложить с себя царские знаки – шапку, обложенную пурпуром, вышитую золотом и осыпанную жемчугом, багряную одежду и красные сандалии. Взамен царского достоинства он возвел его в достоинство магистра императорского дворца, что равнялось званию первостепенного боярина.
В то самое время, как Цимисхий с такими победоносными ликованиями и торжествами на златых колесницах и золотом убранных конях вступал в Царьград, Святослав плыл по морю домой в своих однодеревках. Он хотел пройти в Киев обычным торговым путем, через Пороги. Старый Свентельд[154], соображая верные обстоятельства, советовал идти в обход на конях затем, что в Порогах следовало непременно ожидать печенежской засады. Византийские летописцы невинно объясняют, что Цимисхий, по просьбе самого Святослава, послал к печенегам просить союза и дружбы для греков, а для Руси свободного пропуска через их земли; что печенеги согласились на все и отказали только в этом пропуске. Но греки, по обычаю, коварствуют в этих словах. Всегдашняя политика греков относительно своих врагов поступала иначе. К печенегам они наверняка поспешили послать именно затем, что нельзя ли совсем избавиться от Святослава и совсем истребить его полки. Посольское дело, не иначе как в таком смысле, исполнил Феофил, архиерей Евхаитский, который, как видели, находился и при составлении клятвенной записи Святослава[155]. Надо полагать, что если б Святослав пошел и на конях, случилось бы все то же. После греческого посольства он мог пройти в Киев только утайкой, кривой дорогой, или же проложить себе прямой путь мечом.
Но он надеялся на греческую правду, верил слову царя, что печенеги не тронут, ибо послано даже посольство с просьбой об этом. «Не ходи, князь, к Порогам, стоят там печенеги», – говорил Свентельд. Святослав не послушал и пошел в ладьях. Он не послушал и по той причине, что князю нельзя же было покинуть на произвол судьбы свою дружину. Это поставлялось в великую и благороднейшую обязанность каждому вождю. Возможно ли было оставить лодочный караван, главную силу Руси, без вождя и защитника? Не говорим о том, что в лодках наверное сохранялось много болгарского и греческого добра, всякой военной добычи.
«А переяславцы, – говорит и наша летопись, – послали к печенегам, сказывая: “Вот идет вам Святослав в Русь, в малой дружине, взял у греков многое богатство, и полон бесчисленный!”» Печенеги обступили Пороги. Святослав, увидевши, что пройти нельзя, спустился назад и стал зимовать в Белобережье. Тут у руси не хватило хлеба, настал великий голод, за лошадей платили за голову по полугривне и питались, конечно, одной рыбой. С наступлением весны и нового года, 972-го, Святослав все-таки пошел в Пороги. Печенежский князь Куря ожидал в засаде, напал на него и убил, побивши на месте и всю дружину. Только один Свентельд спасся на конях и воротился в Киев. Из черепа, по обычаю скифской земли, печенежский князь сделал себе чашу – братину и пил из нее в память своей победы над русским князем.
Через четыре года после того, другой герой нашей брани, Цимисхий, опоен был ядом и помер мучительной смертью, как умирали многие из греческих царей.
Третий герой, заводчик всей этой брани, Калокир (вероятно, он, прозываемый уже Дельфином), погиб в 989 году, подступив к Царьграду с той стороны пролива воеводой от Варды Фоки, все еще искавшего царского престола. Царь Василий, против которого он пришел воевать, выслал в кораблях тех же руссов, присланных уже Владимиром и тотчас покончивших дело. Калокира захватили и на том же месте, где стоял его шатер, вздернули на дерево, а Лев Диакон говорит, что царь посадил его живого на кол[156].
Звезда Святослава закатилась прежде, чем он мог выразить и высказать вполне все то, что таилось в его замыслах и намерениях; прежде, чем он мог показать себя, был ли он достойным сыном Ольги не только на бранном поле, но и в устройстве народном. Видимо только, что он хорошо понял значение Переяславца, т. е. значение срединного города на Дунае, не в военном, а именно в торговом, в промышленном отношении. Он был еще в молодой поре, когда говорил, что Переяславец ему любезен, потому что туда сходятся все блага, а стало быть, ему любезна была не одна война, но и жизнь посреди всяких благ торгового быта. Вся жизнь его была одним беспрерывным походом, но напрасно думают, что это был искатель приключений, задорный вояка, вроде какого-нибудь славного разбойника по норманнскому образцу. Его войны были исполнены великого значения для Русской земли. Он воевал для утверждения русской силы, для распространения русского могущества, именно на торговых путях. Он прочищал торговые дороги, широко отворял ворота русскому промыслу. В самой Болгарии ему особенно полюбилось только устье Дуная, где находились торговые ворота от богатых прикарпатских и придунайских земель. Он не хотел забираться внутрь Болгарской страны, чего не оставил бы без внимания простой, так сказать, рядовой завоеватель. Ему главным образом надобен был берег моря, хорошая, безопасная, скрытая от врагов пристань. А таков и был Дунайский Переяславец. И последняя мечта Святослава заключалась именно в том, чтобы иметь мирное княжение в Дунайском, а не в Балканском Переяславце, и притом в крепком союзе с будущим греческим царем Калокиром. Он в этом не преуспел, его мечты не сбылись, но все-таки он оставил Русь более сильной и страшной для соседей, чем она была при Игоре и Олеге.
Самая победа над ним греков вовсе не была поражением, от которого русская народность потеряла бы бодрость и силу. Эта победа, напротив, только в большей степени раскрыла несокрушимую стойкость и неодолимую крепость русского бойца, по словам греков, неумевшего подобно кочевнику ездить лихо на коне, но умевшего стоять такой неколебимой стеной, которую пошатнуть могли только одни физические бедствия, вроде бури или голода, но отнюдь не сила и натиск врага. Для Руси Святославов поход был простой неудачей. Здесь не исполнилось только сокровенное побуждение ее внутренних сил выдвинуть свою жизнь за пороги Днепра; здесь обнаружился только еще очень молодой, слишком ранний помысл русской народности выйти из своих пустынных лесов и полей на простор действий всемирно-исторических.
Новгородская дружина завоевывает Киев. И она, стало быть, говорит: «Не хочу жить в Новгороде, а хочу жить в Киеве; там середа моей земли, там сходятся все блага!» Обиженный природой, холодный и болотный север нуждался в рынке более близком к теплой, во всех смыслах, Византии и взял его. Не проходит и ста лет, как тот же голос раздается в самом Киеве, и кто-то устами Святослава говорит: «Не хочу жить в Киеве на Днепре, а хочу жить на Дунае в Переяславце; там середа моей земли, там сходятся все блага!» Кто же отыскивает эту середу своей земли? Можно было бы приписывать это только мечтам Святослава, если б перед ним вперед не прошел по тому же направлению Олег. Мы думаем, что эта мысль отыскать середу для своей земли на самом выгодном торговом перекрестке принадлежит самому народу, той его предприимчивой доле, которая стояла впереди и смотрела с Киевских гор дальше, чем смотрели другие. Дунайская середа приближалась к самому средоточию тогдашней всемирной торговли, к Византии; следовательно, она не в мечте, а на самом деле была бы истинным средоточием торговых и промышленных дел Руси. Кому нужны были торговые договоры с греками, тем же людям необходимы были не только чистые пути во все стороны, но и выгоднейшие перекрестки или средоточия этих путей. В этом случае Святослав вовсе не был рядовым завоевателем, как мы упоминали, но был только достойным выразителем далеких стремлений и смелых побуждений самой земли. Вот по какой причине и преждевременная погибель Святослава не произвела в положении русских дел ни малейшего помешательства и никакой существенной перемены. Все пошло своим старым путем по направлению, которое сама себе указывала уже совсем окрепшая русская жизнь.
Грек отбил неуместное и очень опасное варварское соседство Руси, и русская История по-прежнему должна была уйти в свои глухие леса и степи. Конечно, прежде всего она должна была побороть этих двух богатырей, рожденных самой природой и налегавших всеми силами на молодую народность со всех сторон.
По свидетельству Льва Диакона, с Святославом пошла на Болгарию вся русская молодежь. В такие далекие и отважные походы и после всегда собирались по преимуществу только молодые люди, новая молодая дружина, конечно, под предводительством мужей, т. е. бывалых и опытных бойцов, руководивших полками. Новая дружина с ними добывала себе честь и славу и боевую опытность и в свой очередь становилась потом старшей дружиной. Дети старых бойцов – бояр становились в ряды у молодого князя и открывали с ним заодно свой путь чести и славы. Для молодых людей это было прямое и неминуемое дело жизни, прямое и неминуемое поприще начать жизненный труд и добыть себе значение мужа. Молодь, молодьшая дружина представляла в Древней Руси особую, самобытную стихию общества, особый поток жизни, которым воспитывалось каждое новое поколение, развивая в себе особые качества, неизвестные в других кругах жизни. Вот почему самая похвала человеку выразилась и до сих пор выражается словом молодец, а известная доблесть, беззаветная и удалая, свойственная только молодости, стала прозываться молодечеством. Мы видели, как собрал свою дружину молодой Святослав. Несомненно, что так собиралась дружина у каждого молодого князя. Нет также сомнения, что у каждого князя молодая дружина собиралась сама собой еще с детских лет, с детских игр. Товарищи детства становились друзьями молодости; и потому дружинники правильно говаривали: «Мы сами себе вскормили князя!» Эти бытовые отношения яснее всего раскрываются в былине, или «богатырском слове», про Волха Всеславьевича, которое, по всей видимости, и самым именем героя рисует дела княжеские.
А и будет Волх во двенадцать лет, Стал себе Волх он дружину прибирать, Дружину прибирал в три годы, Он набрал дружины себе семь тысячей; Сам он Волх в пятнадцать лет И вся его дружина по пятнадцати лет… Волх поил, кормил дружину хорабрую, Обувал, одевал добрых молодцев…И так Святослав повел в Болгарию по преимуществу молодые полки, для которых, конечно, в числе различных добыч, какими всегда обогащались ратные люди, не последнее место занимали и добрые девицы, красавицы невесты, тем более что, и по домашним обычаям, невесты обыкновенно добывались умыканием, кражей, пленом. Пленение людей было коренным законом тогдашней войны. Это была первая и очень важная добыча. Из договоров с греками мы видели, что пленные составляли рядовой товар, имевший даже определенную ходячую цену, как калач.
Во всех тогдашних войнах больше всего подвергались плену женщины и дети, ибо мужчины и в плену были опасны, а потому в затруднительных случаях, когда невозможно было их сторожить, они чаще всего избивались, как опасная сила. Мы видели также, что выше других ценились добрые юноши и девицы, меньше ценились средовичи, а старики и дети в половину против юношей. При многочисленном пленении, конечно, самым дешевым товаром оставались все-таки женщины, о чем всегда с усмешкой поговаривают и наши былины, прибавляя, что добрых молодцев полонили станицами, красных девушек пленицами, добрых коней табунами. Пленицей называлась связка плотов, вообще плетеница, сплетенье, как, вероятно, и водили связанных пленных. Та же былина о Волхе знакомит нас и с прямой мыслью молодой дружины при выборе пленных. Волх с дружиной вторгнулся в славное царство Индейское.
А всем молодцам он приказ отдает:
Гой еси вы, дружина хорабрая! Ходите по царству Индейскому, Рубите старого, малого, Не оставьте в царстве на семена; Оставьте только вы по выбору Не много не мало семь тысячей, Душечки красны девицы… И тут Волх сам царем насел, Взявши царицу Азвяковну, А и молоду Елену Александровну; А и та его дружина хорабрая И на тех на девицах переженилася.Святослав совершил два опустошительных похода в Болгарию и в оба похода возвращался в Киев с бесчисленной добычей. Побежденный, он возвращался домой тоже с бесчисленным полоном, как уведомляли печенегов болгары, которые на этот раз, быть может, и преувеличивали свое показание, но тем самым свидетельствовали вообще, что Русь без полона домой не возвращалась. Во всяком случае, можно с достоверностью полагать, что русская молодая дружина добыла себе в этих походах не только невест, но и простых рабынь и привела с собой немалое число и других пленников. Сам Святослав привел сыну Ярополку в жены красавицу черничку. Сын был еще малый отрок, но, вероятно, и черничка-болгарыня была еще отроковица.
Болгары уже целых сто лет были христианами, а потому завоевание Болгарии в некотором отношении было завоеванием христианских понятий, христианских порядков жизни, христианских нравов и обычаев, которые привезены были в Киев именно вместе с пленниками и распространились по городам и всюду, куда разошлись по домам храбрые дружинники. Известно из истории, какие услуги оказаны распространением христианства между варварами-язычниками, преимущественно женщинами, посредством царственных браков, а более всего путем браков от плена.
С другой стороны, сама дружина, ходившая по Болгарии, жившая там почти четыре года, желавшая совсем там остаться, – сама дружина от беспрестанных домашних и общественных сношений с христианами должна была во многом поколебать свои языческие понятия и нравы и тем вполне подготовить себя к великому событию, совершившемуся спустя только 20 лет после ее возвращения в Киев, хотя бы и в незначительном остатке. Как бы ни было, но жизнь в Болгарии не могла пройти бесследно для переработки русского дружинного общества. Если об этом ни слова не говорят летописные известия, то громко говорят последующие события русской истории, и главным образом водворение христианства, совершенное с таким спокойствием, какое возможно только при достаточной и очень давней подготовке умов, понятий и самых нравов народа.
Нам уже известно, что Святослав, уходя совсем в Болгарию, оставил Русскую землю троим своим сыновьям, по возрасту еще отрокам, которые, конечно, не могли сами владеть и держать в своих детских руках розданных им княжений: Киевское, Древлянское и Новгородское. Примерно старшему из них, Ярополку, было теперь не более 12–15 лет.
Предержащая власть, таким образом, и во время отсутствия Святослава, и теперь, после его смерти, оставалась в каждом княжестве в руках старших людей дружины. О самом малолетнем княжиче, Владимире, летопись прямо говорит, что он находился на руках дядьки Добрыни, который и подговорил новгородцев взять его себе князем. Он, должно быть, знал наперед, что может случиться. К Ярополку воротился отцовский воевода Свентельд. Об Олеговом воеводе не сохранилось известия. Одно верно, что теперь Русской землей владела и управляла дружина, разделенная на три доли и разобщенная особыми выгодами трех отдельных волостей. Еще при Игоре древлянской данью пользовался Свентельд. Теперь ею владел княжич Олег со своей дружиной. Не далее как через два года случилось, что сын Свентельда, именем Лют, выехал из Киева на охоту и, гоняя за зверем, вероятно, по старому данничему пути своего отца, забрался в древлянские леса. Там увидел его Олег, который тоже творил ловы, гонял зверя; спросил, что это за человек, и узнав, что это Свентельдич, объехал его и убил, как зверя. Быть может, прав был Олег, убивши заехавшего в чужую волость ловца зверей, но по уставу кровавой мести прав был и Свентельд, не забывая такой обиды. С той поры встала ненависть Ярополка на Олега. Отец убитого, неизменно обязанный мстить за сына, неотступно стал говорить Ярополку: «Пойди на брата и возьми его волость». Есть прямое свидетельство[157], что Свентельд поссорил их именно за звериные ловища. Однако только еще через два года представился повод к походу. Полки сошлись. Олегов полк не выдержал и быстро побежал со своим князем в город Овруч, где у самых ворот на городском мосту, от тесноты и давки, Олег упал под мост в дебрь – болото – и был задавлен падавшими туда же людьми и конями. Труп его полдня искали под грудами погибших: он был на самом дне; наконец нашли, вынесли наверх и положили на ковре. Ярополк горько заплакал над братом и вымолвил Свентельду: «Гляди! Вот чего ты хотел!» Олега похоронили у города Овруча. Есть и теперь там могила его, прибавляет летописец.
Ярополк завладел Древлянской землей, т. е. завладела ею Ярополкова, или киевская, дружина со Свентельдом во главе.
Устрашился этого дела и Владимир в Новгороде, опять по причине того же кровавого устава мести. Ведь он оставался единственным мстителем за кровь брата. Ярополк должен был ожидать от него расправы каждую минуту. В таких обстоятельства и заводчики крови сами вперед поспешали разделаться со своими мстителями и старались спасти себя поголовным их истреблением. Владимир в страхе побежал за море к варягам. Так скоро разносились вести по днепровскому пути «из варяг в греки». Ярополк посадил в Новгороде своих посадников. Киевская дружина поборола всех, и Ярополк остался единовластцем всей Руси, как был его отец и дед и к чему всегда стремилась дружина всякого сильного города, находя в этом свои прямые выгоды.
Владимир убежал к варягам, потому что был слаб, потому что на самом деле оставаться было опасно. Но он не думал спасаться только бегством. Он побежал собирать у варягов войско с тем, чтобы прийти и отмстить за смерть брата.
Между тем киевская дружина, именуемая Ярополковой, делала свое дело. У нее стояла на очереди месть за погибель Ярополкова отца, Святослава, за погибель отцов и братьев, потерявших свои головы в Порогах у печенегов.
На другой год после смерти Олега Ярополк ходил на печенегов, победил их и возложил на них дань. Это так подействовало на кочевников, что один печенежский князь, Илдея, конечно, с целым своим полком или родом пришел бить челом Ярополку и просился в службу. Ярополк принял его, дал ему в кормление города и волости и стал держать его в великой чести. Быть может, печенеги в это время враждовали между собой и каждый, особенно из слабых, искал себе доброго приюта где-либо по соседству. О них в это время ничего не слышно и в греческом летописании. В тот же год к Ярополку присылал послов и новый греческий царь, Василий, возобновил с ними мир и любовь, подтвердив и уплату обычной дани, как было при отце и деде киевского князя. Возобновлять старые договоры, когда владыкой царства в Греции или великого княжества на Руси являлось новое лицо, было делом неотложного обычая и первой потребностью в международных отношениях, ибо каждый из владык мог отвечать только за себя. Поэтому греческое посольство к Ярополку при новом царе показывает только, что в мире и любви больше Руси нуждались греки. В самом деле, царь Василий в первые 10 лет своего царствования претерпевал величайшие беспокойства и от внутренних смут, и от войны с болгарами и естественно мог искать дружбу у далекой Руси. Договоры Игоря и Святослава обязывали Русь помогать грекам военной силой, и если они были возобновлены и подтверждены, то необходимо были возобновлены и те стипендии, субсидии, уклады для сбора войска, которые Русь называла данью. Впрочем, греческое посольство могло иметь и другие цели. В Киеве в это время заметно усиливалось христианство. Сам Ярополк, воспитанник христианки Ольги, женатый на чернице, своими поступками обнаруживал большую наклонность к христианским кротким нравам. По свидетельству Ольгина жития, он с братьями не был крещен только из боязни, чего бы не сотворил непокорный Святослав, следовательно, по воспитанию он был уже христианин. А город Киев уже более ста лет со времен Аскольда наполнялся христианами и после болгарских походов должен был во многом изменить свой языческий облик. Вот достаточные причины, почему в это время в Киев явилось не только греческое посольство, но с каким-то замыслом приходили послы и из Рима, от папы. Естественно, что Русь больше всего тянула к Царьграду, а не к Риму. В Риме у нее не было никаких дел, а в Царьграде гнездилась ее торговля, постоянно живали ее родные и знакомые. Очень вероятно, что и греческие, и римские послы приходили к Ярополку за одним и тем же делом, стараясь склонить готовую христову паству к своей стороне; и конечно, греки должны были успеть в этом скорее римлян.
Но пока шли переговоры и толки о перемене веры, пока мысли киевлян колебались, язычество, по естественному ходу вещей, должно было постоять за себя. Горячим его покровителем явился Владимир или его близкая дружина с Добрыней во главе. Он был тоже внук Ольги, но остался после нее малюткой. О влиянии Ольги на младенца сказать ничего нельзя, но святая рука, носившая этого младенца, должна была совершить свой подвиг и на нем. Малюткой он был увезен в Новгород, где язычество господствовало в полной силе, где оно с горячностью поддерживалось сношениями с языческим Варяжским заморьем. Если в Киеве от частых сношений с христианами-греками трудно было уклониться от влияния христианских понятий, то в Новгороде от постоянных сношений и связей с язычниками варягами точно так же было трудно устоять против обольщений крепкого язычества. Эти две украйны первоначальной Русской земли представляли две особые и разнородные силы для внутреннего развития Руси. Есть много признаков, что между ними время от времени поднималась темная борьба, о которой летописец не намекает ни словом, но которая становится очевидной из хода событий. Мы упоминали, что завоевание Киева Олегом могло быть предпринято с целью не дать особой воли возникшему там христианству; вообще с целью отнять у христианства всенародное владычество. То же самое мы можем усматривать и в первых подвигах Владимира. У варягов-славян на Балтийском поморье подобные же отношения существовали между рутенами, или русскими (ругенцами), и штеттинцами. Когда в начале XII века в Штеттине была принята Христова вера без совета с ругенцами, то между последними это произвело такую ненависть и вражду к Штеттину, что они тотчас же прервали с ним всякие торговые и другие сношения, отогнали от своих берегов его корабли, наносили ему частые обиды и, наконец, вторглись войной в его землю[158].
По летописи, Владимир с лишком два года жил у варягов заморем, собирая рать на Ярополка. Мы не сомневаемся, что он жил не у шведов, а у славянских поморян, быть может, на самом острове Руген, у тамошних руссов, или в Штеттине, или собственно у славян в Славонии ближе к устью Вислы. В X веке все это были ярые язычники.
В 980 году он пришел с варягами в Новгород, захватил его, конечно, без всякого труда и сказать посадникам Ярополка: «Идите к брату и скажите ему: Владимир идет на тебя, пристраивайся на битву». Так говаривал его отец Святослав, всегда веровавший в свою силу и отвагу; так говорил теперь Владимир, вероятно, потому, что вполне надеялся на свою варяжскую силу и на хитрые замыслы дружины. У Ярополка в это время уже не было старого Свентельда, первого заводчика крови. Его место, т. е. место первого и старшего дружинника, занимал воевода именем Блуд. Как только подошел Владимир к Киеву, этот воевода потянул на его сторону и стал руководить Ярополком сообразно своим замыслам. Конечно, такое поведение воеводы вполне подтверждает ту истину, что он давно уже сносился с новгородской дружиной и давно готовился предать своего князя. «Был он прельщен Владимиром», – говорит летопись, но могло быть, что в этих обстоятельствах он только защищал свою сторону, стоял за язычество, не хотел его покинуть и предупреждал готовившуюся опасность, видя в Ярополке и в киевской дружине большую податливость к принятию христианства[159].
Выслушав гордые речи Владимира, Ярополк смутился и стал было собирать войско, да и сам был храбр немало, замечает летопись и тем объясняет, что старший князь способен был побороть меньшего брата. В этом смысле говорил и воевода Блуд. «Не может случиться, – говорил он Ярополку, – чтобы Владимир пошел на тебя воевать. Это все равно как бы синица пошла воевать на орла. Чего нам бояться и незачем собирать войско. Напрасный будет труд и для тебя и для ратных!»
Между тем Владимир уже подступил к Киеву. Ярополк, не собравши войска, не мог его встретить в поле и затворился в городе. Владимир тоже не совсем надеялся на свои силы и укрепил свой стан окопом[160]. Отсюда он повел разговоры с Блудом, как способнее достигнуть общей цели. Лаская и приманивая к себе воеводу, он обещал ему, вероятно, еще из Новгорода, что если погубит брата, то поставить ему честь как отцу родному, будет его чтить вместо отца, будет он первым у него человеком. «Не я ведь начал побивать братью, – говорил Владимир, – но Ярополк, а я, побоявшись себе смерти, теперь пришел на него». Эти слова лучше всего объясняют тогдашнюю практику жизни, по которой убийца, боясь мести, должен был истреблять и мстителей; а мстители, зная наперед это жизненное правило и спасая себя, точно так же, по естественной необходимости, должны были волею-неволею нападать на убийцу. Да и вообще в древнее время защищать себя значило первому же и нападать на врага. Владимир прямо говорит, что пришел из боязни, ожидая себе того же убийства, и говорит это себе в оправдание, как бы утверждая, что его призывает нравственный закон жизни. Точно такие же дела между князьями-братьями делывались и в других славянских землях.
Воевода Блуд часто посылал к Владимиру, а Владимир к нему: все рассуждали, как бы покончить с Ярополком. Сначала они решили убить его на приступе, для чего Владимир должен был напасть на город. Но раскрылось, что граждане киевляне хотят постоять за своего князя. Тогда Блуд придумал лучшее: он стал клеветать на киевлян, говоря, что они ссылаются с Владимиром, зовут его: «Приступай к городу, мы Ярополка выдадим!» Советовал ему не вылезать из города на битву, а лучше тайком убежать в другой город. Ввиду такой опасности Ярополк послушался и перебрался в Родню в устье Роси, поближе к печенегам. Владимир свободно занял Киев и осадил брата в Родне.
Предатель Блуд так устроил, что в Родне запасов не хватило. Ярополк в осаде испытывал страшный голод, так что после осталась пословица на Руси: «Без хлеба, аки в Родне» или «Беда, аки в Родне». Теперь Блуд советовал князю идти на мир. «Видишь, – говорил он, – сколько войска у брата. Нам их не перебороть. Мирись лучше с братом. Иди к нему, покорись, скажи ему: “Что дашь мне (из волостей), то и возьму!”» – «Будь по-твоему», – ответил Ярополк. А Блуд тем временем послал к Владимиру с вестью: «Сбылась твоя мысль! Я приведу к тебе Ярополка, устраивай, как его убить».
Владимир сел с дружиной в отцовском теремном дворе, будто желая принять своего брата с честью и любовью. Ярополк вовсе не помышлял о засаде, шел прямо и не послушал даже своего верного дружинника, по прозванию Варяжка, который хорошо понимал, что может случиться, и говорил князю: «Не ходи князь, убьют тебя. Побежим лучше к печенегам и приведем войско!» Как только Ярополк полез в двери терема, два варяга, стоявшие по сторонам, мгновенно подняли его мечами под пазухи, а Блуд тотчас притворил двери, дабы не вошел кто из дружинников несчастного князя. Так был убит Ярополк. Верный его дружинник Варяжко от дверей терема побежал прямо в степь к печенегам. Надо полагать, что с ним побежали и другие Ярополковы дружинники, не ожидавшие себе добра от Владимира. С той поры у Владимира была беспрестанная рать с печенегами. Варяжко страшно отомстил убийце своего князя, не давая Киеву покоя многие годы. Владимир едва мог умирить его, давши клятву не мстить и никакой беды ему не сделать.
Эти две личности, Блуд – предатель, запазушная змея, как называл его Варяжко, и этот Варяжко, достославный выразитель высокой дружинной чести и преданности своему князю, мстивший за своего князя до последних сил, на первых же страницах нашей истории вполне обрисовывают и худое, и хорошее в старинных дружинных нравах.
Если к этим лицам присоединим Свентельда, первого заводчика теперешних кровавых событий, запятнавшего христианский нрав Ярополка кровавым злодейством, и дружину Игоря, вынуждающую князя беззаветно грабить народ, собирая с него чрезвычайные дани, то получим довольно полный облик тех дружинных нравов, от которых столько терпела Русская земля в течение многих столетий и которые до конца оставались одни и те же.
Наговор, наушничество и предательство заводили кровь, а месть и дружинная честь разливали ее по всей земле бесконечными потоками. Сами князья, стоящие посреди этих потоков, являлись только знаменами, орудиями и не более как выразителями дружинных пронырств во имя чести и мести.
Наше чувство отвращается от предателя Блуда и естественно влечется к честному храбрецу Вяряжко; но от его благородного и честного подвига больно досталось земле, которую он своими печенежскими набегами, как увидим, отбивал от родных полей и загонял все ближе к одному Киеву, заставивши Владимира сильно укрепить границу городами и валами по Роси, по Суле, по Стугне. Его благородная месть вмешала печенегов в русские отношения, разманила их на добычу, указавши им, что они народ надобный для русских кровавых дел.
Описывал княжение Ярополка, когда после убийства Олега он сделался единовластителем, летописец прежде всего поминает, что была у него жена грекиня-черница, за красоту лица приведенная ему в жены отцом Святославом. Точно так же, доведя свой рассказ до того времени, когда и Владимир после убийства брата стал единовластцем, летописец опять прежде всего вспоминает, что Владимир взял себе в жены эту грекиню-черницу. Намерение летописца, по-видимому, заключалось в том, чтобы указать, что от черницы произошел новый братоубийца – Святополк, еще больше ненавистный, так как он был уже христианин; что вообще это был сын великого греха: во-первых, рожден черницей, во-вторых, рожден от двух отцов, от двух братьев.
Неповинная и забытая именем черница для истории имеет свое значение. Если нравы Ярополка, по рассказу того же летописца, были достаточно проникнуты христианским чувством, то история может это объяснять не только влиянием Ольги, при которой Ярополк был еще малолетен, но еще более влиянием красавицы жены, которая, по всему вероятию, как черница, была старше его по крайней мере на столько, что могла с первого же времени руководить его мыслями по христианскому закону. Когда язычник Владимир сделался полным хозяином в Киеве, то первым его делом, по тогдашнему обычаю, было завладеть красавицей женой брата. Летописец обозначает этот захват прелюбодеянием, но он смотрит на это со стороны христианского закона, которого Владимир еще не понимал, не признавал и почитал законом языческое многоженство. Черница стала женой Владимира и, конечно, принесла с собой не только покорность жены, но и свой христианский нрав, христианские понятия и мысли, которые необходимо хотя бы в малой мере, но постоянно должны были действовать на сознание мужа, как должна была действовать на него и вся киевская среда, значительно уже колебавшаяся в вере отцов. Однако и он, и пришедшие с ним варяги не затем еще пришли в Киев, чтобы изменять вере отцов; напротив, они явились защитниками и восстановителями язычества.
Второе после Олега завоевание Киева, совершенное при помощи варягов, конечно, давало им передовое место в городе и в княжеской дружине. При Олеге они и стояли впереди русских. Теперь времена были другие. Очевидно, что усилилась русская дружина, способная повести с ними иной разговор.
«Это город наш, мы его взяли! – сказали варяги Владимиру. – Потому хочем брать окуп на людях, по две гривны с человека». – «Пождите, – отвечал им Владимир, – повремените с месяц, доколе соберут вам куны (деньги)». Ждали они месяц и ничего не дождались. «Обманул ты нас, покажи нам лучше путь к грекам». – «А идите!» – решил Владимир. Показать путь, вероятно, значило дать им пропускной лист к Царьграду, как Русь обязывалась по старым договорам. Однако варяги ни в каком случае не дали бы провести себя таким обманом, если б Владимир не переманил к себе лучшую их дружину, всех мужей добрых, смышленых и храбрых, которым роздал города в кормление и тем привязал их к Руси навсегда. Они, как при Олеге, сделались варягами-русью. Остальные поневоле должны были идти в Царьград отыскивать новой службы и новой добычи своему мечу. Сохраняя святость договоров с греками, Владимир послал к царю вперед послов с вестью: «Вот идут к тебе варяги; не держи их в городе, сотворят тебе зло, как и здесь; разведи их разно, а сюда в Русь не пускай ни единого». Что они натворили в Киеве, летописец не припомнил, но, верно, нрав сильного народа был очень тяжел. Не указывал ли Владимир этими словами на погибель Ярополка и на весь коварный ход дел при завладении Киевом?
Как бы ни было, но с Владимирова времени завелись варяги и в Греческой земле, и, что важнее всего, они там не отличаются от руси. Варяги и русь для греков составляют одну народность, которая служит в греческом войске особым корпусом[161].
Освободившись от храбрых, но опасных своей силой пришельцев, Владимир стал княжить в Киеве один. Он был сын Святослава и «новгородское дитя», поэтому дела Руси в его руках немедленно приняли то же направление, какое давал им так рано погибший его отец.
Святослав ходил по востоку и зарубал мечом русское знамение на Нижней Волге, на Нижнем Дону и даже у предгорий Кавказа. Теперь Владимир, как только устроился в Киеве, уже воюет у предгорий Карпат с ляхами и отнимает у них так называемые Червенские города, Червень и Перемышль. Это была земля хорватов, она же Червонная Русь (Галиция). Хорваты участвовали в походе Олега на Царьград, следовательно, или были им покорены, или были с ним в союзе, вместе со своими соседями – днестровскими тиверцами и дулебами-бужанами. Затем хорваты участвовали и в Игоревом походе. Нам кажется, что связь всей этой прикарпатской стороны с Киевской Русью, совсем не объясненная летописью, должна объясняться еще роксоланскими связями, так что и самое имя Червонной, или Галицкой, Руси, тоже, по всему вероятию, есть наследство роксоланское, идущее вместе с Киевской Русью из одного источника. Видим, что Владимир отвоевал у ляхов обратно же старую Русскую землю, которая ляхами могла быть приобретена в смутное время киевского междоусобия.
В тот же год, 981-й, Владимир победил вятичей, возложив на них дань не больше отцовской, как делал Игорь, а только отцовскую, по щлягу от плуга. Это показывает, что и вятичи, пользуясь смутой братьев, отложились от Киева и перестали платить дань. Подобно древлянам, они крепко отстаивали свою независимость от Киева. На другое же лето Владимир должен был снова идти к ним и победил их во второй раз.
На третье лето своего княжения он предпринял поход на ятвягов, живших в области Западного Буга и Нарева до Прусских озер, на северо-восток от теперешней Варшавы. Владимир победил ятвягов и овладел их землей.
Таким образом, Владимировы походы на запад от Киева служили как бы продолжением завоеваний Святослава на востоке и распространили границы Руси до самых ляхов, пруссов и литвы.
Ни преждевременная смерть победоносного Святослава, ни бедственная смута его сыновей не произвели в силах молодой Руси ни малейшего колебания. Видно, что ее могущество разрасталось не столько от предприимчивости и талантов ее вождей, сколько от возраста самой земли-народа, без особого труда, одним своим именем, как говорил Святослав, подчинявший себе окрестные страны и соседние племена.
Владимир хотя был и язычник, но душа теплая и живая, для которой дело веры не было делом чужим и сторонним. В вере он искал истины, и какая истина досталась ему в наследие от дедов и отцов, он хотел восстановить ее неколебимо в полной силе и красоте. Так с ним мыслили и все русские люди, которые почитали наследие дедов и отцов за самую истину. Ввиду наставших в Киеве размышлений и рассуждений, действительно ли это наследие есть лучшая истинная вера, язычество поднималось со всей горячностью и силой и хотело явить себя в полном блеске.
Владимир, завладевший киевским княжением, благодарный за успех своего предприятия, начал тем, что украсил священный холм возле дедовского теремного двора новыми кумирами русских богов. Поставил он на том холме Перуна, вырезанного из дерева, с головой из чистого серебра и с золотыми усами; поставил Хорса, Дажьбога, и Стрибога, и Сима, и Регла, и Мокошь, которые, вероятно, также были деревянные, украшенные серебром и золотом. И жертвовали им люди, называя их богами, приводя им на заклание своих сыновей и дочерей. И оскверняли землю требами своими, и осквернилась кровями земля русская и этот холм, отмечает с горем христианин-летописец.
Владимиров дядя Добрыня, которого он посадил посадником в Новгороде, поставил и там Перуна над Волховом, и жертвовали ему новгородские люди, как богу. Обрисовывая языческий нрав Владимира густыми красками, конечно, с той мыслью, чтобы сильнее осветить его личность светом Христовой веры, летописец говорит, что, подобно библейскому Соломону, Владимир был ненасытный женолюбец и имел не только многих жен, но еще больше наложниц: 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 в селе Берестове. Цифры, конечно, увеличены и с той именно целью, чтобы уравнять грех нашего князя с грехом Соломона, который имел 700 жен и 300 наложниц, и чтобы сказать вслед за тем: «А ведь Соломон-то был мудр и в конце концов погиб; этот же Владимир был невежда, но под конец обрел спасение».
Языческий закон Руси не воспрещал многоженства и даже не знал никаких границ в этом отношении. Не один Владимир, но и отцы и деды, без сомнения, имели тоже многих жен и многих наложниц, которых больше всего добывали пленом. Сам он родился от Ольгиной ключницы. Поэтому женолюбие Владимира принадлежало обычаю века, и летописец для своей мысли увеличил только его черты до библейских размеров[162].
Торжество язычества при Владимире было торжеством русской силы и могущества, и именно торжеством кровавых дел меча, распространившая свое владычество, как мы говорили, от Кавказа до Карпатских гор и дальше на запад до земли ляхов, утвердившего кровавым делом и самого князя в Киеве. Естественно, что во всем этом торжествовал собственно языческий нрав, торжествовала языческая мысль, которые необходимо должны были высказать свои впечатления и на Холме, у подножия своих богов. Во всем этом чувствовался высокий подъем именно языческой жизни, поэтому и на Перуновом холме она потребовала жертвы самой великой и самой возвышенной, до какой только могло подняться ее же языческое сознание. При Владимире язычество ознаменовало себя жертвой, которая хотя и удовлетворила толпу, но, по всему вероятию, имела очень важное и решительное влияние на общественные умы.
В 983 году Владимир ходил на ятвягов, победил их, овладел их землей. Возвратившись в Киев, по обычаю, в благодарность за победоносный поход он со всеми людьми стал творить потребу кумирам. Старцы и бояре кинули жребий на отрока и девицу, на кого падет, того и зарежут в жертву богам. Жребий упал на одного отрока-варяга, прекрасного лицом и душой, и притом христианина, каковая жертва, во мнении народа, казалась еще угоднее богам. Отрок варяг жил с отцом, который пришел в Киев из Греции и тайно держал христианскую веру. К нему во двор собрались люди, посланные с требища, и объявили, что жребий упал на его сына, что боги изволяют его сына себе на потребу. «То не боги, – провозгласил варяг, – но дерево; нынче стоят, а завтра сгниют. Не едят, не пьют, не говорят, а руками сделаны из дерева, секирой и ножом обрублены и оскоблены. Вышний Бог един есть, которому покланяются и слушают греки, который сотворил небо и землю, звезды и луну, и солнце, и человека; дал человеку жизнь на земле. А те боги что сотворили и что сделали? Самих их сделали люди! Не отдам сына своего бесам!»
Посланные воротились на требище и рассказали толпе речи варяга. Толпа в ярости прибежала к двору поругателя святыни и разнесла его ограду по бревнам. Варяг с сыном едва успели найти убежище на сенях, т. е. в верхней горнице своего дома. «Давай сына на жертву богам!» – кричала толпа. «Если это боги, – говорил варяг, – то пусть пошлют одного от себя бога и пусть возьмут моего сына, а вы для чего препятствуете им!» Толпа воскликнула великим криком, подсекла хоромы и в ярости изрубила варягов, так что никто и после не узнал, где подевались их останки. Церковь сохранила имя варяга-сына, он назывался Иоанном.
Г. Костомаров уверяет, что все событие есть вымысел позднейшего книжника и что кровавых человеческих жертв не существовало в русском язычестве. Но те доказательства, какие приводятся по этому случаю, так слабы и натянуты, что не могут поколебать истины события, которая заключается в одном голом показании, что некогда в Киеве два христианина погибли, воспротивившись пойти по требованию толпы на жертву языческим богам. Этот случай, более чем всякий другой, должен быль сохранить о себе память именно в церковных записях первых христиан Киева. Вот почему и летописец, как бы с сожалением, отмечает, что неизвестно куда девались останки мучеников. Самые обстоятельства события, рассказанные летописцем, не обнаруживают никакой задней мысли и по своей простоте тоже могут служить довольно верным отголоском народной памяти об этом кровавом деле. Остается вымыслом летописца одно только его размышление, которым он оканчивает свой рассказ. «Были тогда люди невежды и язычники, – говорит он, – и дьявол тому радовался, не ведая, что близко шла ему погибель. Такими делами он старался погубить род христианский, однако и в здешних, в наших Русских странах, тоже был прогнан честным крестом. “Здесь мое жилище, – думал он, – здесь апостолы не учили, пророки не пророчествовали!” Но если не были здесь апостолы, то их учение, как трубы, гласит по всей вселенной. Тем учением и здесь побеждаем врага, попираем его под ноги, как попрали его и эти отечники, отцы русского христианства, первые на Руси принявшие небесный венец со святыми мучениками и праведниками!» В этом размышлении летописец прямо свидетельствует, что мученичество варягов на самом деле послужило основным камнем для всенародного распространения Христовой веры.
Что касается кровавых жертв, свойственных вообще древнему язычеству, а следовательно, и русскому, то об этом весьма положительно свидетельствуют современники и самовидцы, писатели византийские и особенно арабы. О том же прямо говорит и первый митрополит русин, Иларион.
Вообще этот языческий случай должен был подействовать очень сильно на киевскую всенародную толпу. Отроки и девицы язычники, на которых упадал жребий кровавой жертвы, исполнены бывали языческого сознания не только в законности, но даже и в святости такой жертвы. Они шли к богам по требованию самих богов. Их насильная смерть оправдывалась всеми обычаями и порядками их же языческого быта. Но мученичество христиан, провозгласивших во всеуслышание неправду и бессмысленность такой жертвы, нигде и никогда не оставалось без особого впечатления. Христианская кровь неизменно вызывала и утверждала распространение святой Истины. Если не теми словами, какие перед толпой проповедовал варяг-отец, то теми самыми мыслями языческие боги были уже окончательно осуждены пред здравым смыслом всего народа. Сам Владимир очень памятовал это событие и когда принял христианство, то на месте разнесенного варяжского двора выстроил первую же и великую церковь в честь Богородицы, которая именовалась потом Десятинной, от десятины назначенных ей княжеских доходов[163].
Примечания
1
Разговоры между испытующим и уверенным о Православии. СПб., 1815. С. 171. (В настоящем издании частично сохранены авторская орфография и оформление библиографичексих сносок. – Примеч. ред.)
(обратно)2
Шлецер А. Нестор. Русские летописи, II. С. 51, 79, 81, 88.
(обратно)3
Имя Саркела, по всему вероятию, сохраняется в теперешней речке Сакарке, текущей в Дон со стороны Волги и впадающей в него верст на 10 пониже Качалинской станицы, где некогда существовала так называемая Царицынская линия – земляной вал с крепостцами от набегов кубанских. Можно также полагать, что знаменитый в донской истории Паншин городок стоял у устья этой речки, быть может, на месте древнего Саркела, ибо река Сакарка именуется теперь и Паншинкой. В конце XII века еще существовали развалины этого города, называемого тогда Серклией.
(обратно)4
Почтенные историки г. Костомаров (Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. СПб.,1873) и за ним г. Иловайский (История России. М., 1876) период летописных преданий совсем отделяют от достоверной истории, которую г. Костомаров начинает с Владимира, а г. Иловайский – с Игоря. Нам кажется, что таким образом можно начинать рассказ или повесть русской истории откуда вздумается, ибо никак нельзя объяснить, почему история Владимира достовернее истории его отца Святослава или почему история Игоря достовернее истории Олега? Предания летописи и истинные события, твердо засвидетельствованные иностранными и притом современными писателями, пополняют и объясняют друг друга, ибо в нашей летописи нет ни одного предания, которое хоть сколько-нибудь противоречило бы общему ходу исторических дел первоначальной Руси. Все зависит от того, как смотреть на сами предания. Если допустить, что это народные сказки и песни, а о сказках и песнях будем рассуждать не более того как о произвольных и праздных вымыслах, совсем забывши, что сам же народ песню называет былью, то, конечно, мы легко смешаем и предания в одну кучу с книжными измышлениями и разными побасенками, сочиняемыми для удовольствия и забавы праздных слушателей. Каждое предание неизменно есть истина историческая, прошедшая только в устах народа поэтический путь мифотворения, как выражаются лингвисты и мифологи. Для раскрытия такой истины от мифической одежды недостаточно одних здравых суждений современной образованности, недостаточно одной, так сказать, литературной критики, какую главным образом представляет нам труд г. Костомарова («Предания первоначальной русской летописи» в «Вестнике Европы», 1873. Кн. 1, 2 и 3). Здесь необходимо устанавливать свою критику в кругу тех народных понятий и представлений, какие господствовали у народа в возрасте его мифотворения, и необходимо каждое предание испытывать началами этого мифотворения, но не началами литературного вымысла, причем и сами слова «вымысел», «вымышленные черты» могут только затемнять истинное значение предания, ибо предания народ не вымышляет; они нарождаются сами собой; их создает истина самой жизни.
(обратно)5
Полное собрание русских летописей. Т. V. С. 88; Софийская летопись. Т. VII. С. 268; Воскресенская летопись.
(обратно)6
Гедеонов С. Варяги и Русь. Ч. 2. С. 479.
(обратно)7
Лекции по науке о языке Макса Мюллера. СПб.,1865. Его же: Сравнительная мифология в летописях русской литературы и древности, изд. Н. Тихонравовым. Т. V (Перев. И. Живаго); Краткий очерк доисторической жизни северо-восточного отдела индо-германских языков А. Шлейхера. Приложение к VIII тому «Записок Императорской академии наук»; Древний период русской литературы и образованности А. Пыпина в «Вестнике Европы»(1875, ноябрь, декабрь; 1876, июнь, сентябрь).
(обратно)8
Гильфердинг А. Древнейший период истории славян // Вестник Европы. 1868, июль. С. 285.
(обратно)9
Пыпин А. Древний период русской литературы // Вестник Европы. 1875, ноябрь. С. 118.
(обратно)10
Воцель Я. Древнейшая бытовая история славян вообще и чехов в особенности. Киев, 1875.
(обратно)11
Касторский М. Начертание славянской мифологии. СПб., 1841. С. 103.
(обратно)12
Буслаев. О влиянии христианства на славянский язык. М., 1848. С. 163–166.
(обратно)13
Ген В. Культурные растения и домашние животные. СПб., 1872. С. 328–330.
(обратно)14
Это служит доказательством, что Винделикия была славянская земля.
(обратно)15
Гильфердинг А. Древнейший период истории славян // Вестник Европы. 1868. С. 256.
(обратно)16
Этрусков. (Примеч. ред.)
(обратно)17
В первой части нашего труда, следуя прямым и точным показаниям Геродота, мы должны были указать местоположение страны вудинов, или будинов (Вавилон, или Бабилон, чтение Рейхлина или чтение Эразма, как кому угодно), к востоку и северу от Донского изворота вблизи Волги. Затем, следуя позднейшей этнографии, мы предположили, что остатками вудинов, вероятнее всего, могут быт финские племена мордвы, мещеры и т. д., которые отчасти и доселе живут на тех же местах. Мы не опровергали тех мнений, утвержденных и Шафариком, которые помещают вудинов на Волыни и на Припяти, ибо, имея в виду ясное показание Геродота, почитали эти мнения слишком произвольными. Однако за это самое мы получаем, впрочем, очень любезный упрек в «малом внимании к трудам предшественников», т. е., собственно, в несогласии с Шафариком. Почтенный рецензент нашей книги, г. Белов, которому, как и всем нашим рецензентам, приносим истинную признательность за внимание к нашему труду («Сборник государственных знаний». Т. V // Критика и библиография. С. 34–46), очень защищает упомянутые мнения и приводит между прочим свидетельство, что «в северной части Волынской губернии полесовщики до сих пор называются будинами» и что, стало быть, наши древляне ближе всего могут подходить к геродотовским вудинам, так как и очень многие имена мест в тамошней стороне имеют корень буд – Буда, Будники, Будищи и т. д. Но припомним к этому и муромский бдын (постройка над могилой), который прямо указывает на геродотовское место будинов (Котляревский И. Погребальные обычаи. С. 119–120). Буда значит вообще постройка, строение, в частности – в Западной России постройка для изготовления поташа, смолы, дегтя, называемая в восточной майданом. Великое множество таких имен существует, например, в Ковенской губернии к северу от Ковно (совр. г. Каунас. – Примеч. ред.) и к востоку от Россиен. Вот, стало быть, где жили будины. Подобные имена рассеяны повсюду по Русской равнине и потому представляют очень слабое доказательство для помещения будинов только в древлянских лесах. Сколь нам известно, первым поместил будинов поблизости к этим лесам, у Холма (совр. г. Хелм. – Примеч. ред.) и Бреста, вообще в болотах Припяти, старый академик Байер (Комментарии Академии наук на 1720 г. Ч. I. С. 158). Те исследователи славянской древности, которые стали присваивать вудинов славянскому племени, охотно последовали толкованию Байера. Шафарик этот вопрос сам по источникам не пожелал рассмотреть и положился во всем на польского ученого Оссолинского. Но так как согласовать показание Геродота с найденным славянским местом вудинов было невозможно, то ученые прибегли к самой легкой операции – они решили без малейших толкований и доказательств, что Геродот ошибся.
Геродот есть древнейший, самый полный и, можно сказать, единственный свидетель о вудинах. Относительно достоверности каждое его слово – золото. Если бы он ошибся, то его ошибку необходимо было проверить с показаниями других писателей, живших после него. К таким писателям принадлежит самый обстоятельный географ II века Птолемей. Он, однако, вовсе не говорит о вудинах как о народе великом в смысле многолюдства. Он сказывает только, что внутри нашей страны живут два великих народа, алауны-скифы и амаксобы. Он показывает иные имена на том месте, где жили вудины, по Геродоту. В позднейших свидетельствах амаксобы превращаются в мордию и moxel, что указывает на мордву и мокшу, т. е. тех же родственников вудинам. Птолемей указывает только незначительный народец водины вблизи Карпат. Но он говорит, что Борисфен-Днепр выходит из горы Вудинской и показывает эту гору под 58-м градусом долготы и 55-м широты, на 13 градусов восточнее и на один градус южнее устьев Вислы, что как раз приходится на нашу Алаунскую возвышенность, откуда действительно и течет Днепр. Алаун-гору Птолемей ставит на 41/2 градуса восточнее Вудин-горы. Эти свидетельства Птолемея приносят к ошибке Геродота только новое показание, что именем вудинов называлась возвышенность, с которой падает Днепр, что, стало быть, вудины обитали не только у верховьев Дона, по Геродоту, но и у верховьев Днепра, уже по Птолемею.
Послушаем, что говорят другие свидетели, предшественники Птолемея. Помпоний Мела повторяет Геродота. О нем Шафарик отмечает следующее: «Очевидно, что Мела списал Геродота и ошибочно, вместе с ним, поместил будинов между Доном и Волгой» (Славянские древности. Т. I, кн. 1. С. 309). Плиний (Плиний IV, гл. 12 и 26) делает то же самое, помещая вудинов между фиссагетами и василидами (скифами), т. е. на том самом месте, где их поселяет Геродот, говорящий, что за царскими скифами выше жили вудины, а потом еще выше фиссагеты. «Внутри земель, – говорит Плиний, – после тавров встречаются авхаты, у которых Гипанис (Южный Буг) берет свое начало; невры, у которых берет начало Борисфен-Днепр, гелоны, фиссагеты, будины, василиды и агафирсы с синими волосами, потом антропофаги». Плиний, как и Птолемей, нисколько не противореча Геродоту, дает опять новое сведение, что Днепр течет из земли невров. Это самое повторяет Аммиан Марцеллин, писатель IV века, сказывая (кн. XXII), что «вблизи Каркинитского залива обрисовывается течение Днепра, что рожденный в горах невров, мощный со своего верховья и увеличенный еще стечением многих рек, Днепр низвергается в воды Евксина». В другом месте (кн. XXXI, гл. 2) он говорит: «В безграничных пустынях Скифии (выше сарматов) живут аланы, получившие свое наименование от гор. Между этими народами в средине живут невры в соседстве с крутыми (обледенелыми) скалами… за ними живут будины и гелоны, затем агафирсы, далее меланхлены и антропофаги». Маркиан Гераклейский, современник Аммиана Марцеллина, показывает, что Днепр течет из страны скифов-аланов.
Вот свидетели, писавшие спустя 600 и более лет после Геродота. Но ни один из них не противоречит его показанию; напротив, каждый идет по его следу и только сокращает его. Все они, однако, прибавляют новое сведение, что на истоках Днепра невры и вудины соприкасались жилищами. Этим вполне подтверждается и сказание Геродота о переходе невров в землю вудинов и указывается самое место, верховья Днепра, где этот переход мог происходить, причем ничто не мешает предполагать даже переход славян-невров и в земли новгородской води. Поселения вудинов, таким образом, распространяются по направлению от изворота Дона к Финскому заливу, и это правдивее всего обозначает границы древнейшего финского населения в северо-восточной половине нашей страны.
Геродот показал, что Неврида начиналась от истоков Днестра, что с нею граничили скифы-пахари, которые, по его же указаниям, простирались почти до Киева. О дальнейшем пространстве Невриды к северу и западу он ничего не говорит, как не говорит и о дальнейших землях вудинов на запад и восток от изворота Дона. Он идет к Уральскому хребту и по этой только дороге описывает встречающиеся народы. Помня его слова о великом по многолюдству народе вудинах и прилагая их к существующей теперь этнографии, невозможно думать ни о каком другом племени, как о древней мордве, мещере, муроме, мери, веси и даже новгородской води. В свое время это был действительно великий многолюдный народ, в земли которого у Верхнего Днепра перешли невры-славяне и век за веком оттеснили его глубже к северо-востоку за Волгу и Оку.
Во всяком случае, мы никак не можем согласиться со словами Шафарика, что, «судя по вышеприведенным свидетельствам, нет будто бы сомнения, что великий и многолюдный народ будины занимал когда-то жилищами своими всю нынешнюю Волынь и Белоруссию». По Геродоту, именно на этих местах жили на Волыни скифы-пахари, а в Белоруссии невры. Маленькое Птолемеево племя водины жило у Карпат наряду с певкинами (Буковина), бастернами (Быстрица), карпианами (хорватами).
Рассказ о походе Дария, может быть, баснословный, нисколько не изменяет геродотовской этнографии, ибо она написана для изображения Скифии и ее границ, а вовсе не по случаю только похода. Невероятной кажется длина походного пути. Но если Дарий из Персии пришел к Дунаю, то очень легко мог пройти по степям и к Дону, и тем более легко, что в то время это была очень торная, торговая, всем известная дорога к Уральскому хребту. В X веке от устья Дуная до Саркела на Дону вблизи Волги считалось 60 дней пути. Немудрено, что и во времена Дария до тех же мест считались те же 60 дней, о которых пишет Геродот.
Несмотря на то что труд Шафарика пользуется великим авторитетом и представляет в своем роде целую энциклопедию по славянской древности, мы все-таки должны сказать, что его изыскания по этнографии Русской равнины очень слабы. Здесь он больше, чем где-либо, руководствовался предубеждениями, например, против кочевников и принимал на слово, без поверки, разыскания немецких ученых. Но необходимо заметить, что ни для Шафарика, ни для немецких ученых Русская равнина не могла представлять столько интереса, чтобы посвящать ей всю ученую любовь относительно расследования ее древнейшей истории. Это дело в полном смысле русское и должно принадлежать русским ученым. А русские ученые, даже передовые историки, к сожалению, чуть ли не презирают всю нашу доваряжскую древность. Г. Костомаров (Русская старина. 1877. № 1), по подобию Шлецера, уверяет, например, что из тех показаний древних и средневековых писателей о нашей стране, какие уже нам известны, ничего верного извлечь нельзя, все будут только вероятности, а от размножения вероятностей наука ничего-де не приобретает. Почтенный автор забывает, что историческая наука искони устраивается только на вероятностях и что каждая страница очень основательных исследований, даже о временах, очень нам близких, наполовину всегда состоит из вероятностей, более или менее оправданных критикой, а иногда и вовсе неудачных. Размножение вероятностей неизменно открывает путь и к настоящей истине. Развитию науки очень вредит не размножение вероятностей, а равнодушие к ее задачам, прикрываемое к тому же авторитетным шлецеровским решением, что дальше заученных истин ходить не следует. Затем, уверять, что мы знаем все, что говорили о нашей стране древние, невозможно. Мы знаем очень отрывочно, неполно и весьма поверхностно только то, что сообщили нам немецкие ученые и Шафарик. До сих пор сами мы еще не пускались в такие тяжкие разыскания, ибо наши руководители всякую подобную попытку встречают осуждением и даже посмеянием. У нас, например, нет не только хорошей, но и никакой исторической географии нашей страны, а между тем нам необходимо же рассуждать и о черных болгарах, и о будинах, с которыми мы блуждаем, переселяя их с места на место, как кому понадобится. Если бы была собрана из первичных источников древняя география страны, то многие исследования, как совсем излишние, не появились бы и на свет. В нашей исторической науке не существует именно того, что в изобилии существует у западной учености, – тех материковых исследований, без которых никогда не устроится и самая наука. Вот причина, почему мы так поверхностно и легко относимся и к доваряжской древности. Г. Костомаров всякое толкование свидетельств этой древности почитает произвольным, так они кажутся ему чуждыми и дикими для круга наших исторических познаний. «До какой степени все это произвольно, – говорит он, – можно видеть, например, из того, что упоминаемых Геродотом вудинов Шафарик считает славянами, предками нынешних белоруссов, и помещает в белорусских болотах, а г. Забелин видит в них мордву и вотяков, обитателей восточной полосы. В сущности, и тот и другой руководствуются своими субъективными соображениями, а результатом выходит, что наука все-таки не знает, что такое были вудины» (Русская старина. 1877. № 1. С. 176). Но для поверки подобного произвола существует судья-критика, а она-то в настоящем случае, обходя молчанием оценку так называемых ею произвольных толкований, что, конечно, требует труда, стремится только подвергнуть сомнению самое существо вопроса, стремится доказать, что изыскания о каких-либо вудинах, скифах, роксоланах и тому подобных предметах, в сущности, – игра, не стоящая свеч. Следуя твердо заученным понятиям нашей образованности о пустом русском месте в истории, почтенный автор никак не хочет принять в родство с русью и древних роксолан, говоря, что подобная мысль и ему приходила, когда он занимался древними народами, населявшими Русскую страну, но, всмотревшись беспристрастнее, он увидел «несостоятельность подобных предположений, основанных единственно (будто бы. – Примеч. авт.) на созвучии». И затем, через несколько страниц (С. 167 и 183) сам же уверяет, как важно, например, свидетельство Симеона Лагофета о древнем Россе, освободителе и прародителе руси. Это свидетельство, говорит он, «должно иметь для нашей истории первостепенную важность: оно служит доказательством, что руссы сами себя отнюдь не считали происходящими от недавних пришельцев, но, подобно многим древним народам, духовно жившим мифическими преданиями о своей старине, имели воображаемых (!) предков и родоначальников». Сколько же требуется пристрастия для того, чтобы заметить и без того очевидное сродство народного мифа, в глубине которого всегда лежит несомненная истина, с историческими несомненными свидетельствами о существовании целого народа с таким же именем, упоминаемого за несколько столетий прежде на тех же самых местах, где существовал и мифический, и исторический Росс. Конечно, это только вероятность, ибо никакого юридического документа и расписки на это мы нигде не найдем. Но историческая правда имеет свои основания, для которых юридический документ или писаное засвидетельствование еще не многое значит.
Так шатки и поверхностны огульные осуждения почтенного критика всех попыток, стремящихся разъяснить доисторическое время Руси. Ясное дело, что при таком направлении нашей руководящей исторической критики появление русского Шафарика или Цейса на долгое время сделалось невозможным. Для молодых ученых потребуется большая храбрость уже только для того, чтобы сломить застарелые и закоснелые предубеждения против скифства и роксоланства Древней Руси.
В своей книге мы сделали что могли, опираясь главным образом на первоначальные источники, так показано и выше, и не вступая в споры с разнообразными мнениями авторитетов, им же несть числа, по той причине, что их разбор потребовал бы особой книги. В отношении местоположения древних жилищ вудинов мы имеем на своей стороне, между прочим, авторитет знаменитого Герена («Политика и торговля древних народов»), который, преследуя одни научные цели, конечно, иначе и не мог растолковать до крайности простой и ясный текст Геродота.
(обратно)18
Буслаев. О влиянии христианства на славянский язык. С. 46–47; Шафарик. Славянские древности. Т. 1. Кн. 1. С. 173–174; Суровецкий Л. Исследование начала народов славянских // Чтения Общества истории и древностей российских. 1846. № 1. C. 18.
(обратно)19
Шафарик. Славянские древности. Т. I. Кн. 1. С. 177.
(обратно)20
Риттер К. История землеведения (лекции). СПб., 1864. С. 88.
(обратно)21
Записки Императорского археологического общества. Т. IV. С. 3; Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края. Рига, 1877. Т. I. С. 3.
(обратно)22
Шафарик. Славянские древности. Т. II. Кн. III. С. 81–82.
(обратно)23
Юлий Цезарь. Записки о походах в Галлию. Кн. III. Гл. 8–16; Шафарик. Славянские древности. Т. I. Кн. I. С. 429, 432, 433; Т. II. Кн. III. С. 87, 116, 120, 122.
(обратно)24
Макс Мюллер. Лекции по науке о языке. С. 187.
(обратно)25
Совр. г. Колобжег (Польша). (Примеч. ред.)
(обратно)26
Шафарик. Славянские древности. Т. I. Кн. II. С. 267; Исследование Суровецкого // Чтения Общества истории и древностей российских, 1846. № 1. С. 69; Касторский. Начертание славянской мифологии. С. 173.
(обратно)27
Риттер. История землеведения. С. 33, 89.
(обратно)28
Диодор Сицилийский. СПб., 1774. Ч. 2. Кн. IV. С. 91.
(обратно)29
Geschichte Preussens, I. Voigt, ч. 1. С. 91; Плиний. Кн. IV, в издании Панкука, примечания. С. 306–320.
(обратно)30
Совр. Днепропетровская обл. Украины. (Примеч. ред.)
(обратно)31
Надеждин. Опыт исторической географии // Библиотека для чтения. 1837. Т. 22. С. 77.
(обратно)32
Кеппен. Древности северного берега Понта. М., 1828. С. 153; Шафарик. Славянские древности. Т. I. Кн. II. С. 259, 260.
(обратно)33
Фойгт. История Пруссии. Ч. 1. С. 98.
(обратно)34
Шлецер. Нестор, I. С. 96. Производство слова «Пруссия» от По-Руссии Шафарик как филолог гневно отвергает, говоря без дальних толкований, что имя прусс коренное, простое (Славянские древности. Т. I. Кн. 2. С. 301). Это говорилось, конечно, в силу той утвержденной им мысли, что руссы происходят из Швеции, от родсов, отчего он не хотел более подробно рассмотреть и ругов. Но «в Литовском наречии, – говорит Нарбут, – и названия жителей какой-либо окрестности легко можно узнать, близ какой реки они жительствуют; ибо слог “по-” прибавляется к собственному имени реки, например По-Швентос, По-Юриос, По-Невежос, что означает людей, живущих на берегах рек: Швенты, Юры, Невежи. Посему-то этимологию названия пруссаков ближе всего производить можно от слова Русса» (Северный архив. 1822. № 3. С. 225). Мы должны присовокупить к этому, что литовских местных имен с предлогом «по» и до сих пор существует великое множество.
(обратно)35
В Московском Главном архиве Министерства иностранных дел древние карты Пруссии. См. также: Костомаров. Начало Руси // Современник. 1860, январь. С. 9; Линде. О языке древних пруссов // Соревнователь просвещения и благотворения. 1822. № VI. С. 293.
(обратно)36
Например, Аугсгирен, Витгирен, Матзгирен, Рофгирен, Скайсгиррен, Стумбрагирен, Гирратишкен, Амбрасгирен, Лейдгирен и др. Это в немецкой стороне неманского края. В русских, литовских и латышских краях находим: Авжгире, Базниегиры, Видгиры, Вочгиры, Гирвийтис, Гирыники, Кибгиры, Лабгиры, Лепогиры, Жилогиры, Погиры, Скайсгиры, Скайстогиры, Скабсгиры, Ужгиры и пр. Встречаются Ругини, Герули и т. п. Точно такую же память и в тех же краях сохраняют и скирры (см.: Шафарик. Славянские древности. Т. I. Кн. 2. С. 260), имя которых, как имя гирров, распространяется даже и за Шавли. Все это дает немалое основание к заключению, что показанные в первый раз Плинием на Вендском заливе скирры и гирры напрасно, как и многие другие народы, приписываются к немецкому племени. По всей видимости, они были тутошние старожилы, литовцы и латыши. Любопытно, что в одном древнем поучительном Слове, приписанном Иоанну Златоусту (Слово похвальное на Рождество Пречистой Богородицы), в котором Русь именуется новым стадом, перечисляются разные народы, в том числе и скирры, и даже пруци. «Поистине бо Стая кто тебе не славит, кто тебе не хвалит и молит: румири или греци или болгаре или руси новое твое стадо или рамяне и овазгу, ивери же и алане, перси же и парфи, инди и ефиопе, алмази же и пруци, серпи же и харвати, саи же и скири, оуандили и египиди, лягаварди и власы, сарди же и вонятци, моравляне и различии словени, гоуфи же и фили и инии мнози языци…» По-видимому, это весьма древнее слово переработано для русской паствы, быть может, еще при детях Ярослава, так как в нем воссылается моление в таких словах: «Соблюдай и храни своих раб благочестивых князей наших и владыку (митрополита. – Примеч. авт.) и заступи их от всякие рати видимыя и невидимыя»… Слово находится в Сборнике поучений XVI века, белорусского письма. Рукопись принадлежит библиотеке Е. В. Барсова, которому приносим искреннюю благодарность за сообщение этого любопытного памятника.
(обратно)37
Шафарик. Славянские древности. Т. II. Кн. I. С. 72; Фойгт. История Пруссии. Ч. I. С. 508. Мы думаем, что упоминаемая в житии бамбергского епископа Оттона, сочиненном Гербордом, Flavia есть та же Шлавия, Шалавония, Slavia, как справедливо догадывался и г. Котляревский (Книга о древностях и истории поморских славян в XII в. С. 28, 29), объяснявший, впрочем, это имя половцами (Там же. С. 19). При этом в житии Оттона указываются и связи Древней Руси и с Поморьем, и с Неманской Славией в начале XII века.
(обратно)38
Фойгт. История Пруссии. Ч. I. С. 621.
(обратно)39
Первольф. Германизация балтийских славян. СПб., 1876. С. 33, 213, 255; Касторский. Влияние Каролингской династии на славянские племена // Журнал Министерства народного просвещения. 1839, октябрь; Шафарик. Славянские древности.
(обратно)40
Шафарик. Славянские древности. Т. II. Кн. III. С. 111.
(обратно)41
Русский исторический сборник. Т. IV. С. 165, 166.
(обратно)42
Шафарик. Славянские древности. Т. II. Кн. 1. С. 67, 72, 73.
(обратно)43
Совр. г. Салоники (Греция). (Примеч. ред.)
(обратно)44
Около 42,5 км (верста равна 1,06 км). (Примеч. ред.)
(обратно)45
Ревизия пущ и переходов звериных в Великом княжестве Литовском. Вильна, 1867. С. 39.
(обратно)46
Семенов. Географ. – статист. словарь Российской империи. СПб., 1867; Нарбут. Слово Неманайце // Догадки о древних литовцах. Северный архив. 1822. № 6.
(обратно)47
Вилия по-литовски именуется Нерис, Neris, Nirge (Афанасьев. Материалы для географии и статистики России, Ковенская губерния. С. 75).
(обратно)48
Также: Старые Словени на реке Жарне, впадающей в Соложу, рядом Новые Словени близ впадения Соложи в Десну, а от верха Соложи до верха Угры 2 или 3 версты.
(обратно)49
В первой части нашего труда мы напрасно делали догадку о Птолемеевом имени судины, означая его именем чуди.
(обратно)50
Русской исторический сборник. Т. III. С. 160.
(обратно)51
Совр. г. Белозерск на берегу озера Белого.
(обратно)52
Акты археографической экспедиции. Т. I. С. 35, 53, 92, 198; Т. II. С. 68, 71; Акты исторические. Т. I. С. 308, 309; Акты юридические. С. 12, 23; Описание документов и бумаг архива Министерства юстиции. Кн. I. С. 12–14. Упомянутый волок Держков – также имя соответственное вендскому – Держков. Первольф. Германизация балтийских славян. С. 195, 216, 230.
(обратно)53
Новгородские писцовые книги. Т. III, Переписная книга Вотской Пятины // Временник Общества истории и древностей. Кн. VI. С. 349, 370, 399 и др.
(обратно)54
Совр. Днепровско-Бугский канал. (Примеч. ред.)
(обратно)55
Совр. Северо-Двинский канал. (Примеч. ред.)
(обратно)56
Суровецкий. Иcследование о славянах // Чтения Общества истории и древностей российских. 1846. № 1. С. 11.
(обратно)57
До сих пор существуют: Старгард пониже Данцига, Старгард с востока от Штеттина, другой с запада, Старгард-Ольденбург и пр.
(обратно)58
Вельгощ, Видогощ, Гостибицы, Гостивицы, Гостимичи, Давигощ, Жилогость, Ирогоще, Любогощ, Моглогость, Негостицы, Радогостицы, Утрогощ, Угоща, Ходгостицы, Чадогоща, Югостицы и мн. др. См. Неволина: О Пятинах Новгородских.
(обратно)59
Взят был Кай-город // Древняя российская вивлиофика. Кн. VI. С. 365.
(обратно)60
Перепись новгородских дворов второй половины XVI века, список 1822 года, принадлежащий нашей библиотеке. «На Щурове улице – место пусто тяглое Прошковское Нефедова Варежника, и Пронка умер в 67 году, длина 15 с. поперек 6 саж. М. пусто тяглое Пахомовское Мартынова Варежника и Пахомко умер 66 году. М. пусто тяглое Ондрюшкинское Варежника и Ондрюшко умер в 68 году». При этом переписатель рукописи, некто Сергей Вындомский, заметил следующее: «Что бы такое означало слово Варежник, я недоумеваю. Но не варяги ли значилося? Замечание переписателя С. В.».
(обратно)61
При этом необходимо иметь в виду большое семейство старых слов с тем же окончанием – яг, таковы древние: княг, пеняг и, например, местные имена: Буряг, Лидяг, Сосняг, Березняг, Дубняг, Смоляж, Хотяж, Веряжи, Свитяж и др.; которые произносились и на – ег – Буреги, Березнеги, Соснег, Липнеги, Воротег, Вареги, Тунег, Орлега, Вережа и пр. По всему вероятью, и имя «печенег» в первое время произносилось «печеняг», ибо в этом виде – пацинаки, пацинакиты – оно появилось у греков. В Северской стороне есть селение Печенюги. Вообще окончание – яг (-енг) родное русское, вовсе не заимствованное у скандинавов, как переделка их окончания – ing. См. г. Буслаева: О влиянии христианства на славянский язык. С. 163.
(обратно)62
Журнал Министерства народного просвещения. 1874, ноябрь; 1875, февраль, март, статья Васильевского: «Варяго-русская и варяго-английская дружина в Константинополе XI и XII веков».
(обратно)63
См.: Забелин И. Е. Скифия и Сарматия. Гл. VI. (Примеч. ред.)
(обратно)64
В 1156 году она была заложена каменная заморскими купцами; в 1181 году от грома сгорела; в 1190 году вновь построена. Она называлась Варяжской и в XIV веке (Полное собрание русских летописей. Т. III. С. 18, 20, 35, 70, 216).
(обратно)65
Нута – река у балтийских славян и имена мест в Померании: Nutzlaff, Nutzlin, Nutzcow. У нас нутниками назывались прасолы (скупщики мяса и рыбы. – Примеч. ред.) (Акты археологических экспедиций. Т. I. С. 320). Bardt, Bartelin, Bartin, Bartlaff и другие померанские имена; припомним саксонских бардов, соседей люнебургских славянь у г. Первольфа (Германизация балтийских славян. С. 39).
(обратно)66
«Нерома, сиречь Жемоить», – говорит переяславский летописец. Русс неманский жил в земле этой Неромы; там же находилась и неманская Славония. Не оттуда ли и население Неревского конца? Припомним реки: Нарев – Наров – Нарва, Неровы, Нересла, Наровль, Нерцы, Нерестек, Нарочь, Нарцы и другие места в Литовском краю, откуда, вероятно, эти имена разнесены и на наш северо-восток.
(обратно)67
В первой части нашего труда мы, кажется, ошибочно помещали шетиничей на Торговой стороне, взяв во внимание только тамошнюю Щитную улицу. Шетициници в 1165 году поставили церковь Св. Троицы. Насколько известно, во имя Троицы в Новгороде существовала только одна церковь в Людином конце на Редятиной улице, почему с большой вероятностью к ней должно относить и местожительство шетиничей. Эту церковь в 1365 году вновь построили югорцы, вероятно, торговцы с югрой.
(обратно)68
Красов И. О местоположении древнего Новгорода. Новгород, 1851. С. 29 и др.
(обратно)69
В летописи читаем: «Имаху дань: на словенех, на мери, и на всех кривичех», и далее: «…чюдь, словени и кривичи: вся земля наша» и пр. Явная порча текста. После того летописец помещает Синеуса на Белом озере и, говоря о находниках-варягах, перечисляет кривичей, мерю и весь на Белоозере.
(обратно)70
Имя вагров Гильфердинг производил от санскр. вагара – храбрость; но г. Павинский приводит другое объяснение этого имени, указывая, что у средневековых летописцев вагры именуются Wucrani, Wocronin, что означает: укране, от укран, живших на Одре, по реке Укре (Полабские славяне. СПб., 1871. С. 3 и 5).
(обратно)71
Там же. С. 50.
(обратно)72
Костомаров. Начало Руси // Современник. 1860, январь. Почтенный автор неманскую русь почитает литовским племенем, а именно жмудью, и решает, что призванные князья были литовцы.
(обратно)73
Котляревский. Древности права балтийских славян. Прага, 1874. Ч. 1. С. 149.
(обратно)74
Лерберг А. Исследования, служащие к объяснению древней русской истории. СПб., 1819. С. 32.
(обратно)75
Разыскания о начале Руси. М., 1876. С. 238 и др.; Гедеонов С. Варяги и Русь. СПб., 1876, примечание 1.
(обратно)76
Шлецер. Нестор. Т. II. С. 333–334.
(обратно)77
Гедеонов доказывает, что Аскольд и Дир были венгры, но приводимые им основания шатки.
(обратно)78
«Замечательно, – говорит Иречек, – что булгар албанцы называют шкияу, Булгария – Шкиения, а румуны весьма похожим именем Шкиейи» (История булгар. Варшава, 1877. С. 106). Очень замечательно и это сходство древних имен, геродотовского Эксампея и аксиаков Помпония Мелы и других географов от первых двух веков христианского летосчисления, с новыми – шкияу и Шкиейи.
(обратно)79
Дорн, Куник. Каспий. СПб., 1875.
(обратно)80
Лава значит собственно уступ. Почти каждый порог состоит из нескольких таких уступов; на самом пороге Ненасытце существует 12 лав – уступов (Поездка в Южную Россию Афанасьева-Чужбинского. Ч. 1 // Очерки Днепра. С. 101).
(обратно)81
Теперешние прозвища порогов, всякой лавы, всех опасных камней, мысов и водоворотов см. в приведенном сочинении г. Афанасьева-Чужбинского. Теперь порог Ненасытец лоцманы называют еще Дедом; один опаснейший в нем камень называется Крутько, который как бы хватает попавшие к нему суда.
(обратно)82
Древности // Труды Московского археологического общества. Т. VII. С. 241; Описание Киевского клада Б. Антоновича // Записки Императорского археологического общества. Т. IV. СПб., 1852. С. 3.
(обратно)83
Совр. район улицы Боричев Тик в г. Киеве. (Примеч. ред.)
(обратно)84
Разбор мнений о значении имени Угорское см. у Гедеонова: Варяги и Русь. С. 230. Автор этим именем, хотя и на слабых основаниях, доказывает даже венгерское происхождение Аскольда. В областном северном языке «угор» значит высокий берег реки.
(обратно)85
Известия Императорской академии наук. Т. III; Срезневский. Договоры с греками. С. 263, 266.
(обратно)86
О существовавших в древности городах в южной русской украйне см. первую часть нашего сочинения. Развалины древних городов в южных степях, именно по рекам Конские Воды и Овечьи Воды, существовали еще в конце XVII века. В 1680 году посланник в Крым Василий Тяпкин видел там капища бусурманские – каменное строение старожитного поселения, которое от давности лет развалилось. Татары ему сказывали, что это были жилища Мамая-хана.
(обратно)87
Херсонес Таврический в Крыму. (Примеч. ред.)
(обратно)88
Бестужев-Рюмин Е. О составе русских летописей. СПб., 1866. Приложения. С. 4, 6.
(обратно)89
На Киммерийском Боспоре в IV веке Пантикапея (Керчь) называлась матерью всех городов боспорских. Очевидно, что и матерь-Киев происходит из тех же античных идей о старшинстве и преобладании древних торговых городов. По Страбону, Пантикапея была матерью европейских боспорских городов, а Фанагория почиталась матерью азиатских городов (Кеппен. Древности северного берега Понта. М., 1828. С. 41).
(обратно)90
То есть по монете. (Примеч. ред.)
(обратно)91
Св. Димитрий Солунский почитался заступником и покровителем греков в их войнах с позднейшими варварами, с аварами и болгарами (Журнал Министерства народного просвещения. 1875, февраль. С. 434).
(обратно)92
Вестник Европы. 1829. № 23. С. 163.
(обратно)93
Дринов. Южные славяне и Византия в X веке // Чтения Общества истории и древностей российских. 1875. Кн. 3. С. 12.
(обратно)94
Переволок, волок необходимо должны обозначать судовой колесный путь, на котором, если это была торная дорога, мог существовать даже и наемный извоз. В XIV веке митрополит Пимен переправился таким образом на колесах из рязанских рек к городу Данкову на Дон. Донские казаки так же переволакивали из Дона в Волгу, из Иловли в Камышинку.
(обратно)95
Покойный Гедеонов (Варяги и Русь. С. 286–289) насчитывает пятнадцать, разделяя одно имя на два. Из пятнадцати семь он относит к славянским, три к германо-скандинавским, одно (Карлы) находит сходным с тюркским (напр., Карлай), остальные четыре относит к сомнительным. Относительно имени Карлы заметим, что в померанских именах существует Carlitz. Из сомнительных Рулав объясняется померанским Rulow, Rullewitz; Рюар – Reier. Roerke, Rohr. Объясненное из славянского Карин, Карн потверждается померанским Carnitz, Karnkevitz. Фарлоф, может быть, – Bartlaff (ср. литовское – Бартлавки в 35 верстах к северо-западу от Шавлей).
(обратно)96
Византийская литра равна 327 г. (Примеч. ред.)
(обратно)97
Так мы читаем эту довольно темную статью договора. Нам кажется, что в ней необходимо отделить заглавие от самого текста. «О(т) взимающих куплю Руси о(т) различных ходящих в греки и удолжающих». Эту речь мы почитаем заглавием, ибо и некоторые предыдущие статьи тоже обозначены подобным же заглавием. Затем в словах: «Аще злодей взвратится в Русь» – предполагаем вероятный пропуск частицы не (не возвратится), что вполне объясняется смыслом всей статьи.
(обратно)98
Можем это заключать на основании замечаний академика Срезневского (см.: Известия Императорской академии наук. Т. III. С. 259).
(обратно)99
См. в Кормчей Закона Градского, грань 34, число 10, об освобождаемых рабах.
(обратно)100
Шлецер. Нестор. Т. II. С. 785.
(обратно)101
См.: Забелин И. Е. Скифия и Сарматия. Гл. VII. (Примеч. ред.)
(обратно)102
Устюжский летописец (М., 1781. С. 9–10) отмечает, что Олег, по возвращении из Цареградского похода, «иде к Новугороду, оттуде в Ладогу… и есть могила его в Ладозе». Быть может, в Ладоге существовала некогда могила с именем Олеговой, к которой летописец и присвоил смерть Олега Вещего. У Владимира был боярин Олг.
(обратно)103
Примечательно, что князья, носившие имя Игоря, были также Гориславичами, как и их старый предок. Игорь Ольгович убит киевлянами, Игорь Святославич попал в плен к половцам и воспет в известном «Слове», Игорь Глебович (из Рязанских) также был пленен Всеволодом Суздальским.
(обратно)104
Сум П. Ф. Историческое рассуждение о пацинаках, или печенегах // Чтения Общества истории и древностей российских. 1846. № 1. Смесь, 19. Припомним имена русских мест Которосль, Катагощ и т. п.
(обратно)105
Совр. г. Горган (Иран). Джурджан – вариант названия того же города, а также реки Горган. (Примеч. ред.)
(обратно)106
То есть Крым. (Примеч. ред.)
(обратно)107
Шлецер. Нестор. Т. III. С. 43.
(обратно)108
Там же. С. 44.
(обратно)109
Историческая область на северо-западе Малой Азии (в совр. Турции).(Примеч. ред.)
(обратно)110
Это число городов мы получаем при следующем распределении имен:
Очень многие из этих имен ближе всего поясняются именами мест, вендскими и литовскими. Для сравнения и дополнения к объяснениям покойного Гедеонова (Варяги и Русь. С. 286–305) приводим подобные имена, сколько успели собрать, пользуясь только картами Оппермана и Шуберта.
1) Адунь – венд. Dunow, Dunnow, Oddon.
2) Вуефаст сравним с Вихваст сел. к северо-востоку от Седнева Черниговской губ.; также с фамилией Буйхвост (как Буйнос). В Литовской стороне много составных имен с Буй и Вой. Адулб – Дульбы, Дыльбины к северу от Шавлей; Дулабис к северо-западу от Ковно.
3) Очень невнятное имя Искусеви весьма достаточно поясняется вендскими Cussow, Kussow, Kussitz. Куссы к северо-западу от Тельшей.
4) Слуды, кроме русских мест – Слуды (Новг.) и Слудовы (Киев.) и многие другие, имеет сходное и вендское Slutowe.
5) Улеб – лит. Улбены в 60 верстах к юго-западу от Вильны (г. Вильнюс. – Примеч. ред.).
6) Каницар – Konitz, Kannen, Cannin. Гомол – лит. Гомале в 30 верстах к югу от Тельшей.
7) Сфандр, женское, равняется имени Швендра, селение в 15 верстах к западу от города Россиен, который, вероятно, должен почитаться городом руси принеманской. Ших-Шиго-берн – лит. Жиги и Берн, см. № 19.
Куци – венд. Cutze, Cutzow, Cutzglow; лит. Коцие, Коуцов, Куцевиче, Куцишки, Кудки и пр.
8) Прастен – Prust, Preest, Pristke, Pristow. Престовяны к западу от Поневежа. Stenscke – Турдуви – венд. Turtzke. Мерянские места Турдиево, Турдиевы враги; Турдей, между рекой Непрядвой и Мечей, выше Ефремова и др. Доселе существует Туртова могила, курган в 18 верстах к западу от Триполья. Емиг – лит. Мегяны в 40 верстах к юго-западу от Поневежа.
9) Либиар – Libits, Libitz, Libiantz. Фастов – Wastke, Pastis, Pastlow; Хвастейки в 10 верстах к северу от Гродно. Турбид – ср. лит. Буй-Вид. Турбрид – лит. Бридзье, Брыды, 12 верст к югу от Шавлей.
10) Грим – Grimme. Grummentz. Сфирков – кроме многих рус. и лит. имен Свирь, Свирны, Свиранки, Свирконты и т. п. венд. Swirse, Swirnitz.
11) Акун. Якун – в Литве: Якун: Якунка верст 40 к западу от Словенска на Неманской Березине; Якунцы в 20 верстах к северу от Вилькомира. Бруны – венд. Вrunn, Brunne, Brunow и др. Бруновишки в 60 верстах к северу от Поневежа.
12) Кары – венд. Carow, Carritz. Тудков – рус. имена Туд, Тудор, лит. Тударево в 20 верстах к востоку от Новогрудка Гродненской губ.
13) Каршев – Karsibor.
15) Егриев – река Ейгра, текущая в один из притоков Нижнего Немана. Игерд – Эгирды в 40 верстах к югу от Ошмян; Вильгердайце в 40 верстах к западу от Поневежа; Гердувяны в 20 востоку от Мемеля (г. Клайпеда. – Примеч. ред.); Гиердовки в 12 верстах к северу от Новогрудка Гродненской губ.; Ейгерданцы в 60 верстах к западу от Вильны: Оргирданы в 35 верстах к северо-востоку от Вильны.
16) Лисков, кроме многих рус. имен, – венд. Liskow. Влисков – Bliskow.
17) Воист – Воистом, сел. Виленской губ. в 20 верстах к западу от Вилейки, Войстовиче верстах в 10 к северо-западу от Словенска на Березине.
18) Истр – лит. имена Геистры в 20 верстах к юго-востоку от Словики на Шешупе. Поистра в 15 верстах к северу от Поневежа. Аминодов, Яминдов – лит. Ямонты, верст 12 к югу от Тельшей; Поямонтцы еще южнее, и Ямонты и Словошишки; Ямонты в 20 верстах к югу от г. Лиды Гродненской губ.; Ямонты в 20 верстах к востоку от Куриш-Гафа (Куршский залив. – Примеч. ред.). Моны – венд. Morric, Monnekevitz, Monchow. Лит. Монче.
19) Бернов – лит. Бернюны, Берноты, Бернатана около г. Поневеж, Берничево в 20 верстах к северу от Новогрудка. и мн. др. Венд. Berneckow, Bernikow.
20) Явтяг – лит. Явтаки в 35 верстах к северу от Тельшей. Свень – Swine, Swinge, Zwine. Лит. Посвинги в 8 верстах к северо-востоку от Тельшей.
21) Шибрид – Жибарты в 35 верстах к западу от Новогрудка. Алдан – Eldena, Eldenow, Laddin, Ladentin. Cтир – лит. Стырбе. Стырбайце. Стырпейки, Стер-озеро.
22) Кол, кроме рус. имен, напр. Киев, Коль Серебряный и пр. Коловичи близ Вилейки. Венд. Kolove. Клеков – Клековская Белозерская волость. Венд. Cluckow. Лит. Клюковичи. Клековский стан.
23) Стегги – Венд. Stegelitz, Stengow. Лит. Стегвилы к западу от Россиен. Стегвиля к северу от Поневежа верст 50. Етонов – венд. Tonnitz, Tonnebur. Тилий, Телина – Tilsan, Tellin, Tellendin.
24) Пубьксарь и пр. – венд. Bubkevitz; лит. Пупкаим, Пупине. Пунше, Бубы, и др. Рус. Пупка у р. Ряс и Воронежа и др.
25) Гудов – венд. Gudose, Guddentin. Лит. Гуды, Гудда, Гудалес, Гудзи, Гуделле, Гудайце.
26) Фудри – лит. Будри, Будре, Будры, Будришки. Тулбов – лит. Толбей, Дылбы. Вузлев – венд. Wustlaff, рус. Возлебы у рязанского Скопина.
27) Мутур – венд. Mutrnow, Muttrin. Исинько – венд. Isigen. Борич – венд. Boriz.
Из Олеговых послов таким же образом поясняются кроме указанных – Труан – лит. Трион в 30 верстах к северу от Рагнита; Труйки к западу от Тельшей: Троянишки в 35 верстах к северу от Поневежа. Актеву можно сравнить с Тактау (Тактав), селом на южном берегу Куриш-Гафа, который некогда прозывался Русским морем.
Другие имена: Аскольд, кроме Соколды, Исколда, находим Аскилды в 40 верстах к северо-западу от Вилькомира (карта Оппермана); Асмуд – Асмутеи, Икмор – Ихмарь из страны мери, где на юго-востоке Ростовского озера есть речка и место Ихмарь и рядом место Россыня (см.: Уваров. Меряне. С. 31), ср. также лит. Жижморы от Вильны к северо-западу верстах в 50. Можно сравнить и Синеуса с Сенунусом, сел. в 10 верстах к западу от Ковно; как и Трувора с Турбором у балт. славян (Первольф. Германизация балтийских славян. С. 144), а равно и Рюрика с Реришки, селом в 60 верстах к юго-западу от Вильны. Припомним село Игорь в 45 верстах к северо-западу от Тельшей и т. п. Имя порога Геландри также находит свои корни в лит. именах, напр. Гелендзяны в 15 верстах к западу от Тельшей, и имена Бендры, Гедры, Аудра, Индрун и т. п., указывающие на форму окончания Геландри (ср.: Голендры у Владимира Волынского). Самые заведомо германо-скандинавские имена, если они попадаются и на балтийско-славянском поморье, тоже могут служить доказательством, что они принесены к нам варягами-славянами же, но не скандинавами. И вообще только после внимательного сличения древних русских имен с вендскими и литовскими местными именами возможно будет судить и о том, сколько в них останется скандинавского. И здесь уже мы видим, что литовские имена ближе объясняют древнерусские. Это, однако, не значит, что в первых русских дружинах господствовали литовцы, ибо балтийские велеты-лютичи, по словам Шафарика, сами должны были выйти откуда-либо из Виленского края. По Птолемею, они сидели в устьях Немана, и, по Шафарику, их учреждения, обычаи, наречие, религия носят явные следы литовщины, дышат литовщиной несравненно больше, чем у остальных славян. Таким образом, Русь Ругенская и Русь Неманская, вернее всего, укажут настоящую родину наших русских варягов. Если мы припомним, что было говорено о древнейших торговых связях Неманского угла по Днепру с Черным морем, то вероятность вендо-велетского происхожденияруси или древних роксолан получит ту основательность, какой другие предположения никогда иметь не будут.
(обратно)111
Можно с большой вероятностью предполагать, что эти посольские и купеческие печати суть те золотые и серебряные монеты, или, вернее, медали, которые в разное время и в разных местах были находимы не один раз. На них с одной стороны изображается князь, сидящий на престоле, и надпись: Владимир, Ярослав и т. п. на столе; а на обороте особая фигура и продолжение надписи: а се его злато или а се его сребро. Слова надписи не всегда переносятся одинаково. Смысл надписи больше всего указывает на княжеский документ, чем на монету, и можно полагать, что такое сребро раздавалось всем купцам и гостям для безопасного торга повсюду в своей стране, как равно и в чужих землях, и если Русь ручалась за этих людей своею печатью, то становится очень понятным, почему она не прощала, например, убийства подобного лица и поднималась за это войной, как было при Аскольде и при Ярославле, в самом начале и в конце варяжского периода русской истории. По вычислению веса г. Прозоровский (Монета и вес в России. С. 558) находит, что эти медали (серебряные) суть резаны, древняя русская монета; они же равнялись римскому денару, который у византийцев был равен милиарезию. Можно полагать, что имя нашей резаны произошло от этого милиарезия. Быть может, сами милиарезии и прозывались у нас резанами.
(обратно)112
О местоположении Черной Булгарии мнения различны. Бутков (Оборона несторовой летописи. С. 21 и 267) едва ли не первый стал доказывать, что она существовала на Кубани, на Таманском полуострове. В последнее время г. Иловайский на этом утвердил свои разыскания о происхождении Руси. По нашим соображениям, великая, старшая, древняя, независимая Булгария находилась на Нижнем Днепре, на тех самых местах, которыми в последствии владели запорожцы. Черная в этнографическом языке древности значит зависимая, податная, какой грекам представлялась Булгария Дунайская, младшая по своему происхождению, и как земля, покоренная пришедшими булгарами. Ср.: Шафарик. Славянские древности. Т. II. Кн. II. С. 188.
(обратно)113
Шлецер. Нестор. Т. III. С. 70; Эверс. Древнейшее русское право. С. 141. «Морские разбойники, норманны, и от русских варягиями названы», – говорит Байер. Его мысль о разбойности первой Руси безотчетно повторяется на все лады даже и до настоящего времени.
(обратно)114
Каспий. С. 495.
(обратно)115
Каспий. С. 512.
(обратно)116
Могила Игоря «существует и поныне в 5 верстах от местечка Искорости, по левой стороне тракта из Овруча» (Географическо-статистический словарь г. Семенова. Т. II. С. 366).
(обратно)117
Для объяснения имени Асмуда-Асмольда существует имя сел. Асмутеи в 40 верстах к югу от Россиен (Ковенской губ. верстах в 10 от Немана и в 25 верстах к востоку от Словики). Ср. также Есмонты в 15 верстах к востоку от Гродно и Ясмунт, полуостров на Рюгене.
(обратно)118
Котляревский. О погребальных обычаях языческих славян. М., 1868. С. 115–117.
(обратно)119
Такой же хитростью, птицами, даже собаками брали города Александр Македонский и багдадский эмир Ибн-Хосров (X в.). См.: Журнал Министерства народного просвещения. 1875, февраль. С. 403, 404, статья г. Васильевского «Варяго-русская дружина» и пр. Примечательно, что эти древние восточные басни рассказывались в конце X века в Армении, где тогда стоял русский отряд, присланный Владимиром на помощь грекам. Оттуда, или прямо от русских, они могли попасть и в Гаральдову исландскую сагу.
(обратно)120
Летописец Переяславский // Временник Общества истории и древностей российских. Кн. IX. С. 12.
(обратно)121
Костомаров. Предания русской летописи // Вестник Европы. февраль, 1873, февраль. С. 605.
(обратно)122
Рельеф с выбранным углубленным фоном и объемной обработкой изобразительных элементов. (Примеч. ред.)
(обратно)123
С древних времен византийским императорам, при вступлении на престол, все области царства подносили золотые венцы, украшенные драгоценными каменьями. Такие же венцы подносимы были и по случаю одержанных побед. См.: Дексипп и пр. византийские историки / Пер. С. Дестуниса. СПб., 1860. С. 103, 115.
(обратно)124
Главный тайный писец, а также первое после патриарха духовное лицо в Византии. (Примеч. ред.)
(обратно)125
Чиновник, заведовавший личными покоями императора. (Примеч. ред.)
(обратно)126
Шлецер. Нестор. Т. III. С. 398; Беляев. Русь в первые сто лет // Временник Общества истории и древностей. Кн. 15. С. 146–147.
(обратно)127
Шлецер. Неcтор. Т. III. С. 404.
(обратно)128
Кедрин. Деяния церковные и гражданские. М., 1820. Ч. 2. С. 93.
(обратно)129
Константинопольский сенат. (Примеч. ред.)
(обратно)130
Вестник Европы. 1829. № 23.
(обратно)131
Милиарезий – серебряная монета, которой чеканилось 60 из фунта серебра (Прозоровский Д. Монета и вес в России // Записки Императорского археологического общества. Т. XII. С. 548). По свидетельству Антониева «Паломника» конца XII столетия, в Софийском Цареградском храме сохранялось «блюдо велико злато служебное Олгы Русской, когда взяла дань, ходивши ко Царюграду… Во блюде же Олжин камень драгий, на том же камени написан Христос, и от того Христа емлют печати людие на все добро: у того же блюда все по верхови жемчюгом учинено» (Савваитов П. Путешествие новгородского архиепископа Антония в Царьград. СПб., 1872. С. 68–69). Можно полагать, что Ольга поднесенное ей блюдо тогда же положила в храм, быть может, на поминовение о здравии.
(обратно)132
Мудрость или хитрый ум Ольги народные сказания славят в рассказах, как ею прельстился сначала, еще во время ее девичества, Игорь, а потом в Царьграде сам греческий царь. Последний, видев ее красоту и разум, сказал ей в беседе: «Подобает тебе царствовать в этом граде с нами». Ольга уразумела, чего желает царь, и ответила: «Я ведь язычница. Если хочешь, то крести меня сам, иначе не крещуся». Царь с патриархом окрестили ее, после чего царь позвал ее в палаты, объявил ей, что хочет взять ее себе в жены. «Как же хочешь ты меня взять, ведь ты крестил меня и нарек дочерью, а у христиан такого закона нет», – ответила Ольга. «Переклюкала (перехитрила) ты меня, Ольга!» – воскликнул недогадливый царь.
(обратно)133
Святославовы обычаи прямо переносят нас в быт кочевников, какими обыкновенно представляются, например, роксоланы и унны. Военные дружины, которых только и знали древние писатели, конечно, всегда в их глазах являлись кочевниками, и потому Святослав необходимо должен быть причислен к таким же кочевникам, каким был и Аттила. Византийцы и в IX веке писали, что русь – народ кочевой. Это вообще служит указанием, к каким кочевникам мы должны причислять и древних роксолан, прародителей Руси IX века.
(обратно)134
Гаркави А. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских. СПб., 1870. С. 218, 282.
(обратно)135
Около 430 кг (пуд равен 16,4 кг). (Примеч. ред.)
(обратно)136
История Льва Диакона Калойского. СПб., 1820. С. 39; Чертков. Описание похода великого князя Святослава на болгар и греков // Русский исторический сборник. Т. VI. С. 336.
(обратно)137
Число войска у византийцев явно преувеличено. См. об этом очень верные замечания Гильфердинга. Сочинения. Т. 1. С. 141, примеч. 3, и Черткова в его описании похода (С. 238 и др). Должно вообще придерживаться летописной цифры, 10 тысяч, что по русским понятиям означало тьму, т. е. такое же множество, как по греческим сто тысяч.
(обратно)138
Совр. г. Силистра (Болгария). (Примеч. ред.)
(обратно)139
В Болгарии существовало две Преславы, Великая и Малая. Великая (древний Маркианополь) была столицей и находилась на месте нынешнего селения Эски-Стамбул, верстах в 15 прямо к северу от Шумлы. Малая или, как указывает и г. Дринов (Чтения Общества истории и древностей российских. 1875. Кн. 3. С. 95), т. е. Русский Переяслав, по всему вероятию, теперешнее селение Преслав вблизи Тульчи, несколько ниже ее по течению южного, или Георгиевского, гирла. Вблизи селения видны развалины старого города. Селение расположено под горой Бег-Тепе, Бештепе, на мысу, который образуется небольшой речкой, текущей по северо-западной стороне, и гирлом, которое направляется мимо взгорья к юго-востоку. За горой к югу находится обширный лиман Разин, Rassein по французской карте Турции (M. Lapie, Paris. 1822); по нашим картам – Разельм, древн. Halmyris. Местоположение города было господствующее над всей дельтой Дуная, который недалеко отсюда, между Тулчей и Измаилом, распределяется на многие протоки и образует потом три гирла: Килийское на севере, Сулинское в средине и Георгиевское на юге, и одним протоком, Дунавцом, соединяется с лиманом Rassein, выводя из него в море особые гирла меньшей величины.
(обратно)140
Гильфердинг. Собр. соч. Т. I. С. 143.
(обратно)141
Рейц А. Опыт истории российских государственных и гражданских законов. М., 1836. С. 10, 11, 20, 25, 38, 48, 49 и др.
(обратно)142
Совр. г. Пловдив (Болгария). (Примеч. ред.)
(обратно)143
Дринов М. Южные славяне // Чтения Общества истории и древностей российских. 1875. Кн. III. С. 100.
(обратно)144
Совр. г. Эдирне (Турция). (Примеч. ред.)
(обратно)145
Шлецер. Нестор. Т. III. С. 572.
(обратно)146
Белов. Борьба великого князя Святоcлава с императором Иоанном Цимисхием // Журнал Министерства народного просвещения. 1873, декабрь; Чертков. Описание похода в «Русском историческом сборнике», т. VI; Гильфердинг. Сочинения. Т. I.
(обратно)147
Оценку подобных свидетельств см. у Черткова, Гильфердинга и г. Белова.
(обратно)148
Кедрин. Деяния церковные и гражданские. Ч. III. С. 111, 118; Чертков. Описание похода… С. 237.
(обратно)149
Лев Диакон. С. 86. Число, конечно, опять преувеличено, см. у Черткова: Русский исторический сборник. Т. VI. С. 342–343.
(обратно)150
После речи: «И взвратися в Переяславец (мало не дойдя Царяграда) c похвалой великой». Затем идет рассказ уже о делах под Дористолом: «Видев же мало дружины… посла слыко цареви в Деревстр…» (Полное собрание летописей. Т. I. С. 30; у Черткова, с. 262).
(обратно)151
Шлецер. Нестор. Т. III. С. 609, 610, 612, 616.
(обратно)152
Кедрин. Деяния. Т. II. С. 118.
(обратно)153
Лев Диакон. С. 98; Кедрин. Т. II. С. 120.
(обратно)154
Свентельда должно отличать от Сфенкела, о котором пишут греки и который погиб в одной из битв. Г. Белов (Журнал Министерства народного просвещения. 1873, декабрь. С. 179, 183) полагает, что Сфенкел и Свентельд одно лицо, и потому свидетельство Льва Диакона и Кедрина о смерти Сфенкела почитает вымыслом. Но одного сходства имени еще недостаточно для утверждения этой истины. Сфенкел, как говорит Лев Диакон, занимал третье место после Святослава, а первое принадлежало Икмору, тоже погибшему в битве. По всему вероятью, второе место и занимал Свентельд, явившийся на первом месте по окончании войны и занявший это место даже и в писаном договоре. Для имени Сфенкел существует пояснительное имя: Свенковичи на Десне.
(обратно)155
Полное собрание летописей. Т. I. С. 31; Кедрин. Деяния. Т. II. С. 120.
(обратно)156
Кедрин. Деяния. Т. II. С. 129; Лев Диакон. С. 107.
(обратно)157
Летописец Переяславский // Временник Общества истории и древностей. Кн. 9. С. 15.
(обратно)158
Котляревский. Книга о древностях и истории поморских славян. С. 90.
(обратно)159
Соловьев. История России. Т. I. С. 149–150.
(обратно)160
«Обрывся на Дорогожичи, межю Дорогожичем и Капичем, и есть ров и до сего дне» (Лаврентьевская летопись, 32). См.: Описание Киева Н. Закревского. Т. I. С. 299–300.
(обратно)161
Ваcильевский. Варяго-русская дружина в Константинополе XI и XII в. // Журнал Министерства народного просвещения. 1874, ноябрь; 1875, февраль, март.
(обратно)162
У Владимира на самом деле до крещения было пять жен и десять сыновей: полоцкая Рогнеда с четырьмя сыновьями, Изяславом, Мстиславом, Ярославом, Всеволодом, и двумя дочерьми; грекиня с сыном Святополком; чехиня с сыном Вышеславом; другая чехиня с сыновьями Святославом и Мстиславом (по Ипатьевскому списку летописи – Станиславом); болгарыня с сыновями Борисом и Глебом. Описывая крещение Владимира, летопись говорит уже о двенадцати сыновьях, именуя еще Станислава, Позвизда и Судислава и не упоминая другого Мстислава.
(обратно)163
Полное собрание русских летописей. Т. I. С. 35, 52.
(обратно)


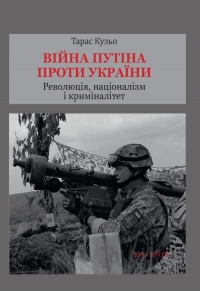
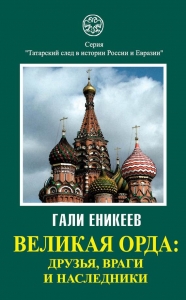
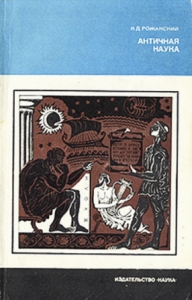
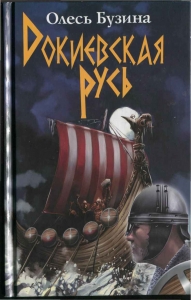
Комментарии к книге «Расцвет русского могущества», Иван Егорович Забелин
Всего 0 комментариев