Сергей Михайлович Сергеев Русская нация, или Рассказ об истории ее отсутствия
© Сергеев С. М., 2017
© «Центрполиграф», 2017
© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2017
* * *
Моим предкам – Сергеевым и Сердцевым
…Признаться, изучая наше старое общество со всех сторон, я никогда полностью не упускал из виду новое общество. Я решил узнать не только от какого недуга скончался больной, но и как он мог бы выжить. Я уподобился тем врачам, которые в каждом отжившем организме пытаются подметить признаки жизни… Так, стоило мне встретить у наших предков одну из тех людских добродетелей, которые пригодились бы нам больше всего и которых у нас почти не осталось, – подлинный дух свободы, страсть к великим свершениям, верность себе и делу, – я их подчеркивал; равным же образом, обнаружив в законах, представлениях, нравах того времени следы некоторых пороков, которые, совершенно завладев старым обществом, все еще терзают нас, я постарался привлечь к ним внимание, с тем чтобы, отчетливо видя, какое зло они нам причинили, люди лучше поняли, какой вред они еще могут нам нанести.
Алексис де Токвиль. «Старый порядок и революция»Надо совершенно спокойно – без чванства и высокомерия – сказать: у России свой путь. Путь тяжкий, трагический, но не безысходный, в конце концов. Гордиться пока нечем.
Василий Шукшин, из рабочих записей начала 1970-х годовОт автора
Предлагаемая книга, ставшая завершением многолетних штудий автора, часть из которых вошла в сборник его статей «Пришествие нации?»[1], не является очередной историей России. Это именно история русской нации (о ее специфике подробно будет сказано во введении). Поэтому читателю, думающему почерпнуть здесь элементарные сведения об отечественном прошлом, лучше обратиться к другим работам, благо их множество. Чтение же данной книги как раз предполагает некое общее представление о русской истории, как минимум на уровне школьной программы.
Хотя книга написана не в жанре академического исследования, а в жанре исторической публицистики, она в то же время опирается на тщательное изучение достижений российской и зарубежной историографии, включая работы последних лет. Разумеется, я осознаю неравноценность разных частей своей «Истории». Будучи специалистом по XIX в., я не мог с той же глубиной и обстоятельностью исследовать и другие эпохи, так что главы, им посвященные, носят отчасти компилятивный характер (особенно это касается раздела о советском периоде). В том, что они были написаны на пристойном (как я надеюсь) уровне, главная заслуга принадлежит прекрасным знатокам тех или иных конкретных исторических сюжетов, чьи исследования безмерно облегчили мою задачу. Тем не менее автор усердно старался, чтобы концептуальная составляющая его труда при этом не оказалась «размыта». Для «облегчения» текста и уменьшения его и так весьма солидного объема пришлось отказаться от сносок и ограничиться краткой историографической библиографией, куда включены только самые важные публикации, и полностью исключить гигантский перечень источников.
Я хотел бы выразить искреннюю и глубокую признательность тем людям, которые очень помогли мне в течение полутора лет работы над этим весьма трудоемким сочинением:
Прежде всего, новосибирскому предпринимателю и публицисту Игорю Макурину – только благодаря его бескорыстной материальной поддержке книга смогла быть написана в сравнительно короткий срок. Ему же я обязан пониманием важности проблемы частной собственности для отечественной истории.
Светлане Волошиной, неизменно дарившей мне вдохновение.
Друзьям и коллегам по журналу «Вопросы национализма», где печатались главы из этого сочинения: Константину Крылову, Надежде Шалимовой, Елене Галкиной, Олегу Кильдюшову, Олегу Неменскому, Михаилу Ремизову, Павлу Святенкову, Александру Севастьянову, Валерию Соловью. Кто-то из них сегодня уже отошел от журнала, для кого-то иные выводы этой книги покажутся спорными или даже неприемлемыми, но интеллектуальный диалог со всеми ними был для автора исключительно важен, а работы Валерия Соловья и дружеские беседы с ним стали первостепенным катализатором творческой активности автора.
Ирине Чечель, любезно публиковавшей отдельные фрагменты книги на сайте «Гефтер. ру».
Первым читателям / слушателям рукописи книги или ее отдельных глав: Александру Ефремову и Александру и Наталье Ивановым, сделавшим ряд важных замечаний.
Особая благодарность доктору исторических наук Владимиру Дмитриевичу Кузнечевскому, по рекомендации которого рукопись книги оказалась в издательстве «Центрполиграф».
Некоторые интересные цитаты и факты были найдены автором благодаря «наводкам» Сергея Белякова, Ярослава Бутакова, Константина Ерусалимского, Александра Котова, Александра Михайловского, Дмитрия Павлова, Андрея Тесли.
Невозможно не упомянуть здесь также и нескольких людей, в разное время ушедших от нас («Не говори с тоской: их нет, / Но с благодарностию: были»). Блестящего филолога и редактора, воплощение интеллигентности и порядочности, Михаила Дмитриевича Филина (1954–2016), предпринявшего первую, пусть и неудачную, попытку издания моей «Истории». Профессора МПГУ Аполлона Григорьевича Кузьмина (1928–2004), моего Учителя, привившего мне еще на студенческой скамье вкус к историческому исследованию. И Анну Алексеевну Коваленко (1969–2014), много лет бывшую самым близким для автора человеком, с которой незадолго до ее кончины я поделился замыслом этой книги и которая сразу же горячо поверила в его осуществимость, передав эту веру и мне.
Сергей Сергеев
21 октября 2016 г.
Введение. Как возможна русская нация?
Судя по электронному каталогу Российской государственной библиотеки, на русском языке не существует ни одной книги с названием «История русской нации» (если только не считать переименованных таким образом при недавнем переиздании «Очерков по истории русской культуры» П. Н. Милюкова). На первый взгляд это кажется досадной нелепостью, очередной грустной иллюстрацией к пушкинскому: «Мы ленивы и нелюбопытны». На самом же деле за этим фактом стоит сама логика русской истории. Ибо вовсе не случайно отечественная историография предпочитает описывать историю государства Российского, а не историю русского народа (немногочисленные попытки в последнем направлении, начиная с Н. А. Полевого, как правило, далее декларации о намерениях не шли).
Для господства такого подхода существуют вполне объективные причины – почти на всем протяжении нашего прошлого (по крайней мере с XV в.) главным его действующим лицом была верховная власть, народ же выступал в качестве самостоятельной силы лишь в очень редкие, кризисные эпохи вроде Смут начала XVII и XX в. Невольно возникает вопрос: а существовала и существует ли русская нация как таковая?
Здесь надо сразу пояснить, что автор подразумевает под словом «нация» не особую этнокультурную общность (каковой русские, несомненно, являлись и являются), а общность этнополитическую – народ, выступающий как политический субъект с юридически зафиксированными правами. Нужно также оговориться, что в предлагаемой книге не обсуждаются проблемы этничности и ее природы – биологической или социальной, на сегодняшнем уровне развития науки однозначного ответа на этот вопрос быть не может. «Нация – это пакет политических прав», – лапидарно формулирует современный политолог П. В. Святенков. Именно в этом смысле и понимается нация в современной гуманитарной науке и международном праве. И такое понимание имеет давние корни: в Средние века в Западной Европе нацией (или народом в Восточной Европе) величали социально-политическую элиту данного этноса, обладающую привилегиями, законно признанными монархом.
Например, в Священной Римской империи германской нации «нация» – политическое сообщество немецких князей. В континентальной Европе указанное словоупотребление практиковалось вплоть до Французской революции, а в Польше даже до второй половины XIX в. Но в Англии уже в XVI в. это понятие стало использоваться по отношению ко всему населению, то есть весь этнос как бы признавался элитой. Тогда же это новое понимание начало проникать и на континент. Скажем, в изданном в Венгрии латинском трактате Tripatrium говорится: «Под именем и названием народа… обычно понимают господ, прелатов, баронов и другую знать, равно как и вообще дворян, но не простой народ. Подобает в этот термин включать в равной мере всех дворян и простонародье. Народ от простонародья отличается как род от вида. Имя народа означает вообще дворян, как знать, так и мелких, а также простой народ. Название же плебса подразумевает только простонародье».
Таким образом, идея единой нации стала «символическим возвышением народа до положения элиты» (Л. Гринфельд). Но с той же Французской революции в Европе (а в Новом Свете даже раньше, с революции Американской) пошел процесс не символического только, но и реального включения в нацию сначала средних, а затем и низших социальных слоев этноса путем приобретения ими политических прав, ранее доступных только знати. В этом и состоит сущность процесса нациестроительства, захватившего сначала Европу и Америку, а затем и весь мир в XIX–XX столетиях. «Условно говоря, нация – это проект всеобщей аристократии, когда все являются господами… Национализм в его идеальном воплощении – это программа всеобщей аристократизации общества» (К. А. Крылов).
Следует, однако, отметить, что не только идея нации имеет европейское происхождение, но и реализовалась она наиболее полно в странах европейской культуры. Тому есть две причины. Первая, духовная, – христианство. «…Нация, и национализм – типично христианские явления, которые, коль скоро они встречаются где-либо еще, сделались таковыми в процессе вестернизации и подражания христианскому миру, даже если ему подражали в большей степени как западному, а не как христианскому. Единственное подлинное исключение из данного правила, которое я признаю, это евреи», – пишет британский историк Эдриан Гастингс.
И дело не только в наличии архетипической библейской модели нации в виде богоизбранного народа или в созданных, благодаря деятельности христианских церквей, национальных языках и литературах, о чем подробно рассказывает Гастингс. Безусловное равенство всех человеческих душ перед Богом, признание самоценности каждой человеческой личности, утверждаемое христианством, стало метафизической основой представления о естественности и неотъемлемости гражданских и политических прав для всех членов этноса. Современные историки пришли к выводу, что «та идея естественных прав, создание которой сразу в законченном виде долго приписывалось либеральным мыслителям XVII и XVIII веков, на самом деле принадлежит католическим канонистам, римским папам, профессорам католических университетов и католическим теологам» (Т. Вудс). Характерно, что идеология политической демократии самостоятельно не сформировалась ни в одной другой культуре, кроме европейской.
Вторая причина, социально-юридическая, – феодализм с его четко прописанной системой взаимных обязательств вассалов и сеньоров, использующей наследие римского права. Об этом хорошо написал Г. П. Федотов: «В феодальном государстве бароны – не подданные, или не только подданные, но и вассалы. Их отношения к сюзерену определяются договором и обычаем, а не волей монарха. На территории если не всякой, то более крупной сеньории ее глава осуществляет сам права государя над своим крепостным или даже свободным населением. Формула „помещик-государь“, хотя и не свободная от преувеличения, схватывает основную черту этого общества. В нем не один, а тысячи государей, и личность каждого из них – его „тело“ – защищена от произвола. Его нельзя оскорблять. За обиду он платит кровью, он имеет право войны против короля… В западной демократии не столько уничтожено дворянство, сколько весь народ унаследовал его привилегии (курсив мой. – С. С.). Это равенство в благородстве, а не в бесправии, как на Востоке. „Мужик“ стал называть своего соседа Sir и Monsieur, то есть „мой государь“, и уж во всяком случае в обращении требует формы величества: Вы (или Они)».
О том же говорит и классик американской исторической социологии Баррингтон Мур: «…достаточно обоснован тот тезис, что западный феодализм содержал определенные институции, отличавшие его от других обществ в благоприятную для демократии сторону. …Это постепенный рост иммунитета отдельных групп и персон от власти правителя, а также концепция права на сопротивление несправедливой власти. Наряду с концепцией договора как общего дела, свободно предпринимаемого свободными личностями, выведенной из феодальных отношений вассальной зависимости, этот комплекс идей и практик образует главное наследие, оставленное европейским средневековым обществом современным западным представлениям о свободном обществе. Такой комплекс сложился только в Западной Европе».
(Между прочим, античная демократия также имеет аристократическое происхождение. Так, в Афинах «аристократические духовные ценности… в ходе демократизации полиса… распространились на весь гражданский коллектив, на весь демос… Такие ценности, как политическая свобода, высокая ценность личности, равенство граждан перед законом, коллективный и выборный характер властных органов, прочно вошли в арсенал демократии. Но не следует забывать о том, что зародились эти ценности в аристократической среде и в аристократическую эпоху» (И. Е. Суриков).
Низы всегда подражают верхам. Правило, работающее в европейской истории, кажется, без исключения: модель отношений между верховной властью и социально-политической элитой, устойчиво сложившаяся в Средние века, определяет не только характер политического строя государств, но и социокультурные поведенческие модели народов их населяющих, до сего дня.
* * *
Сложность и драматизм русского случая состоит в том, что из двух указанных выше предпосылок нациестроительства в России наличествовала только первая – духовная (но институционализированная далеко не в такой степени, как в странах латинского мира, в силу подчиненности русской церкви государству). Что до второй, то социальная структура русского общества (особенно начиная с монгольского ига) была далека от европейского феодализма. Власть великих московских князей, а затем и царей, в силу ряда исторических причин сделалась, говоря словами современного историка А. И. Фурсова, «автосубъектной и надзаконной». Независимые общественные слои на Руси либо не сложились, либо пришли в упадок. Московские бояре по отношению к своим государям не обрели статуса вассалов, а были лишь не имеющими никаких гарантированных прав подданными. Следовательно, русскому народу в плане привилегий нечего было унаследовать у своей аристократии (вероятно, именно это имел в виду Пушкин, когда написал: «Феодализма у нас не было, и тем хуже»). Лишь при Екатерине II дворянство Российской империи получило фиксированные права – да и то лишь гражданские, а не политические, и именно после этого началось развитие русского национального самосознания в точном смысле слова. Но самосознанию этому прямо противоречили социально-политические институты империи, предназначенные, как и прежде, для обслуживания «автосубъектной и надзаконной» монархии. И только после революции 1905 г. в России началось строительство основ национального государства, оборванное мировой войной и захватом власти большевиками, восстановившими в новом обличье все ту же надзаконную структуру власти. От этого многовекового наследства мы не избавились и по сей день.
Таким образом, русские в течение всей своей истории, за исключением краткого периода 1905–1917 гг., не являлись политической нацией. Они были и остаются «государевыми людьми», служилым народом, на плечах которого держались все инкарнации государства Российского – Московское царство, Российская империя, Советский Союз – и держится ныне Российская Федерация. В прошлом и настоящем они обеспечивали внешнеполитические амбиции своих надзаконных правителей и скрепляли за свой счет единство множества разнообразных нерусских народов, входивших в состав одной из величайших империй в мировой истории. Но никаких политических прав этот «государствообразующий» этнос не имел и не имеет – только обязанности. Верховная власть шесть веков подряд делала все возможное для уничтожения у русских даже намека на институты национального самоуправления. Русские должны были подчиняться непосредственно государству, им не положено было иного коллективизма, кроме спускаемого сверху. У них, как у народа, на котором держится основание империи, вообще не могло быть других интересов, кроме «державных».
Историк А. И. Яковлев накануне 1917 г. в беседе с коллегами сострил, что русская государственность стоит на трех основаниях: «1) русские против внешних врагов сражаются как львы, 2) между собой человек человеку – волк, 3) перед начальством – „чего изволите?“, по-собачьи». Добавим четвертое – работают как ломовые лошади. По точному замечанию грузинского философа Мераба Мамардашвили: «Россия существует не для русских, а посредством русских…» Взамен власть и ее идеологическая обслуга кормит русскую «сивку» разного рода «возвышающими обманами». Перечень последних хорошо известен:
1. Русские – не конкретный этнос, а таинственный сверхнарод, не имеющий этнического содержания. Русский – прилагательное, а не существительное.
2. Русским не нужны материальные блага и политические права, они должны думать только о высокой духовности и о том, как выполнить свою вселенскую миссию – спасение человечества.
3. Русские – не хозяева России, а «раствор», скрепляющий ее единство; не цель в себе, а средство для исполнения великих предначертаний начальства.
4. Что бы ни случилось, русские должны терпеть и молча сносить любые притеснения от начальства и иноплеменников – иначе все рухнет.
5. Без строгого начальства с плеткой русские ни на что хорошее не способны.
В. В. Розанов с замечательной меткостью называл подобную рефлексию «философией выпоротого человека».
* * *
Если все это так, то зачем же писать книгу об истории русской нации, которой не было, нет и неизвестно, будет ли?
Возможно, автору стоило бы назвать свое сочинение «История отсутствия русской нации». Мне представляется, что рассказ о русской истории через призму этого отсутствия поможет понять в ней очень важную особенность, не улавливаемую традиционным имперским дискурсом о колонизации бескрайних пространств, блестящих военных победах и грандиозном державном строительстве. Особенность эта состоит в том, что христианский, европейский по культуре своей народ стал главным материальным и человеческим ресурсом для антихристианской, по своей сути, «азиатской» государственности. (Автор – не востоковед, поэтому воздерживается от увлекательного поиска аналогий между социально-политическими институтами Востока и России, но не может не отметить, что описанный Л. С. Васильевым в его классической «Истории Востока» феномен «власти-собственности» вполне неплохо работает на русском материале. Равно как и веберовский «султанизм» – патримониальное господство, основанное на свободном от традиционных ограничений произволе.) В этом кричащем разрыве между русским сознанием и русским же общественным бытием – главная трагедия нашей жизни.
Указанный разрыв отмечал еще в конце XVI в. наблюдательный англичанин Джильс Флетчер, разумеется, не без британского высокомерия, но в целом оскорбительно верно:
«…они [русские] обладают хорошими умственными способностями, не имея, однако, тех средств, какие есть у других народов для развития их дарований воспитанием и наукой… Отчасти причина этому заключается… в том (…), что образ их воспитания (…) признается их властями самым лучшим для их государства и наиболее согласным с их образом правления, которое народ едва ли бы стал переносить, если бы получил какое-нибудь образование… равно как и хорошее устройство». О том же разрыве горько и пронзительно написал В. П. Астафьев в частном письме в феврале 1980 г.: «Может быть, мы и не были великими? Может быть, так в детстве и застряли? Стадное чувство, рабство, душевная незрелость, робость перед сильной личностью вроде бы к этому склоняют, но великая культура, небывало самобытное величайшее искусство, созданное за короткий срок, – живое свидетельство зрелости нации».
В разговоре о нации важно понять, что она в идеале – не рой, не стадо, а свободное единство независимых личностей. Но именно последним-то на Руси всегда приходилось трудно. Модель «самодержец – бесправные подданные», по «закону подражания», веками транслировалась сверху вниз на все этажи русского социума. В результате высшей – хотя и неформальной – ценностью последнего стала не личная независимость и свободная солидарность, а возможность властвовать, помыкая нижестоящими, притом что вышестоящие, в свою очередь, помыкают тобой. «Русская общественная жизнь есть цепь взаимных притеснений: высший гнетет низшего; сей терпит, жаловаться не смеет, но зато жмет еще низшего, который также терпит и также мстит на ему подчиненном», – писал в 1851 г. М. А. Бакунин, а сказано будто о сегодняшнем дне. Так что пресловутая русская атомизированность и нетерпимость друг к другу совершенно закономерны – какие могут быть коллективизм и терпимость между миллионами маленьких самодержцев?
Один из умнейших и оригинальнейших русских людей, знаменитый собиратель олонецких былин и скромный проводник имперской политики в Польше в качестве вице-губернатора города Калиша П. Н. Рыбников утверждал, что в романах Толстого царит миросозерцание, проникнутое убеждением в ничтожности отдельной личности и растворяющее ее в народной массе. «Великий писатель земли русской» изображает и поэтизирует преимущественно покорных судьбе, лишенных всякой инициативы и характера «приниженных» людей (как сказал бы Аполлон Григорьев, «смирный тип»), а мало-мальски самостоятельные и свободно развившиеся индивидуальности либо игнорирует, либо предает «злой смерти» (как Андрея Болконского).
Рыбников отчасти согласен с Толстым – да, действительно, преобладающий стиль «русского мира» именно таков, но это не его «онтология», а порождение определенных исторических обстоятельств, когда начиная с Московского царства «весь строй жизни стал абсолютистским, высшее сословие превратилось в служилых людей, явилось проклятие крепостного права. Куда было деться самостоятельной личности, что она могла значить перед силой сложившихся вещей?». Вследствие падения гражданской и общественной жизни и религиозная сфера деградировала «с одной стороны, до обрядности, с другой, до фатализма». «Вот почему, – резюмирует Павел Николаевич, исходя, видимо, и из собственного богатого жизненного опыта, – образованной русской личности тяжко жить в великорусской жизни. Если она выходит из традиционных рамок, ее гонит в бесплодное отрицание нигилизма; если она приобщается к своему племени, ей надобно наложить на себя печать смирения… и отказаться от всякой самостоятельной деятельности, от всякого самостоятельного мышления… Личности негде развернуться в великорусской жизни… оттого там и жить так тошно».
От этого ощущения («тошно жить») даже и у великих русских людей случались приступы отчаяния. «Скучно, тяжко, и вокруг столь подло и столь глупо, что не знаешь, где и дух перевести, – жаловался в одном из писем 1883 г. Н. С. Лесков. – Не могу себе простить, что я никогда не усвоил себе французского языка в той мере, чтобы на нем работать как на родном. Я бы часа не остался в России и навсегда. Боюсь, что ее можно совсем возненавидеть со всеми ее нигилистами и охранителями. Нет ни умов, ни характеров и ни тени достоинства… С чем же идти в жизнь этому стаду, и вдобавок еще самомнящему стаду?»
Проблему личности в «русском мире» осознавал, разумеется, не один Рыбников. Ей посвящена добрая половина отечественной литературной классики XIX столетия – все мы помним из школьной программы про «лишних людей». Но мало кто формулировал ее с такой четкостью, и, главное, мало кто так внятно объяснил ее генезис. Разве что В. В. Розанов в «Мимолетном» за 1914 год, пытаясь доказать ненужность для Российской империи ненавидимой им в ту пору интеллигенции, дал очень выразительный образ русского бытия, где независимой личности по определению нет места: «Мужики – пашут. Солдаты готовы отразить врага. Священники – хоронят, венчают, крестят. Держат „наряд“ и „идею“ над человеком. Царь блюдет все. „Да будет все тихо и благодатно“. Египет. Настоящий и полный Египет».
Вот именно – Египет, образец восточной, дохристианской деспотии!
Государство как было, так и осталось в России, по сути, главным собственником и главным работодателем, а при таком раскладе независимая личность как более-менее массовый тип решительно невозможна. Во всем этом не было бы трагедии, когда бы русские искренне считали подобное положение дел правильным. Раб, которого не оскорбляют побои, вполне может быть счастлив. Но одно дело – вынужденно подчиняться «силе сложившихся вещей», другое – верить в ее справедливость. Большинство никогда не прет против рожна, но это не значит, что оно этот «рожон» любит всеми фибрами души. Русские – народ христианско-европейской цивилизации, где личность – центр бытия, более того, это народ, создавший одну из величайших христианско-европейских культур, в которой от Владимира Мономаха до Александра Солженицына проникновенно и мощно воспето достоинство человеческой личности как абсолютная ценность. Да и Толстой – ни в творчестве, ни тем более в частной жизни – вовсе не сводится к апологии «приниженности».
Не сознательно, так подсознательно русские ощущают нормой уважительное отношение к себе как к творению Божию с бессмертной душой, а не садомазохистские игры в господ и холопов. И доказательств этому немало в русской истории. Рыбников, как знаток русского фольклора, отмечал, что чувство свободы и независимости личности пронизывает былинный эпос, что вовсе не «смирными» и не «приниженными» были герои последнего, а стало быть, и народ, таких героев почитавший, не может быть сведен к безличной массе. Он напоминал, что в рамки философии Толстого совершенно не укладываются такие «хищные» (как опять-таки выразился бы Аполлон Григорьев) современники событий, описанных в «Войне и мире», как А. П. Ермолов или М. С. Лунин.
Урожай на сильных, талантливых, инициативных людей среди русских был всегда поразительно высок, и именно они были дрожжами нашего прогресса. Государство этими людьми активно пользовалось, но, когда они начинали заявлять претензии на независимость (без которой сила, талант, инициатива развиваться не могут), их либо истребляли, либо выталкивали на периферию, либо заставляли встраиваться в систему, где они через какое-то время чахли или проституировались. В том числе и отсюда прерывистость русского исторического развития, обязательность срыва реформ с последующим переходом в реакцию.
Личная независимость в наших палестинах – цветок как будто редкий и экзотический. Но как характерно, что чуть политический климат начинает теплеть, это растение тут же получает тенденцию к распространению. Стоило самодержавию дать дворянству Манифест о вольности, как уже через двадцать – тридцать лет народилось поколение Пушкина и декабристов, для которого понятие о личной независимости было основой идентичности. Стоило в 1905 г. явиться Манифесту о политических и гражданских свободах – и тут же бурно закипела общественная и хозяйственная жизнь, за считаные годы возникла новая, европеизированная Россия, уничтоженная затем пришествием коммунистического Египта.
Беда в том, что нам до сих пор никак не удается закрепить наши хаотические освободительные стремления на уровне работающих и воспроизводящихся социальных и политических институтов, создать новую «силу сложившихся вещей», которая поощряла бы дух свободы и независимости, а не давила его. И другая напасть: отечественные борцы за свободу нередко больны «бесплодным отрицанием нигилизма», а порой вольно или невольно копируют обыкновения своего надзаконного супостата: «Свободных мыслей коноводы / Восточным деспотам сродни» (П. А. Вяземский).
Есть исследователи, которые пишут в связи с вышесказанным о каком-то особом «властецентризме» русской культуры или даже видят здесь выражение неких прирожденных свойств русского национального характера. Но данное явление все же не уникально. Джон Стюарт Милль писал в позапрошлом столетии: «Есть нации, у которых страсть повелевать другими настолько преобладает над стремлением сохранить личную независимость, что они даже ради призрачной власти готовы всецело пожертвовать своей свободой. В таком народе каждый человек, подобно простому солдату в армии, охотно отрекается от личной свободы в пользу своего начальника, лишь бы армия торжествовала и ему можно было гордиться тем, что и он – один из победителей, хотя бы его участие во власти, проявляемое над побежденными, было совершенно призрачно. Правительство, строго ограниченное в своих полномочиях… не по вкусу такому народу. В его глазах представители власти могут делать все что угодно, лишь бы самая власть была открыта для соискательства. Средний человек из этого народа предпочитает надежду (хотя бы отдаленную и невероятную), что он достигнет некоторой власти над своими согражданами, уверенности, что эта власть не будет без нужды вмешиваться в его дела и дела его ближних».
Вы думали, это о русских? Между тем речь идет о французах эпохи «суверенной демократии» Наполеона III. Сходные социально-политические системы порождают и сходные общественные практики. Но это не значит, что и системы, и практики эти – навсегда. Другое дело, что русский случай особенно тяжел – даже при Наполеоне Малом действовал кодекс его великого дяди, обеспечивающий право частной собственности, и, что еще важнее, среди многих победивших французских революций не было революции коммунистической.
* * *
При том подходе к русской истории, который предлагает автор, понятно, что настрой его сочинения критический по преимуществу, но все же к критике несводимый. Его «История» – не только история русских бедствий, но и история борьбы русского народа за свое национальное государство, история многочисленных попыток изменить главенствующее направление русской жизни, достаточно вспомнить хотя бы реформы А. Ф. Адашева и П. А. Столыпина. И в этом смысле речь в книге идет не только о минувшем, но и о желательном будущем.
В работе над книгой меня стимулировали глубокие размышления Фридриха Ницше о том, что, «наряду с монументальным и антикварным способами изучения прошлого», «необходим подчас человеку… также третий способ – критический… Человек должен обладать и от времени до времени пользоваться силой разбивать и разрушать прошлое, чтобы иметь возможность жить дальше; этой цели достигает он тем, что привлекает прошлое на суд истории, подвергает последнее самому тщательному допросу и, наконец, выносит ему приговор… Это как бы попытка создать себе a posteriori такое прошлое, от которого мы желали бы происходить, в противоположность тому прошлому, от которого мы действительно происходим, – попытка всегда опасная, так как очень нелегко найти надлежащую границу в отрицании прошлого и так как вторая натура по большей части слабее первой. Очень часто дело ограничивается одним пониманием того, что хорошо, без осуществления его на деле, ибо мы иногда знаем то, что является лучшим, не будучи в состоянии перейти от этого сознания к делу. Но от времени до времени победа все-таки удается, а для борющихся, для тех, кто пользуется критической историей для целей жизни, остается даже своеобразное утешение: знать, что та первая природа также некогда была второй природой и что каждая вторая природа, одерживающая верх в борьбе, становится первой».
Важным подспорьем для методологии автора стал также «рационалистический историзм» Пьера Бурдье, писавшего: «То, что выглядит сегодня очевидным, минуя сознание и выбор, очень часто прежде являлось ставкой в борьбе и утвердилось только в итоге противостояния доминирующих доминируемым. Главным результатом исторического развития является упразднение истории путем возврата к прошлому, то есть к бессознательному, к скрытым возможностям, которые оказались нереализованными… Докса есть частная точка зрения, точка зрения доминирующих, которая представляет и заставляет признать себя в качестве всеобщей точки зрения; точка зрения тех, кто господствует, подчиняя себе государство, кто сделал из своей точки зрения всеобщую, создавая государство».
То есть, проще говоря, все «абсолютное», «онтологическое», «само собой разумеющееся», «докса», как выражается Бурдье, в социальной реальности есть создание рук человеческих, имеющее свою историческую генеалогию, свое начало, заложенное очень часто в произволе победителей. Следовательно, оно может иметь и свой конец, когда победителями станут совсем другие силы и создадут свое «абсолютное», «онтологическое», свою «доксу». Это вселяет надежду на то, что русские могут изменить траекторию своей истории, которая в течение веков делала из них «объект», «средство», «скрепляющий раствор», и стать «субъектом», «целью в самих себе», «зданием».
Недосягаемым образцом «критической истории» для меня является великий труд Алексиса де Токвиля «Старый порядок и революция», содержащий столь много поразительных параллелей с прошлым и настоящим нашего Отечества. Поэтому вовсе не случайно цитата из французского автора служит одним из эпиграфов к «Истории русской нации».
Если же говорить об отечественных истоках позиции автора, то она наследует исторической концепции декабристов (о которой подробно говорится в пятой главе) и некоторым идеям П. Б. Струве, который будет в дальнейшем неоднократно процитирован.
Заранее отвечая на упреки в необъективности, замечу, что объективность в смысле отсутствия у историка ценностных предпочтений возможна разве только при составлении хронологической таблицы (да и там есть простор для злостного субъективизма). Авторы, воспевающие мощь российской государственности и видящие в служении ей смысл существования русского народа, не менее пристрастны. Историческая наука изначально была идеологизированной и ангажированной, не случайно профессор-историограф – неизменный (и немаловажный) актор политического поля эпохи модерна. На мой взгляд, историк имеет право не прятать стыдливо свои мировоззренческие предпочтения (которые все равно проявятся так или иначе – «шила в мешке не утаишь») под маской псевдоакадемизма, а прямо их заявлять. С одной только принципиальной оговоркой: он должен сохранять sine qua non своей профессиональной этики – уважение к факту. Мы можем сколь угодно вольно комбинировать известные нам данные источников, но мы не должны эти данные выдумывать или замалчивать. Надеюсь, мои мировоззренческие предпочтения не сказались на качестве предлагаемого исторического анализа, во всяком случае, из-за них я нигде сознательно не искажал фактической стороны дела (хотя наверняка и допустил какие-то ошибки).
* * *
И еще на один возможный упрек хочу ответить заранее, ибо он уже звучал по отношению к моим работам, на основе которых создана эта книга. Точнее сказать, это не упрек, а обвинение – в «очернении» русской истории или даже в «русофобии». Помню, как весной 2009 г. покойный Л. И. Бородин с мрачной удовлетворенностью тем, что наконец-то удалось раскусить «засланного казачка» и теперь уже совершенно ясны причины «странностей» вроде бы неглупого человека, говорил мне тет-а-тет после прочтения моей статьи «Нация в русской истории»: «Вы не любите русскую историю». Я, несколько ошарашенный таким выводом, растерянно возразил, что вообще-то именно русской историей и занимаюсь профессионально вот уже лет двадцать. Леонид Иванович саркастически-мудро усмехнулся и с полной уверенностью в своем торжестве моментально меня «срезал»: «Ну и что, Пайпс, между прочим, русской историей всю жизнь занимается…» После стигматизирующего мою персону в глазах каждого честного русского патриота сближения с главным «русофобом» американской историографии я понял, что дальнейший спор совершенно бессмыслен. С той поры нечто подобное, и в гораздо более резкой форме, мне приходится выслушивать и читать в свой адрес регулярно.
Но что значит любить свою историю? «Благодарно принимать» все, что в ней было? Вроде бы к этому призывал Пушкин в неотправленном письме к Чаадаеву: «…клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы… иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал»? Но я, рискуя не согласиться с «нашим всем», не вижу никакого патриотизма или тем паче «русофильства» в том, чтобы «любить» такие наполненные невыносимым русским страданием периоды нашего прошлого, как монгольское иго, опричнина, раскол, петровская революция или людоедство на государственном уровне 1917–1953 гг. Более того, по-моему, «любить» такое и есть самая настоящая «русофобия». И мне ближе взгляд, высказанный пушкинским современником и другом – мудрым П. А. Вяземским: «Многие признают за патриотизм безусловную похвалу всему, что свое… Я полагаю, что любовь к отечеству должна быть слепа в пожертвованиях ему, но не в тщеславном самодовольстве; в эту любовь может входить и ненависть. Какой патриот, какому народу ни принадлежал бы он, не хотел бы выдрать несколько страниц из истории отечественной и не кипел негодованием, видя предрассудки и пороки, свойственные его согражданам? Истинная любовь ревнива и взыскательна. Равнодушный всем доволен, но что от него пользы?»
У наших совершенно обезумевших в последнее время борцов с русофобией серьезная проблема со зрением: они не различают в России народ и государство, а между тем последнее в ходе русской истории являлось в иные эпохи гораздо более злостным мучителем первого, чем любой иноземный захватчик. Еще в позапрошлом веке это прекрасно понимали многие патриоты «вне всяких подозрений». Так, славянофил Ф. В. Чижов позволил себе очень сильные выражения на сей счет в одном из частных писем 1873 г.: «Господи! Господи! Как дорого достались нашему народу государственные порядки. Едва ли какое бы то ни было пленение вавилонское соединяло с собой столько бед, неурядицы, притеснений, поборов. Это просто-запросто были не люди с каким-нибудь понятием о человеческом достоинстве, с какой-нибудь тенью понятий о праве, это просто двуногие животные, которых резали для стола, но резали, душили, казнили, пытали для одного кушанья – правительственного произвола». Знал бы Федор Васильевич, что уготовано России в XX столетии…
Историй, написанных с точки зрения властителей, у нас довольно, здесь предлагается история с точки зрения народа, создавшего великую страну, но так и не ставшего ее хозяином. Представить критику власти критикой народа – излюбленный прием государственного агитпропа. По словам Б. Мура: «В любом обществе именно господствующим группам приходится больше всего утаивать правду о том, как функционирует общество. Поэтому подлинный анализ часто обречен на то, чтобы иметь критическое звучание, выглядеть скорее как разоблачение, чем как объективное высказывание… Для всех исследователей человеческого общества сочувствие к жертвам исторического процесса и скептицизм в отношении заявлений победителей обеспечивают достаточную защиту против того, чтобы попасть под влияние господствующей идеологии».
Завершить столь затянувшееся предисловие я бы хотел кратким комментарием по поводу второго эпиграфа к книге – из Шукшина. Автор «Калины красной» конечно же не меньше, чем кто-либо, гордился великими достижениями русской классической культуры. Но, очевидно, видел он и то, насколько русское социально-политическое бытие чудовищно далеко от заветов последней.
Глава 1. Русская федерация
Историография Древней Руси имеет парадоксальное сходство с актуальной российской политологией: и там, и там минимум достоверной информации и максимум головокружительно смелых концепций. Еще в позапрошлом веке выдающийся знаток русских юридических древностей В. И. Сергеевич с грустью констатировал: «Источники нашей древнейшей истории очень не полны, а выражения летописца не достаточно определенны. О древнейших событиях возможны поэтому иногда только догадки». Подсчитано, что за период XII–XV вв. до нас дошло всего 2234 делопроизводственных документа, из которых львиная доля (2048) приходится на последнее столетие. Для сравнения: опубликованная небольшая часть архива итальянского города Лукка за 1260–1356 гг. составила около 30 тыс. документов; только от одного французского короля Филиппа IV Красивого (1285–1314) осталось около 50 тыс. актов. То есть «за 30 лет французской средневековой истории их сохранилось в 23 раза больше (!), чем за 400 лет русской. Есть от чего отечественному историку впасть в депрессию…» – сокрушается современный исследователь А. И. Филюшкин. Попробуем вкратце сформулировать, что дает по нашей теме древнерусская история «в сухом остатке» на основании этих скудных данных, стараясь не увлекаться ни своими, ни чужими догадками.
Русь и русская земля
В VI–VIII вв. восточная ветвь славянства заселяет Восточно-Европейскую равнину от Финского залива на севере; низовьев Днепра, Южного Буга, Днестра на юге; среднего течения Немана, Западной Двины и Западного Буга на западе; верховьев Волги, Дона и Оки на востоке, то есть, грубо говоря, от Прибалтики до Причерноморья, от Немана до Волги. Племенами называть эти славянские объединения неверно, ибо кровнородственную стадию они уже миновали, и их единство определялось территориально-политическими факторами. Вслед за Г. Г. Литавриным и А. А. Горским будем именовать их «славиниями». Наиболее значительными «славиниями» были поляне с центром в Киеве и словене с центром в Новгороде. В 882 г. новгородский князь Олег захватил Киев и перенес туда свою столицу. Так образовалось государство, получившее затем в исторической науке условное название Киевская Русь (далее – КР). С Киевом понятно, но почему Русь?
Споры об этнической принадлежности народа русь, составившего правящую элиту государства восточных славян и давшего последнему имя, ведутся уже несколько столетий и явно не собираются заканчиваться. Не станем в них углубляться, отметим только, что само слово это, видимо, неславянское, а то ли скандинавское, то ли иранское. В зависимости от того, какой точки зрения в данном вопросе придерживаться, русь получит происхождение либо северное (шведы/датчане или ославянившиеся кельты/литовцы), либо южное (аланы). В летописях русью величают как полян, так и призванных из-за моря «володеть и княжить» Новгородом Рюрика с его дружиной, которая позднее, уже возглавляемая Олегом, оккупирует Киев. Существуют версии даже о двух «русях» – северной и южной, с разным этническим происхождением, но с удивительно сходным самоназванием, которые затем силой исторических обстоятельств соединились в Киеве. А может, варяги просто присвоили себе имя свергнутой ими местной династии?
Так или иначе, но, скорее всего, властвующая элита КР была изначально неславянской. Инородность знати – не редкость для ранних стадий европейского этногенеза: во Франции – франки, в Англии – норманны, в Болгарии – тюрки-булгары… Но кем бы ни были новгородские варяги (скандинавская версия все-таки более доказательна), они достаточно быстро ославянились – уже в третьем поколении киевские князья начинают носить славянские имена (Святослав) – и передали свой (или приватизированный ими) этноним новой этнополитической общности, сформировавшейся на основе «славиний», вошедших в их государство, – «древнерусской народности», по терминологии советских историков.
Впрочем, вопрос, насколько единой была эта «народность», весьма сложен. Мы не знаем, как и в какой степени осознавалось общерусское единство народным большинством. Мы можем судить об этом в основном по воззрениям «интеллектуальной прослойки» – авторов летописей и других литературных произведений, которые, надо полагать, косвенным образом отражали и позицию властей предержащих. И здесь первостепенную важность имеет вопрос об употреблении в письменных источниках понятий «Русь» и «Русская земля» в «широком» (все земли КР) и «узком» (собственно Киевщина, или – немного шире – «треугольник» среднего Поднепровья: Киев – Чернигов – Переяславль) смысле. Первый вариант характерен для периода XI – первой трети XII в., то есть времени наибольшего доминирования Киева и, что неудивительно, представляет собой почти исключительную прерогативу столичных литераторов. И. В. Ведюшкина подсчитала, что из 270 упоминаний «Руси» и «Русской земли» в киевской Повести временных лет (начало XII в.) 260 имеют «расширительное» значение.
Очевидно, что в КР, как везде и всегда, (прото)националистический дискурс создавался и развивался интеллектуалами. И мы можем даже вполне определенно их указать. Это группа русского духовенства, связанная с Киевским Печерским монастырем, – «местные» клирики, резко оппозиционно настроенные в отношении церковной иерархии, экспортируемой Византией. Борьба за свой статус с начальниками-чужаками, разумеется особых патриотических восторгов по поводу порученной их духовному окормлению варварской страны и ее населения не испытывавшими, была благодатной почвой для произрастания (прото)националистических настроений. Эта борьба нередко совпадала с антивизантийскими тенденциями некоторых киевских князей, также не жаловавших «иностранных агентов» во главе духовной власти. Именно из среды печерского монашества идут инициативы канонизации «своих», русских святых, постоянно блокируемые греческим руководством Киевской митрополии. Именно здесь ведутся горделивые разговоры об особой близости Русской церкви к Богу. И главное – именно в стенах Печерской обители создаются тексты, в которых прославляется «Русская земля» и акцентируется ее государственное и народное единство – прежде всего, конечно, упомянутая выше Повесть временных лет, а также «Память и похвала» Иакова Мниха и памятники борисоглебского цикла.
Подобные же идеи мы видим ранее и еще более ярко выраженными в «Слове о Законе и Благодати» (1037–1050) первого «русина» на киевском митрополичьем престоле Илариона. В этом сочинении уже присутствует и вполне зрелая «национальная» мифология, в том числе и столь знакомая специалистам по русской и германской философско-политической мысли XIX в. мифологема «молодого народа» в духе «и последние станут первыми», явно направленная против «ветхой» Византии. «И подобало благодати и истине воссиять над новым народом. Ибо не вливают, по словам Господним, вина нового, учения благодатного “в мехи ветхие“… Так и свершилось. Ибо вера благодатная распростерлась по всей земле и достигла нашего народа русского… Итак, будучи чуждыми, наречены мы народом Божиим, будучи врагами, названы сынами Его» (перевод диакона Андрея Юрченко). Тут же воздается хвала киевским князьям Игорю, Святославу и Владимиру (напомним, первые двое – язычники!), которые правили «не в безвестной и захудалой земле, но в земле Русской, что ведома во всех наслышанных о ней четырех концах земли». Если принять красивую версию М. Д. Приселкова о том, что Иларион, после его низложения под нажимом Константинополя, стал монахом с именем Никон, а потом и первым игуменом Печерской обители, история формирования древнерусского (прото)национализма приобретает логическую (и эстетическую) завершенность.
В период удельной раздробленности (30-е гг. XII – 30-е гг. XIII в.), напротив, возобладало «узкое» понимание «Руси». Киевские летописи все еще старались держать столичную марку, но и в них насчитывается до трети случаев, когда рассказывая о переездах того или иного князя из Киевщины в какую-либо другую землю (или наоборот), первая противопоставляется последней как Русь – не-Руси. А уж в провинциальных летописных сводах, буквально за единичными исключениями, «Русская земля» – это Среднее Поднепровье, а никак не Суздаль или Новгород, Галич или Смоленск, Полоцк или Рязань. Тем не менее и в это время существовало несколько объективных факторов, не дававших общерусскому единству распасться.
КР сохраняла определенное политическое единство, представляя собой «нечто вроде федерации» (Г. В. Вернадский), скрепляемой правлением во всех ее землях представителей рода Рюриковичей, многие из которых не сидели на одном месте, а перемещались вместе с дружинами «от стола к столу» (П. П. Толочко). Русь была, по сути, коллективным родовым владением Рюриковичей, которые не забывали о своем родстве («я не Угрин, ни Лях, но одиного деда есмы внуци», – сказал в 1174 г. черниговский князь Святослав Всеволодович великому киевскому князю Ярославу Изяславичу), и не только воевали между собой, но и организовывали совместные походы против внешних врагов. Киев в их сознании продолжал иметь статус «старейшего» города.
Все земли КР оставались канонической территорией киевской митрополии, которая осуществляла их религиозное единство, духовно скрепляемое одиннадцатью общерусскими святыми, канонизированными в домонгольский период.
На всей территории КР действовали общие законы, прописанные в юридическом кодексе Русская Правда, то есть можно говорить и о ее правовом единстве.
Между разными землями КР не просто сохранялись, но и расширялись и укреплялись разнообразные хозяйственные связи, создававшие ее экономическое единство. Вплоть до монгольского нашествия выполняли свое назначение все основные пути, по которым происходила международная торговля Руси. Через Киев во все русские земли шли импортные товары из Византии и с Востока. Новгород критически зависел от подвоза хлеба с русского юга.
Многообразно проявлялось культурное единство. Общий литературный язык, при наличии нескольких диалектов. Единообразие каменного зодчества, бытового строительства (срубные бревенчатые дома), керамики… Во всех городах КР женщины носили сходные трехбусинные височные кольца, бронзовые и стеклянные браслеты. Да, во многих случаях региональные особенности очевидны, но не менее очевидно и подражание киевским образцам.
Жители разных земель ощущали «Русскую федерацию» как единое пространство – не только политическое, но и бытовое. Об этом говорят многочисленные переселения из земли в землю простых людей – ремесленников, крестьян, церковников. Причем не только массовые, вслед за князем и дружиной (самое значительное, вероятно, произошло в конце XI – начале XII в. из Южной Руси в Волго-Окское междуречье, что запечатлелось в появлении на Северо-Востоке городов, повторяющих юго-западные названия – Переяславль, Галич), но и индивидуальные. В одной из новгородских берестяных грамот, датированной рубежом XI–XII вв., ее автор дает совет родственникам продать усадьбу в Новгороде и переселиться в Смоленск или Киев, ибо там хлеб дешевле. Уроженцы одной русской земли, оказавшиеся на территории другой, юридически определялись как «иногородние» или «иноземцы», но четко отделялись от нерусских иностранцев – «чужеземцев».
Указанное настолько очевидно свидетельствует об изначальном русском единстве КР, что останавливаться на полемике с теми политически ангажированными авторами, которые уже тогда обнаруживают на ее территории Украину и Беларусь, не вижу смысла.
Три «ветви власти»
Конечно, все вышеперечисленные факторы показательны главным образом для городской части КР. Насколько они «работали» в сельской местности, трудно сказать. Именно города, притом что они часто соперничали друг с другом, были средоточием «объективных» общерусских тенденций, общерусской материальной и духовной культуры.
Да, городское население КР составляло меньшинство по отношению к сельскому. Но, во-первых, меньшинство довольно внушительное. По изысканиям М. Н. Тихомирова, накануне монгольского нашествия городов на Руси насчитывалось около трехсот, некоторые из них – такие как Киев, Новгород, Смоленск – были по меркам своего времени весьма обширными, густонаселенными и благоустроенными. Население Киева времен его расцвета достигало 50–80 тыс. человек (для сравнения, один из крупнейших европейских городов Париж в начале XIII в. вмещал около 100 тыс. жителей), в Новгороде в начале XIII в. проживало 20–30 тыс., в Смоленске – несколько десятков тысяч. Ярославль, Ростов, Владимир-Клязьминский имели по 10–20 тыс. Г. В. Вернадский предположил, что в конце XII – начале XIII в. городское население Руси составляло не менее миллиона человек – 13 % от общего количества жителей (7,5 млн), что соответствует ситуации Российской империи конца XIX в. Во-вторых, в городах жила политическая, хозяйственная и культурная элита страны, многие из них были важными торговыми центрами. А в-третьих, крупные города являлись не только княжескими столицами, но и сосредоточием местного самоуправления.
О том, насколько велика была политическая роль веча – непериодического собрания полноправных граждан – «гражан», «людей градских», «то есть мужей свободных, совершеннолетних и не подчиненных семейной власти» (М. Ф. Владимирский-Буданов) – историки спорили и будут еще спорить. Но несомненно, во всяком случае, следующее. Вечевые порядки – вовсе не привилегия лишь северных республик – Новгорода и Пскова, они распространялись практически на все русские земли, получая «лишь различную степень и форму выражения в зависимости от местных индивидуальных условий» (А. Н. Насонов), о чем недвусмысленно свидетельствует летописец в конце XII в.: «Новгородци бо изначала, и смолняне, и кыяне, и полочане, и вся власти, якож на думу, на вече сходятся». Сообщают летописи и о вечевых собраниях в Ростове, Суздале, Владимире-Клязьминском, Владимире-Волынском, Галиче, Рязани, Чернигове, Курске, Переяславле-Южном, Переяславле-Залесском, Дмитрове, Москве… Всего до нас дошло более 50 свидетельств о вечевой жизни различных древнерусских городов (сельские жители, видимо, в ней не участвовали). Первое из них, связанное с Белгородом, относится к 997 г., но очевидно, что корни веча идут еще от народных собраний времен «военной демократии».
Вече изгоняло и призывало князей, начинало войну и заключало мир, не говоря уже о решении сугубо местных вопросов – судебных, финансовых, церковных, избрании городских чиновников… В Новгороде за период с 1095 по 1304 г. князья сменились 58 раз, чаще всего при непосредственном участии горожан. В Киеве в XI–XII вв. городская община периодически изгоняла и приглашала князей, которые при вокняжении заключали с горожанами договор («ряд»). Даже в Суздальской земле, где княжеская власть была сильнее, чем где бы то ни было на Руси, городские веча играли решающую роль в междукняжеской борьбе 1170-х гг.
Разумеется, вече было не единственным институтом государственного управления КР – не менее важны были власть князя и боярская дума. Поэтому многие историки справедливо говорят о «тройственности» верховной власти на Руси, где, в зависимости от региона, в разных сочетаниях находились три основных политических элемента – монархический, демократический и аристократический. Но нигде в КР не существовало неограниченной монархии, более того, как показал А. П. Толочко, даже сама идея таковой в общественном сознании отсутствовала. В летописях князей хвалят за то, что они принимают важные решения, посоветовавшись с дружиной и боярами, и, напротив, причину их неудач видят в пренебрежении этим советом. Следует также отметить, что и церковь, благодаря иноземному происхождению подавляющего большинства митрополитов, была относительно автономна от княжеской власти. Все это важно подчеркнуть, ибо отсюда следует, что русская история начинается вовсе не с господства автократии, а с элементарных форм демократии, которые могли бы со временем стать основой для самобытно-русских институтов демократии современной. Городские общины КР, члены которых реально участвовали в принятии политических решений, представляли собой своеобразные «протонации», аналогичные, по мнению современных исследователей школы И. Я. Фроянова, древнегреческим полисам.
Был ли на Руси русский народ?
Тем не менее о единой русской «протонации» в КР мы говорить не можем. И в смысле институциональном – никакого центрального вечевого органа, общего для всех русских земель, не существовало, таковой был возможен только при наличии представительства, а оно на Руси в ту пору было неизвестно. И в смысле этнополитическом – региональные идентичности явно преобладали над общерусской. Правда, Б. Н. Флоря подчеркивает как первостепенный тот факт, что в русских летописях уже с середины XII в. исчезают старые имена «славиний» (поляне, словене, кривичи и т. д.). Они вытесняются обозначением населения земель (как правило, не совпадающим с ареалами расселения «славиний») по их главным городам (киевляне, новгородцы, полочане и т. д.), что косвенным образом может свидетельствовать о распространении сознания принадлежности к одной народности – русь. Победа «областного» над «племенным» стала следствием целенаправленной политики киевских князей в конце Х – начале XII в., кроивших старую этническую карту Руси по своему произволу, так, «Черниговская земля включила в себя большую (но не всю) часть бывшей территории северян, часть территории радимичей и часть территории вятичей; на бывшей территории кривичей сложились две земли – Смоленская и Полоцкая, при этом первая включила в себя также часть радимичской и вятичской территорий, а вторая – часть территории дреговичей» (А. А. Горский). Но эта победа еще не означала автоматического торжества «общенародного». Похоже, напротив, что, при несомненном наличии «областнического» и «общегосударственного» сознания, сознание «общеэтническое» не было широко распространено.
Тот же Б. Н. Флоря и А. И. Рогов отмечают, что в Повести временных лет отсутствует представление о народе, населяющем «Русскую землю», в отличие от современных ей западнославянских хроник, в которых чехи (богемцы) у Козьмы Пражского и поляки у Галла Анонима выступают как первостепенные субъекты истории. Что уж говорить о Западной Европе, где дискурс о народах развивался уже с VI в. (например, в «Истории франков» Григория Турского), а в X в. средневековые хронисты трактовали национальную проблему на вполне современном языке: «Разные нации отличаются друг от друга происхождением, нравами, языком и законом» (Регино Прюмский). При этом другие народы и в ПВЛ, и в других летописях их авторами легко опознаются: греки, угры, ляхи, чехи, моравы, половцы… Этнонимы «русы», «русичи», «русины», «русские люди», «русские сыны» и т. д. в источниках Киевского периода встречаются, но довольно редко, да и сам их разнобой свидетельствует об отсутствии единого общепринятого этнонима. Это, конечно, говорит о неразвитости этнического общерусского самосознания. «Русь», «Русская земля» – сразу и территория, и государство, и народ.
Русская идентичность мыслилась древнерусским книжникам как территориальная, государственная и, естественно, конфессиональная (православно-христианская), но не как собственно этническая. Возможно, в этом сказалась обширность и пестрота «областных» ее элементов и неславянское происхождение собственно «русской» социально-политической элиты. Возможно, это связано с тем, что «основным катализатором формирования этноконфессионального самосознания явились недружественные контакты с соседями-иноверцами, прежде всего – кочевниками» (А. В. Лаушкин), что, естественно, усиливало в этом самосознании религиозный компонент. Возможно – с отсутствием прямого влияния на культуру КР античной традиции, в которой представление о народах, как субъектах истории, занимало важное место. И уж если так русскую идентичность «воображали» интеллектуалы, то что говорить о народном большинстве – крестьянах, чей кругозор редко превышал пределы родного села. Так или иначе, но эта идущая издревле особенность русского самосознания дает знать о себе практически на всем протяжении нашей истории, вплоть до сегодняшнего дня, существенно затрудняя формирование русской нации.
Но недостаточность (не отсутствие!) этнического элемента в русской идентичности вовсе не означает, что КР строилась как якобы «многонациональное», «полиэтническое» государство. Неславянские, финно– и балтоязычные народы, чьи земли непосредственно вошли в государственную территорию державы Рюриковичей (меря, весь, мурома, водь, ижора, голядь и т. д.), были славянизированы, христианизированы и растворились в «древнерусской народности», оставив по себе лишь некий след в русской генетике и антропологии да топонимическую память. Чего-то специально финского в русскую культуру они не добавили. Можно вспомнить еще тюркских вассалов Рюриковичей – «своих поганых», черных клобуков, которые тоже постепенно ассимилировались. А финноязычные и балтоязычные народы, жившие по окраинам (чудь, корела, пермь, югра, мордва, черемисы и др.) «остались вне государственной территории Руси; они составляли своего рода „пояс“ народов-данников, окружавший территорию Древнерусского государства на северо-западе, севере и северо-востоке» (А. А. Горский).
Несмотря на недооформленность русского этнического самосознания, оппозиция «свой – чужой» в нем была вполне развита, проявляя себя, как правило, в религиозном обличье. В ПВЛ балто-финские племена четко отделяются от Руси, и не только как данники, но и как неславяне (хотя и, подобно славянам, потомки Иафета), говорящие на своих языках. Как несомненно «чужие» воспринимались мусульмане и иудеи – народы «жребия Симова». Церковный устав Ярослава Мудрого предусматривал жесткие наказания за сексуальные контакты с их представителями: женщине грозило вечное заточение в монастыре, мужчине – отлучение от церкви. В 1113 г. киевские ростовщики-иудеи подверглись погрому, а потом были изгнаны из города.
Русь и Запад
Гораздо сложнее было отношение к европейским «еретикам-латинянам». Да, в русской духовной литературе той эпохи есть несколько резко полемических текстов против католиков (в основном написанных греческими иерархами, за исключением святого Феодосия Печерского), но светские власти на них, похоже, не очень-то обращали внимание. Судя по работам А. В. Назаренко и Б. Н. Флори, говорить о «конфликте цивилизаций» между Русью и Западом применительно к домонгольскому периоду не приходится. После церковного раскола 1054 г. между русскими землями и латинским миром (прежде всего западнославянскими и восточногерманскими землями) продолжали существовать не только тесные экономические (сухопутный путь «из немцев в хазары» был не менее значим, чем водный путь «из варяг в греки»; до XIII в. предметы восточной и византийской роскоши шли на Запад через Киев), но и политические, культурные и даже религиозные связи.
Всем известны впечатляющие результаты европейской брачной политики Ярослава Мудрого еще до раскола с католиками: сам был женат на шведской принцессе, дочери вышли замуж за французского, венгерского и норвежского королей, сестра – за польского короля и т. д. Но браки между княжескими родами и аристократией католической Европы продолжали заключаться и позднее, и разделение церквей им не слишком мешало. Сохранились латинский молитвенник и латинские святцы супруги киевского князя Изяслава Ярославича польки Гертруды, которыми она пользовалась до конца жизни (ум. после 1085 г.), стало быть, к переходу в православие ее не принуждали. В летописании, связанном с княжескими дворами, практически нет антикатолических выпадов. Впрочем, и в западнославянских (и даже восточногерманских) письменных источниках русских «схизматиками» еще не величали.
Продолжало сохраняться чувство общехристианской солидарности в отношении языческого и мусульманского мира. Русские совместно с поляками участвовали в крестовом походе 1147 г. против язычников-пруссов. Очень любопытна запись в Ипатьевской летописи под 1190 г. о немецких рыцарях – участниках Третьего крестового похода. По словам летописца, императора Фридриха Барбароссу призвал идти в поход посланный ему Богом ангел, немецкие рыцари погибли в боях с сарацинами, «яко мученици святии прольяше кровь свою за Христа», и летописец верит, что их тела «из гроб их невидимо ангелом Господним взята бывахоуть».
Даже в собственно церковной жизни все далеко не сводилось к противостоянию. Скажем, в 1095 г. в основание одного из престолов, поставленного в храме бенедиктинского монастыря на р. Сазаве (Чехия), были положены частицы мощей святых Бориса и Глеба. Эти реликвии могли попасть в Сазаву лишь из храма в Вышгороде под Киевом, где хранились мощи князей-страстотерпцев. Или: в конце XI в. на Руси был учрежден церковный праздник в честь перенесения мощей святого Николая из Мир Ликийских в Бари (Южная Италия), то есть, строго говоря, в честь похищения латинянами мощей православного святого! Ни греческая, ни другие православные церкви этот праздник не приняли. А на Руси он привился, была составлена посвященная ему особая служба, в одной из стихир которой указывалось, что святой Николай «иным овцам посылается латинскому языку».
Еще более тесные связи отмечены Б. Н. Флорей в области сакрального искусства. Романское происхождение имеют техника строительства из крупных тесаных каменных блоков, тип круглой церкви – ротонды, к которому относится ряд памятников в западных русских княжествах – на Волыни, в Галицкой и Смоленской землях, а также скульптурный декор некоторых храмов Владимиро-Суздальской земли. Причем наиболее активные контакты в этой сфере датируются концом XII – началом XIII в., то есть на протяжении домонгольского периода они не сокращались, а расширялись.
Даже взятие крестоносцами в 1204 г. Константинополя не привело к разрыву с латинским миром. И только в 1230-х гг., после резкой активизации католической агрессии, направленной на север Руси и сопровождавшейся не менее резко поднявшимся градусом антиправославной риторики, такой разрыв становится неизбежным. Но важно отметить: не русские стали его инициаторами, они вовсе не стремились к самоизоляции, это была вынужденная самооборона.
Кстати, следует заметить, что, несмотря на нахождение в византийском культурном ареале, КР вовсе не была провинциальной копией империи ромеев, даже и в религиозном отношении. Первые русские святые – Борис и Глеб – не имеют аналогов в греческой агиографии, но зато близкородственны святым князьям и королям западных славян (Вячеслав Чешский) и скандинавов (Канут Датский). Еще больше различий с Византией и сходства с латинской Европой находим в социально-политической сфере. «Коллективный сюзеренитет» Рюриковичей не имеет ничего общего с традициями Константинопольской монархии и напоминает более всего государственную систему Каролингов. А общественный строй Руси, хоть и далекий от «классического» феодализма, весьма похож на соответствующие порядки в Восточной и Северной Европе: господствующий военно-служилый слой (дружина), получающий доходы от лично свободного рядового земледельческого населения не через развитие частного сеньориального землевладения, а через распределение государственных налогов.
Дух свободы
Итак, КР была органичной частью тогдашнего европейско-христианского мира, своеобразие ее состояло в доминирующем византийском религиозно-культурном влиянии и в непосредственном соседстве со Степью, с народами которой – прежде всего с половцами – она не только вела многочисленные войны, но и заключала политические союзы. Ни о какой отсталости от Европы в ту пору не может быть и речи. Новгородские мостовые, появившиеся в X в., на 200 лет старше парижских и на 500 – лондонских, а в XII в. в Новгороде уже были водопровод и канализация, сделанные из дубовых стволов. Древнерусское каменное зодчество, живопись и прикладные искусства стояли на уровне лучших европейских достижений. Древнерусская литература, создавшая такие бесспорные шедевры, как «Слово о законе и благодати» и «Слово о полку Игореве», отличается высочайшим художественным совершенством. «Лишь три области прекрасного, – отмечает А. Н. Севастьянов, – были развиты в Европе больше и лучше»: скульптура, витраж (на Руси не было вовсе) и рукописная книга. При этом книжные богатства КР были, видимо, весьма велики (по предположению Б. В. Сапунова, около 140 тыс. томов нескольких сот названий), но до нас, к сожалению, дошло менее одного процента из них. Важно отметить, что книжность была явлением массовым, как, естественно, и грамотность, о чем свидетельствуют более 500 берестяных грамот, написанных людьми са мого разного социального происхождения и найденных в Новгороде, Пскове, Полоцке, Смоленске, Москве…
Развитое ремесло и торговля русских городов свидетельствуют об экономической мощи Руси и даже дали В. О. Ключевскому основание для его ныне уже опровергнутой концепции о КР как о прежде всего «торговом предприятии». «Торговая прослойка» в составе населения Новгорода и Смоленска была больше, нежели в западноевропейских городах того времени. Хотя следует отметить, что экспорт русской торговли состоял почти исключительно из сырья (меха, мед, воск), а импорт – из готовой продукции и металлов.
Удельная раздробленность сопровождалась, конечно, серьезными минусами в виде междоусобных княжеских войн и набегов кочевников, но не приводила русские земли ни к экономическому, ни к политическому упадку.
Наконец, вовсе не последнее по важности. КР – это страна свободных людей. Да, там существовало рабство, но процент рабов был невелик и в основном состоял из военнопленных. Основной же массой населения оставались свободные крестьяне-общинники, платившие дань князю, – крепостного права тогда не существовало. О демократических институтах в городах и об отсутствии неограниченной монархии мы подробно говорили выше. Былины рисуют русских богатырей вольными, независимыми воинами, вступающими иногда даже в конфликт с киевскими князьями. Особо отметим, что двое из трех наиболее известных былинных витязей, запечатленных на знаменитом васнецовском полотне, – выходцы отнюдь не из Киева, а с Северо-Востока, то есть из будущей Великороссии: Илья, понятное дело, муромец, Алеша Попович – ростовец.
Недаром этот период русской истории столь любим в русском фольклоре и в поэзии русских романтиков XIX столетия – от Пушкина и Лермонтова до А. А. Григорьева и А. К. Толстого. Недаром декабристы видели в КР и ее осколках (Новгород, Псков) прообраз русского национального демократического государства. Да, они идеализировали то время, но ведь и было что идеализировать.
Завершим этот раздел прекрасной характеристикой КР, принадлежащей Г. В. Вернадскому: «…Киевская Русь была страной свободных политических институтов и вольной игры социальных и экономических сил… В Киевской Руси должно быть нечто, заставляющее людей забыть ее негативную сторону и помнить лишь достижения. Это „нечто“ было духом свободы – индивидуальной, политической и экономической, – который преобладал в России этого периода и по отношению к которому московский принцип полного подчинения индивида государству представлял разительный контраст».
Мы не знаем, как происходило бы дальнейшее развитие «Русской федерации», не случись монгольского нашествия, об этом можно только строить догадки, но автор уже успел пообещать читателю, что догадками увлекаться не будет…
Умственный выверт
Подробно останавливаться на последствиях для Руси монгольского ига не было бы нужды, не приобрети в последние годы при активной официальной поддержке широкую популярность так называемая евразийская концепция русской истории. А как известно, центральный пункт этого не имеющего никакого научного основания набора вздорных лозунгов – выморочная идея о великом благе, которое принесли русским монголы. Дескать, в самом нашествии ничего особенно страшного нет – обычный набег кочевников; зависимость от Орды была необременительна; ни о каком иге говорить не приходится, на самом деле происходил взаимовыгодный симбиоз, благодаря которому Русь оторвалась (слава богу!) от уже тогда гниющей Европы и затем превратилась в великую державу – ордынскую наследницу.
Из всего вышеперечисленного действительности соответствует только тезис об отрыве от Европы. Но причины радоваться тому, что в пору, пока западные христиане копили богатства, строили соборы и множили университеты, наши предки напрягали все силы для того, чтобы сначала сносить, а потом сбрасывать монгольское ярмо, – здравому рассудку решительно неясны. Само по себе воспевание какого бы то ни было чужеземного господства, то есть потери национальной свободы, есть психологическое (и логическое) извращение. Но дифирамбы в честь господства иноплеменников, находящихся на более низкой ступени развития и, следовательно, по определению, не способных взамен утраты независимости подарить порабощенным более высокий уровень цивилизации, иначе как мазохистским сладострастием не назовешь. Никакой европейский народ не пережил ничего сравнимого с монгольским игом – торжеством кочевников над земледельцами. Даже турецкое владычество в Греции и юго-славянских странах в этом смысле смотрится предпочтительнее. Не говоря уже про «арабизацию» Испании, о чем афористически точно написал Пушкин: «Татаре не походили на мавров. Они, завоевав Россию, не подарили ей ни алгебры, ни Аристотеля».
Указанная извращенность вообще характерна для евразийства – этого, говоря словами И. А. Ильина, «умственного выверта», почти сплошь построенного на интеллектуальной нечестности и подтасовках. Некоторые его отцы-основатели это осознавали. Например, Н. С. Трубецкой в частном письме так высказывался о своем главном «историческом» сочинении «Наследие Чингисхана», опубликованном им под криптонимом И. Р.: «…я бы все-таки не хотел бы ставить своего имени под этим произведением, которое явно демагогично и с научной точки зрения легкомысленно». Единственный среди евразийцев серьезный историк Г. В. Вернадский в своих поздних трудах отказался от наиболее нелепых евразийских идеологем. Но главные популяризаторы евразийства в СССР и в постсоветской России Л. Н. Гумилев и В. В. Кожинов сумели перещеголять своих предшественников в вольном обращении с фактами и вполне заслужили звание мастеров исторической фантастики.
Великое жестокое пленение русское
Напомним некоторые вполне достоверные сведения, камня на камне не оставляющие от евразийской схемы.
Жертвами «обычного набега кочевников», по данным А. В. Кузы, стали 49 из 74 археологически изученных русских городов середины XII–XIII вв., из которых четырнадцать вовсе не поднялись из пепла, а еще пятнадцать не смогли восстановить своего былого значения, постепенно превратившись в сельские поселения. Кроме того, было уничтожено большинство крепостей и волостных центров, погостов и замков-усадеб, лишь в 304 (25 %) поселениях этого типа жизнь продолжилась позднее.
О количестве людских потерь можно строить разные предположения (от десятипроцентного до десятикратного сокращения населения), но, несомненно, они были огромны. Сотни скелетов – мужских, женских, детских – с признаками насильственной смерти найдены археологами при раскопках в Рязани, Киеве, на Волыни… «Люди избиша отъ старьца и до сущаго младенца» – эту запись о судьбе жителей Москвы можно воспринимать как краткое резюме летописных рассказов о трагедии Рязани, Суздаля, Владимира-Клязьминского, Козельска, Киева… Даниил Галицкий, возвращаясь в 1241 г. на родину из Польши после ухода татар, «не возмогоста ити в поле смрада ради и можьства избиенных, не бе бо на Володимере [Волынском] не остал живой; церкви святой Богородици исполнена трупья и телес мертвых». Итальянский монах Плано Карпини, проезжая через Киев в 1246 г., то есть через шесть лет после его разгрома, видел в поле «бесчисленные головы и кости мертвых людей».
Источники говорят о повальном бегстве населения с Северо-Востока Руси в 1239–1240 гг. от страха перед новыми визитами евразийских братьев, иные беженцы добирались даже до Саксонии и Дании. После 1240 г. эпидемия бегства охватила и Юго-Запад.
Монголы не только обильно убивали русских, но и массово уводили их «в полон», и это в первую очередь касалось, разумеется, наиболее работоспособной и квалифицированной части населения. Раскопки золотоордынских городов (Бельджамен, Водянское городище и др.) обнаружили там следы «русских кварталов», где в землянках ютились русские рабы, эти города строившие.
Всего во второй половине XIII – начале XVI в., по подсчетам Ю. В. Селезнева, русские земли подверглись ордынским вторжениям более 100 раз. Иные из них по разрушительности мало уступали походам Батыя, так, предпринятая в 1293 г. «Дюденева рать» разорила 14 городов.
Не менее печальны последствия «симбиоза» с Ордой и для русской экономики и культуры. В первые его 50 лет на Руси не было построено ни одного города. Почти на три десятилетия остановилось каменное строительство, достигшее домонгольского уровня лишь век спустя после Батыева нашествия, а искусство резьбы по камню испытало заметный регресс. Многие ремесла пережили тяжелейший упадок, ибо лучшие мастера оказались в ордынском рабстве: искусство перегородчатой эмали, техника скани и чернения, производство глазированной и полихромной керамики, стеклянных браслетов и бус и т. д. Резко сократилась торговля – как внешняя (на долгое время монополизированная мусульманскими купцами), так и внутренняя. В северо-восточных землях чеканка монеты возобновилась только в 80-х гг. XIV в. Почти во всех городах Северо-Восточной и Южной Руси на несколько десятилетий прервалось летописание. Погибло более 99 процентов книжных богатств.
О размерах монгольской дани мы не имеем сегодня более-менее точных данных. Ясно только, что она: 1) была многообразна (до 14 видов); 2) начиная с Ивана Калиты временами уменьшалась; 3) но изначально, после переписи населения в 1257 г., была крайне обременительной (источники того времени говорят о «дани тяжкой») и имела тенденцию возвращаться к этому уровню, – скажем, после «Тохатамышева нахождения» 1382 г. летописи снова сообщают о «дани тяжкой».
Монгольское иго воспринималось русскими людьми именно как тяжкий и оскорбительный чужеземный гнет, а не как взаимовыгодный «союз». О чем свидетельствуют не только попытки отдельных князей этот гнет сбросить (например, совместное выступление Даниила Галицкого и Андрея Суздальского в 1252 г.) и многочисленные антимонгольские городские восстания (наиболее известны – в 1262 г. сразу в ряде городов Суздальской земли и в 1327 г. в Твери), но и недвусмысленные его оценки в сочинениях русских книжников рубежа XIII–XIV вв.: «ежедневное томление от безбожных и нечестивых язычников», «горькое рабство у иноплеменников», «пленение Русской земли», «языческое насилие», «великое жестокое пленение русское» и т. д. В летописях того же времени монголы фигурируют с такими эпитетами, как «безбожные», «поганые», «злые», «окаянные»… Не очень похоже на радостное приятие благодетельного «симбиоза», не правда ли?
А вот характерные фрагменты из проповедей епископа Владимирского Серапиона (до 1275 г.), рисующие трагические картины русской катастрофы: «Не пленена ли бысть земля наша? Не взяти ли быша гради наши? Не вскоре ли падоша отци и братья наша трупием на земли? Не ведены ли быша жены и чада наша в плен? Не порабощени быхом оставшеи горкою си работою от иноплеменник? Се уже к 40 лет приближает томление и мука, и дане тяжькыя на ны не престанут, глади, морове живот наших, и в сласть хлеба своего изъести не можем, и воздыхание наше и печаль сушат кости наша… Наведе на ны язык немилостив, язык лют, язык, не щадящ красы уны, немощи старец, младости детий… Разрушены Божественьныя церкви, осквернены быша ссуди священии и честные кресты и святыя книгы, потоптана быша святая места, святи тели мечю во ядь быша, плоти преподобных мних птицам на снедь повержени быша, кровь и отец, и братья нашея, аки вода многа, землю напои, князии наших воевод крепость ищезе, храбрии наша, страха наполнешеся, бежаша, мьножайша же братья и чада наша в плен ведени быша, гради мнози опустели суть, села наша лядиною поростоша, и величество наше смирися, красота наша погыбе, богатьство наше онем в користь бысть, труд наш погании наследоваша, земля наша иноплемеником в достояние бысть…» Надо что-то очень важное в себе исказить, то есть надо стать евразийцем, чтобы после этого плача русской души недрогнувшей рукой писать что-нибудь вроде «Наследия Чингисхана» или «В союзе с Ордой».
О том, как относились к своему ордынскому «союзнику-сюзерену» даже внешне более чем лояльные по отношению к нему московские князья, выразительно говорят два факта. Первый: московский летописец, описывая разгром вовсе не дружественной Москве Твери в 1328 г., сокрушается о «крови христианской», проливаемой «погаными татарами». Второй: построенный при Иване Калите Архангельский собор был освящен 20 сентября 1333 г., то есть в день памяти святого князя Михаила Черниговского, убитого в Орде в 1246 г. за отказ исполнить языческие обряды, что, безусловно, означало «поминовение погибших от рук ордынцев и обещание отомстить за них» (Н. С. Борисов).
Практически одновременно с установлением монгольского ига на севере Руси шла борьба с натиском латинского Запада, направленным на захват русской Прибалтики и грозившим независимости Пскова и Новгорода. В массовом сознании она сводится исключительно к победам святого Александра Невского, что, при всем уважении к последнему, не слишком справедливо. Все-таки точку в русско-немецком противостоянии поставило не Ледовое побоище 1242 г., а «исключительное по кровопролитию» (Д. Г. Хрусталев) ничейное сражение под Раковором 1268 г., вскоре после которого была установлена граница между Ливонским орденом и Новгородской землей. Русь потеряла Ливонию и Эстонию, но сохранила Карелию, Ижорскую и Водскую земли. Русско-немецкие (и русско-шведские) конфликты продолжались и позднее, но определившиеся в конце 1260-х гг. сферы влияния в целом оставались неизменными. Конечно, кровавые перипетии этой борьбы не могли не изменить отношение русских к латинянам в худшую сторону.
Распад «Русской Федерации»
И еще одно крайне важное – хотя и косвенное – последствие монгольского нашествия и ига. Они оборвали экономические и культурные связи между Восточной и Западной Русью, тем самым подготовив и политическое их разобщение. Киев прекратил быть даже формальным политическим центром, там вообще надолго не стало княжеского стола. Западные земли (Полоцкая, Киевская, Волынская, Черниговская, Смоленская и др.), добровольно ли, спасаясь от прелестей ордынского «симбиоза», вынужденно ли, под напором находившегося на подъеме воинственного Литовского государства, постепенно вошли в состав последнего. Так окончила свое существование «Русская федерация», так начался социокультурный раскол между ее прежними частями, последствия которого мы сегодня столь остро и драматично переживаем.
В то же время распространение русского этнонима в расколовшихся частях КР не только не уменьшилось, но, напротив, значительно возросло, по крайней мере среди интеллектуалов. Как показал Б. Н. Флоря, в летописях и иных литературных памятниках второй трети XIII–XIV в. понятия «Русь» и «Русская земля» уже не обозначают среднего Поднепровья, зато активно распространяется представление о Руси «как особом целом, отличном от соседей». Наиболее показательно в этом отношении «Слово о погибели Русской земли» (1238–1246), где границы последней очерчиваются от «угор», «ляхов» и «немец» на западе до волжских булгар на востоке, а населяет ее, согласно автору, единый «христианский народ» (в оригинале – «язык»), то есть русская идентичность здесь мыслится исключительно как религиозная. Галицко-волынские, суздальские и новгородские летописи все чаще называют свои земли и своих князей просто «русскими».
Таким образом, произошедшая катастрофа, ностальгия по утраченному единству обострила русское (прото)национальное самосознание. Павший Киев передал русское знамя другим столицам. Но во всех этих осколках былой «федерации» формировались разные версии русскости, в зависимости от преобладания одного из трех главных политических элементов КР – демократического, монархического и аристократического.
Запад, как уже говорилось выше, попал под власть Литвы (за исключением Галича, захваченного Польшей) и позднее вошел в состав польско-литовской Речи Посполитой, то есть стал частью периферии западноевропейского мира. Стоит отметить, что, вопреки еще одному евразийскому мифу, это никак не связано с политикой «западника» Даниила Галицкого. Последний хоть и принял королевскую корону от папы римского, но ни малейшей помощи от католиков не получил и был вынужден, как и Александр Невский, покориться Орде. А созданное им Галицко-Волынское княжество пережило своего создателя на несколько десятилетий.
Великое княжество Литовское, которое почти на девять десятых состояло из русских земель с гораздо более высоким уровнем развития, чем у собственно литовских, вполне могло бы стать новым центром общерусского единства. Литовские князья до конца XIV в. не покушались на русские социально-политические институты и веру, более того, русский язык активно использовался в сфере государственного управления. Но, соединившись с Польшей и приняв католичество, шанс стать Новой Русью ВКЛ упустило.
Русское самосознание на Западе не только не исчезло, но в каком-то смысле, из-за инородного и инославного окружения, даже усилилось. Однако социальное бытие ВКЛ, где в управлении преобладал аристократический элемент (изначально сильно развитый и в Галицко-Волынской Руси с ее влиятельным боярством), сильно отличалось от образа жизни русских Востока. А с вхождением в ареал польского влияния прежнее русское культурное доминирование было утрачено, и сама Западная Русь стала постепенно полонизироваться. Но об этом мы подробнее поговорим в следующих главах.
Демократические традиции КР вполне успешно сохранялись и даже развивались в некоторых землях подмонгольской Руси, находившихся в наибольшем удалении от азиатских собратьев по «симбиозу» – в северных республиках Новгороде и Пскове и северо-восточной Вятке.
В Новгороде – хотя он и вынужден был признавать власть великого князя, утверждаемого Ордой, – начиная с 60-х гг. XIII в. княжеское влияние «свелось к минимуму» (В. Л. Янин). Князь не имел права собирать государственные доходы с Новгородчины (это делали сами новгородцы), владеть там на правах частной собственности землей, выносить судебные решения без санкции городского правления. В 1384 г. новгородцы провозгласили свою неподсудность московскому митрополиту, а наименование города Великим, произошедшее в конце XIV в., как бы уравняло его с великим князем. С 1290-х гг. в Новгороде начали происходить ежегодные выборы главы государства – посадника, главы купечества и свободного ремесленного населения – тысяцкого и главы черного духовенства – архимандрита. С 1354 г. посадничество стало коллегиальным, то есть каждый из новгородских концов (районов) избирал своего посадника, а на общем вече избирался главный (степенный) посадник. Однако со второго десятилетия XV в. в управлении Новгорода стали преобладать боярско-олигархические тенденции в венецианском духе, что привело к конфликту между «верхами» и «низами».
В Пскове полномочия князя были существенно больше. В частности, он обладал судебной властью, но судил не единолично, а во главе судебной коллегии, куда входили посадник и сотские (уполномоченные представители городского населения). И так по всем звеньям городского управления – княжеская администрация не работала отдельно, «она всюду смыкается с независимой администрацией вечевого города-земли» (Ю. Г. Алексеев). Посадничество во Пскове, как и в Новгороде, получило коллегиальный характер, представляя все концы города. Степенный посадник был подотчетен вечу и, во всяком случае, формально не пользовался никакими привилегиями. Внесение изменений в городское законодательство было предметом обязательного обсуждения на вече.
Еще одно интересное наблюдение специалистов, касающееся и Новгорода, и Пскова, – там не образовалось «аристократических» и «демократических» концов, знать и простолюдины жили едиными территориальными общинами, и боярские усадьбы перемешивались с домами «черного» торгово-ремесленного населения.
В Вятке (Хлынове) князя вообще не было. Верховная исполнительная власть там принадлежала земским воеводам, которых выбирало вече из числа местных бояр.
Но на большей части Восточной Руси развитие шло совсем в другом направлении. В сфере социально-экономической происходил упадок городов из-за монгольских погромов и свертывания торговли, сельское хозяйство превращалось в основную отрасль экономики, удельный вес сельского населения теперь увеличился, предположительно, до более 95 %. В сфере политической – заметен рост княжеской власти. Во-первых, князья в качестве ордынских вассалов, чья власть основывалась на ханском ярлыке, сделались фактически неподотчетными вечу. Во-вторых, роль главных землевладельцев и землеустроителей также выводила их за пределы компетенции городского самоуправления. Влияние вечевых институтов резко ослабло, хотя они и не исчезли и время от времени о себе напоминали во время городских восстаний. Боярство держало сильнейшую сторону и сплачивалось вокруг князей. Естественно, что на Востоке, прежде всего в землях, составлявших Суздальскую Русь, где и прежде княжеские прерогативы были весьма значительны, монархический элемент стал доминирующим. Так приготовлялась почва для будущего московского самодержавия.
Глава 2. Принцип Москвы
«Москва не есть просто город; не кирпич и известь ее домов, не люди, в ней живущие, составляют ее сущность. Москва есть историческое начало, Москва есть принцип», – писал в 1865 г. М. Н. Катков. Хорошо сказано! Но в чем суть этого принципа? Сам Катков определяет его так: «Единство и независимость Русского государства во что бы то ни стало и ценой каких бы то ни было жертв и усилий…» Да, это верно, но в публицистической патетике трибуна русского охранительства теряются очень важные специфические детали, собственно и составляющие особый дух любого большого исторического явления. На них уже позднее указали наши выдающиеся историки.
В. О. Ключевский отмечал «боевой строй» Московского государства, его «тягловый, неправовой характер» («сословия отличались не правами, а повинностями, между ними распределенными») и особенность верховной власти «с неопределенным, то есть неограниченным пространством действия…» «Не ограниченное никакими нормами… самодержавие» и «служба и тягло» как «государственное назначение… основных слоев населения» – вот главные элементы московской социально-политической системы по А. Е. Преснякову. Г. В. Вернадский говорил о «московском принципе полного подчинения индивида государству». С. Б. Веселовский – о политике «общей нивелировки и подчинения всего и всех неограниченной власти московского государя во всех областях жизни…». К этим чеканным формулировкам мало что можно добавить.
Москва действительно привносит совершенно новый принцип, практически антитезу киевскому. Более того, это и есть основной принцип русского исторического бытия. Ни Петербург, ни Советы, вроде бы резко от Москвы отталкивающиеся, прикрывающиеся импортированной западной маскировкой, во многом существенном и впрямь иные, нимало не отменили его, скорее, напротив, усовершенствовали, приспособив для его реализации гораздо более эффективные инструменты. И даже еще больше: сегодня нам тщетно искать следов домонгольской старины, кроме как археологических, зато московский принцип вполне себе полноценно сохранился в социально-политическом строе Российской Федерации, составляя его сердцевину. Власть, как и в XV–XVII вв., обладает «неограниченным пространством действия», народный быт и психология продолжают по большей части быть «служило-тягловыми». «Московский человек», проникновенно описанный Г. П. Федотовым, сочетающий в себе, с одной стороны, фаталистическую выносливость и терпение, с другой – внезапные вспышки «дикой воли», и ныне являет собой самый массовый русский тип.
Но, разумеется, в полной мере принцип Москвы раскрылся не сразу. Это уже задним числом мы отбрасываем все «нехарактерное» и создаем «идеально-типический» образ эпохи. В самом же историческом процессе «нехарактерное» может быть весьма важным фактором. По крайней мере, до конца XVI столетия мы видим множество пережитков Киевского периода – «старину и пошлину», которую московские государи не только усердно ломали, но порой вынуждены были с ними и мириться. Наконец, само же самодержавие делало иногда ходы, либо противоречащие его собственному принципу, либо потенциально способные выстроить совсем иную перспективу развития страны. «Нивелировка и подчинение всего и вся» в XV–XVI вв. – пока только замах московской власти, заявленный ею потенциал, но отнюдь не эмпирическая реальность «цветущей сложности» русской жизни с остатками удельных княжеств, особыми правами и обычаями разных земель и социальных групп. В этой главе речь пойдет именно о данном периоде.
Москву сейчас модно ругать, и есть за что, с учетом живучести ее самых неприятных установлений. Но у нее имеются и бессмертные заслуги. «…Москва спасла Россию, задушив все, что было свободного в русской жизни», – замечательно определил А. И. Герцен двойственность ее исторической роли. Попробуем же, обсуждая, а не осуждая последнюю, помнить об этой двойственности и соблюдать справедливость в приговорах.
Самочинное личное властвование
Итак, главное новшество, внесенное Москвой в русскую историю, – «не ограниченная никакими нормами» власть великого князя/царя. Именно отсюда берет истоки феномен «русской власти» – «автосубъектной и надзаконной», не имеющей «аналогов ни на Западе, ни на Востоке», ибо «на Востоке, будь то Япония, Китай или Индия, власть тэнно/ сегуна, хуанди или султана была ограничена – традицией, ритуалом, обычаями, наконец, законом», а на Западе даже «власть абсолютных монархов ограничивалась правом, на котором строился весь… порядок: король, даже если речь идет о Франции XVII–XVIII вв., считающейся модельной абсолютной монархией, мог менять законы (хотя и это было вовсе не так просто), но он должен был им подчиняться» (А. И. Фурсов).
Тем более ничего близкого мы не видим среди европейских монархий XV–XVI вв. В Англии действует Великая хартия вольностей (1215), по которой король не имел права устанавливать налоги и повинности без согласия представителей сословий, с конца XIII в. регулярно собирается двухпалатный парламент. В Священной Римской империи – Золотая булла (1356), признававшая суверенитет курфюрстов – вассалов императора в их владениях. В большинстве германских княжеств объявление войны и заключение союзов их правителями делалось только с санкции сословий – духовенства, дворянства и бюргеров. В Швеции Вольная грамота (1319) закрепила взаимные обязательства короля и знати, там действовал сейм с очень широкими полномочиями: «Ни одна война не может быть объявлена и ни один мир не может быть заключен иначе, как с согласия сейма – стереотипные фразы, встречающиеся на каждом шагу в шведских законах и сеймовых постановлениях» (В. Н. Латкин). Польша (а затем и Речь Посполитая) и Венгрия (до вхождения в империю австрийских Габсбургов в 1687 г.) были избирательными монархиями, где законодательная власть находилась в руках сейма, а знать имела юридически зафиксированное право на восстание против короля во имя своих прав и свобод.
Во Франции, где королевская власть была очень сильна, на заседании Генеральных штатов в 1484 г. один из депутатов произнес такую речь: «…короли изначально избирались суверенным народом… Каждый народ избирал короля для своей пользы, и короли, таким образом, существуют не для того, чтобы извлекать доходы из народа и обогащаться за его счет, а для того, чтобы, забыв о собственных интересах, обогащать народ и вести его от хорошего к лучшему. Если же они поступают иначе, то, значит, они тираны и дурные пастыри… Как могут льстецы относить суверенитет государю, если государь существует лишь благодаря народу?» Речь эта, по свидетельству современника, «была выслушана всем собранием очень благосклонно и с большим вниманием». И хотя как раз с конца XV в. значение ГШ резко падает (но тем не менее они продолжают спорадически собираться до начала XVII в.), в ряде областей не прекращали успешно действовать местные штаты, а провинциальные верховные суды – парламенты имели право приостанавливающего вето на королевские указы. «Франция – это наследственная монархия, умеряемая законами», – писал в XVI в. один из видных французских юристов. Феодальная вольница отошла в прошлое, но некоторые аристократы вплоть до эпохи Людовика XIV легко становились в смутные времена вполне самостоятельными политическими субъектами со своими армиями.
Даже в первопроходце европейского абсолютизма – Испании Филипп II не решился отменить автономию мятежного Арагона. Присягу арагонских кортесов (сословно-представительного собрания) испанскому королю невозможно представить в устах подданных московского самодержца: «Мы, столь же достойные, как и ты, клянемся тебе, равному нам, признавать тебя своим королем и верховным правителем при условии, что ты будешь соблюдать все наши свободы и законы, а если не будешь – то не будешь и королем». Испанские короли, по крайней мере, теоретически могли быть привлечены к суду, подобно любому своему подданному. «…В основных законах почти всех европейских государств – за исключением России – подчеркивалось, что королевская прерогатива не распространяется на жизнь, свободу и собственность подданных» (Н. Хеншелл).
Наконец, и в Византии, ошибочно считающейся образцом для русского самодержавия, императорская власть была неформально ограничена, во-первых, отсутствием определенного порядка престолонаследия, что заставляло претендентов искать поддержку в обществе, во-вторых, силой традиционных норм поведения монарха. Положение басилевсов было крайне неустойчивым – немногим менее двух третей из них погибли в результате заговоров или вынужденно отреклись от престола.
Суть же московского самодержавия определить иначе, нежели произвол, затруднительно. Государева воля, «самочинное личное властвование» (А. Е. Пресняков) здесь – единственный источник власти и закона. Она не связана никакими писаными нормами и даже если сама на себя какие-то обязательства накладывает, то затем легко их сбрасывает, буде в том нужда. Имперский посол в «Московии» барон Сигизмунд Герберштейн так характеризовал стиль правления Василия III: «Властью, которую он имеет над своими подданными, он далеко превосходит всех монархов целого мира… Всех одинаково гнетет он жестоким рабством… Свою власть он применяет к духовным, так же как и мирянам, распоряжаясь беспрепятственно по своей воле жизнью и имуществом каждого из советников, которые есть у него…» «Правление у них [русских] чисто тираническое: все его действия клонятся к пользе и выгодам одного царя и, сверх того, самым явным и варварским образом», – пишет о времени Федора Ивановича английский посланник Джильс Флетчер. Могут возразить, что иностранцы-русофобы просто-напросто клевещут на наше Отечество, но факты их выводы скорее подтверждают. Не будем вспоминать опричнину – экстрим есть экстрим. Приведем лучше в пример будничную управленческую технологию московского правительства начиная с Ивана III – насильственные многотысячные переселения своих подданных с места на место, «перебор людишек». Ничего подобного тогдашняя Европа не знала.
Иван III, присоединяя Новгород, в январе 1478 г., дал ему жалованную грамоту о соблюдении ряда новгородских вольностей, где в первую очередь обещал не выводить новгородцев в другие земли и не покушаться на их собственность. Но менее чем через десять лет великий князь свое обещание нарушил. В 1487 г. из Новгорода было выведено более семи тысяч «житьих людей» (слой новгородской элиты между боярами и средними купцами). В 1489 г. произошел новый вывод – на сей раз более тысячи бояр, «житьих людей» и «гостей» (верхушка купечества). С учетом того, что население Новгорода вряд ли превышало 30 тыс., это огромная цифра, почти треть жителей. Вотчинное землевладение новгородских бояр было ликвидировано.
В 1489 г. та же участь постигла Вятку: «воиводы великаго князя Вятку всю розвели», – сообщает летописец. Еще в 1463 г. «простились со всеми своими отчинами на век» ярославские князья и «подавали их великому князю… а князь велики против их отчины подавал им волости и сел»; в Ярославле стал хозяйничать московский наместник, который «у кого село добро, ин отнял, а у кого деревня добра, ин отнял да отписал на великого князя ю…».
Василий III верно следовал по стопам отца. Из Пскова в 1510 г. он вывел 300 семей, то есть более тысячи человек. Из Смоленска, которому, как и Новгороду, была дана жалованная грамота с гарантией «розводу… никак не учинити», зимой 1514/15 г. вывели большую группу бояр, а через десять лет – немалое количество купцов. Практиковались переселения и в других западнорусских землях (Вязьма, Торопец), вяземским «князем и панам», кстати, тоже обещали «вывода» не делать. На место прежних землевладельцев и купцов всюду пришли служилые и торговые люди из московских городов.
После этого беспредела стоит ли удивляться слабости института частной собственности на Руси? «Такое из ряду вон выдающееся вмешательство правительства в частную собственность, продолжающееся целые века, должно было значительно подорвать свойственную всякому собственнику мысль о неприкосновенности его владений» (В. И. Сергеевич).
И это только крупные, политические акции. А ведь московская власть использовала «выводы» и в экономике, перебрасывая успешных предпринимателей в регионы, требующие хозяйственного оживления. Так, после основания Архангельска, ставшего центром торговли с англичанами и голландцами, правительство царя Федора Ивановича приказало заселить его торговыми людьми из поморских посадов и волостей. В 1587 г. в новый город было направлено жить и работать 26 купеческих товариществ. Правда, такое государственное регулирование бизнеса не оказалось слишком эффективным, уже через десятилетие более половины переселенцев тихо вернулись по домам. С тем же энтузиазмом относились поморские деловые люди и к перемещению их с периферии в центр. «Двинский сведенец, московский жилец» Семен Кологривов, передавая в 1578 г. щедрый дар Сийскому монастырю, просит игумена взамен печаловаться перед царем о возвращении его вместе с сыновьями на родину. Однако печалование не помогло, два года спустя Кологривов снова упоминается как «московский жилец». А из столицы, как из Архангельска, так просто не скроешься…
Как видим, московский суверен действительно распоряжается своими подданными как ему заблагорассудится, не связывая себя какими-либо устойчивыми правилами. Он не просто верховный правитель, он, как типичный восточный деспот – верховный собственник. Он ощущает себя не просто главным, а единственным политическим субъектом на Руси.
Поэтому его сознательная и целенаправленная стратегия – недопущение появления других субъектов и борьба со всем, что могло бы в такие субъекты превратиться. С любой автономностью, любыми зафиксированными правами и правилами. Ибо любая автономность, любые зафиксированные права и правила, любое ограничение произвола верховной власти могут стать потенциальной основой субъектности.
Характерны в этой связи упомянутые выше переговоры Ивана III с Новгородом зимой 1477/78 г. Новгородские представители, выдвинув условия, на которых они соглашались признать великого князя своим «государем», просили, чтобы он дал обязательство эти условия соблюдать («дал крепость своей отчине Великому Новугороду, крест бы целовал»). Но Иван Васильевич новгородские притязания отверг с порога: «Вы нынеча сами указываете мне, а чините урок нашему государству быти, и но то, которое государство мое». «Урок» – это определенные, точно установленные нормы, которые правитель обязан соблюдать. А «государь» (кстати, это слово в средневековой Руси означало – «хозяин»), в соответствии с принципом Москвы, не может иметь со своими подданными-«слугами» каких-либо договорных отношений. Изначальное намерение Ивана по отношению к Новгороду было «государствовать» там «так, как государствовал в Низовской земле, на Москве». Но, будучи политиком чрезвычайно осторожным, он решил преждевременно не загонять новгородцев в угол и в конце концов принял их условия, но не в форме договора, а в виде «милости», так и не скрепив ее крестным целованием и не разрешив этого сделать ни своим боярам, ни будущему новгородскому наместнику.
Единственный среди московских Рюриковичей литератор (и, надо признать, литератор первоклассный) – Иван Грозный создал некое идеологическое обоснование своей и своих предков власти. Ее источник – Божья воля и «благословение» прародителей, она, таким образом, получена не от подданных, и с ними монарх ею делиться не обязан. «Российское самодержавство изначала сами владеют своими государствы, а не бояре и вельможи… Доселе русские владетели не истязуемы были ни от кого, но вольны были подвластных своих жаловати и казнити, а не судилися с ними ни перед кем». Без самодержавной власти государство невозможно: «Аще не под единою властию будут, аще и крепки, аще и храбри, аще и разумни, но обаче женскому безумию подобны будут». Ответствен государь только перед Богом и своей совестью. Подданные – рабы государя, «Божиим изволением деду нашему, великому государю Бог их поручил в работу», и подобает «царю содержати царство и владети, рабом же рабская содержати повеления». Выступать против монарха – все равно что бросать вызов самому Господу: «Противляйся власти, Богу противится, аще убо кто Богу противится – сей отступник именуется, еже убо горчайшее согрешение». По существу, покорность самодержцу объявляется религиозным догматом.
С нескрываемым презрением относится Грозный к европейским монархам, власть которых, так или иначе, ограничивается их подданными: «А о безбожных языцех, что и глаголат! Неже те все царствии своими не владеют: как им повелят работные их, так и владеют». Сигизмунду II Польскому он пишет: «Еси посаженной государь, а не вотчинной, как тебя захотели паны твои, так тебе в жалованье государство и дали». Поскольку при заключении перемирия между Россией и Швецией его прочность со шведской стороны гарантировал не только король, но и, от имени сословий, архиепископ Упсалы, Иван саркастически заметил Юхану III, что шведский король «кабы староста у волости». (Предшественник Юхана – Эрик XIV, деспотическими замашками и психической неуравновешенностью весьма напоминавший своего русского коллегу, был незадолго до этого отрешен от власти постановлением сейма, что, конечно, не могло понравиться создателю опричнины.) Ну и знаменитая отповедь Елизавете I Английской: «…мы чаяли того, что ты на своем государстве государыня и сама владеешь… ажно у тебя мимо тебя люди владеют, не токмо люди, но и мужики торговые… А ты пребываешь в своем девическом чину, как есть пошлая девица».
Насколько далека эта тотальная сакрализация верховной власти от скромных представлений о своих правах и обязанностях князей Киевского периода (достаточно вспомнить Поучение Владимира Мономаха)! Очевидно влияние на политическую теологию царя Ивана византийской религиозно-политической традиции. Но собственно византийский след при формировании принципа Москвы виден только в идеологическом обосновании последнего (ну еще в заимствованиях из придворного ритуала). Даже двуглавый орел на гербе, скорее всего, перелетел от Габсбургов. Как уже говорилось выше, сама структура власти в Восточно-Римской империи была принципиально иной, да и русские властители никогда не заявляли себя преемниками византийских императоров. До брака Ивана III с Софьей Палеолог в 1472 г. контакты Москвы с ромеями были незначительными, а характерные московские политические практики (те же «выводы») просматриваются, как минимум, с начала 1460-х гг. Косвенно на усиление московской власти повлияло падение Константинополя, ибо теперь Рюриковичи становились единственными православными суверенами, и их гордыня не могла не увеличиться в гомерических размерах.
С. А. Нефедов акцентирует возможное турецкое влияние на преобразования Ивана III и опричнину Ивана IV. Возможно, он прав (еще Флетчер отмечал, что «образ правления» московских государей «весьма похож на турецкий, которому они, по-видимому, стараются подражать»), но сам принцип Москвы явно сложился раньше: служилый, а не вассальный статус московского боярства заметен уже со второй половины XIV столетия.
Ордынский след
Так откуда же взялась «фантастическая мутация» (А. И. Фурсов) власти на Руси, образовавшая такую пропасть между Киевским и Московским периодами? Безусловно, это ордынское наследие. Но опять-таки здесь не прямое влияние – Орду Москва не копировала, – а косвенное. Будучи ханскими ставленниками, московские князья могли не искать для себя опоры в русском обществе, полномочия же, даваемые им ханами, были огромными. Сам же характер ханско-княжеских отношений скорее напоминал подданство, чем вассалитет: ярлык на великое княжение у его обладателя могли отнять и передать конкуренту; князей нередко убивали в Орде без всякого суда; формы почтения по отношению к монгольским владыкам были крайне унизительны, с точки зрения европейско-христианского мира, к которому, как мы помним, Русь еще недавно принадлежала. Как писал еще Н. М. Карамзин: «Внутренний государственный порядок изменился: все, что имело вид свободы и древних гражданских прав, стеснилось, исчезло. Князья, смиренно пресмыкаясь в Орде, возвращались оттуда грозными властелинами, ибо повелевали именем царя верховного».
По элементарным законам социальной психологии, нижестоящие переносят на следующих нижестоящих в общих чертах ту структуру власти-подчинения, которая у них сложилась с вышестоящими. Неудивительно, что московские князья также захотели сделать из своих бояр бесправных подданных. Это, видимо, было не слишком трудно, ибо состав русской социально-политической элиты в монгольский период радикально сменился. Во время ордынского погрома Северо-Востока погибла большая часть дружинников, по косвенным данным, не менее двух третей. Как отметил В. Б. Кобрин, «среди основных родов московского боярства, за исключением Рюриковичей, Гедиминовичей и выходцев из Новгорода, нет ни одной фамилии, предки которых были бы известны до Батыева нашествия». Место наследственных аристократов заняли выходцы из менее привилегированных слоев, а иногда и вовсе бывшие княжеские рабы-холопы, для коих нарождающийся порядок казался естественным. (Кстати, холопы были весьма распространенной категорией московского населения – у некоторых бояр их насчитывалось до полутораста – что накладывало характерный отпечаток на стиль жизни страны.) Показательно, что в Москве не действовало стандартное для феодальной Европы сословное ограничение на телесные наказания: знать подвергалась им наравне с простолюдинами – батоги, кнут, битье по щекам… Элита, в свою очередь, «самодержавствовала» по отношению к низам, последние следовали ее примеру. «Видя грубые и жестокие поступки… всех главных должностных лиц и других начальников, они [русские] так же бесчеловечно поступают друг с другом, особенно со своими подчиненными и низшими, так что самый низкий и убогий крестьянин (как они называют простолюдина), унижающийся и ползающий перед дворянином, как собака, и облизывающий пыль у ног его, делается несносным тираном, как скоро получает над кем-нибудь верх», – вполне правдоподобно (ибо ситуация легко узнаваема) пишет Флетчер.
После того как при Дмитрии Донском московские князья получили ярлык на великое княжество Владимирское в наследственное владение, равных им соперников на Руси не осталось, и постепенно бояре из других земель стали подтягиваться под сильную руку, принимая местные обычаи.
Юридические нормы и в Киевской Руси не играли такой основополагающей роли, как в ареале господства римского права – Западной Европе и Византии, но все же в КР существовал и соблюдался неписаный договор между князем и дружиной, накладывавший обязанности на обе стороны. Новое положение власти и новый характер элиты позволили окончательно заменить договорные отношения между ними отношениями правителя и подданных. Раньше дружинник мог свободно поменять место службы, «отъехать» от одного князя к другому. Но уже со второй половины XIV в. «отъезды» практически прекращаются, а с конца следующего столетия «отъезжать» стало просто некуда, разве что бежать в перманентно воюющую с Москвой Литву, что воспринималось как измена. Уже в ту пору критерий «службы» стал играть в формировании социально-политической элиты определяющую роль: «В Московской Руси место человека на лестнице служилых чинов… определялось не только происхождением, но и сочетанием служебной годности и служб человека с учетом его родовитости, то есть служебного уровня его „родителей“, родичей вообще, а в первую очередь его прямых предков» (С. Б. Веселовский).
Служилый характер аристократии еще более усилился после широкого внедрения при Иване III новой, условной формы феодального землевладения – поместья. Напомню, что именно в поместное владение двум тысячам человек были розданы огромные земли, конфискованные у новгородских бояр, что позволило содержать большое и непосредственно зависящее от великого князя профессиональное войско. Это было «грандиозной, по тогдашним масштабам, и смелой реформой» (С. Б. Веселовский). К середине XVI в. поместное войско составляло, по разным оценкам, от 20 до 45 тыс. человек, в него «верстались» представители самых разных слоев населения, вплоть до боярских холопов. В поместную раздачу шли и другие конфискации по окраинам – Псков, Вязьма, Смоленск, а также дворцовые земли великого князя и земли черносошных крестьян (лично свободных, но платящих государству налоги и несших в отношении его ряд повинностей – тягло). Поместье давалось за службу – бессрочную, пока у помещика на нее доставало сил; в отличие от вотчины, оно не являлось частной собственностью и могло быть отобрано в случае уклонения от службы. Впрочем, и на вотчинную, частную собственность московские самодержцы последовательно накладывали ограничения, а со второй половины XVI в. за уклонение от службы отбирались уже и вотчины.
Еще один важный фактор – с упадком городов после монгольского нашествия закатилось и значение вечевых структур. В Москве уже в 1374 г. был ликвидирован институт тысяцких, возглавлявших городское самоуправление, хотя и раньше они там не избирались, а назначались князем. Городское сословие как серьезная общественная сила в Московской Руси так и не сложилось. Большинство городов, за исключением поморских, некоторых поволжских и таких гигантов, как Москва, Новгород, Псков, были скорее крепостями, чем торгово-промышленными центрами. Собственно посадские жители в них количественно явно уступали совокупным служилым людям и обитателям «белых» (не тянущих государево тягло) слобод, принадлежавших светским и церковным вотчинникам. Поэтому и не могла там сложиться городская самоуправляющаяся община, подобная западноевропейским коммунам.
Таким образом, у московской власти не осталось никаких социальных противовесов. Еще с 20-х гг. XIV в. верным ее союзником становится церковь, перенесшая в Москву резиденцию митрополита всея Руси. Именно церковные писатели XV–XVI вв. вроде Иосифа Волоцкого приготовили почву для апологии самодержавия Ивана Грозного своими сентенциями о том, что «царь оубо естеством подобен человеку, властию же подобен есть вышнему Богу». Оговоримся, что были у того же Волоцкого и недвусмысленные обличения тирании и призывы к сопротивлению ей, аналогичные учениям западноевропейских богословов XII–XIII вв. Иоанна Солсберийского и Фомы Аквинского: «Аще ли же есть царь, над человеки царьствуя, над собою имать царствующа скверныа страсти и грехи, сребролюбие же и гнев, лукавьство и неправду, гордость и ярость, злейшиже всех, неверие и хулу, таковый царь не Божий слуга, но диаволь и не царь, но мучитель… Ты убо такового царя или князя да не послушавши, на нечестие и лукавьство приводяща тя, аще мучит, аще смертию претит». Однако в отличие от латинских авторов, отстаивавших особую духовную власть, независимую от светской, Иосиф и его последователи исходили из подчинения церкви государству как нормы. Более того, даже оппоненты иосифлян – нестяжатели во главе с Нилом Сорским не создали «никакого учения о пределах царской власти» (В. Е. Вальденберг).
Ордынское иго было сброшено под руководством москвичей, что добавило им авторитета и ореола, но властная структура, игом сформированная, осталась. Сохранилось и отсутствие ей противовесов. То, что без ордынской «мутации» принцип Москвы вряд ли бы возник и восторжествовал, видно на примере западнорусских земель, либо вовсе не затронутых монгольским нашествием, либо избавившихся от ига столетием раньше. Подобная структура власти там не сложилась, хотя до монголов социально-политический строй на Западе и Северо-Востоке был в общих чертах одинаковым.
Московское самодержавие, как правило, объясняют и/или оправдывают тем, что Москва была осажденной крепостью и постоянно вела войны за выживание. Конечно, нельзя не согласиться с тем, что войны вообще оказывают огромное влияние на формирование государств и в основном способствуют росту авторитарных тенденций. Но в XIV–XVI вв. вся Европа только и делала, что воевала, однако нигде не возникло ничего похожего на «русскую власть», даже в Испании или Сербии, также боровшихся с опасными врагами с Востока. Разумеется, московские обстоятельства отличались особой экстремальностью, и та же практика «выводов» во многом служила материальному обеспечению поместного войска, но это не объясняет самого изобретения и возможности применения данной управленческой технологии. Сначала должна была произойти какая-то важная культурная трансформация, отменившая устоявшиеся нормы. Что же касается «оправдательной» стороны вопроса, то далеко не все московские войны были оборонительными. И чем дальше, тем больше велось войн завоевательных. Походы на Казань еще можно назвать превентивной обороной, но войны с Литвой конца XV – первой трети XVI в., а уж тем более Ливонская война 1558–1583 гг. – чистой воды агрессия. И если генезис самодержавия связывать напрямую с милитаризацией московской жизни, то получается, что его несомненное усиление в указанный период обусловлено не обороной границ, а внешнеполитической экспансией.
Пределы самовластья
Любая власть по природе своей стремится к росту. Власть, не встречающая сильных препятствий, стремится к абсолюту. Но абсолютного на земле ничего не бывает, московская власть в этом правиле – не исключение. Ей не хватало для полного претворения в жизнь своего принципа подручных средств, «неограниченное самодержавие» долго оставалось весьма ограниченным в своих возможностях. Даже поместное войско – это еще не регулярная армия, которая начала формироваться только в середине XVI в. в виде стрелецких полков. Полиции, как постоянной государственной структуры, не существовало. Бюрократический аппарат, правда, как показывают новейшие исследования М. М. Крома и Д. В. Лисейцева, был весьма эффективен: и во время борьбы боярских кланов в малолетство Грозного, и в Смуту приказные учреждения работали более чем исправно. Но их штаты для такой большой страны были просто смехотворны.
При Василии III известен всего 121 дьяк, в период 1534–1548 гг. – 157 дьяков и подьячих. Причем, как уточняет М. М. Кром, это суммарное количество всех бюрократов для данного периода, а не количество приказных дельцов, действовавших одновременно, – когда последнее фиксируется в документах, обнаруживаются куда более скромные цифры. Например, в 1547 г. в связи с предстоящей свадьбой Ивана IV был составлен список дьяков, где указано всего 33 имени. Кстати, бюрократия сильно пострадала в опричнину, в Синодике Грозного записано более двадцати пяти умерщвленных по его приказу дьяков. В 1588/89 г. числилось около 70 дьяков, в 1604-м – свыше восьмидесяти. Для сравнения: во Франции того же времени только в личной канцелярии короля служило несколько сот человек, а весь государственный аппарат королевства в 1515 г. насчитывал 4000 чиновников; в 1573-м их стало в пять раз больше. Французский уровень 1515 г. был достигнут в России только в конце XVII в. В гораздо менее, чем Франция, бюрократизированной Англии при современнице Ивана Грозного – Елизавете I служило около 1200 чиновников. Не говорю уже о степени развития тогдашних средств передвижения и сообщения. Так что и хотелось бы, судя по всему, московским самодержцам контролировать все и вся, но, будучи в большинстве своем людьми трезвого ума, они довольствовались возможным. Когда же на троне появился властитель, отказавшийся считаться с реальностью (Грозный), – произошла катастрофа.
До сих пор мы говорили о московском мейнстриме, теперь поговорим о том, что ему в той или иной степени противоречило или даже его корректировало.
Ключевский точно сформулировал основную антиномию московского политического строя: «…характер… власти не соответствовал свойству правительственных орудий, посредством которых она должна была действовать… Это была абсолютная монархия, но с аристократическим управлением, то есть правительственным персоналом». Московские государи управляли прежде всего посредством боярства, без него они были как без рук – именно из этого слоя брались все воеводы, наместники и члены главного совещательного учреждения – Думы. Борьба «реакционного боярства» с «прогрессивным самодержавием» – не более чем миф. Сколь бы ни был принижен статус московских бояр в сравнении с западноевропейскими феодалами, холопами они являлись только метафорически, в челобитных. Любая социальная верхушка требует к себе особого отношения от власти, особого статуса. Боярам за службу жаловали новые вотчины (нередко «белые», то есть свободные от государева тягла), поместья и «кормления», то есть право сбора дохода в свою пользу с областей, которыми они управляли. Система местничества, обусловливавшая занятие должностных мест знатностью рода, все-таки была какой-никакой системой правил, ограничивающей самодержавный произвол. Правда, историкам так и не удалось обнаружить следов какого-либо официального сборника актов по местничеству, то есть оно не было должным образом кодифицировано, что давало власти возможность установленные правила нарушать, о чем свидетельствует всего один процент дел, выигранных истцами, в местнических спорах.
То же касается и Думы, о которой по сей день не стихают историографические баталии – ограничивала ли она власть государя или просто была совещанием его подручных? И решить это действительно непросто: никаких документов о ее работе не сохранилось. Похоже, что до второй трети XVI в. Дума политическим институтом не являлась и была весьма немногочисленна (10–12 человек), лишь в годы малолетства Ивана IV значение ее возросло, и она стала претендовать на эту роль. Земские соборы, совещательные учреждения представителей разных сословий (кроме крестьянства), начали действовать только с середины XVI в., но о них, как и о реформах местного самоуправления того же времени, мы подробнее поговорим ниже.
Так или иначе, но с боярством, хотя его права и привилегии не были институционализированы, московским правителям приходилось считаться – характерно, что до грозненского террора казни бояр случались очень редко. В еще большей мере приходилось считаться с церковью, не только хозяином средневекового дискурса, но и крупнейшим землевладельцем. Монастырские вотчины, как правило, «обеленные», значительно превышали размером вотчины боярские и поместные земли, вместе взятые. На церковные угодья, при всем очевидном большом желании их присвоить, государство не решилось покуситься даже в эпоху опричнины, для этого пришлось ждать века Просвещения. Кроме того, митрополиты обладали правом «печалования» за опальных и нередко им пользовались. Следует, правда, отметить, что митрополит не избирался, его назначал сам государь. И церковь, и боярство, никогда не выступая против самодержавия как такового, в меру своих возможностей пытались защитить ломаемую им «старину и пошлину», среди элементов которой была не только бесполезная архаика, но и такие непреходящие ценности, пусть и в архаической оболочке, как диалог власти с обществом, человеческое достоинство и милосердие.
Видимо, только в 60—70-х гг. XVI в. был окончательно ликвидирован такой пережиток прежних времен, как землевладение «своеземцев» – мелких частных собственников, не служивших и не несших государева тягла (в Новгородской земле это произошло еще в конце предыдущего столетия, после окончательного присоединения к Москве). «Своеземцам» пришлось поступить на службу – сделаться помещиками, а негодные к службе лишились своих вотчин и растворились среди разных категорий крестьянства.
О бесцеремонном обращении правительства с торгово-промышленным людом говорилось выше, но верхушка последнего все же пользовалась известным почетом. Об этом свидетельствует присутствие представителей русского купечества на важнейших Земских соборах XVI в.: 1566 г., решавшего вопрос о продолжении Ливонской войны, и 1598 г., избравшего на царство Бориса Годунова. Самая привилегированная купеческая корпорация – «гости» – была освобождена от посадского тягла. Впрочем, за это на них налагались «службы» в пользу государства: надзор за чеканкой монеты, организация продажи «казенного» товара (в частности, сибирских мехов), сбор торговых пошлин. Формировалась корпорация «гостей» по назначению сверху.
Определенный уровень свободы до конца XVI в. существовал и для большинства русского населения – крестьян. Даже владельческие крестьяне, то есть жившие на землях вотчинников (монастырей и бояр) или помещиков, оставались лично свободными людьми. По Судебнику 1497 г. они имели право за неделю и после Юрьева дня (26 ноября) уйти от своего владельца, заплатив ему определенную сумму за проживание («пожилое»). Черносошные крестьяне (более-менее точный их процент установить, к сожалению, невозможно) не только были лично свободными, но и владельцами своей земли. Во второй половине XVI в. из-за резкого роста поместного землевладения в центральных областях России черносошное землевладение практически исчезает, сохранившись только на Русском Севере, где его основные черты просматриваются вплоть до начала XIX столетия.
Особенно обильный актовый материал, связанный с жизнью черносошных крестьян, имеется по Подвинью – краю в XVI в. почти сплошь (более чем на 95 %) черносошном. А. И. Копанев проанализировал около 1750 поземельных актов того времени, из которых почти 70 % составляют купчие, совершаемые крестьянами без какого-либо контроля или вмешательства со стороны правительственных органов. Иначе как частной собственностью это не назовешь. И право этой собственности было зафиксировано на государственном уровне в Судебнике 1589 г. (ст. 165): «А хто после живота отпишет деревню детем, то и водчина [вотчина] ввек». «Вотчиной» и даже «державой» называют свои земли и сами кресть яне в поземельных актах. Никаких переделов, никакого выравнивания земельных наделов. Напротив, в глаза бросается резкая неравномерность в распределении земли. Скажем, на Мезени и Пинеге в 1620-х гг. дворы менее 1 четверти (27,8 %) владели 8,9 % земли, а дворы с наделами от 4 четвертей и выше (3,81 %) – 11,4 %.
Н. Е. Носов и А. И. Копанев отмечают на Севере далеко зашедшее имущественное расслоение, выделение богатой верхушки, создававшей крупные земледельческие и промысловые хозяйства с использованием наемного труда и ориентированные на рынок. В Куростровской волости в 1549 г. «животы» (движимое имущество) одного только Василия Алексеевича Бачурина равнялись «животам» 40 малоимущих. В Лодьме тогда же имущество 14 богачей оказалось в 5,5 раза ценнее имущества всех остальных волощан (60,3 %). Братья Савины той же волости платили оброк в 1545 г.: один с четверти, другой – с одной пятой всех волостных земель. По завещанию 1555 г. Григория Кологривова (отца упомянутого выше «московского жильца» Семена), постригшегося в монахи, получается, что общая сумма его имущества составляла 2800 руб. Для сравнения: все имущество Куростровской волости оценивалось в 1759 руб. В каждой волости имелось свыше десятка крупных хозяйств, а всего по Подвинью – 400–500.
Ряд крупных и средних хозяйств занимались солеварением, рыболовством, охотничьим промыслом, ростовщичеством, торговлей, некоторые имели лавки в Холмогорах. Богатые крестьяне употребляли капиталы на покупку новых земель и рыбных угодий. Рыболовецкое хозяйство Амосовых раскинулось по беломорскому побережью на 400–500 верст, им принадлежало несколько варниц. Поморские капиталисты торговали с Европой, так, источники сообщают об участии группы двинских крестьян-промышленников в русском посольстве 1556 г. «на немецких кораблях с товары». Множество богатых купцов, в том числе и зачисленных в гостиную сотню, были выходцами из северных черносошных крестьян. Из них особенно известны династии Строгановых и Кобелевых, впоследствии ставшие владельцами уральских металлургических заводов, но можно отметить и помянутых выше Савиных, значившимися в XVIII в. «первыми купцами Холмогор».
При этом и богачи, и бедняки продолжали сосуществовать в рамках одной волости и нести соответствующее тягло. Наряду с индивидуальными наделами были земли и угодья, находившиеся в общем владении деревни или волости (леса, выгоны для скота, рыбные ловли и т. д.) То есть черносошное землевладение сочетало в себе как частную, так и общинную собственность. Большой и спорный вопрос – являлся ли великий князь/царь верховным собственником черносошных земель, ибо в источниках неоднократно встречается именование волостной земли «землей великого князя» и лишь «владением» крестьянина. Существует точка зрения, что эта формула имеет чисто политический смысл: данная земля находится под управлением московских князей и налоги с нее идут в их казну. Но так или иначе черносошное землевладение было весьма неустойчиво, и земли черных крестьян могли «ежеминутно» (В. И. Сергеевич) по воле монарха потерять свой статус и превратиться во владения вотчинников, помещиков или самого суверена. Об этом свидетельствует судьба черных земель Центра. Крестьяне Севера сохранили свою хозяйственную свободу исключительно из-за своей удаленности от Москвы и относительно неземледельческого – по природным условиям – характера края. Но указанная неустойчивость как раз весьма показательна для Московской Руси, где единственным устойчивым элементом была верховная власть.
Сам социальный статус крестьянина был чрезвычайно низким. Судебник 1589 г. оценивал бесчестье крестьянина в 1 рубль, в 50 раз ниже, чем за боярина, в 12 – чем среднего гостя и зажиточного горожанина, одинаково с городским «молодшим человеком». Из лично свободных людей ниже стояли только скоморохи, нищие, кликуны-калики и т. д. У торгующего крестьянина бесчестье было в три раза более высокое, чем у пашенного.
Как бы ни стремились московские государи к централизации, в землях, присоединенных к Москве в XV–XVI вв., сохранилось множество местных особенностей. В Новгороде, например, еще в XVI в. чеканилась собственная монета – новгородка и сохранялось деление на пять концов во главе со старостами. Даже в середине следующего столетия новгородцы резко отделяли себя от иногородних. Один из вожаков восстания 1650 г. так обращался к царскому воеводе: «Жалуй, посылай в Великий Новгород новогородцев, а не иногородних людей, потому что… иногородние люди, не ведая ничего, говорят многие прибавочные речи, а новогородского извычая не знают».
Любопытно, что сама же московская власть воспроизводила некоторые черты «старины и пошлины», создавая препятствия для собственного абсолютизма. Общеизвестно, что она покончила с системой удельных княжеств. И одновременно все три главных поборника принципа Москвы – Иван III, Василий III и Иван IV – уделы возрождали, оставляя их по завещанию своим младшим сыновьям. Правда, с каждым новым завещанием такие уделы становились все меньше, а доля старшего брата – все больше. Но видно, что анахронизмы Киевского периода не были до конца изжиты даже в сознании самодержцев.
Следует также сказать, что на границах Московского государства в XVI столетии образовались несколько совершенно вольных, живущих по своим правилам сообществ: на южной – Донское и Терское, на восточной – Волжское и Яицкое казачьи войска. Туда стекались беглые холопы, крестьяне, служилые люди – те, кому был не по нутру принцип Москвы, вынужденной до поры до времени закрывать глаза на неконтролируемость этих «военных товариществ», ибо слишком очевидны были выгоды, получаемые государством от этой «даровой стражи от татар и ногаев» (С. Ф. Платонов). Казачьи отряды (станицы) управлялись общей сходкой их участников, избиравшей атаманов и есаулов. Общевойсковых атаманов и есаулов избирали на войсковой сходке. Казаки считали себя защитниками «православныя христианския веры», а свои поселения пусть особой, но частью «Московския области». Общение с ними шло через Посольский приказ – тогдашний российский МИД. Им посылались боевые припасы, продовольствие, сукна и давались те или иные служебные поручения. Некоторые казаки переходили на постоянную государственную службу. С Западнорусским, Запорожским казачеством, отношения которого с Речью Посполитой в конце XVI в. резко обострились, Москва тоже сообщалась, нанимая его для защиты южных границ от крымчаков.
В 1592 г. правительство Федора Ивановича попыталось взять Дон под постоянный надзор и отправило туда в качестве «головы» сына боярского Петра Хрущева. Но казаки его не приняли, говоря, что «прежде сего мы служили государю, а голов у нас не бывало, а служивали своими головами». В царствование Бориса Годунова казакам запретили не только торговать в русских городах, но и вообще появляться в них. Казачество как серьезная сила очень скоро громко заявит о себе в русской истории, и тогда новая попытка того же самого Хрущева возглавить донцев закончится его арестом и сдачей Лжедмитрию I.
Централизация элиты
И тем не менее фундамент централизации Руси был заложен уже в XV–XVI вв. в виде централизации господствующего слоя. Да, новоприсоединенные земли унифицировать тогда было невозможно, но они лишились того стержня, который и делал их самобытными землями, – собственной социально-политической элиты. В этом-то и состоял основной смысл описанных выше «выводов» – вырывалась с корнем именно местная верхушка, заменяемая московскими выходцами, как правило помещиками, напрямую зависящими от самодержца и не имеющими никаких связей с новым для него сообществом. А новгородцы, переселенные во Владимир, Муром, Нижний Новгород, Ростов; вятчане, направленные в Боровск, Алексин, Кременец, Дмитров; смоляне, выведенные в Ярославль, Можайск, Владимир, Медынь, Юрьев, тоже были там чужими.
Высший слой псковского купечества обновился полностью – в дома трехсот псковских семей въехали триста московских. В Вязьме и Торопце уже к середине XVI в. доминировали пришлые служилые роды. Самых опасных местных лидеров уничтожали физически – было казнено более ста новгородских бояр, обвиненных в заговоре; после завоевания Вятки троих «крамольников» били кнутом и повесили на одной из московских площадей.
Впрочем, использовались и более мягкие методы. Пример – внешне совсем не драматичная, но от этого не менее показательная история инкорпорации Тверской земли. Там массового «вывода» после ее присоединения в 1485 г. не произошло. Более того, само княжество со своим отдельным двором продолжало некоторое время существовать, а тверским князем был объявлен наследник престола Иван Иванович Молодой. Но тихой сапой Москва постепенно Тверь перемолола. Сначала пошли поместные раздачи москвичам, потом упразднили особую тверскую канцелярию и делами земли стал ведать Тверской дворец, возглавляемый московскими боярами, судебные дела вершившими на Москве. В 1504 г., по завещанию Ивана III, территория княжества оказалась разбита на четыре части, вошедшие в состав уделов великокняжеских сыновей, причем сама Тверь отошла во владение нового наследника – будущего Василия III. Тверской двор сохранялся, но тверские бояре, оказавшиеся в других уделах, туда уже не входили. «В результате, – констатирует Б. Н. Флоря, – была не только перекроена политическая карта Тверской «земли», но и разрушена та основа, на которой зиждилось ее историческое единство, – общая корпоративная организация тверских феодалов».
После 1509 г. особые чины тверских бояр и окольничих были упразднены, и назначение на административные должности бывшей Тверской земли стало прерогативой Москвы, у которой сложилась такая характерная практика: представители верхушки аристократии получали посты наместников и волостелей не на тех территориях, где располагались их земельные владения. И вот уже мы видим тверских бояр наместниками во Владимире, Пскове, Смоленске, Рязани, Костроме, Вологде… И вотчины они получают там же. Ликвидируется особое тверское войско, растворенное в московском. Наконец, в конце 1540-х гг. тверские феодалы уже формально вошли в состав общерусского Государева двора.
В Московском государстве родовые вотчины княжеско-боярской знати бывших самостоятельных земель перестали быть основой ее землевладения, власть легко могла обменять эти вотчины на другие. Например, вотчины ярославских князей Кубенских – Кубена и Заозерье перешли к московским князьям еще при Василии II Темном. Кубенские стали московскими боярами и воеводами, на Ярославщине у них сохранилось только два села, но и то не в Кубене, включенной в Белозерский уезд (как видим, Ярославскую землю Москва тоже раздробила), а основные вотчины находились в других уездах, например в Дмитровском. У другой ветви ярославских князей – Хворостининых – вообще не осталось вотчин в родном княжестве, зато они имелись в Бежецком, Боровском, Переславском и Ростовском уездах.
«В результате такого перемешивания старых полуудельных и благоприобретенных владений, – пишет В. Б. Кобрин, – статус родовых княжеских вотчин постепенно приравнивался к статусу всех прочих вотчин этих князей. Остатки прежних уделов становились обычными боярщинами. Таким образом, централизация государства проявлялась не только в создании новых общегосударственных учреждений или в укреплении самодержавия, но и в постепенном стирании границ между землями, в миграциях и перемешивании феодальной верхушки. По мере слияния княжат со старым титулованным боярством (и в землевладении, и по службе) лишь гордыми воспоминаниями становилось их прошлое самостоятельных властителей, а реальностью – политическая, да и материальная зависимость от милостей государя всея Руси».
Нередко представители одного рода и даже близкие родственники были записаны по службе в разных уездах. Беклемишевы – по Бежецкому верху, Дмитрову, Кашину, Клину, Козельску, Коломне и Ржеву; князья Борятинские – по Боровску, Калуге, Кашире, Коломне, Тарусе; Валуевы – по Белой, Боровску, Можайску, Москве, Ржеву, Старице; Колычевы – по Белой, Боровску, Можайску, Москве, Новгороду, Суздалю, Торжку, Угличу; князья Мезецкие – по Дорогобужу, Костроме, Можайску, Москве, Мурому, Стародубу; Новосильцевы – по Боровску, Пскову, Ржеву, Старице, Торжку; Унковские – по Волоку, Дмитрову, Новгороду, Ржеву и т. д. Кстати, из этого списка видно, насколько дробным было территориальное устройство Московского государства – множество мелких уездов, в которых вперемешку соединили фрагменты прежних отдельных земель.
Флетчер так описывает московские методы управления провинциями: «…Царь раздает и разделяет свои владения на многие мелкие части, учреждая в них отдельные управления, так что нет ни у кого довольно владений для того, чтобы усилиться… области управляются людьми незначащими, не имеющими сами по себе силы и совершенно чуждыми жителям тех мест, коими заведывают. …Царь сменяет обыкновенно своих правителей один раз в год, дабы они не могли слишком сблизиться с народом или войти в сношение с неприятелем, если заведуют пограничными областями. …В одно и то же место он назначает правителей, неприязненных друг другу, дабы один был как бы контролером над другим, как то: князей и дьяков, отчего (вследствие их взаимной зависти и соперничества) здесь менее повода опасаться тесных между ними сношений…»
Так разрушались местные горизонтальные связи русской элиты, заменяемые вертикальной связью с Центром. Не надо, однако, думать, что централизация эта происходила только с помощью кнута, пряник действовал не меньше. Служба у московского самодержца открывала большие перспективы в большом государстве, выход на общерусский простор взамен провинциального угла: новые вотчины, «кормления», наместническая, воеводская и придворная карьера. Судя по успешной интеграции в московскую систему немосковской аристократии, большинство последней находило, что игра стоит свеч и все перечисленные выше блага – достойная компенсация за потерянную независимость.
Но в бывших центрах вечевой демократии к утрате вольности, символом чего стало снятие вечевых колоколов, отправленных в Москву, относились как к трагедии. Нельзя без глубокой печали читать строки Псковской повести, посвященные событиям 1510 г.: «О славнейший во градех великий Пскове, почто бо сетуеши, почто бо плачеши. И отвечаша град Псков: како ми не сетовати, како ми не плакати; прилетел на мене многокрильный орел, исполнь крыле нохтей, и взя от мене кедра древа Ливанова, попустиша богу за грехи наша, и землю нашу пусту сотвориша, и град наш разорися, и люди наша плениша, и торжища наши раскопаша… а отца и братию нашу розводоша, где не бывали отцы наши и деды ни прадед наших». Позднее, включая Повесть в свою летопись, игумен Псковского Печерского монастыря Корнилий в 1567 г. добавлял, что Псков «бысть пленен не иноверными, но своими единоверными людьми. И кто сего не восплачет и не возрыдает?»
В интересах большинства
Можно долго спорить, смогла бы Русь без централизации по-московски сбросить ненавистное монгольское иго, но факт остается фактом – это великое и долгожданное событие произошло после целой серии войн 1450—1470-х гг., завершившейся в 1480 г. стоянием на Угре, именно под знаменем Москвы. Уж точно без этой централизации невозможно было бы фантастическое расширение границ единого русского государства в XV–XVI вв., когда его территория выросла с 0,5 до 5,7 кв. км, то есть примерно в десять раз, а население – с 2 до 7 млн человек, то есть в три с половиной раза (демографическая динамика резко снижается в роковой период опричнины).
В результате нескольких войн с Литвой в Московское государство вошел ряд западнорусских земель: Вязьма, Брянск, Торопец, Путивль, Дорогобуж, Чернигов, Новгород-Северский, Трубчевск, Стародуб, Рыльск, Смоленск… Силе русского оружия покоряются Казань и Астрахань, начинается присоединение Сибири, в главном завершенное уже при первых Романовых.
В связи с этим в конце XV – начале XVI в. международный престиж Московии резко вырос. Ее стали зазывать в концерт европейских держав, чтобы использовать эту могучую силу против турок. В Европе возникла даже некая мода на русофильство, длившаяся вплоть до Ливонской войны. Московитов представляли как молодой, свежий, неиспорченный народ, хранитель традиционных ценностей, последний резервуар духовности… Например, Иоганн Фабри в сочинении «Религия московитов, обитающих у Ледовитого моря» (1525–1526) вещал практически в стиле современных поклонников РФ из числа европейских крайне правых: «…Мы были так потрясены, что, охваченные восторгом, казались лишенными ума, поскольку сравнение наших христиан с ними в делах, касающихся христианской религии, производило невыгодное впечатление… Ибо где у [рутенов] обнаруживается корень жизни, там наши немцы скорее находят смерть; если те – Евангелие Божие, то эти воистину злобу людскую укоренили; те преданы постам, эти же – чревоугодию; те ведут жизнь строгую, эти же – изнеженную; они используют брак для [сохранения] непорочности, наши же немцы совсем негоже – для [удовлетворения] похоти; и не вызывает никакого сомнения то, что если у них [совершение] таинств уничтожает бремя грехов, то, к прискорбию, у наших пренебрежение таинствами увеличивает это бремя. Что касается государства, то те привержены аристократии, наши же предпочитают, чтобы все превратилось в демократию и олигархию».
Московские самодержцы, несмотря на недоверие к западным «еретикам», полезными контактами с ними не пренебрегали – итальянские мастера, как известно, и Кремль построили, и русскую артиллерию наладили. Однако от приглашения стать пушечным мясом в войне с османами Россия вежливо и мудро отказалась.
Но территориальная экспансия не только тешила внешнеполитические амбиции московских Рюриковичей, она приносила вполне ощутимую пользу подавляющему большинству русских.
Разгром осколков Золотой Орды означал прекращение исходящих оттуда постоянных опустошительных набегов, жертвами которых становились в первую очередь крестьяне и посадские люди, убиваемые и уводимые в иноплеменное рабство. Благодаря наличию поместного войска стало возможно неуклонное продвижение русской оборонительной линии на Юг. Еще в начале XVI в. она проходила по Оке; в 1527 г. – через Переяславль-Рязанский, Каширу, Коломну, Тулу, Одоев; в 1557-м – через Калугу, Козельск и другие южные города; в конце столетия рубежом становится Донец. Этим не только ставилась преграда нападениям крымчаков, но и создавались условия для освоения Дикого поля, куда толпами перебирались опять-таки простолюдины. «Стремление московского населения на юг из центра государства было так энергично, что выбрасывало наиболее предприимчивые элементы даже вовсе за границу крепостей, где защитою поселенца была уже не засека или городской вал, а природные „крепости“: лесная чаща и течение лесной же речки» (С. Ф. Платонов). Народная колонизация шла рука об руку с государственной.
Показательна история интеграции Казанского ханства. Нередко именно взятие Казани называют точкой отсчета, с которой Московское царство становится империей. Если это так, то сколь различны имперские технологии Москвы и Петербурга! Никакой татарской автономии вроде польской – власть принадлежит московскому воеводе, у татар сохраняется только низовое самоуправление. Никаких привилегий местной знати типа прибалтийских – верхушка казанской аристократии вообще физически уничтожается. Летопись хладнокровно рассказывает: «Божиимъ изволениемъ и его царскымъ великымъ подвигомъ и у Бога прошениемъ и воеводъ и всехъ людей службою к нему, казанские люди лутчие, их князи и мурзы и казакы, которые лихо делали, все извелися (выделено мной. – С. С.), а черные люди все съ одного в холопстве и въ дани учинилися». В 1560 г. московскому послу в Литве и Польше Никите Сущеву были даны следующие инструкции для ответа на вопросы по казанским делам: «А учнут [литовцы] говорити, что Казань отложилась, и Никите молвите: лзе, господине, тому дивитися, что говорите; кому ся откладывати? оставлены одни люди черные… и черным людям какъ одним откладыватися».
«Одни люди черные» – это, конечно, очевидное преувеличение. Средний и низший слой татарских «дворян» был принят на московскую службу, но огромные массивы казанской земли перешли в русские руки. Летопись сообщает, что царские представители в Казани «царевы села и всех князей казанских розделили, и пахати учили на государя и на все русские люди и на новокрещены и на чювашу».
Колонизация шла несколькими путями. Во-первых, это создание «дворцовых сел», принадлежащих непосредственно царскому дому, – в 1678 г. на дворцовых землях уже насчитывалось 15 690 дворов, где проживало примерно 80 тыс. человек. Во-вторых, монастырская колонизация – в 1710 г. церкви принадлежало 14 784 двора (то есть немногим менее 80 тыс. человек); важно отметить, что монастыри набирали работников либо на Руси, либо среди самовольно и незаконно переселившихся русских крепостных и свободных людей, но никогда не привлекали к работе иноверцев. В-третьих, заселение края служилыми людьми с их крестьянами – к 1710 г. служилым людям принадлежало 62 535 дворов крепостных, или свыше 300 тыс. человек. В-четвертых, поток стихийных русских переселенцев – купцов и ремесленников, самочинно селившихся в городах в надежде разбогатеть, а также крестьян и бобылей, искавших лучшей доли. В 1565–1568 гг. в Казани имелось 765 русских торговцев и ремесленников, пришедших из Московского, Нижегородского, Полоцкого и других уездов. В 1646 г. их уже насчитывалось 4751, и они были выходцами из Москвы, Вятки, Костромы, Нижнего Новгорода, Свияжска, Ярославля, Устюга и т. д. Наконец, в-пятых, Казанская земля стала местом политической и уголовной ссылки.
Русским принадлежало большинство промыслов: «…если кожевенное и, отчасти, мыловаренное производство оставались в руках татар, то все другие отрасли промышленности были созданы Русским государством или русскими» (Б. Э. Ноль де). Особенно большой размах приобрели торговля зерном и рыболовство, последнее сосредоточилось в руках московских монастырей, в частности Троице-Сергиева и Патриаршего, имевших собственные флотилии на Волге.
Сама Казань – не в пример Риге или Варшаве – стала русским городом. Татары составляли меньшинство ее жителей и обитали в особой Татарской слободке (150 дворов), им даже запрещался вход в Казанский кремль. В конце XVI в. в городе насчитывалось всего 43 человека татар, чувашей и «новокрещенов». На месте мечетей и палат прежних казанских «царей» встали каменные и деревянные соборы и церкви. К кремлю примыкал обширный посад, улицы которого носили сплошь русские названия: Спасская, Воскресенская, Проломная и т. д. В пределах города строительство мечетей было запрещено. Посадское население составилось из переселенцев из русских городов, которые иногда обосновывались целыми улицами, две из них так и назывались: Псковская и Вологодская.
Как видим, «бенефициарами» казанского завоевания оказались все основные слои русского общества, перед нами эталонный образец национальной внешней политики.
Казанскую землю неоднократно сотрясали восстания татар и черемис. Одни из них были потоплены в крови, другие утихомиривались «мудрым смыслом» Москвы, но стратегия на русификацию края оставалась неизменной. Так, в 1584 г., простив покаявшихся мятежников, царь Федор Иванович, тем не менее «чая от них измены», повелел ставить города «во всей Черемиской земле», «насади их русскими людьми и тем… укрепил все царство Казанское».
Вопреки евразийским мифам, татарская аристократия (не только из Казани, но и из других золотоордынских «царств»), перешедшая на русскую службу, вовсе не заняла каких-то особо привилегированных мест. Для серьезного продвижения наверх нужно было сначала креститься, а это означало в то время безусловную русификацию. «„Новокрещены“ относительно быстро ассимилировались. Бывшие мурзы и старшины делались дворянами и детьми боярскими, сохраняя только в… фамильных прозвищах указание на свое происхождение…» (М. Н. Тихомиров). Всевозможные же украшенные пышными титулами Чингисиды, оставшиеся мусульманами, хотя и получали во владение русские земли, не становились их вотчинниками или помещиками, а лишь получали право собирать с них некоторые доходы. Никакой власти над русским населением они не имели.
В жалованной грамоте 1508 г. Василия III «царевичу» Абдул-Латифу на город Юрьев специально обговаривается запрет на насилие над жизнью и имуществом русских людей: «..Мне Абдылъ-Летифу и моимъ уланомъ и княземъ и казакомъ нашимъ, ходя по вашимъ землямъ, не имать и не грабить своею рукою ничего, ни надъ хрестьяниномъ ни надъ какимъ не учинити никаковы силы; а хто учинитъ надъ хрестьянскимъ богомолствомъ, надъ Божиею церковию, каково поругание, или надъ хрестьянствомъ надъ кемъ ни буди учинитъ какову силу, и мне за того за лихого не стояти, по той роте его выдати». Татары, нарушавшие это условие, подлежали бессудной казни на месте преступления: «А хто его надъ темъ насилствомъ убьетъ, въ томъ вины нетъ, того для мне роты не сложити… Кто почнетъ силою кормъ имати и подводы своею рукою, посолъ ли, не посолъ ли, а кто его надъ темъ убьетъ, в томъ вины нетъ».
Знаменитое Касимовское «царство» было разновидностью «кормления», находившегося под контролем московского воеводы. Занимая при московском дворе формально высокое положение, как представители знатных родов, «цари» и «царевичи» не играли никакой существенной политической роли, ни один из них никогда не входил в Думу, не возглавлял приказов, воеводств и т. д. На войне они были свадебными генералами под присмотром русских приставов. «Все они – марионетки, которых использовали в своих целях великие князья» (А. И. Филюшкин).
Третий Рим или новый Израиль?
Несомненно, Московское государство было русским государством, а не многонациональной «евразийской» империей. Многие наши историки начиная с Ключевского даже именуют его русским национальным государством. Современный английский исследователь Российской империи Д. Ливен считает, что в середине XVI в., «если Россия и не была национальным государством… она была ближе к этому, чем другие народы Европы того времени, не говоря уже обо всем остальном мире», ибо в ней наличествовало «единство династии, Церкви и народа». Но можно ли действительно говорить о русской нации применительно к данной эпохе? Для начала попробуем разобраться, а кем себя собственно русские тогда осознавали?
В первой четверти XVI столетия, одновременно со стремительным внешнеполитическим взлетом Московии, возникает целый пласт вдохновленной им словесности, обосновывающей величие и вселенскую миссию молодого и успешного государства. Во-первых, это различные вариации Сказания о князьях Владимирских. В них генеалогическое древо московских Рюриковичей возводилось к внуку Ноя – Месрему, чьим потомком был «первый царь Египта» Сеостр. От последнего линия через Александра Македонского ведет к римскому Августу, родич которого Прус стал балтийским владыкой. От него-то якобы и произошел основатель русской великокняжеской династии Рюрик. Но московские самодержцы, оказывается, не только могли похвастаться исключительно древней и благородной родословной, но и статусным равенством с византийскими императорами, признанным последними – Владимиру Мономаху его константинопольский дед будто бы послал в дар царские инсигнии, в том числе и пресловутую шапку Мономаха.
Подобные генеалогические басни были популярны в ту эпоху во многих монархиях. Например, род французских королей выводился из Трои, литовские Гедиминовичи считались потомками римлян. Но французское и польско-литовское фэнтези на порядок скромнее московского. А главное их отличие в интересующем нас контексте – там действуют не только монархи, но и народы.
В троянском мифе о происхождении франков, сложившемся уже в VII в., наряду с королевской династией, фигурируют и собственно этнические общности – франки и галлы. Характерно, что в XIV–XV вв. в противовес троянскому мифу сложился галльский, акцентирующий французскую автохтонность. Национальное самолюбие раздражало, что потомки троянцев – франки явились из Германии. Между сторонниками обеих версий генезиса французов шла настоящая литературная война. Пьер де Ронсар, приверженец «трояно-германизма», посвятил этой теме целую поэму «Франсиада» (1572). Его оппонент, врач кардинала де Гиза Жан Ле Бон приводил в пользу «галлизма» характерные для националистического дискурса лингвистические и исторические аргументы: французский язык ничем не обязан немецкому; связь с Троей не отразилась в памятниках, монументах, документах или легендах – следовательно, «франк, француз, Франция имеют собственные корни». Впрочем, троянскую родню терять было жаль, и в XVI столетии появляется ряд сочинений, доказывающих галльское происхождение троянцев. Галлы, потомки Иафета, с незапамятных времен жили в Галлии, и один из их вождей основал Трою, а после ее гибели часть троянцев вернулась на землю предков. То есть франки – те же галлы, при Хлодвиге счастливо воссоединившиеся с единоплеменниками.
Так или иначе, во всех этих увлекательных измышлениях четко виден народ, к которому принадлежат их авторы, – сложившийся ли в результате смешения троянцев (кем бы они ни были) с галлами, самобытно ли развившийся на галльской основе, – французы. Тот же Ронсар пишет, например, о том, что мифический король Фарамон, мудрый законодатель, «несколько умеряя яростность французов, смягчит свой народ законами». То есть ведущая роль монарха, конечно, подчеркнута (Ронсар был придворным поэтом), но субъектность французов очевидна.
Литовцы тоже описываются как особый народ в сочинениях польских авторов XV–XVI вв. Яна Длугоша, Матвея Меховского и Михаила Литвина, его римское происхождение подтверждается поистине удивительным сходством литовского и латинского языков. Последняя идея даже отразилась во вполне деловых литовских меморандумах о государственном языке, в которых призывалось учить в школах «подлинному литовскому языку – латыни».
Никакого русского народа в «Сказании о князьях Владимирских» нет, там речь идет исключительно об истории династии Рюриковичей.
Другая, широко сегодня известная ветвь (прото)националистической русской словесности – цикл текстов о Москве как о Третьем Риме. «…Вся христианская царства приидоша в конецъ и снидошася во едино царство нашего государя, по пророческимъ книгам то есть Ромеиское царство. Дав Рима падоша, а третии стоит, а четвертому не бытии», – отчеканил на века псковский инок Филофей. Перед нами обоснование религиозной миссии Московского царства – хранить истинную христианскую веру после вероотступничества латинян и взятия турками Константинополя, но опять-таки здесь нет ни слова о русском народе. Кстати, следует заметить, что «третьеримство» никогда не было московским официозом, единственный политический документ, где оно отразилось, – грамота об учреждении московского патриаршества (1589), и то в смягченной редакции насчет «второго Рима», дабы не обидеть восточных патриархов, давших добро на столь высокий статус Русской Церкви.
Еще один распространенный вариант представления о месте Руси в мировой истории – концепция «Русь – новый Израиль», или «Москва – новый Иерусалим». Архиепископ Ростовский Вассиан Рыло в послании к Ивану III, накануне Стояния на Угре, высказывает надежду, что великий князь освободит «новый Израиль, христианских людей, от сего новаго фараона, поганого Измаилова сына Ахмета, но нам и их поработит». Встречается данное словосочетание и в “Степенной книге“ (1560–1563), а количество текстов, где есть скрытые ссылки на этот мотив, необозримы. Похоже, что «новоизраильский» дискурс был более значим в московской культуре, чем «третьеримский». Начиная с 1547 г. образ Нового Израиля занимает свое место в чине венчания русских царей. В конце XVI в. Борис Годунов запланировал новое градоустройство Москвы по образцу Иерусалима. Но несмотря на то что ветхозаветные аллюзии должны бы способствовать формированию идеи богоизбранного народа, нет никаких указаний, что «Новый Израиль» – это русский народ, наследующий древним евреям. Подразумевается нечто иное: Москва наследует Израилю как «одно конфессиональное сообщество другому», то есть русские мыслятся «не как этническая, а сугубо религиозная группа» (М. В. Дмитриев).
В христианской Европе той эпохи религиозно-мессионистский дискурс был нормой. Например, в «Книге мучеников» Джона Фоукса (1563) утверждалось, что англичане – избранный народ, предназначенный восстановить религиозную истину и единство христианского мира. Б. де Пеньялос в «Пяти совершенствах испанца» (1629) заявлял: «От самого сотворения мира испанец поклонялся истинному Богу и средь рода человеческого был первым, кто воспринял веру Иисуса Христа…» Как видим, носитель религиозной миссии в обоих случаях – народ. В русском же (прото)национальном сознании Московского периода, как, впрочем, и Киевского, концепт русского народа начисто отсутствует.
Специалисты по московской литературе XVI в. констатируют, что словосочетание «русский народ» там не удалось обнаружить ни разу, хотя этнонимы «русские», «русские люди», «русские сыны» в источниках встречаются нередко. По данным, которыми мы располагаем, русские того времени воспринимали себя либо как подданных своего государя, либо как религиозную общность – «христианский» или «православный народ».
По мнению Г. П. Федотова, «несомненно, что в Московской Руси народ национальным сознанием обладал. Об этом свидетельствуют хотя бы его исторические песни. Он ясно ощущает и тело русской земли, и ее врагов. Ее исторические судьбы, слившиеся для него с религиозным призванием, были ясны и понятны». Но из этого следует только то, что русские ощущали Московское государство своим, но никак не то, что они видели себя как горизонтальную этнополитическую общность. Любопытно, что буквальный перевод с немецкой латыни термина «Священная Римская империя Германской нации» на московский русский в делопроизводстве XVI в. звучит так: «Реша немецкая римского царствия» (К. Ю. Ерусалимский).
Однако при отсутствии «положительного» этнического сознания «отрицательное» было вполне развито. Русские величают «иноплеменниками» не только воюющих с ними мусульман, но и еще не успевших ассимилироваться крещеных татар, состоящих на московской службе. Например, когда Грозный, учиняя новый поворот своего политического карнавала, провозгласил великим князем вся Руси касимовского «царевича» Симеона Бекбулатовича, возмущенные бояре говорили ему: «Не подобает, государь, тебе мимо своих чад иноплеменника на государство поставляти». А Василию II благоволение к татарам, выехавшим ему служить из Орды, и вовсе стоило зрения и (временно) престола. Да и православных греков русские отличали от собственного религиозного сообщества, судя по жалобам на греческое засилье при дворе из-за пришлого окружения Софьи Палеолог: «…как пришли сюда грекове, ино и земля наша замешалася…» – говорил приватно боярин Берсень Беклимешев Максиму Греку. В 1639 г. православный представитель княжеского рода северокавказского происхождения Иван Черкасский возбудил судебное дело, оскорбленный толками о своем «иноземстве». То есть какие-то самые элементарные этнические константы русским чужды не были, и речь идет не об отсутствии этнического самосознания, а о его неразвитости.
Почему так сложилось? Много и верно писалось о религиозно-государственном одиночестве Руси (единственное независимое православное государство), что порождало растворение народного в конфессиональном; о незнакомстве русских книжников с латинской литературой, где народы как субъекты истории описаны еще в дохристианскую эру. Вероятно, сказалось и отмеченное рядом исследователей отсутствие в русской культуре того времени интереса к абстрактному осмыслению общества – последнее воспринималось как «множественность, но не как единство», не было даже «общей терминологии для общества как целостности» (Нэнси Ш. Коллман). Но дело, разумеется, не только в «сознании», но и в «бытии». Для этнополитического дискурса о народе в Московском государстве не было социально-политических оснований. «Народ» в ту эпоху – это прежде всего корпорация землевладельческой аристократии, связанная общими горизонтальными интересами, возглавляющая местные сообщества и имеющая от монарха гарантированные права и вольности. Ничего подобного в Московии с ее стягиванием социальных верхов к центру, упорным и последовательным дроблением бывших самостоятельных земель, с ее кампаниями по переселению аристократии с места на место, с ее правовой неустойчивостью сложиться не могло. Показательно, что в западнорусских землях, оказавшихся в составе Литвы, дискурс о народе успешно сформировался.
Другая Русь
Была ли альтернатива Москве? Возможно ли было собирание русских земель по другому, более «демократическому» сценарию? Если искать последний в Северо-Восточной Руси, похоже, нет. Тверь была очень серьезным конкурентом Москве, но вряд ли альтернативой. И дело не только в том, что трагические смерти трех выдающихся тверских князей в течение всего двадцати лет и монгольский погром 1328 г. подорвали ее потенциал. Нет никаких оснований полагать, что принцип княжеской власти там сильно отличался от московского. Напротив, именно Михаил Ярославич Тверской был, видимо, первым из русских князей, принявшим еще в начале XIV в. титул «великого князя всея Руси». Повесть о Михаиле Тверском, вышедшая из его ближайшего окружения, проникнута пафосом княжеского единовластия. Ее автор, «резко осуждая борьбу младших князей против старших, вассалов против сюзерена… ратовал за подчинение русских князей и бояр великому князю Владимирскому, каковым он признавал только Михаила Тверского», более того, «тверской князь сравнивался с византийским императором и косвенно сам назывался царем» (В. А. Кучкин). Что-то это напоминает, не правда ли? Да и татарской помощью, пока он был великим князем, Михаил не брезговал пользоваться против москвичей, так же как и москвичи против него.
В этом нет ничего удивительного: условия, в которых «мутировала» княжеская власть, были одинаковы по всему Северу-Востоку. Резкое усиление княжеской власти наблюдается и в других могущественных землях – Рязанской и Нижегородско-Суздальской. Москве просто больше повезло, и она сумела подмять под себя соперников-двойников.
А. А. Зимин в книге «Витязь на распутье» высказал версию о том, что альтернативой могли бы стать галицкие князья – младший сын Дмитрия Донского Юрий и сын последнего Дмитрий Шемяка, опиравшиеся в борьбе с Василием II Темным на промышленные и торговые северные земли. Но эта идея мне представляется чересчур умозрительной. Слишком недолго находились «галичане» у власти, чтобы судить об их социально-политической стратегии.
Что же касается северных и северо-восточных республик, находившихся «на отшибе», то они никогда не претендовали на роль объединителей Руси, даже Новгород, не говоря уже о Пскове или Вятке. Их, вероятно, вполне бы устроила роль автономий в едином государстве при лидерстве любого из «низовских» княжеств.
Единственной реальной альтернативой Москве было Великое княжество Литовское, которое действительно предлагало совершенно иной принцип русского единства, пусть и вокруг нерусского центра. ВКЛ представляло собой не централистское государство, а федерацию (Г. В. Вернадский полагал даже, что конфедерацию) земель, преимущественно русских, объединенных властью (с 1529 г. конституционно ограниченной) великого князя, но имевших внутреннюю автономию. Последняя гарантировалась юридическими актами. Русские земли в составе Литвы – Полоцкая, Витебская, Смоленская, Киевская, Волынская, Подляшье – получили каждая специальный великокняжеский «привилей» с набором нерушимых прав: сохранялись их прежние границы, закреплялось право «держать волости и городки» только за местной аристократией, великий князь обязывался безвинно не отнимать ни у кого имений и не вызывать никого на суд за пределы земли; военнослужащие землевладельцы каждой области составляли особые ополчения со своими особыми полками под руководством местных воевод и т. д. Среди прочего, важно отметить обещание не принуждать местных жителей к переселению в какой-либо другой регион страны.
Сам литовский монарх имел титул великого князя Литовского, Жмудского и Русского. Некоторые классики русской историографии (М. К. Любавский, А. Е. Пресняков) предпочитали говорить о Литовско-Русском государстве. Во втором Литовском статуте 1566 г. постановлялось, что великий князь должен назначать на административные должности только коренных литовцев и русских и не имеет права доверять высокие посты иностранцам. Западнорусский язык оставался официальным языком ВКЛ внутри княжества вплоть до конца XVII в., литовские законы были написаны по-русски. На русском языке всегда велись и переговоры между Литвой и Москвой. Первый русский печатный двор был основан в Вильно в 1525 г., почти за три десятилетия до того, как книгопечатание началось в Москве. Именно в Литве нашел пристанище уехавший из Москвы первопечатник Иван Федоров, где он продолжал издавать книги на русском языке. «Первый русский эмигрант» князь Андрей Курбский, ставший литовским магнатом, писал и публиковал православные апологетические сочинения, в которых, по мнению многих исследователей, впервые появляется понятие «Святая Русь».
Несмотря на принятие в 1385 г. литовскими князьями католичества, православие не стало в ВКЛ дискриминируемой религией. Точнее, в конце XIV – начале XV в. была предпринята попытка сделать его таковой, но из-за жесткого сопротивления православной шляхты она провалилась, и в дальнейшем политика Литвы в отношении православия «отличалась широкой и последовательной терпимостью» (М. В. Дмитриев). Достаточно сказать, что в столице княжества – Вильно в середине XVI в. имелось 14 католических и 15 (!) православных церквей. Единственное серьезное ограничение прав православных до Брестской унии 1596 г. – запрет заседать в высшем государственном органе страны – раде (совете) великого князя.
После объединения по Люблинской унии 1569 г. Литвы с Польшей в одно государство – Речь Посполитую – положение русского населения первоначально не ухудшилось. Варшавская конфедерация 1573 г. провозгласила в стране полную веротерпимость. Русская аристократия получила те же обширные права, что и польская шляхта; на города распространилось самоуправление по Магдебургскому праву. Права эти, однако, не стали достоянием крестьян, которые в Литве уже с середины XVI в. (а в Польше и того раньше) были в большинстве своем крепостными.
Статус «политического» народа, возглавляемого своей землевладельческой аристократией, и сильное влияние польской культуры, где этнополитический дискурс был вполне разработан уже в XII в., порождали соответствующее самосознание и у русских. «Десятки разнообразных источников XV–XVI вв. свидетельствуют о том, что восточные славяне в границах держав Ягеллонов, а затем Речи Посполитой считали себя единой этнической общностью – «рус ским» народом, называли себя «русскими» или «русинами», а свой язык «русской мовой» (Б. Н. Флоря). Большое значение для укрепления русской идентичности в Западной Руси имело также то, что последняя долгое время, до 1458 г., находилась под церковной юрисдикцией единой Русской митрополии с центром сначала в Киеве, а потом во Владимире и Москве.
Во второй половине XIV – первой трети XV в. Литва энергично спорила с Москвой «о праве господствовать над всей Русью» (Н. Г. Устрялов) и явно лидировала в этом противоборстве. Князь Ольгерд дважды – в 1368 и 1370 гг. – пытался штурмовать кремлевские стены. При князе Витовте, тесте Василия I, Москва надолго оказалась в серьезной политической зависимости от Литвы. Витовт присоединяет Смоленск, вторгается в рязанские пределы, заставляет тверского и рязанского князей признать свой сюзеренитет, претендует на Новгород и Псков, а его московский зять этому не только не препятствует, а, скорее, потворствует. Несмотря на ряд конфликтов между ними, Василий Дмитриевич в своей духовной грамоте 1423 г. (за два года до смерти) «приказал» «сына своего князя Василья и княгиню и свои дети своему брату и тестю, великому князю Витовту». Василий Васильевич, в свою очередь, в первые годы своего правления был вполне послушен деду и в 1428 г. во время похода Витовта на Новгород принес ему крестное целование, что не будет «помогати по Новегороде, ни по Пскове». Только смерть Витовта в 1430 г. избавила Москву от литовской опеки. В 1449 г. был достигнут некий паритет – стороны подписали договор о дружбе и ненападении, разделивший их сферы влияния: Тверь осталась в литовской, Рязань – в московской.
Роли окончательно изменились с конца XV в., теперь уже Москва стала наступательной стороной, отбирающей у Литвы одну за другой русские области. Московские государи обосновывали эти захваты тем, что «вся Русская земля, Киев, и Смоленск, и иные города, которые литовский великий князь… за собой держит… с Божьей волею, из старины, от наших прародителей наша отчина». Это, конечно, не соответствовало действительности – западнорусские земли никогда не были вотчинами московских Рюриковичей. Но иных аргументов последние предъявить не могли, лозунгов о воссоединении «разделенного русского народа» в их арсенале просто не было. Кстати, сами «разделенные» к воссоединению с единоплеменниками относились не слишком-то восторженно.
М. М. Кром убедительно показал, что добровольно под власть Москвы перешла лишь часть «украинных» князей – владельцев уделов и вотчин на русско-литовском пограничье; другую часть, скажем, князей Вяземских, Мезецких и Мосальских, пришлось к этому принуждать. Большинство русской аристократии ВКЛ оказалось лояльным своему государству, промосковский мятеж Михаила Глинского 1508 г. не вызвал массовой поддержки. Что же касается городов, то их позиции разделились следующим образом. «Украинные» удельные городки, в сущности, были лишь пассивными объектами в ходе московско-литовской борьбы. Крупные частновладельческие города (Мстиславль, Слуцк, Пинск и др.) по мере сил защищались от москвичей, сдаваясь только их явно превосходящим силам, а потом снова переходили на литовскую сторону. Города же, получившие от Вильно «привилеи» (Полоцк, Витебск, Минск, Смоленск), однозначно были за Литву и сопротивлялись до последней возможности. Из них был захвачен только Смоленск. Но его пытались брать три раза.
В 1512 г. Василий III простоял под городом шесть недель, однако все его приступы были отбиты. В 1513 г. осада длилась четыре недели, смоляне съели всех лошадей, но не сдались. И лишь в 1514 г., после многодневного ураганного артобстрела то ли из 140, то ли из 300 орудий, Смоленск капитулировал на почетных условиях, получив от великого князя жалованную грамоту с подтверждением его «привилея», очень скоро, как мы знаем, растоптанную.
Нетрудно понять, почему русские ВКЛ не стремились в Московское государство. Тамошние порядки для аристократии и горожан казались несравненно тяжелее литовских. Несмотря на то что у «русских» Литвы и «московитов» общая религия и язык, говорилось в записке, поданной великому князю Литовскому Сигизмунду I в 1514 г., «жестокая тирания» московских князей отвращает «русских» от перехода под их власть. О «тиранской власти» мос ковских князей, в государстве которых богатство и общественное поло жение человека зависит от воли правителя, писал как о препятствии для соединения восточных славян придворный хронист Сигизмунда I Иост Людвиг Деций. В других источниках встречаются сравнения Московии с Турцией, ибо «в государстве Московском, как и в земле турок, людей перебрасывают с места на место».
Даже в сочинениях православных авторов обнаруживается представление о «русских» и «московитах» как двух разных народах. Например, у Ивана Вишенского: «Кождыи отменным своим голосом зовомыи язык, а меновите греци, арапи, северани, серби, болгаре, словяне, Москва и наша Русь». То есть «Москва» как особый «язык» – народ определенно отделена от «нашей Руси».
Положение русских в Речи Посполитой резко ухудшилось после церковной Брестской унии 1596 г. с Римом. На нее православный епископат, как показывают новейшие исследования М. В. Дмитриева и Б. Н. Флори, пошел вовсе не под давлением королевской власти и католической церкви, а по собственной воле. Он надеялся, уравняв права православной и католической церквей и создав своего рода «православную автономию» в рамках католичества, упрочить собственное зыбкое положение, сильно зависящее от воли весьма влиятельных в западнорусской церковной жизни мирян. Иерархи-унионисты не слишком хорошо представляли последствия этого шага. Между тем он стал роковым. Католицизм, разумеется, никаких «схизматических» автономий не предполагает. Соответствующие права получил только епископат, а не православное общество в целом, значительная часть которого активно выступила против унии. Вмешательство в конфликт на стороне епископата королевской власти было воспринято православными как посягательство на гарантированное «русскому народу» право исповедовать свою религию. Таким образом, конфликт стал не только религиозным, но и политическим и национальным.
Вот, скажем, показательный пример, какое сочетание русского этнического дискурса с конфессиональным порождал этот конфликт в Западной Руси (в польской ее части). Львовское православное братство в середине 1590-х гг. протестует против ущемления прав православных католиками и обращается с просьбой о поддержке к «князем, паном и всем православным христианом… грецкие веры народу нашему русскому». Данное ущемление трактуется как состояние «неволи» и «неславы народу нашему великоименитому русскому». В это состояние русский народ хочет поставить другой народ – польский: «завест давная отновилас в народе полском ту во Лвове напротивко народе русском».
Именно в ходе религиозно-политической борьбы вокруг унии впервые в русской мысли национальное стало отделяться от конфессионального: в униатской литературе доказывалось, что «русин», принявший унию, не перестает быть «русином».
Брестская уния поставила точку в возможностях Литвы стать собирательницей русских земель. Впрочем, такой исход был во многом предопределен предшествующей цепью событий. Присоединить к себе русский Северо-Восток и Север ВКЛ смогло бы лишь после полного подчинения или разгрома Москвы. А со смертью Витовта и вследствие внутренних неурядиц активная наступательная литовская политика на Восток прекратилась, литовцы даже не оказали обещанную помощь Новгороду во время походов на него Ивана III в 1471, 1475 и 1478 гг. Окрепшая централистская Москва оказалась как военный организм куда эффективнее рыхлой федералистской Литвы. Последняя, отступая под московским натиском, была вынуждена пойти на объединение с Польшей, на которую Ватикан в конце XVI в. распространил свои контрреформационные практики борьбы за чистоту веры, что в следующем столетии дорого обойдется Речи Посполитой.
Трудно сказать, как бы сложилась русская история, осуществись литовская альтернатива. Слабость центральных правительственных органов в ВКЛ – серьезный аргумент в пользу того, что оно вполне бы могло распасться, и тогда внешняя безопасность и независимость русских земель, в него входивших, от разного рода евразийских братьев оказалась бы под вопросом. Москва, по крайней мере, и то и другое в целом сумела обеспечить. Кстати, нельзя не признать, что киевская модель «русской федерации» была неспособна ответить на монгольский вызов. Но, с другой стороны, из этого не следует, что только принцип Москвы мог гарантировать Руси могущество и единство. Невозможно доказать, что для успешной борьбы с уже изрядно одряхлевшей и раздробленной Ордой и ее наследниками было необходимо полное уничтожение элементов местной автономии, варварское перебрасывание тысяч людей с места на место и ничем не ограниченный властный произвол. Теоретически вполне можно себе представить единое Русское государство, более централистское, чем ВКЛ (и тем более чем КР), но и более правовое и федералистское, чем Московия. Однако на практике такой вариант не просматривается.
Договариваться или диктовать?
Впрочем, говоря об альтернативах Москве, необходимо указать и еще одну – московскую. Во всяком случае, можно совершенно определенно говорить о ее зародыше в 50-х гг. XVI в.
В малолетство Ивана IV самодержавная власть естественным образом ослабла, что по большому счету не сказалось на поступательном развитии страны, но отсутствие верховного арбитра дестабилизировало обстановку внутри господствующего слоя, который стали раздирать склоки боярских кланов. Кроме того, практика «кормлений» явно доказала свою неэффективность – наместники не только безбожно обирали своих подопечных, но и оказались не в состоянии справиться с разгулом преступности, что вызывало бурное возмущение низов. Необходима была какая-то новая политика, которая смогла бы гармонизировать отношения между сословиями и внутри правящего класса. Такой политикой и стали так называемые реформы Избранной рады, проводимые под негласным руководством выдающегося государственного деятеля Алексея Федоровича Адашева. Его поддерживал священник Благовещенского собора Сильвестр, под чьим духовным влиянием тогда находился молодой царь. Последний в то время и был скорее неким символическим верховным арбитром, необходимым для консолидации верхов, нежели реально определяющим политическую стратегию правителем.
Именно в этот период Боярская дума приобретает черты политического института. Ее состав резко расширяется: от 15 бояр и 3 окольничих в 1547 г. до 32 бояр и 9 окольничих к 1549/50 г., причем за счет боярских родов, ранее не допускавшихся во властные структуры. Но самое главное, в Судебнике 1550 г. появляется статья 98, «уникальная в русском законодательстве» (А. Г. Кузьмин). В соответствии с ней, «которые будут дела новые, а в сем Судебнике не написаны, и как те дела с государева доклада и со всех бояр приговору вершатца, и те дела в сем Судебнике приписывати». Перед нами очевидное юридически зафиксированное ограничение самодержавия: новые законы могли теперь быть приняты только с санкции Думы.
К управлению государством были привлечены и другие слои населения – духовенство, поместное дворянство и верхушка посада. С 1549 г. начали собираться с участием их представителей Земские соборы. Правда, законодательных функций последние не имели, а делегатов на них не избирали. Будучи по своим задачам вроде бы аналогичными сословно-представительным учреждениям Западной Европы (парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции, кортесы в Испании и т. д.), соборы существенно от них отличались объемом своих полномочий: «Если мы сравним их даже с французскими Генеральными штатами, которые из западноевропейских учреждений имели наименьшую силу, то они покажутся нам крайне скудными и бесцветными. За исключением тех случаев, когда земля, по пресечении династии Рюрика, призывалась к выбору новых государей, на Земских соборах нет и помина о политических правах. Еще менее допускается их вмешательство в государственное управление, на что западные чины постоянно заявляли притязание. Характер Земских соборов остается чисто совещательным. Они созываются правительством, когда оно нуждается в совете по известному делу. Мы не видим на них ни инструкций, данных представителям от избирателей, ни того обширного изложения общественных нужд, ни той законодательной деятельности, которою отличаются даже французские Генеральные штаты. Мы не встречаем следов общих прений; часто нет даже никакого постановления, а подаются только отдельные мнения различных чинов по заданным правительством вопросам» (Б. Н. Чичерин). Тем не менее при определенных обстоятельствах соборы могли бы эволюционировать во что-то большее.
Наконец, в 1555–1556 гг. завершилась реформа местного самоуправления, намеченная еще в конце 1530-х. «Кормления» были по большей части отменены. Борьбой с преступностью, судом и сбором налогов стали теперь заниматься выборные местные люди. В тех уездах, где преобладало поместное землевладение, это были губные старосты и городовые приказчики, выбираемые «всей землей» из числа помещиков и вотчинников. В черносошных областях избирались земские старосты (головы) из крестьян.
Впрочем, черные волости обладали элементами самоуправления задолго до преобразований 1530—1550-х гг. Об этом свидетельствует Белозерская уставная грамота Ивана III (1488), узаконивавшая участие мирских выборных в суде: «А наместником нашим и их тиуном безстосков[о] и без добрых людей и не судити суд». Постановление об участии мирских выборных в суде наместника вошло в Судебник 1497 г. (ст. 38), став общепринятой нормой: «А бояром или детем боярским, за которыми кормления с судом с боярским, имут судити, а на суде у них были дворьскому и старосте, и лучшимь людем. А без дворского и без старосты и без лутчих людей суда не судити». Эта статья будет повторена уставными грамотами первой половины XVI в. и подтверждена и расширена в Судебнике 1550 г., добавлявшего, например: «А где дворсково нет и преж сего не бывал, ино бытии в суде у наместников и у их тиунов старосте и целовальников; а без старост и целовальников суда не судити» (ст. 62). По Судебнику, дворский староста и целовальники должны подписывать судные дела, хранить копии судебного приговора, скрепленные печатью наместника и подписью дьяка. Воспроизвел это положение позднее и Судебник 1589 г., где определялось решающее слово выборных людей в подтверждении истинности судебного решения: «А скажет целовальник и судные мужи, что суд не таком был, и руки, скажут, не их у писма, и по тому судному исцев иск взятии на судье, а в пене, что государь укажет» (ст. 123).
Проведение земской реформы лучше всего можно проследить на Севере, где черносошное землевладение сохранилось гораздо дольше, чем в Центре. В 1530—1540-х гг. на Двине наместники, видимо, вовсе отсутствовали, и управлялось Подвинье выборными – сотскими и головами, среди коих мы видим уже упоминавшегося в этой главе богача Василия Бачурина. Определенно можно сказать, что здесь инициатива реформы шла не только сверху, но и снизу. Теперь волостной мир должен был участвовать в выборе голов (старост), земских судей всех ступеней (волостных, становых, всеуездных). Компетенция земских учреждений была весьма широкой: наблюдать за промыслами, торговлей, вершить суд по всем делам. Высокое общественное положение выборных очевидно из шкалы бесчестья Судебника 1589 г.: земским судьям, судейским целовальникам, церковным и губным старостам устанавливалось по 5 руб. бесчестья, то есть в 5 раз выше, чем пашенному крестьянину, двухрублевое бесчестье полагалось сотскому.
Высшим органом волостного самоуправления был сход. Он не являлся собранием всех волощан, как правило, на нем присутствовало не более их половины, а чаще всего одна пятая или даже одна шестая. Главное место там занимали богатые крестьяне – члены их семей из года в год, из десятилетия в десятилетие всегда присутствовали на сходах. Как показал Н. Е. Носов, большинство «земских голов», избранных в результате реформы, чью генеалогию удалось проследить, принадлежали к хозяйственно-социальной элите волостных миров.
Одновременно с развитием местного самоуправления формировались и центральные правительственные органы – приказы (Посольский, Поместный, Разбойный и т. д.).
Все вышеперечисленное дает весомые основания для того, чтоб оценить реформы 1550-х гг. как реальную альтернативу принципу Москвы или хотя бы как его серьезную корректировку. Очень хорошо описывает суть альтернативы 1550-х Б. Н. Флоря: «Если до этого времени Русское государство было патримониальной (вотчинной) монархией, при которой государство рассматривалось как родовая собственность (вотчина) государя, а власть находилась в руках тех лиц, которым передавал ее государь, то в 50-е годы XVI века был сделан важный шаг на пути к созданию в России сословного общества и сословной монархии. В таком обществе сословия представляли собой большие общности людей, не просто отличавшиеся друг от друга родом занятий и социальным положением, но обладавшие своей внутренней организацией и своими органами самоуправления. В их руки постепенно переходила значительная часть функций органов государственной власти на местах. Такими сословиями монархия уже не могла управлять так, как она управляла многочисленными социальными группами, на которые делилось общество до образования сословий. Она уже не могла им диктовать, а должна была с ними договариваться (курсив мой. – С. С.)… В 50-х годах XVI века были заложены определенные предпосылки для развития России по этому пути».
Кстати, цитированный выше Д. Ливен, когда утверждал, что Россия была ближе других европейских стран к национальному государству, имел в виду именно эпоху 1550-х гг. Заметим, между прочим, что ограничение самодержавия в период Избранной рады нимало не подорвало боеспособность московского войска, напротив, это время его блестящих успехов – взятия Казани и Астрахани, удачных операций против Крыма, первых побед в Ливонской войне.
Поздний летописец с ностальгией вспоминал времена Алексея Адашева: «А когда он [Адашев] был во времяни, и в те поры Руская земля была в великой тишине и во благоденствии и в управе…» На опыте Избранной рады основывалась политическая концепция Курбского о том, что царь должен искать доброго совета «не токмо у советников, но и у всенародных человек».
Но альтернатива сорвалась. Сорвалась, в общем-то, из-за случайности, но очень важной – «случайности рождения» (Ключевский) самодержца. Психическая неуравновешенность Ивана IV отмечалась многими источниками и ретроспективно диагностировалась во второй половине XIX в. историком медицины Я. А. Чистовичем и известным психиатром П. И. Ковалевским. На некоторое время утихомиренная удачным первым браком и влиянием умных советников, она вырвалась в начале 60-х из-под какого-либо контроля и породила страшную катастрофу «бессмысленной и беспощадной» опричнины, проигранной Ливонской войны и сожженной крымчаками Москвы. Я не хочу сводить все особенности политики Ивана после 1560 г. к его психическому состоянию, понятно, что тут сказалось отмеченное выше противоречие между деспотической природой самодержавия и его аристократическим правительственным аппаратом, но то, какими методами это противоречие решал Грозный, обусловлено, конечно, его патологией. «Договариваться» он ни с кем не хотел, только беспрекословно «диктовать»! В жертву своему больному властолюбию он принес лучших полководцев (Горбатый, Воротынский), лучших управленцев (Адашев, Висковатый), лучших церковных иерархов (митрополит Филипп), тысячи русских людей, целый разгромленный город Новгород, где в 1570 г. было уничтожено более 90 % жилых дворов.
Кстати, широко распространенное мнение о том, что в годы опричнины было убито «всего лишь» около 4 тыс. человек, основано на некотором недоразумении. Эта цифра соответствует количеству убиенных, внесенных в Синодик Ивана Грозного. Но там указаны только смерти, задокументированные самими опричниками для отчетности перед царем. При уровне делопроизводства и статистики русского XVI в. точность таких подсчетов относительно тех простых, безвестных людей из низов, о коих в Синодике говорится «ты, Господи, сам веси имена их» (особенно при массовых погромах Твери и Новгорода), весьма сомнительна. А основные потери понесли именно они. С. Б. Веселовский подсчитал, что даже по Синодику соотношение жертв опричного террора следующее: «…на одного боярина или дворянина приходилось три-четыре рядовых служилых землевладельца, а на одного представителя класса привилегированных служилых землевладельцев приходился десяток лиц из низших слоев населения». Не говорю уже о погибших в результате самочинных действий опричников – их, естественно, никак документально не фиксировали. Так что правильно говорить: было убито не менее 4 тыс., а сколько на самом деле – мы никогда не узнаем, это, действительно, только одному Богу известно…
Опричнина в союзе с голодом, эпидемиями и постоянно растущим из-за нескончаемой войны налоговым бременем обезлюдила целые русские области. «…Бысть запустение велие Руской земли», – свидетельствует летописец. Например, в Новгородской земле население Деревской и Шелонской пятин в 1582/83 г. составляло только 9—10 % от количества людей, обитавших там в начале века. В самом Новгороде к 1581/82 г. жило всего 20 % населения доопричного времени. О том, как происходило это обезлюденье, рассказывает, например, перепись 1571 г. запустевших дворов черносошных крестьян Кирьяжского погоста Вотской пятины: «В деревни в Кюлакши лук [крестьянский участок, обложенный налогами] пуст Игнатка Лутьянова, – Игнатко запустил 78-го [то есть двор стал пустым в 7078/1570 г.] от опритчины, – опритчина живот [имущество] пограбели, а скотину засекли, а сам умер, дети безвестно збежали; хоромешек избенцо да клетишко… В тои ж деревне лук пуст Мелентека Игнатова, – Мелентеко запустил 78-го от опричины, – опричиныи живот пограбели, скотину засекли, сам безвесно збежал… В деревни в Пироли лук пуст Ивашка пришлого, – Ивашка опричные замучили, а скотину его присекли, а животы пограбили, а дети его збежали от царского тягла; запустил 78-го. В тои ж деревни лук пуст Матфика Пахомова, – Матфика опричные убели, а скотину присекли, живот пограбели, а дети его збежали безвесно; запустил 78-го. В тои ж деревни лук пуст Фетька Кирелова, – Фетька опричные замучили и двор сожгли и з скотиною и з животами; запустил 78-го; отроду не осталось… В деревни в Евгии пол лука пуста Василья Ондреянова, – Василья немце убили, и з детьми, а жена с голоду мертва; запустил 79-го. В тои ж деревни лук пуст без четверти Михалки Кузьмина Каякина, – Михалка умер, детей опричина замучила, и животы пограбили, жена безвесно збежала; запустил 79-го; а дворишка стоят…» и т. д.
Чтобы задерживать разбегающихся крестьян (а их уход лишал поместное войско материальной обеспеченности), были временно запрещены переходы в Юрьев день – так начиналось крепостное право.
Выселяемым из опричных областей вотчинникам предоставляли в поместья и вотчины земли в других местах, как правило, это были черносошные земли. Опричникам их, впрочем, тоже раздавали. В результате черное землевладение в Центре вообще исчезло. Соответственно, в раздробленных мелкими поместными «дачами» волостях исчезло и местное земское самоуправление, сохранившись лишь на Севере. А губное – было подмято под себя Разбойным приказом и получило характер его уездных отделений. Скажем, грамота от 27 марта 1566 г. в Белозерский уезд предписывала губным старостам ехать в некое село и выслать оттуда всех там живущих, дабы отдать это село игумену Кириллу, который из-за него имел тяжбу с каким-то помещиком. Или другой пример: губные старосты выколачивают из крестьян оброк помещику Арслан Алей Кайбулину. «Губные власти… становились исполнителем воли власти центральной, московской, ее инструментом в провинции, без оглядки на какие бы то ни было местные условности» (В. В. Бовыкин). С 1570-х гг. видна тенденция к сворачиванию городского самоуправления, все чаще заменяемого властью воевод.
Ну и наконец, внешняя политика Ивана 1560—1580-х гг. растратила совершенно впустую огромные людские и материальные ресурсы, накопленные его предшественниками. Вместо того чтобы вести постепенное, последовательное наступление на главного в ту пору национального врага Руси – татарский Крым, набеги откуда приводили к гибели и пленению тысяч русских людей, он ввязался в большую европейскую войну из-за Ливонии, получив вместо слабого Ливонского ордена сразу несколько сильных противников – Литву, Польшу и Швецию. (Судя по всему, Адашев и его сторонники выступали против войны на два фронта, и это стало причиной их опалы.) В итоге страна лишилась ряда своих северных территорий – Корелы, Ивангорода, Яма, Копорья; только благодаря исключительному героизму псковичей не был потерян Псков. А крымчаки, воспользовавшись тем, что основные русские силы были отвлечены на Запад, в 1571 г. сожгли Москву – такого не происходило со времен Тохтамыша. По меткому замечанию Н. В. Кленова, не стоит в оправдание опричнины Грозного «вспоминать про Елизавету Английскую с ее списком казненных», равно как и Генриха VIII: у них «Лондон и Йорк враги не спалили».
С. Б. Веселовский жестко, но справедливо резюмирует: «…царь Иван, освободившийся в опричнине от… советов своих думцев и взявший в свои руки бразды правления, оказался плохим политиком, довел страну до запустения и в конце концов проиграл… войну, потребовавшую от всех слоев населения огромных жертв».
Кстати, как показал А. И. Филюшкин, ни за какой выход к морю в этой войне Иван не боролся. Во-первых, этот выход у «Московии» уже был – она контролировала все южное побережье Финского залива от Ивангорода до Невы. Во-вторых, ни в одном русском тексте XVI в. невозможно найти свидетельства, что Иван Грозный или русские политики его времени желали прорыва России к Балтийскому морю. Среди прочих негативных итогов этой войны – именно в связи с ней международная репутация России окончательно испортилась, в Европе сформировался ее образ как жестокого и коварного агрессора.
При этом сам Грозный в своем царстве европейцев весьма даже привечал, нередко за русский счет. Конспирологам, всюду в русской истории видящим британский след, стоило бы присмотреться к этому монарху, давшему англичанам монополию на торговлю в России, хотевшему жениться на родственнице Елизаветы I и даже просившему у последней политического убежища. Степень проанглийских симпатий Ивана Васильевича, видимо, была настолько велика и так сильно раздражала «московитов», что после его смерти дьяк Андрей Щелкалов со злорадством сообщил английскому послу Джерому Боусу: «Английский царь умер». Одним из первых действий правительства Федора Ивановича стало ограничение торговых льгот английских купцов.
Иван дозволил лютеранам завести в Москве свою кирху, опекал ее (взыскивая с митрополита за некую причиненную ей обиду), хвалил немецкие обычаи, публично подчеркивал свои якобы «немецкие корни»: «…сам я немецкого происхождения и саксонской крови». Среди опричников было много иностранцев (Э. Крузе, И. Таубе, Г. Штаден и др.), которым Грозный предоставлял особые льготы. Об этом, например, пишет Штаден: «Раньше некоторым иноземцам великий князь нередко выдавал грамоты в том, что они имеют право не являться в суд по искам русских, хотя бы те и обвиняли их, кроме двух сроков в году: дня Рождества Христова и Петра и Павла… Иноземец же имел право хоть каждый день жаловаться на русских».
С другой стороны, Иван долго благоволил черкесским родственникам своей второй жены Марии Темрюковны, современники даже приписывали идею опричнины именно ей. Некоторые сохранившиеся документы 1560–1570 гг. свидетельствуют о значительном числе татар в составе поместного дворянства – скажем, по писцовым книгам Коломенского уезда середины 70-х их насчитывается 105 из трехсот тамошних помещиков.
Среди московских самодержцев Грозный первый столь демонстративно проявлял пренебрежение русскими и симпатии к иноземцам, что было замечено и его подданными, дьяк Иван Тимофеев писал в своем «Временнике»: «…вся внутренняя его [царя Ивана] в руку варвар быша…» Но это не удивительно – тираническая власть всегда опирается на «чужаков», не имеющих связей с угнетаемым народом. Поразительно, но сегодня находится немалое число борзописцев, восхваляющих этого одного из самых вредоносных правителей России как образцового государственного мужа и призывающих причислить его к лику святых.
Повторяю, Иван Грозный – случайность, но, с другой стороны, случайность показательная. Насколько же слабы были институты Московской Руси, насколько слабы были социальные группы, деятельность этих институтов обеспечивающие, если больная воля одного человека, пусть и монарха, могла сделать вектор русской истории предметом своей злой игры.
Передышка между двух катастроф
После смерти тирана страна, которую тот оставил «в состоянии почти полного разорения» (А. А. Зимин), стала потихоньку выздоравливать, во многом вернувшись к доопричным порядкам. Московские люди «начаша от скорби бывшия утешатися и тихо и безмятежно жити». Прекратились кровавые расправы. Организация Государева двора и Думы при Федоре Ивановиче стала напоминать времена Избранной рады – к участию в правительственной деятельности вернулись многие отстраненные при Грозном боярские роды. Даже после воцарения Годунова, старавшегося увеличить в Думе количество своих родственников, она сохранила характер учреждения, поддерживающего внутриэлитный компромисс. Само имя Алексея Адашева было реабилитировано и упоминалось в разного рода документах, самым положительным образом сравниваемое с именем Бориса Годунова. Последнего впервые в русской истории царем выбирал Земский собор 1598 г., на котором присутствовало 500–600 человек, представлявших боярство, духовенство, служилых людей, верхушку посада.
Смягчилось законодательство. В проекте Судебника 1589 г. увеличивалось число социальных групп, получивших право на возмещение бесчестья: средние и меньшие «гости», крестьяне-торговцы, черное духовенство, скоморохи, незаконнорожденные… Жены холопов по смерти мужей могли выйти из холопьего звания. Предполагалось даже ввести наказание за убийство чужой собаки. В 1601–1602 гг., в связи с голодом, Годунов снова разрешил «выход» крестьян в Юрьев день от тех владельцев, которые не могут их прокормить. Вообще многие меры царя Бориса (в частности, широкие налоговые льготы, открытие государственных зернохранилищ для голодающих, организация общественных работ – царь «повеле делати каменное дело многое, чтобы людем питатися…») предваряют практику социального государства. Впрочем, и риторику тоже. В указе 1601 г. о преследовании хлебных скупщиков и установлении твердых цен на хлеб говорится: «И мы… управляя и содержая государьственные свои земли вам и всем людем к тишине, и покою, и лготе, и оберегая в своих государьствах благоплеменный крестьянский народ во всем, и в том есмя по нашему царьскому милосердому обычею жалея о вас, о всем православном крестьянстве, и сыскивая вам всем, всего народа людем, полегчая, чтоб милостию Божиею и содержаньем нашего царьского управления было в наших во всех землях хлебное изобилование, и житие немятежное, и неповредимый покой у всех ровно». «…Хлебное изобилование, и житие немятежное, и неповредимый покой у всех ровно» – чем не формула социального государства?
В другом месте Годунов хвалится тем, что «строенье в его земле такое, каково николи не бывало: никто большой, ни сильный никакого человека, ни худого сиротки не изобиди». «Разумеется, это риторика, но очень знаменательно после оргий Грозного, что правитель вменяет в честь и заслугу себе гуманность и справедливость» (С. Ф. Платонов).
Во внешней политике в 80—90-х гг. XVI в. удалось достичь заметных успехов. После войны со шведами вернулись недавние потери – Ивангород, Ям, Копорье, Корела. С Речью Посполитой было заключено двадцатилетнее перемирие. Произошло реальное присоединение Западной Сибири, начатое еще походом Ермака, возникли новые русские города – Тюмень, Тобольск, Сургут, Тара, Березов, Нарым… Огромные территории по Волге от Астрахани до Казани были закреплены основанием Самары, Царицына, Саратова, Уфы, Царевококшайска… На Юге выдвинулись в степь Воронеж, Ливны, Елец, Кромы, Белгород, Оскол… Несколько раз крымские татары пытались прорваться к Москве, но безуспешно. На Севере заработал Архангельский порт.
Борис Годунов налаживал полезные для страны отношения с европейским миром. Женихом его дочери Ксении был датский принц Иоганн, после безвременной смерти последнего шли переговоры о ее браке с сыном шлезвигского герцога. В развитие русско-английских торговых и дипломатических контактов возник замысел обмена учащимися с целью подготовки знающих переводчиков. В 1600 г. в Лондон вернулись двое студентов-англичан, изучавших русский язык в Москве. Через два года в Англию для обучения английскому языку и латыни в различных школах – Винчестере, Итоне, Кембридже и Оксфорде – направились четверо русских студентов, юноши из дьяческих семей: Никифор Алферьев сын Григорьев, Софон Михайлов сын Кожухов, Казарин Давыдов и Федор Семенов Костомаров. Царь Борис сам представил их английскому посреднику и просил королеву, чтобы им позволено было получить образование и при этом сохранить свою веру. Год спустя за рубеж выехала вторая группа из пятерых учащихся, на этот раз в Германию, в Любек. Годунов опять-таки выразил пожелание, чтобы они оставались в православной вере и не забывали русских обычаев, обещая взять на себя все расходы по их содержанию. Некоторые источники сообщают о том, что русские студенты были направлены также во Францию и Швецию.
Вопреки широко растиражированному представлению, что-де никто из посланных за границу не вернулся, Р. Г. Скрынников выяснил, что, как минимум, вернулись двое. Один из них – Игнатий Алексеев сын Кучкин, посланный для обучения в Вену и Любек, по возвращении в Москву рассказал о себе, что «в учении он был в Цесарской земле и в Любках восемь лет, и… во 119 (1610–1611) году поехал из Цесарской земли, научась языку и грамоте, опять к Москве, и на море-де его переняли ис Колывани [Таллинна] свейские люди». С большим трудом Кучкину удалось освободиться из шведского плена и вернуться на родину. Кстати, есть сведения, что Годунов собирался заводить университеты в самой России.
Казалось, страна выходит из кризиса. Но на пороге уже стоял новый, еще более страшный кризис – Смута.
Глава 3. На путях к «Империи наоборот»
«Далеко ушло то время, когда наши ученые и публицисты считали XVII век в русской истории временем спокойной косности и объясняли необходимость Петровской реформы мертвящим застоем московской жизни. Теперь мы уже знаем, что эта московская жизнь в XVII веке била сердитым ключом…» – писал более столетия назад С. Ф. Платонов. Но в массовом сознании Московия Смуты, раскола, разинщины и поныне воображается застойной и архаичной, в духе незабвенной «Песни о допетровской Руси» Владимира Высоцкого – «сонной державою, что раскисла, опухла от сна» (Герцену в 1858 г. она казалась похожей «на большой сонный пруд, покрытый тиной…»). Между тем нет ничего более противоположного русскому XVII в. с его крутыми, головокружительными поворотами, «неслыханными переменами, невиданными мятежами», чем сон, разве что подобный тому, который пригрезился больному Раскольникову в остроге. Как прекрасно сформулировал Г. В. Флоровский: «Это был век потерянного равновесия…»
Снова обрести равновесие (и то весьма относительное) удалось лишь к концу первой четверти следующего столетия. Железной рукой хаос был приведен к новому порядку, находившемуся со старым в сложном диалектическом соотношении. А. Е. Пресняков точно определил XVII в. как «типичную „переходную“ эпоху, которая закончится формальным разрывом русской государственности с великорусским центром в Петербургской, Всероссийской империи». С одной стороны, петровские преобразования привели к полному торжеству принципа Москвы, вооружив самодержавный произвол новым эффективно-современным инструментарием, с другой – государство перестало быть Московским, и не только из-за смены столицы – оно лишилось русского доминирования, сделавшись наднациональной империей.
Альтернативы смуты
Смута, открывающая «бунташный век» многообещающим анонсом, как будто специально придумана, чтобы «воспламенять воображение поэтов». Череда самозванцев (всего около полутора десятков) и чехарда царей; стремительные взлеты из грязи в князи; дружно соревнующаяся в измене, неоднократно перебегающая из лагеря в лагерь элита; распятые на стенах или сброшенные с башен воеводы; «насильства и беды такие, чего и бессермены не чинят»; иноземцы в Кремле… Мужественная стойкость Смоленска и Троице-Сергиева монастыря, патриарха Гермогена и крестьянина Сусанина, подвиг Минина и Пожарского… Но историка эта эпоха впечатляет не только и не столько живописными картинами русского позора и русского же героизма, сколько чудесным превращением Московского царства из, казалось бы, незыблемого монолита, подчиненного воле одного человека, в кипящий котел соперничества и столкновений множества воль – индивидуальных и групповых; из моносубъектного социума – в полисубъектный.
Лишь только ослаб жесткий обруч самодержавной власти, чуть ли не все слои русского общества принялись активно отстаивать свои права и интересы и даже менять ход политической жизни, демонстрируя, что они не безгласные детали государственной машины, а живые, способные к самодеятельности организмы. Признаем, что иные из них, сняв с себя державную узду, пошли вразнос, но зато без усилий других Россия бы просто погибла. Смута не была социальной или политической революцией, она была гражданской войной, в которой переплелись борьба между претендентами на престол и борьба разных социальных групп за свой статус. Ярче других выступили, как заметил еще С. Ф. Платонов, «средние слои». «Верхи», а тем более «низы» не сумели подняться до подлинной субъектности. Княжеско-боярская аристократия, благодаря систематической полуторавековой политике московских государей стянутая к центру и оторванная от областной жизни, не могла влиять на процессы, происходившие за пределами столицы. Крестьянство, чей социально-политический горизонт редко простирался дальше деревенской околицы, вовлекалось в вихрь событий (особенно в движении Болотникова), но само никогда их не инициировало.
Зато служилые люди южной окраины (главным образом «приборные», то есть служилые не по происхождению, а по набору из других сословий, включая боевых холопов), недовольные своим приниженным положением (у них не было представительства при Государевом дворе, их заставляли заниматься обработкой земли – так называемой «государевой десятинной пашни»), и казаки, всегда готовые ввязаться в сулящую добычу авантюру, обеспечили победу первого Лжедмитрия, составили костяк армий Болотникова и Тушинского вора. Рязанские служилые люди во главе со своим харизматическим лидером Прокопием Ляпуновым, разорвав союз с Болотниковым, испугавшим их своим социальным радикализмом, спасли от неминуемого падения Василия Шуйского, которого сами же позднее и свергли. Они же вместе со служилыми людьми других уездов, посадскими людьми Севера и Поволжья (от Ярославля до Казани) и казаками создали Первое ополчение. Городские миры дали отпор тушинцам и организовали Второе ополчение. Казаки – как «московские», так и «украинские», как принадлежавшие к уже сложившимся «войскам», так и принимавшие казачье имя и обычаи бывшие холопы, крестьяне и служилые люди – служившие то одному, то другому хозяину, или жившие по своей вольной воле, много лет наводили ужас на большинство русских областей (типичная летописная запись: «Лета 7123-го [1614/15] казаки, вольные люди, в Русской земле многие грады и села пожгли и крестьян жгли и мучили»). Кстати, Ивана Сусанина, судя по изысканиям В. Н. Козлякова, замучили до смерти «немерными пытками» вовсе не поляки, а находившиеся на польской службе «черкасы». С другой стороны, именно казачья атака решила в русскую пользу исход боя ополченцев с войском Ходкевича под Москвой, а поддержка казачества, надеявшегося на получение новых привилегий, сыграла решающую роль в избрании Михаила Романова на царство.
Особенно важна в контексте этой книги политическая активность посадских людей. Как показал С. Ф. Платонов, она была свойственна почти исключительно городам с бойкой хозяйственной и общественной жизнью, в которых московская централизация не успела задавить самоуправление и разрушить прочные связи с сельской округой и другими уездами. Поморье начало подниматься на тушинцев еще до призыва М. В. Скопина-Шуйского. Вологжане, белозерцы, устюжане, каргопольцы, сольвычегодцы, костромичи, галичане, вятчане – жители торгово-промышленного, не знавшего помещичьего землевладения Севера – составили то «мужичье», по презрительному прозванию тушинских воевод, войско, которое не допустило победы «воров» в 1608–1609 гг. Нередко «мужики», не дожидаясь присылки государевых служилых людей, выбирали начальниками своих ратей излюбленных миром людей – так, тотемский отряд возглавлял вдовый священник Третьяк Симакин. На их же деньги содержались шведские наемники, чья роль в снятии «тушинской» блокады с Москвы также очень велика.
Во время формирования Первого ополчения городские миры самостоятельно сообщались между собой, вырабатывая общую программу действий: Рязань – с Нижним, Ярославль – с Новгородом, Кострома – с Казанью… Причем посылаемые грамоты адресовались не от высокого начальства к высокому начальству, переписка шла между обществами разных городов и уездов, в ней фигурировали «дворяне и дети боярские», «головы стрелецкие и казачьи», «земские старосты и целовальники», наконец, «все посадские люди, и пушкари, и стрельцы, и казаки». Дело национального освобождения осознавалось как всесословное. И все это при полном отсутствии рухнувшей как карточный домик властной «вертикали», без вдохновляюще-побуждающего воздействия которой русский человек вроде бы не способен ни на что полезное, а лишь на одно безобразие. Достаточно было призыва патриарха Гермогена. И делалось дело, как правило, быстро и ладно. Так, в Перми получили вести из Устюга о сборе Первого ополчения 9 марта 1611 г., а уже 13 марта оттуда отправились под Москву 150 ратников. «…Десятки уездных объединений на огромной территории России в сжатые сроки двух-трех месяцев сумели достичь договоренности об общих целях движения, выработать план совместных действий, провести мобилизацию военных сил и приступить к его выполнению» (Б. Н. Флоря). А ведь Сигизмунд III, решив захватить русский трон после свержения Василия Шуйского, был уверен, что без царя московиты, развращенные самодержавным «тиранством», не смогут организовать ему сопротивления.
Вскоре у ополчения возник и единый, но не единоличный «руководящий центр» – Совет всей земли, в который вошли делегаты от 25 русских городов. Исполнительным органом Совета стало временное правительство – триумвират П. П. Ляпунова, Д. Т. Трубецкого и И. М. Заруцкого. Была создана и успешно функционировала система административных учреждений – Разрядный, Поместный, Земский и ряд других приказов. Даже после гибели Ляпунова, когда первую скрипку в ополчении стали играть казаки, и Совет, и приказы продолжали осуществлять свою деятельность.
История Второго ополчения, организованного осенью 1611 г. городовым нижегородским советом, состоявшим из воевод, представителей духовенства, дьяков, дворян, детей боярских, голов и земских старост, во главе с «гениальным „выборным человеком“ Кузьмою Мининым» (С. Ф. Платонов), слишком хорошо известна, чтобы ее в очередной раз пересказывать. Отметим только, что руководство Нижегородского ополчения тоже было коллективным (воевода Д. М. Пожарский, Минин, второй воевода И. И. Биркин, дьяк В. Юдин), а в Ярославле, ставшем его центром, возник параллельный Совет всей земли и параллельные приказы. От имени Пожарского в другие города рассылались грамоты, призывавшие направлять в Ярославль «изо всяких людей человека по два, и с ними совет свой отписать, за своими руками». После освобождения Москвы от поляков (октябрь 1612 г.), вплоть до избрания нового царя (февраль 1613 г.), страной управляло коалиционное Земское правительство, состоявшее из лидеров обоих ополчений (Трубецкой, Пожарский, Минин и др., всего 11 человек). Как-то справлялись сами, без монарха – не передрались, подготовили и провели Земский собор, призвавший на трон новую династию.
В прошлой главе мы много говорили об альтернативах в русской истории. Смута за неполное десятилетие явила такую концентрацию альтернатив, какой не было за несколько предшествующих столетий. Что, если бы не разразился страшный голод 1601–1602 гг., а Борис Годунов не скончался скоропостижно и сумел бы утвердить свою династию? Что, если бы первый Лжедмитрий удержался на троне? Что, если бы Болотников вошел в Москву? Что, если бы второй Лжедмитрий одолел Василия Шуйского? Что, если бы Скопин-Шуйский прожил долее и стал наследником дяди или сверг его, вняв призыву Прокопия Ляпунова? Что, если бы Сигизмунд III согласился на воцарение королевича Владислава, а не захотел приватизировать московский трон? Что, если бы у поляков отбило Москву Первое ополчение? Что, если бы на Соборе 1613 г. русским царем избрали шведского принца Карла Филиппа (чьим лоббистом был сам Пожарский)? А ведь все перечисленные возможности были вполне реальны, и только случай помешал их осуществлению. Перспективы большинства из них довольно гадательны, но некоторые намекают и на что-то более-менее определенное.
Ситуация борьбы за власть вынуждала конкурентов искать популярности в обществе, идти навстречу чаяниям тех или иных его слоев. Скажем, в проекте Судебника Лжедмитрия I предполагалось восстановить Юрьев день; воплотилось бы это намерение – бог весть, но само направление мысли показательно. Василий Шуйский, при вступлении на престол, обещал своим подданным соблюдать их права и не допускать царского произвола и целовал крест «всем православным християнам» «на том… что мне, их жалуя, судити истинным праведным судом и без вины ни на кого опалы своея не класти, и недругам никому в неправде не подавати, и от всякого насильства оберегати». Впервые московский монарх давал своим подданным крестоцеловальную запись. «Искони век в Московском государстве такого не важивалося», – дивится летописец (напомним, Иван III принципиально отказался это делать на переговорах с новгородцами). «Эти условия, обеспечивающие праведный суд для людей всех состояний, невольно напоминают знаменитую статью [английской] Великой хартии, которая требует, чтобы ни один свободный человек не был взят и наказан иначе как по суду равных или по закону земли» (Б. Н. Чичерин).
Интересная альтернатива намечалась по поводу отношений центра и регионов. Как уже говорилось, чтобы надежнее контролировать последние, московская власть посылала на воеводство «варягов», не связанных с уездным дворянством. Тушинцы, ища союзников, стали выдвигать воевод из числа местных землевладельцев. Шуйский придерживался традиционной схемы, но и он был вынужден реагировать на вызовы времени, о чем свидетельствовало назначение рязанским воеводой П. Ляпунова. Правда, как только обстановка становилась спокойнее, Прокопия Петровича сразу задвигали во вторые воеводы, а первыми делались московские ставленники. В конечном счете такая непоследовательность стоила царю Василию потери короны. А Ляпунов, не заруби его казаки, мог бы стать примером успешного регионального лидера, по проторенной дорожке которого, глядишь, пошли бы и другие.
Важную демократическую новацию видим в Приговоре Совета всей земли Первого ополчения 30 июня 1611 г. – ополченских воевод и бояр, «избранных всею землею для всяких земских и ратных дел в правительство», при несоответствии занимаемой должности, «вольно… переменити и в то место выбрати иных… хто будет болию к земскому делу пригодится».
Но, конечно, самой интригующей альтернативой Смуты является почти состоявшееся и сорвавшееся только из-за самонадеянной тупости Сигизмунда воцарение королевича Владислава. Практически все вменяемые политические силы России готовы были сойтись на этой кандидатуре, с непременным, однако, условием, что новый царь должен принять православие и блюсти целость, независимость и традиции своего государства. Это подчеркивалось и в договоре от 4 февраля 1610 г., предложенном тушинскими боярами, и в договоре от 17 августа 1610 г., принятом в Москве боярской Думой с согласия патриарха Гермогена и представителей служилых и посадских людей. Ни там, ни там нет и следа национальной измены: по словам С. Ф. Платонова, первый «отличается… национально-консервативным направлением», а второй, если бы его удалось привести к исполнению, «составил бы предмет гордости» московского боярства – его положения были одобрены дворянством и посадами тех земель, которые ранее поддерживали власть Василия Шуйского, а после смерти Лжедмитрия II и землями, державшими сторону последнего. Характерно, что оба договора законодательно ограничивали власть самодержца: он обязан был править вместе с Думой и Земским собором. В московском договоре только «с приговору и с совету бояр и всех думных людей» государь мог вершить суд над обвиненными в измене, устанавливать поместные или денежные оклады, повышать или понижать налоги; Собор получал право законодательной инициативы. В тушинском же договоре предполагалось, что в установлении налогов будет принимать участие «вся земля»; любопытен также пункт о том, что «для науки вольно каждому» ездить из Москвы в другие христианские страны – очевидно, начинания Годунова не прошли даром.
Как показал Б. Н. Флоря, часть элиты Речи Посполитой (например, гетман Станислав Жолкевский, подписавший договор 17 августа с польской стороны) реалистически считала невозможным прямое подчинение России и выступала за постепенное ее втягивание в орбиту польско-литовского мира, а потому одобрительно относилась к воцарению Владислава на русских условиях. Но Сигизмунд предпочел не договариваться с русским обществом, а опереться для осуществления своих планов на горстку прямых изменников, «предателей христианских» вроде М. Г. Салтыкова и Ф. Андронова, которые никого и ничего не представляли, и закономерно провалился.
При всей трагичности Смуты один положительный итог ее очевиден: формирование в общественном сознании «представления о „всей земле“ – собрании выборных представителей разных „чинов“ русского общества со всей территории страны как верховном органе власти, единственно полномочном принимать решения, касающиеся судеб страны, в отсутствие монарха и участвующим в решении наиболее важных политических [проблем] вместе с монархом» (Б. Н. Флоря). Это представление, выразившееся как в упомянутых актах, так и в памятниках общественной мысли (например, во «Временнике» дьяка Ивана Тимофеева), и следующие из него практики могли бы стать зародышем единой русской политической нации, участвующей во власти и идущей на смену разрозненному скопищу бесправных подданных, власть претерпевающему. Хотя московские люди, измученные политическим хаосом, как правило, высказывали пожелание восстановить тот порядок, который был «при прежних российских прирожденных государех», из всего вышеизложенного ясно, что, будучи несомненными монархистами, они вовсе не жаждали реставрации самодержавия как личного, ничем не ограниченного произвола в духе опричнины. Скорее, их представления об оптимальной форме правления (царь + Дума + Земский собор) соотносятся с эпохой реформ Избранной рады, впрочем, в некоторых вопросах идя дальше самых смелых ее установлений.
С другой стороны, стоит отметить, что острейшая борьба с иноземной интервенцией никак не повлияла на формирование в русской культуре дискурса народа, в литературных памятниках эпохи он отсутствует, при сохранении традиционного самоопределения, связанного с религией, государственностью, территорией (характерный пример – «Новая повесть о преславном Российском царстве и великом государстве Московском»).
Россия выходила из Смуты как сословно-представительная монархия. Земский собор января – февраля 1613 г., избиравший нового царя, «был беспрецедентно широк по своему социальному составу» (В. А. Волков). В его работе принимали участие представители духовенства, дворянства, казачества, посадских людей и черносошных крестьян. Первые соборные заседания отмечены нешуточной предвыборной борьбой: «…масса партий, враждебно настроенных одна против другой и преследующих совершенно различные цели, сильнейшая агитация, не брезгующая даже такими средствами, как подкуп, немалое число претендентов (не менее пятнадцати. – С. С.), поддерживаемое своими адептами, бурные прения и отсутствие всякого единения между партиями» (В. Н. Латкин). Грамоту об избрании на русский престол первого Романова подписали 238 человека, а упомянуто в ней 277 делегатов; всего же, по некоторым сведениям, в Москве тогда собралось более 800 «советных людей» из 58 городов. Историки спорили и спорят о существовании так называемой «ограничительной записи» царя Михаила Федоровича, то есть о формально зафиксированном ограничении самодержавия в пользу Думы и/или Земского собора. Подлинник «записи» не обнаружен, но косвенные источники о ней упорно твердят. Так или иначе, но по факту такое ограничение несомненно – Собор 1613 г. продолжал заседать, не распускаясь, до 1615 г., управляя страной вместе с юным монархом (в момент избрания ему было всего пятнадцать), а точнее, вместо, от его имени.
От «соборного правления» к абсолютизму
Соборы Смутного времени и первых лет правления новой династии качественно отличались от своих предшественников прошлого столетия – частотой созыва (в 1616–1622 гг. они заседали практически ежегодно), выборностью представителей (хотя на них присутствовали не только выборные люди, но и – в силу своего положения – высшее духовенство и Боярская дума) и значительным расширением полномочий. Фактически это был главный законодательный орган страны, действовавший, по сути, постоянно – все важнейшие правительственные распоряжения принимались «по нашему великого государя указу и по соборному приговору всей Русской земли». Но после 1622 г. соборы не созывались 10 лет, а затем стали заседать только по тем или иным конкретным случаям: собор 1633 г. обсуждал Смоленскую войну с Польшей; 1642-го – судьбу Азова, взятого донскими казаками и отважно ими обороняемого от турок; 1648-го – принятие нового свода законов; 1653-го – вопрос о присоединении Малороссии и т. д. С соборами совещаются, но они более не управляют; государственные прерогативы безраздельно переходят в руки самих монархов, «сильных людей» – царских фаворитов и приказной бюрократии. «Земские соборы 50-х гг. – по вопросу о борьбе за Малороссию – только внешняя форма, без подлинного живого содержания: опрошенные „по чинам – порознь“ члены собора только повторяют готовое решение царя и его боярской думы» (А. Е. Пресняков). А во второй половине столетия власть уже не нуждается в соборах и для совещательных целей, и они тихо угасают. «Соборы» 1660—1680-х гг. – суть рабочие комиссии, обсуждающие положение различных социальных групп с участием представителей последних, а не голос «всей земли».
«Земля снова улеглась у ног самодержавного государя», – подводит итоги недолгой эпохи расцвета соборной деятельности западник Б. Н. Чичерин. «Народ вышел в отставку», – афористически говорит о том же славянофил А. С. Хомяков. Но почему земская идея не эволюционировала в доктрину народовластия? Почему такое эффективно проявившее себя учреждение, как Земский собор, не закрепилось в качестве постоянного института? Почему «земля» не отстояла его, ведь он был главным инструментом реализации ее собственного политического идеала, и нельзя сказать, что понимание этого в обществе отсутствовало? В начале 1660-х гг. московские горожане просили царя Алексея Михайловича о возобновлении соборов, как о необходимом условии устроения «земского дела»: «Чтобы… великий государь… указал… взять из всех чинов на Москве и из городов лучших людей по пяти человек; а без них нам одним того великого дела на мере поставить невозможно». А тридцатью годами раньше стряпчий Иван Андреевич Бутурлин и вовсе предложил создать постоянно действующий Собор с выборными от служилых людей «и из черных, по человеку, а не от больших городов», установив годичный срок полномочий выборных и обеспечив их в столице квартирами.
Во-первых, у соборов так и не сложилась юридическая основа – никаких законодательных актов, определявших их полномочия и принципы формирования, не было принято. Более того, в общественном сознании, похоже, вообще отсутствовала идея институционального контроля за верховной властью. Как отмечал В. О. Ключевский, в вопросах налогового обложения «казна вполне зависела от собора», однако «выборные, жалуясь на управление, давали деньги, но не требовали, даже не просили прав, довольствуясь благодушным, ни к чему не обязывающим обещанием „то вспоможенье учинить памятно и николи незабытно и вперед жаловать своим государским жалованьем во всяких мерах“. Очевидно, мысль о правомерном представительстве, о политических обеспечениях правомерности еще не зародилась ни в правительстве, ни в обществе. На собор смотрели как на орудие правительства». Поэтому самодержавие, использовавшее соборы в качестве чрезвычайного органа в период преодоления Смуты, как только ситуация стабилизировалась, смогло от них отказаться, не встречая ни малейших правовых препятствий. Во-вторых, что еще более важно, в России не оказалось организованных социальных сил, способных не только ностальгически вздыхать о соборах, но и защищать их, подобно тому, как англичане защитили свой парламент от посягательств Карла I в том же XVII столетии. Русские сословия предпочитали отстаивать свои собственные отдельные интересы, а не всесословное дело, более того, они даже не сумели сформулировать программу последнего.
Боярская аристократия, как уже говорилось выше, не имела влияния в обществе и потому боролась за свое влияние на заседаниях Думы или интригуя в дворцовых покоях. Закрепощавшемуся полным ходом крестьянству было не до политических требований, а его стремление к воле находилось в прямом противоречии с крепостническими вожделениями дворянства, так что общего языка между ними не могло возникнуть по определению. Соборы были нужны прежде всего «средним слоям» – служилым и посадским людям. Когда они объединяли свои усилия, то многого могли достичь. Об этом свидетельствуют события 1648 г., когда во время московского Соляного бунта горожан поддержали не только дворяне, но и стрельцы, отказавшиеся разгонять мятежную толпу и даже заявившие, что готовы вместе с ней «избавить себя от насилий и неправд». Молодой царь Алексей вынужден был тогда крест целовать народу, что выполнит его требования. В Большой всенародной челобитной, составленной представителями дворянства и посада, весьма внятно и твердо высказывалось пожелание созыва Земского собора и реформы местного суда и управления: государю следует положиться «на всяких чинов на мирских людей», которые «выберут в суди меж себя праведных и расудительных великих людей, и ему государю будет покой от то всякие мирские докуки ведати о своем царском венце, а ево государевым боярам будет время от ратных росправах и разсудех в своих домех».
Власть была вынуждена пойти на созыв Собора и удовлетворить в принятом там Уложении 1649 г. основное требование дворянства – окончательное закрепощение владельческих крестьян с бессрочным сыском беглых. С той поры в дворянской среде почти на столетие исчезает всякий оппозиционный дух, а разинщина заставила его еще сильнее сплотиться вокруг самодержавия. Стрельцы, также задобренные разнообразными подачками, во время Медного бунта 1662 г. уже беспрекословно и усердно рубят недовольных. Посадские же люди, по Уложению, достигли лишь уничтожения «белых слобод», нисколько тем самым не расширив своих прав, а лишь немного облегчив для себя раскладку государева тягла, распространив его на тех, кого оно раньше не касалось. Политически же принятие Уложения «было роковым ударом для земщины», ибо в нем «нет ни одной статьи, которой бы обеспечивалось значение земщины в государственных делах» (И. Д. Беляев).
Таким образом, бояре и служилые люди, постепенно начавшие сливаться в единое сословие, в отличие от дворянства большинства европейских стран, так и не сделались вождями и полномочными представителями «земли», хотя история и предоставляла им для этого уникальный шанс, а предпочли остаться государевыми слугами, управляющими «землей» от монаршего имени. «Отнимая юридическую свободу у своих крепостных, дворяне отдавали свою политическую волю государству» (П. В. Седов). В дальнейшем русское дворянство становилось все более и более привилегированным, замкнутым сословием, например, в 1675 г. был издан указ, по которому в «дети боярские» запрещалось верстать крестьян, холопов, посадских и «приборных» служилых людей. «В господствующем землевладельческом классе, отчужденном от остального общества своими привилегиями, поглощенном дрязгами крепостного владения, расслабляемом даровым трудом, тупело чувство земского интереса и дряхлела энергия общественной деятельности. Барская усадьба, угнетая деревню и чуждаясь посада, не могла сладить со столичной канцелярией, чтобы дать земскому собору значение самодеятельного проводника земской мысли и воли» (В. О. Ключевский).
Посадские люди без союза с дворянством были политически бессильны, и вскоре даже местное городское самоуправление оказалось задавлено воеводской администрацией. Уложение отменило участие представителей посада в судебных делах, предоставив судопроизводство исключительно воеводам и приказным людям; практически все выборные должности стали частью государственной администрации, неоплачиваемыми, тяжелыми повинностями, не мудрено, что горожане стали от них уклоняться. Более того, в памяти властей стали как будто стираться совсем недавние московские управленческие практики: дескать, «того никогда не бывало, чтобы мужики с боярами, окольничими и воеводами у расправных дел были, и впредь того не будет». Воеводский произвол и растущее налоговое бремя неоднократно вызывали городские восстания, самым значительным из которых было Псковское (1650). Власть в городе перешла в руки земских старост во главе с ярким лидером Гаврилой Демидовым, на шесть месяцев в Пскове восстановилась республика. В наиболее важных случаях по звону «всполошного колокола» собирался мирской сход, напоминавший старинное вече. Псковичи послали царю челобитную, в которой изложили ряд требований, в частности чтобы воеводы чинили суд и расправу совместно с земскими старостами и выборными. Войска, посланные на усмирение Пскова, не смогли захватить его сходу и установили блокаду, длившуюся три месяца. Правительству пришлось пойти с псковичами на переговоры, но затем с зачинщиками мятежа жестоко расправились. «Сполошный колокол» был снят и отправлен в Москву. Так же, поодиночке, были подавлены и другие городские восстания 1640—1660-х гг. – в Устюге Великом, Новгороде, Томске, Москве…
Наиболее ущемленным социальным слоем в России стало крестьянство, в крепостном состоянии оказалось его подавляющее большинство. По переписи 1678 г. из 888 тыс. тяглых дворов только 92 тыс. принадлежали посадским людям и черносошным крестьянам (10,4 %), а почти девять десятых тяглецов находились в крепостной зависимости от дворца (9,3 %), церкви (13,3 %), бояр (10 %) и служилых людей (57 %). Как определение объема повинностей крепостных, так и судебная власть над ними (за исключением «татьбы, разбоя и поличного и смертного убийства») находились в руках их хозяев. Крестьянские жалобы на последних не принимались, кроме «изветов про государское здоровье или какое изменное дело». По указу 1675 г. землевладельцы получили право продавать и приобретать крестьян без земли. К концу века помещики свободно переводили крестьян в дворовые люди (и наоборот), меняли и продавали их, активно вмешивались в заключение крестьянских браков. Униженное положение крестьянства хорошо иллюстрирует резкое увеличение разрыва между ним и другими социальными группами в наказании за бесчестье. По Уложению бесчестье крестьянина составляло всего 1 руб., между тем как бесчестье посадского человека – 5–7 руб., дворянина – 5—15 руб., а монастырского архимандрита – 100 руб. Впрочем, закон пока еще охранял жизнь и труд крестьянина от помещичьего произвола – за самовольную расправу можно было лишиться поместья или даже подвергнуться наказанию кнутом.
Поскольку сбор государственных налогов возлагался на помещика, то и распределение тягла находилось в его руках. Это привело, во-первых, к тому, что сельские миры и их выборные люди сделались лишь исполнителями хозяйских предписаний. А во-вторых, именно с этого времени в русской деревне начинает формироваться пресловутая передельная община с круговой порукой – идеал русских революционеров и реакционеров XIX века; ранее для нее было характерно подворное землевладение и более-менее свободное распоряжение землей. Так как тяглом облагалась не земля, а люди, помещик был заинтересован в поддержании некоего стабильного «среднего» уровня жизни своих крестьян и старался не допускать излишнего разорения одних и излишнего обогащения других. Для сохранения этого равновесия в общине стали время от времени производить земельные переделы. Элементы уравнительного землепользования начали вноситься государством и в жизнь черносошных крестьян. Так, в 1648 г. Дума постановила, чтобы в Заонежских погостах, где богатые и сильные крестьяне активно скупали землю бедняков, проданные участки отнять безденежно у покупателей и возвратить прежним их владельцам, и впредь приняла «заказ крепкий, чтобы никто ни у кого не покупал и в заклад не имал». Правда, позже Дума смягчила свой приговор, отменив его первую часть и позволив оставить участки за их приобретателями, но вновь подтвердила запрещение сделок на будущее время. В 1652 г. неотчуждаемость крестьянских черных участков была распространена и на Каргопольский уезд.
С 1654 г. Россия вступила в затяжную полосу войн с Речью Посполитой, Швецией и Турцией (что также способствовало сворачиванию «соборного правления»). Военные нужды заставляли государство постоянно увеличивать налоги, так, стрелецкая подать выросла с 1640 по 1671 г. почти в семь раз. (Еще один важный источник доходов – питейная прибыль, дававшая в 1680 г. немногим менее трети казенных поступлений.) С 1664 по 1671 г. налоговые недоимки увеличились почти в 15 раз, причины этого предельно понятно объясняются в приказных документах: «Тех денег посадские и уездные люди не выплачивают за пустотою, потому что у них многие тягла запустели, и взять тех денег не на ком, и остальные посадские и уездные люди от немерного правежа бегут в… разные города». О том, как осуществлялся этот «немерный правеж», мы имеем колоритное свидетельство от одного из сборщиков: «Я, государь, посадским людям не норовил и сроков не даю… я правил на них твои государевы всякие доходы нещадно, побивал насмерть».
Крепостное право, налоговый гнет, воеводское самоуправство – вот главные причины того мощного социального взрыва 1668–1671 гг., который в дореволюционной историографии именовался разинщиной, а в советской – крестьянской войной под предводительством Степана Разина. Об этом красноречиво говорят и разиновские «прелестные письма», посылавшиеся «в народ», где главными врагами объявлялись воеводы, бояре, помещики и приказные люди, и сожжение мятежниками всех официальных бумаг при занятии городов. Важно отметить, что этот взрыв не состоялся бы, не руководи им сравнительно автономная от государства, хорошо организованная, вооруженная и имеющая огромный боевой опыт социальная группа – донское казачество, точнее, его «низовая» часть. Но здесь же таилась и слабость движения – очевидно, что чисто сословно-казацкое сознание превалировало у Разина над сознанием вождя единого народного протеста, о чем свидетельствует знаменитый эпизод во время боя под Симбирском, когда донцы во главе со своим атаманом бросили союзную крестьянскую массу на погибель. Популярность образа Разина, прославленного в народных песнях и привлекавшего мастеров отечественной словесности от Пушкина до Шукшина, говорит, что казацкий идеал «вольной воли» выражает в себе какую-то очень важную сторону русской души. Но вряд ли можно увидеть в этом идеале какую-то реальную альтернативу московским порядкам – в соответствии с ним может жить военное товарищество, пусть и большое, но не большое государство. Не говоря уже о том, что кровавые ужасы, творимые разинцами, не лучше самодержавного произвола, скорее это его обратная сторона.
Пользуясь раздробленностью и слабостью русских сословий, их неумением организовать всесословный противовес верховной власти, последняя начиная с 1650-х гг. не просто возвратила себе полноту власти, утраченную в Смуту, но подняла принцип Москвы на новую высоту. Алексей Михайлович рассуждает совсем в духе Ивана Грозного (который в официозной «Истории о царях и великих князьях русских», написанной в конце 1660-х гг. дьяком Федором Грибоедовым, был объявлен прадедом царя Алексея): «…мы, великий государь, з Божиею помощию ведаем, как нам, великому государю, государство свое оберегать и править… И, нам, великому государю указывать не довелось, холопи наши и сироты нам, великим государем, николи не указывали»; «Бог… благословил и предал, нам, государю, правити и разсуждати люди своя на востоке, и на западе, и на юге, и на севере в правду, и мы Божия дела и наши, государевы, на всех странах полагаем, смотря по человеку».
Но властный инструментарий Алексея Михайловича (и его наследников) был гораздо исправней, чем у «прадеда». Сложился вполне солидный бюрократический аппарат. Если в 1626 г. насчитывалось всего 656 приказных людей, то в 1677-м их было уже 1601, а 1698-м – 2762. На местах укрепилась система воеводского управления, за XVII в. распространившаяся с окраин на всю страну. Формировалась регулярная армия. Уже в 1648 г. был создан первый рейтарский полк «иноземного строя», к началу 1660-х гг. их было уже 55 (несколько десятков тысяч человек). Надежной социальной опорой власти было дворянство. Наконец, в 1660-х гг. под самодержавную пяту попала церковь.
На краях раскола
В треугольнике «царь – патриарх – старообрядцы», определившем всю драматургию раскола, единственной выигравшей стороной оказалось самодержавие. Но на первых порах, напротив, казалось, что это церковь, в лице распираемого властолюбием Никона, уверенно ведет за собой монархию, смиренно готовую служить ей чуть ли не на посылках. Именно Никон был идеологом и мотором церковной реформы, проведение которой прямо вытекало из резкого поворота внешней политики Москвы – борьбой с Речью Посполитой за присоединение Малороссии (о чем подробнее поговорим ниже). Но борьба эта тоже началась во многом благодаря влиянию на Алексея Михайловича его «собинного друга» – патриарха, в свою очередь находившегося под очарованием льстивых речей повадившегося приезжать за московскими милостями греческого духовенства и даже ставшего «самым завзятым грекофилом, какого ранее и не бывало на Руси» (Н. Ф. Каптерев).
Восточные иерархи, в особенности патриарх Иерусалимский Паисий, уже давно всячески пытались уговорить русскую власть заняться освобождением православных народов от османского гнета, рисуя перед ней заманчивые перспективы вселенской православной империи с центром в отвоеванном Константинополе, предлагая московскому царю взойти на «превысочайший престол великого царя Константина, прадеда вашего». Грезил такой империей и Никон. Восстание Богдана Хмельницкого (1648) показалось патриарху и его греческим угодникам/наставникам удобным моментом для начала воплощения их мечты: сначала Малороссия, далее – везде. Роль греческого духовенства в наведении мостов между Хмельницким и Москвой огромна; Никон, сделавшись патриархом в 1652 г., также активно подключился к этому делу. Украинский гетман писал ему лично, прося поддержать его настойчивые просьбы о принятии «под государеву высокую руку», которые в Москве осторожно отклоняли. Никон отвечал, что «наше же пастырство о вашем благом намерении, хотении к пресветлому государю нашему, его царскому величеству, ходатайствовать и паки не перестает».
Патриаршьи усилия не прошли даром. В октябре 1653 г. Земский собор принял решение «против польского короля войну весть», а Хмельницкого с войском Запорожским «з городами их и з землями принять». Характерно, что риторика этой войны совершенно лишена мотива борьбы за объединение Русской земли и даже борьбы за «государеву отчину». В обращении к русскому войску говорилось, что его поход является ответом на «неправды» польских королей и их гонения на православную веру. В воззвании, адресованном православным жителям Польско-Литовского государства, подчеркивалось, что цель московского царя – защита от гонений «святой Восточной церкви Греческого закона» и освобождение православных от власти иноверных правителей – «сопостат Божиих». «Поход должен быть стать своего рода „священной войной“ и… привести к освобождению православных на территории Восточной Европы от религиозного угнетения» (Б. Н. Флоря). (И позднее, даже в секретной дипломатической переписке, говорилось, что царь принял «черкас» под свою защиту «для единой православной веры греческого закону».) Несколькими месяцами ранее Алексей Михайлович, в разговоре с греческими купцами, пообещал освободить восточных единоверцев от турок: «Я принял на себя обязательства, что, если Богу угодно, я принесу в жертву свое войско, казну, даже кровь свою для их избавления». А еще раньше, в феврале началась церковная реформа, «исправляющая» русские богослужебные книги и обряды по греческому образцу.
Связь между этими событиями очень простая – в чаемую царем и патриархом всеправославную империю должны были войти миллионы новых подданных, молившихся по другому, чем русские, уставу – Иерусалимскому (в том числе и малороссы). Следовательно, обряд нужно унифицировать, следовательно… а дальше поразительная логика – обряд обязаны изменить не освобождаемые ценой русской крови народы, а их освободители! Так впервые русская власть ради имперской химеры пожертвовала интересами и ценностями своего народа. Давно уже доказано, что русские вовсе не исказили свой обряд, а просто сохранили черты более древнего, изначально ими полученного из Константинополя устава. Никон, конечно, этого не знал, но показательно, что он бескомпромиссно предпочел греческий образец, даже не подумав о возможной равноправности двух этих уставов в будущей империи, что не противоречило никаким канонам. Таким образом, «под предлогом вселенской полноты старорусское заменяется новогреческим» (Г. В. Флоровский). Комплекс культурной неполноценности честолюбивого парвеню, испытываемый Никоном по отношению к грекам, совершенно затмил его разум. «По самому своему характеру склонный к увлечениям и крайностям, мало способный соблюдать меру и осторожность в чем бы то ни было, Никон и в своем грекофильстве доходил до крайностей, не знал меры. „Хотя я русский и сын русского, – торжественно заявлял он, – но моя вера и убеждения греческие“… Никон… переносит к нам… греческие амвоны, греческий архиерейский посох, греческие мантии и клобуки, греческие напевы, приглашает на Русь греческих живописцев, мастеров серебряного дела, строит монастыри по образцу греческих и дает им греческие названия, приближает к себе без разбора всех греков, слушает только их, действует по их указаниям, повсюду выдвигает на первый план греческий авторитет» (Н. Ф. Каптерев). «У Никона была почти болезненная склонность все переделывать и переоблачать по-гречески, как у Петра впоследствии страсть всех и все переодевать по-немецки или по-голландски» (Г. В. Флоровский). И это при том, что патриарх был искренним адептом учения о Руси как Новом Израиле, о чем, в частности, свидетельствует строительство им в Подмосковье Новоиерусалимского монастыря.
Поразительно и то, как была произведена реформа. Никакого соборного обсуждения, никаких совещаний, хотя бы с архиереями. Русскую церковь и ее паству просто поставили перед фактом – по московским приходам было разослано повеление, что «не подобает во церкви метания творити по колену, но в пояс бы вам творити поклоны, еще и тремя перстами бы есте крестились». Властный произвол – главный принцип московского правления – явлен здесь в дистиллированном виде. Но ранее все же произвол этот, подавляя всякую независимость русских людей от власти, не покушался на их компенсаторную гордыню перед другими народами. Москва знала, что она Новый Израиль или Третий Рим, хранитель истинной, незапятнанной отступничеством христианской веры. А тут оказалось, что хранили вовсе не истину, а ложь, а истине надо учиться у оскверненных унией с латинянами и рабством у басурман всеми презираемых греков. Что у них было доброго, то все к нам перешло – считали на Руси; греческих купцов называли «неверными» и нередко не пускали в русские храмы, так что греки принуждены были просить себе в Москве особой церкви.
Народное большинство не могло не воспринять введение нового обряда как очевидное русское унижение. «Учат нас ныне новой вере, якоже… мордве или черемису», – с обидой писали соловецкие монахи в челобитной царю Алексею 1667 г. Она проводилась греками, в свою очередь тоже презиравшими «московитов» как варварский, непросвещенный, «несовершеннолетний» народ (а также приезжими малороссами, подозреваемыми москвичами в «латинской ереси»), которые всеми силами старались дезавуировать новоизраильскую/третьеримскую идею русской избранности. Церковный собор 1666–1667 гг. осудил и запретил «Повесть о Белом клобуке» и постановления Стоглавого собора 1551 г.; было даже запрещено писать на иконах лики митрополитов Петра и Алексея в белых клобуках. «Эти резолюции явились своего рода историко-философским реваншем для греков. Они отомстили русской церкви за упреки по поводу Флорентийского собора и разрушили этими постановлениями все обоснование теории Третьего Рима. Русь оказывалась хранительницей не православия, а грубых богослужебных ошибок… Все осмысление русской истории менялось постановлениями собора… Читая эти деяния собора, историк не может отделаться от неприятного чувства, что и лица, составлявшие текст постановлений этого полугреческого-полурусского собрания, и принявшие их греческие патриархи формулировали эти решения с нарочитым намерением оскорбить прошлое русской церкви» (С. А. Зеньковский).
Но на том же самом соборе, где подверглась поруганию старая русская вера, был лишен патриаршего сана и извержен из епископского достоинства Никон, дерзко возомнивший, что его духовная власть выше светской монаршей власти. В принятых послушными царской воле восточными патриархами правилах появилось указание: «Патриарху же бытии послушлива царю, яко же поставленному на высочайшем достоинстве». В случае возникновения разногласий царь получал право просто смещать патриарха. Ранее от самодержца фактически зависело его и других иерархов назначение, но их самовольное низложение считалось беззаконным насилием, что признал сам же Алексей Михайлович, покаявшись в 1652 г. за проступок своего грозного «прадеда» в отношении митрополита Филиппа. Теперь же провозглашалось, что «никто… не имеет толику свободы да возможет противиться царскому велению – закон бо есть». «Это было новое и совершенно неожиданное утверждение господства царя и государства над церковью, основанного на принципе божественного права государя» (С. А. Зеньковский).
Единственным более-менее устойчивым, хоть и неписанным, ограничением русского самодержавия доселе оставалась его религиозно-нравственная «отчетность» перед церковью в качестве социального гаранта соблюдения христианских заповедей. Алексей Михайлович, устранив и лидеров старообрядцев, и их главного оппонента Никона, расколов и обессилив церковь, вывел царскую власть и из-под религиозной санкции. В результате, как формулирует А. Г. Глинчикова, произошел переход «от национального теократического государства к патерналистской светской империи»: общество сохранило прежний патерналистский тип подчинения, а власть добилась полного освобождения от какой бы то ни было моральной ответственности за свои действия перед обществом.
Особо нужно поговорить о старообрядчестве. В последние годы некоторые авторы попытались представить его как русскую Реформацию во главе с русским Лютером – протопопом Аввакумом (А. Г. Глинчикова), русскую национальную альтернативу нарождающейся империи (Т.Д. и В. Д. Соловьи), модель развития гражданского общества в России (Д. В. Саввин) и т. д. Подобные формулировки мне представляются излишне радикальными (скажем, в старообрядческой мысли, продолжавшей традиции московской культуры, так и не оформился концепт русского народа), но, безусловно, некие зародыши всего упомянутого в учении и практике приверженцев старой веры видны. В некоторых отношениях они были «архаистами-новаторами», «консервативными революционерами». Например, в их утопии «оцерковления мира», в которой намечались очертания проекта социально ориентированного православия. Или во вполне демократическом требовании участия рядового белого духовенства и мирян в управлении церковью; право это, по их мнению, принадлежит «не единым бо архиереям, но в мире живущим, и житие добродетельное проходящим, всякого чина людям». И указанный принцип ревнители благочестия отстаивали, несмотря на гонения и казни, отказавшись подчиняться авторитету церковных иерархов, покорно пошедших, за единичными исключениями, на поводу у Никона.
Сам факт массового неповиновения властям – как духовным, так и светским – свидетельствует не только о незаурядной силе веры, но и глубинном социокультурном нонконформизме миллионов простых русских людей. Насельники Соловецкого монастыря оборонялись от правительственных войск восемь лет и на седьмом году прекратили молиться за «царя-ирода». Даже в Москве старообрядцы умудрялись устраивать диссидентские акции, так, в 1681 г. некий старовер Герасим Шапочкин влез на кремлевскую Ивановскую колокольню и разбросал оттуда «воровские письма на смущение народа». В 1682 г. старообрядцы попытались взять на себя роль идеологов стрелецкого бунта (знаменитая Хованщина), после подавления которого наиболее яркий «раскольничий» оратор Никита Добрынин, прозванный оппонентами Пустосвятом, был «главосечен и в блато ввержен, и псам брошен на съядение». Позднее такие идеологи старообрядчества, как братья Андрей и Семен Денисовы, выдвинули идею, что сувереном Руси является не «великий государь», а «все русские города и деревни»; в их сочинениях подчеркивается приоритет соборного начала над иерархическим. В поморских старообрядческих общинах, опиравшихся на демократические традиции русского Севера, управление было выборным, а все решения принимались большинством голосов.
Аввакум в своем великом «Житии» и других произведениях тоже был несомненным новатором, пролагавшим новые пути для национальной культуры. Его привязанность к «русскому природному языку» была осознанной культурной позицией: «…не латинским, ни еврейским, ниже иным коим ищет от нас говоры Господь, но любви с прочими добродетелями хощет, того ради я и не брегу о красноречии и не уничижаю своего языка русскаго». Обращаясь к царю Алексею, он писал: «Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком; не уничижай ево и в церкви и в дому, и в пословицах. Как нас Христос научил, так и подобает нам говорить. Любит нас Бог не меньше греков; предал нам и грамоту нашим языком Кириллом святым и братом его. Чево же нам еще хощется лучше тово?» А. М. Панченко справедливо сопоставил эти рассуждения огнепального протопопа с написанной более столетием назад «Защитой и прославлением французского языка» поэта и теоретика «Плеяды» Жоашена Дю Белле: «Если оставить в стороне религиозный момент, то мысли Дю Белле и мысли Аввакума оказываются почти тождественными. Аввакумово сочетание „природный язык“ адекватно французскому langage naturel, английскому native tongue, польскому jezyk przyrodzony. Все это ренессансная и постренессансная лингвистическая терминология. Передовые умы Европы в XVI–XVII вв. уже не видят в национальных языках lingua vulgaris. В них видят качество „натуральности“, их ценят за общеупотребительность и общепонятность, и в этом плане они имеют множество преимуществ перед греческим и латынью… Множатся утверждения, согласно которым национальные языки могут использоваться как языки культуры и науки».
Казалось бы, где Ренессанс, а где Аввакум? Но очевидно, что внутри старомосковской культуры шел процесс, пусть с запозданием и в традиционалистской оболочке, аналогичный общеевропейскому тренду становления литератур на национальных языках. Да и само пристальное и совершенно невозможное для предшествующей московской литературы внимание к личности, к индивидуальности, явленное в том же «Житии», чем не ренессансная тенденция? Разгром старообрядчества, а затем его катакомбное существование (Аввакума русские писатели открыли для себя только во второй половине XIX в.) резко оборвали это движение, и мы никогда не узнаем, что бы из него произросло.
Победить старообрядцы конечно же не могли. Практически вся высшая аристократия (кроме двух героических женщин – сестер боярыни Феодосии Морозовой и княгини Евдокии Урусовой, уморенных голодом в заточении) и служилое дворянство (опять-таки кроме еще одной героической женщины – помещицы Марии Даниловой) бестрепетно отреклись от веры отцов; стрельцов и казаков, ей сочувствовавших, все-таки больше занимали собственные корпоративные интересы, поэтому религиозных войн, подобных европейской борьбе между католиками и протестантами, в России не произошло. Простонародье же могло сопротивляться почти исключительно пассивно. В первые годы правления Федора Алексеевича была надежда на смену религиозной политики, власть явно колебалась, но заканчивалось это царствование в отблеске костра, на котором сгорели пустозерские сидельцы. Шанс на победу мелькнул во время Хованщины, когда стрельцы в течение четырех месяцев контролировали Москву, а глава Стрелецкого приказа князь И. А. Хованский в целях уничтожения своего противника патриарха Иоакима принял сторону староверов. Но царевна Софья переиграла Хованского, с тех пор для них подобное окно возможностей больше не открывалось.
Расправы над сторонниками древлего благочестия (в том числе и сожжения), равно как и их саморасправы-самосожжения, принадлежат к самым жутким страницам нашей истории. Принятые для борьбы со старой верой в 1685 г. Двенадцать статей инструктировали в отношении наиболее упорствующих: «…буде не покорятся, жечь в срубе и пепел развеять», и инструкция эта успешно применялась: только в течение нескольких недель перед Пасхой 1685 г. в срубах были сожжены около ста человек. В добровольных «гарях» 1660—1680-х гг. погибли тысячи, всего же с 1666 по 1897 г. жертвами массовых самоубийств стали около 20 тысяч «древлеправославных». Гонения на «раскольников» с разной степенью интенсивности продолжались до 1906 г., РПЦ сняла «клятвы» (анафему) с них только в 1971 г. Впрочем, сомнительно, что, возьми верх старообрядцы, они оказались бы толерантнее к противникам. «А что, государь-царь, как бы ты мне дал волю, я бы их [ «новообрядцев»], что Илия пророк, всех перепластал во един день… Да воевода бы мне крепкой, умный – князь Юрий Алексеевич Долгорукой [прославился, среди прочего, кровавым усмирением Разинщины]! Перво бы Никона-того собаку, разсекли бы начетверо, а потом бы никониян-тех» – такие вот фантазии изливал в челобитной царю Федору Алексеевичу Аввакум из Пустозерского узилища.
Социокультурные последствия раскола катастрофичны. Огромная масса русских людей (даже в XIX в. – от четверти до трети всех великороссов) – одновременно и наиболее консервативных, и наиболее внутренне самостоятельных – ушла, по сути, во внутреннюю эмиграцию. Тем самым Россия лишилась нормального, здорового традиционализма, замененного покорным и бездумным властепочитанием в духе знаменитого афоризма архимандрита Чудового монастыря и будущего патриарха Иоакима, ответившего на вопрос ближнего царского человека М. А. Ртищева о своем отношении к старой вере: «…не знаю старые веры, ни новые, но что велят начальницы, то и готов творити и слушать их во всем». Но и сам «древле-православный» традиционализм, при всей его почтенности, находясь в подполье и законсервировавшись, не мог полноценно развиваться и выработать какую-то внятную альтернативу; после Денисовых старообрядческая мысль практически не развивается, обратившись в начетничество. Но спасибо этой подпольной субкультуре и за то, что она сохранила древнюю иконопись и ответственную трудовую этику, которая дала впоследствии чуть ли не две трети отечественных капиталистов: Морозовых, Рябушинских, Гучковых…
«Расколом была произведена та роковая трещина, куда стала потом садить дубина Петра, измолачивая наши нравы и уставы без разбору. С тех пор долго, устойчиво исконный русский характер сохранялся в обособленной среде старообрядцев – и их вы не упрекнете ни в распущенности, ни в разврате, ни в лени, ни в неумении вести промышленное, земледельческое или купеческое дело, ни в неграмотности, ни, тем более, равнодушии к духовным вопросам. А то, что третий век мы наблюдаем как „русский характер“, – это уже результат искажения его жестоко бездумным Расколом…» (А. И. Солженицын).
«Украинизация» России
Как уже говорилось выше, одновременно с расколом и в тесной связи с ним происходило объединение Малороссии с Московским государством. Распавшиеся части «Русской федерации» снова начали срастаться. Но протекал этот процесс непросто, слишком уж сильно они стали друг от друга отличаться за три с половиной века, проведенные врозь.
После принятия Брестской унии православные Западной Руси остались без церковной иерархии, перешедшей в униатство (исключения были, но с течением времени эти епископы умирали, а ставить новых запрещали поляки) и без могущественных светских покровителей – русская аристократия быстро окатоличивалась и полонизировалась, в том числе даже такие знаменитые своей защитой православия роды, как Вишневецкие и Острожские. То есть, формально говоря, в смысле политического представительства «народ руський» перестал существовать. С конца XVI в. начинают распространяться надежды на помощь московского царя-заступника (прежде воспринимавшегося как «жестокий тиран») и «российский народ», частью которого являются и западноруссы, не перешедшие в «ляшскую веру». С 20-х гг. XVII в. главным субъектом борьбы православных за свои права стали запорожские казаки, которые в православной публицистике были представлены как «люди рыцарские», продолжающие дело великих киевских князей и защитники православия, то есть обретали статус новой аристократии, представляющей «народ руський». Православие, исповедуемое казаками, не мешало им участвовать в Смуте на польской стороне и убивать православных клириков (так, в 1612 г. в Вологде запорожцы вместе с поляками предали смерти 37 священников, 6 дьяконов и 6 монахов), но нежелание Варшавы расширять число реестровых (то есть состоящих на государственном жалованье) казаков толкало их на конфликт с нею.
Уже в 1620 г. гетман Петр Сагайдачный отправил послов в Москву с предложением своей службы. В том же году «под защитой казачьих сабель» (С. Плохий) проезжавший через Украину патриарх Иерусалимский Феофан сумел посвятить в епископский сан нескольких православных клириков. В 1622 г. посланцы новопосвященного епископа Перемышльского Исайи Копинского сообщили царю Михаилу Федоровичу, что «все, государь, православные христиане и запорожские казаки, как им от поляков утесненья будет, хотят ехать к тебе, великому государю». С той поры подобные просьбы стали регулярными, как и массовые переселения западно-руссов в ранее не слишком-то им симпатичную Московию. В Киеве архимандрит Киево-Печерской лавры (а позднее митрополит Киевский) Петр Могила создал православную духовную академию, в своей организации и программе, правда, следовавшую католическим (иезуитским) образцам. В 1632 г. сейм Речи Посполитой официально признал права православной церкви, получившей митрополию в Киеве и епархии в Луцке, Львове, Перемышле и Мстиславле; эта уступка тоже была связана с казацким фактором – начиналась Смоленская война с Россией, и казачья удаль срочно понадобилась польской короне.
Но кончилась война – кончились уступки. С 1635 г. пошло активное проникновение польской знати и католической церкви на левый берег Днепра, закрепощение местных крестьян, наступление на права православных. Последних особенно оскорбляло то, что паны-католики нередко отдавали православные храмы, находящиеся в их владениях, в аренду ростовщикам-иудеям; ярко выраженная юдофобия, присущая народным восстаниям того времени, – именно отсюда. Стал усиливаться и контроль над казачеством, количество реестровых, ранее увеличенное, снова сократили. Все это вызвало серию мощных казацких мятежей, массово поддержанных крестьянством. В результате наиболее крупного из них, во главе с Богданом Хмельницким, на Украине образовалось независимое казацкое государство. В 1649 г. Польша была вынуждена признать автономию трех воеводств (Киевского, Брацлавского и Черниговского). В 1651 г. военные действия продолжились, на сей раз неудачно для Хмельницкого – по новому соглашению, казацкая автономия сузилась до одного лишь Киевского воеводства. Ясно было, что самостоятельно казакам от поляков не отбиться. Положение осложнялось тем, что главные опоры Богдана тянули в разные стороны. Казацкая верхушка (старшина) искала компромисса с Польшей, рядовые казаки и крестьяне выступали за переход под руку Москвы. Гетман вел сложную игру, стараясь лавировать между всеми сторонами, ведя переговоры не только с королем и царем, но и с турецким султаном. Но в конце концов ему пришлось сделать выбор в пользу России.
В 1654 г. в Переяславе были подписаны условия объединения Малороссии с Русским государством, которые более чем на столетие определили особое правовое положение первой в составе второго. Казаки и весь украинский народ давали клятву верности царю (именно представители казачества, в отличие от московских послов с их «всеправославной» риторикой, на переговорах акцентировали тему общерусского единства и Киева как «государевой отчины»), но последний подтверждал их права и свободы: казацкое самоуправление во главе с гетманом, независимость казацких судов, неприкосновенность казацких земельных угодий, привилегии украинской шляхты, духовенства и городов. Таким образом, в России возникла первая «областная автономия» (Б. Э. Нольде) с правами, которых не было ни у одной из великорусских областей, а царь Алексей Михайлович стал отныне именоваться с подачи Хмельницкого и его окружения «самодержцем всея Великия и Малые России». (Позднее на волне первых ратных успехов добавилось и «Белыя», однако сами белорусские завоевания сохранить не удалось.) Но приобретение этой территории и этого титула стоило России большой крови и огромного напряжения сил. И дело не только в том, что Речь Посполитая была серьезным противником, но и в своеобразном поведении казацкой старшины, нарушавшей переяславскую клятву на каждом шагу.
Польские порядки, по справедливому мнению старшины, гораздо лучше гарантировали режим ее олигархического правления, чем московские. В калейдоскопе гетманов, сменявших друг друга от смерти Хмельницкого (1657) до избрания Ивана Самойловича (1672), мы видим один и тот же политический гопак: торговля русским подданством для выгодного возврата в Речь Посполитую, с подключением в качестве подстраховочного партнера Оттоманской Порты, и метания из стороны в сторону в этом треугольнике, каждое из которых ввергало Украину в новый виток опустошительной Руины. Впрочем, умонастроение «хто-де будет силен, того-де и мы» владело и изрядной частью рядового казачества. Известны случаи, когда казаки вместе с крымчаками грабили, убивали, уводили в полон своих же украинских крестьян и горожан. «…На черкас надеятца никако невозможно и верить нечему, яко трость колеблема ветром, так и они. И поманят на время, а будет увидят отчасти нужу, тотчас русскими людми помирятца с ляхи и с татары», – с горечью констатировал в 1660 г. освободитель и самодержец «Малые России» Алексей Михайлович. Ведущий московский дипломат А. Л. Ордин-Нащокин вообще предлагал ради мира с Польшей уступить «черкас» польскому королю, ибо «черкасская в подданстве неправда всему света явна в их непостоянстве и хотят, чтоб война и кровь никогда не перестала». Если бы не упорное нежелание поляков давать малороссам равные права, как знать, удалось бы России даже Левобережье присоединить?
Тем не менее эта тактика политической проституции имела успех – Москва была вынуждена договариваться с изменнической старшиной. Глуховские (1669) и Конотопские (1672) статьи закрепляли господствующее положение казацкой верхушки, вошедшей в состав России Левобережной Украины (плюс Киев). В ее руки переходили все местное управление и сбор налогов, роль царских воевод ограничивалась командованием крепостными гарнизонами. При этом, по представлению гетмана и старшины, казаки могли получать российское дворянство. Впрочем, выиграли не только верхи, низам тоже кое-что перепало. На Украину до 1783 г. не распространялось крепостное право (но, надо оговориться, малороссийская шляхта затем сама постепенно подготовила его введение). Даже в начале 1730-х гг., когда украинская автономия была уже значительно урезана, душевая ставка налогообложения в Гетманщине (включая и косвенные налоги) составляла приблизительно 30 коп. – сумму более чем в два раза меньшую ставки подушной подати великорусского крестьянина (подушная подать распространилась на Украину только при Екатерине II), а с учетом косвенных налогов – более чем в 3,5 раза. Доходы, получаемые российской казной от Малороссии, «далеко не покрывали… даже расходов на содержание крепостей и охраняющих ее границы российских полков» (Н. Н. Петрухинцев). О том, что положение украинцев в России было вполне благоприятным, свидетельствует их многочисленная миграция (в том числе и шляхетская) с польского Правобережья на русское Левобережье, а не наоборот.
Любопытно, что украинские привилегии могли иметь экстерриториальный характер. В Слобожанщину, не входившую в Гетманщину и, следовательно, не подпадавшую под действие московско-казацких договоров, еще с 1650-х гг. началось массовое переселение малороссов, в 1660-х гг. их там было уже около 60 тыс. Московское правительство, стремясь привязать этих людей к их новой родине, предоставило им множество льгот по образцу Гетманщины. Военно-территориальные корпорации – полки – получили автономное самоуправление во главе со своей старшиной: «…малорусские переселенцы пользуются гораздо большею свободою, чем московские сведенцы; образуется, таким образом, как бы два управления, великоруссами заведуют воеводы, и их приказные, черкасами – их выборные начальники…» (Д. И. Багалей). Была сохранена и признана украинская специфика землевладения и землепользования (хуторская система, свободная купля-продажа земли). Сняты все налоги с промыслов и винокурения и таможенные сборы с торговли. То есть фактически произошел переход к безналоговой системе, которая не распространялась на русских жителей Слобожанщины, а проникновение туда новых русских переселенцев было резко ограничено на законодательном уровне. Вот, например, такой «типичный эпизод» (В. П. Загоровский). В 1674 г. «нежегольский черкашенин» Мартын получил разрешение основать слободу на Волчьих Водах (теперь там город Волчанск Харьковской области) и призывать туда «свою братью черкас из малороссийских и из заднепровских городов», но «русских людей» ему принимать было «не велено». Когда последние там все же появились и это стало известно властям, из Белгорода в слободу отправился воинский отряд, который вывел «с Волчьих Вод многих русских людей», причем даже не несших тягла.
Русское помещичье землевладение на Слобожанщине даже в 1720-х гг. не составляло и шестой части дворов. Денежные повинности украинских владельческих крестьян были по меньшей мере вдвое-втрое ниже, чем у владельческих крестьян центра России. Замечательно, что украинские поселения в пределах Белгородской черты, хотя и находились под управлением русской администрации, также имели значительные налоговые и таможенные льготы, сближаясь по своему социально-экономическому положению со Слобожанщиной и Гетманщиной, их население сохраняло право переходов не только в рамках своего региона, но и в любую из указанных областей. Только в начале 1730-х гг. произошло ограничение украинских привилегий в Слобожанщине, но и то сумма введенного налога была в 3,5 раза меньше подушной подати русских помещичьих крестьян и в 5,5 раза меньше подати русских однодворцев.
Напомним, что раньше Московское государство, присоединяя к себе новые земли, распространяло на них свои порядки, выводило (или даже частично изводило) местную элиту. В Малороссии же не только ничего этого не произошло, но она получила привилегии, которых не имело великорусское ядро России. Ради удержания новых, слишком беспокойных приобретений самодержавие отступило от своей генеральной линии. Именно с этого момента и начинается Российская империя со всей своей спецификой – «империя наоборот», где «метрополия» живет хуже «колоний». Разумеется, эта система сложилась не по какому-то преднамеренному плану, а спонтанно: целью самодержавия стала внешняя экспансия в Европу; воюя за те или иные территории с сильными соперниками, оно было вынуждено считаться с хорошо организованными и привыкшими к набору гарантированных прав корпорациями местной знати и привлекать ее на свою сторону как минимум сохранением этих льгот. Великороссии же, веками существовавшей без прав и свобод, отводилась роль орудия и ресурса империи, а вовсе не ее «бенефициара». С появлением в составе государства «льготников» бесправное положение великороссов становилось вопиющим.
При Петре I украинская автономия будет ограничена, при Екатерине II – вовсе уничтожена. Но одновременно или позже появятся другие областные автономии, отношения с которыми будут построены по той же схеме. Например, Башкирия в XVIII в. обладала огромной автономией, будучи практически почти самостоятельным полувассальным полугосударственным образованием. Земля считалась находящейся в вотчинном владении башкир, продажа и сдача башкирских земель в аренду небашкирам была запрещена, число русских помещиков в Уфимском уезде не превышало 200 человек. Ясак для разных категорий населения был разным. Так называемые «тептяри» (пришлое население), не имеющие права собственности на используемые земли, платили со двора в среднем 9,2 коп. с души, что было в 8 раз ниже подушной подати с русских владельческих крестьян или в 12,4 раза ниже 114-копеечной подати с крестьян государственных. А «коренные» башкиры платили ясак с земли, промыслов и угодий, что составляло 22,4 % общего объема башкирского ясака, то есть не более 4–5 коп. с души. Косвенные налоги были невелики. И даже после подавления антироссийского восстания 1735–1740 гг. объем ясака практически не изменился. На Башкирию не распространялась таможенная система России и соляная монополия, что с учетом огромных запасов илецкой соли было для башкир весьма выгодно.
Итак, воссоединение под одной короной двух наследников Киевской Руси вовсе не было идиллией в стиле долгожданной встречи разлученных братьев. Украинская старшина шла в Россию с камнем за пазухой, великороссам полонизированные малороссы казались по меньшей мере подозрительными. «Хотя черкасы исповедуют веру православную, но обычаи и нравы звериные имеют; причиною тому одна ересь, не духовная, а политическая; начальники этой ереси – ляхи, а от них научились держать ее крепко и черкасы», – констатировал русский автор «Описания пути от Львова до Москвы», анонимного сочинения середины XVII в. Еще совсем недавно от приезжих западнороссов требовали повторного крещения. А за бесчинства запорожцев в Смуту их величали «разорителями истинныя нашея православныя веры и креста Христова ругателями…». Даже в 1682 г., спустя почти тридцать лет после Переяславской рады, в царском указе «людям боярским» предписывалось не оскорблять «черкасов», причем в каком контексте: «…вам же с иноземцом, черкасом, немцом и иным никаким людем поносных никаких слов не говорить и ничем не дразнить!» Характерно, что в великорусских источниках украинцы почти никогда не именуются русскими.
Симеон Полоцкий в 1669–1670 гг. сетовал, что малороссы летят в Москву, как пчелы на благовоние, но очень раздражают местных жителей своим неискренним и своекорыстным поведением, ибо «никто не любит того, кто кричит: дай, дай мне», кроме того, «непостоянство Украины отвратило от нас остаток их [великороссов] благосклонности». Вряд ли добавила москвичам симпатий к новообретенным родичам-«еретикам» их активная роль, наряду с греками, в осуждении старой веры и постепенный захват украинскими архиереями руководства Русской церкви. В проведении церковной реформы самодержавие охотно опиралось на кадры, поставляемые из Киева (Епифаний Славинецкий, Дамаскин Птицкий, Арсений Сатановский и др.): во-первых, они были людьми образованными, во-вторых – естественными приверженцами нового обряда; в-третьих, на них, как на чужаков, с презрением относившихся к «непросвещенным варварам-московитам», можно было опереться в борьбе с отчаянно сопротивлявшемся переменам великорусским духовенством. Таким образом, западнорусские выходцы стали первой (но далеко не последней) в истории России этнокорпорацией, с помощью которой верховная власть проводила в жизнь заведомо непопулярные среди русского большинства преобразования.
С начала XVIII в. уже можно говорить о «малороссийском засилье» в церковной иерархии: «Великороссы оказались почти совсем оттеснены от руководства церковью киевскими монахами, захватившими епископские кафедры и Синод в свои руки… То же явление можно было наблюдать в епископских кафедрах и управлениях, в семинариях, и в придворном духовенстве. Бывшее Московское царство в результате оказалось без своего великорусского пастырства» (С. А. Зеньковский). Это бросалось в глаза даже посторонним наблюдателям, иерусалимский патриарх Досифей, которого вряд ли можно заподозрить в особом пристрастии к великороссам, обращался в 1686 г. к царям Ивану и Петру Алексеевичам с тем, чтобы «в Москве сохранен бе древний устав, да не бывают игумены или архимандриты от рода казацкого, но москали», полагая правильным такой порядок: «Москаль и на Москве и в казацкой земле, а казаки только в казацкой земле».
В 1722 г. Синод состоял из пяти малороссов и четырех великороссов, в 1725 г. в Синоде – двое великороссов на пятерых киевлян, в 1751-м – девять епископов-малороссов и только один (!) великорусский протопоп. Всего из 127 архиереев, служивших на великорусских кафедрах в 1700–1762 гг., 70, то есть более половины, принадлежали к малороссам и белорусам (в данном случае разница между ними не имеет значения – как правило, и те и другие заканчивали Могилянскую академию, были представителями общей полонизированной западнорусской культуры), 47, то есть немногим более трети, – к великороссам, остальные – к грекам (3), румынам (3), сербам (2), грузинам (2). Дело дошло до того, что императрица Елизавета Петровна, вообще-то большая покровительница малороссов, в 1754 г. была вынуждена издать специальный указ: «Чтобы Синод представлял на должности архиереев и архимандритов не одних малороссиян, но и из природных великороссиян». Тем не менее в первые три года после этого указа на великорусские кафедры попали пять малороссов, один грузин и ни одного великоросса, в 1758 г. – из десяти назначенных архиереев только один оказался великороссом, все прочие – малороссами, и лишь в 1761 г. указ заработал – назначения получили шесть великороссов и два малоросса. Один из великорусских архиереев первой половины XVIII в. жаловался на малороссийских коллег: «…у них кареты дорогие и возки золотые. А мы, победные, утесненные, дненощно плачем: различно велят [консисторским] секретарям и канцеляристам [ – ] нам, русским, досаждать и пакости чинить, а своих черкасов снабдевают и охраняют». Церковная жизнь того времени знает немало этнически окрашенных конфликтов между великороссами и «черкасами». Ситуация принципиально изменилась только при Екатерине II.
В целом «культурное руководство европеизирующейся имперской России конца XVII и начала XVIII в. почти не имеет в своих рядах великороссов» (С. А. Зеньковский). Зато там преобладают выходцы из Западной Руси. Главным придворным поэтом при Алексее Михайловиче и Федоре Алексеевиче (и воспитателем последнего) был белорус Симеон Полоцкий, закончивший Могилянскую академию. Идеологом петровской церковной реформы стал епископ Псковский и Нарвский Феофан Прокопович, а его главным оппонентом – митрополит Рязанский и Муромский Стефан Яворский, ведущим духовным писателем – Дмитрий Туптало, епископ Ростовский. Все они были проводниками первой европеизации России, когда духовная и светская ее культура переделывалась по малороссийско-польско-латинским лекалам, ведь, как уже говорилось выше, западнорусская образованность основывалась на католических образцах. В самих по себе этих лекалах ничего худого нет, напротив, в некоторых отношениях они были необходимы и весьма полезны, но беда в том, что их внедрение, за которым стоял «административный ресурс», происходило не посредством диалога/соревнования с местной традицией, а через изничтожение последней.
Старомосковская культура, связанная со старообрядчеством, подвергалась едва ли не полному отрицанию: «Отрицается почти все, что было создано за семь столетий, протекших со времен Владимира Святого. Отрицаются книги и профессиональная музыка, иконы, фрески и зодчество (вспомним хотя бы о запрещении строить шатровые храмы), навыки общения между людьми, одежды, праздники, развлечения. Отрицаются многие традиционные институты – например, институт юродства, который на Руси выполнял важнейшие функции общественной терапии. Анафеме предаются и событийная культура, и культура обиходная, вся национальная топика и аксиоматика, вся сумма идей, в соответствии с которой живет страна, будучи уверенной в их незыблемости и непреходящей ценности. Притом цель этого отрицания – не эволюция, без которой, в конце концов, немыслима нормальная работа общественного организма, но забвение, всеобщая замена. В глазах „новых учителей“ русская культура – это „плохая“ культура, строить ее нужно заново, как бы на пустом месте, а для этого „просветити россов“ – конечно, по стандартам западноевропейского барокко» (А. М. Панченко). Петровская европеизация тоже долго опиралась на малороссийские концепты и кадры.
Таким образом, совершилась настоящая культурная революция. Киевская редакция церковнославянского языка вытесняла московскую из духовной и светской литературы, в которых стали господствовать риторические приемы Могилянской академии, западнорусская силлабическая поэзия и западнорусская же переводная повесть. Украинское влияние не меньше сказалось и в музыке, живописи, церковной архитектуре. Целиком из него вырос первый русский театр. Н. С. Трубецкой даже считал, что «на рубеже XVII и XVIII веков произошла украинизация великорусской духовной культуры (курсив мой. – С. С.)… старая великорусская, московская культура при Петре умерла; та культура, которая со времен Петра живет и развивается в России, является органическим и непосредственным продолжением не московской, а киевской, украинской культуры». С радикализмом этого вывода современные специалисты не вполне согласны, но по крайней мере в отношении культуры верхов он, видимо, верен.
Надо признать, что именно западноруссы привнесли в московскую культуру идею народа/нации, которая была издавна присуща польско-литовскому миру. По утверждению П. Бушковича, впервые собственно этнический дискурс в отношении русских в отечественных письменных источниках появляется в поэме Симеона Полоцкого «Орел Российский», написанной в 1667 г., одновременно с заключением русско-польского Андрусовского перемирия (кроме присоединения Левобережья зафиксировавшего возвращение в состав Московского царства утраченных в Смуту Смоленской, Северской и Черниговской земель): «Ликуй, Россия, сарматское племя!» Разумеется, сам концепт происхождения славян от древнего народа сарматов польского происхождения, был он популярен и в казачьей среде. В «Сионпсисе» (1674) архимандрита Киево-Печерской лавры Иннокентия Гизеля, первой истории восточных славян, выдержавшей к 1836 г. около тридцати переизданий (из них двадцать одно – в Петербурге), также отчетливо звучит этнонациональный мотив – речь там идет не только о князьях и царях, но и о едином «православном словено-российском» народе, включающем в себя как западноруссов, так и великороссов и ведущем свою генеалогию из Киевской Руси. В начале XVIII в. Феофан Прокопович наречет этот народ «россиянами».
С одной стороны, перед нами действительно национальная (без всяких «прото») идеология восстановления распавшегося некогда русского единства. С другой – нельзя забывать ту историческую реальность, которую эта идеология прикрывала: униженное положение великороссов и привилегии для малороссов. Строго говоря, только последние тогда и составляли в России нацию – политический субъект с гарантированными правами, кроме того, именно их культура стала культурой правящего класса. При этом в начале XVIII в. начинает зарождаться собственно украинское национальное самосознание – в казацких летописях проводится идея «политической и социальной самобытности Украины» (З. Когут), как «особой страны, полунезависимой политически» (К. В. Харлампович), всегда сохранявшей свои права и свободы. (Впрочем, уже в воззвании гетмана Ивана Брюховецкого 1668 г. говорится про «Украину, отчизну нашу милую».) В казацкой публицистике уже используется понятие «нация», казаки называли себя нацией малороссийского народа.
Но демократические практики западнорусской культуры, связанные с казачьим самоуправлением, остались исключительной принадлежностью Гетманщины и украинских анклавов Слобожанщины и Белгородчины. В Москве эта культура выполняла лишь роль барочной придворной декорации для традиционного, крепнущего день ото дня самодержавия. Обилие малороссийских архиереев не сделало Русскую церковь независимее от государства. И конечно, ни о каком возрождении Киевской Руси здесь говорить не приходится, и не только потому, что большая часть ее территории осталась в составе Речи Посполитой. Оба наследника «Русской федерации» слишком далеко ушли от своих истоков: в Московском государстве сам организующий социокультурный принцип стал иным, но и полонизированная украинская элита вряд ли может считаться полномочным представителем безвозвратно унесенного рекой времен «пролога в Киеве».
В последней четверти XVII в. дискурс о народе начинает проникать и в сочинения великорусских книжников. Например, у Исидора Сназина фигурируют «московиты» – потомки скифов. В «Скифской истории» Андрея Лызлова, напротив, «скифы» – это разнообразные кочевники и извечные враги «российского народа». Под явным влиянием «Синопсиса» и польских хроник приобретает огромную популярность легенда о Мосохе, сыне Иафета и внуке Ноя, прародителе «славянского» или «московского народа», от имени которого и произошло название реки и города Москва. Все славяне – потомки Мосоха, но языки их от общения с соседними народами испортились, «истинный же столп языка славянского в Московской земле», как и «старейшее имя славянского народа – Московия». Характерно, однако, что подобные мотивы развивались в окружении изоляционистски настроенного (хотя при этом и грекофила) патриарха Иоакима, но не стали достоянием официозной публицистики, где господствовали совсем другие настроения, наиболее ярко выраженные архимандритом Новоспасского монастыря Игнатием Римским-Корсаковым. Последний тоже время от времени славит «российский род», но не его судьбой он озабочен, а расширением «Российского православного самодержавного царства», мечтая о том, как «царство Ромейское, то есть греческое, приклоняется под державу российских царей Романовых», а в перспективе – «пресветлые наши цари и самодержцы и великие государи» станут «в царском их многолетном здравии всея Вселенныя государи и самодержцы». Приезжие греки братья Лихуды также призывали русских царей «погрузить престол Константинопольский под закон ваш». В этой идеологии православного глобализма нет места не только «москвоцентризму», но даже и призыву к восточнославянскому единству. Таким образом, к концу XVII столетия великорусское национальное самосознание продолжало пребывать в совершенно зачаточном состоянии, задавленное дискурсом разных вариантов российского империализма.
«Костоломная» вестернизация
Со времен С. М. Соловьева в русской исторической науке утвердился вывод о том, что европеизация (а точнее, вестернизация) России началась задолго до петровских преобразований. Действительно, это не может не броситься в глаза. Торговля с Англией и Голландией, покровительствуемая государством, в XVII столетии приобретает огромные обороты. В одном Архангельске в 1680-х гг. голландцы держали 200 агентов, англичане в Вологде и Холмогорах имели собственную землю и дома; конторы и склады иностранных торговых компаний располагались в Москве, Ярославле, Астрахани… Более того, «общение с иноземцами в области торга и промысла приводило… к торжеству иностранного капитала и разоряло русских… конкурентов» (С. Ф. Платонов). Начиная с 1620-х гг. московское купечество жалуется на это власти, но, в общем, безрезультатно. Еще при Михаиле Федоровиче голландец Андрей Виниус получил право ставить первые чугуноплавильные, железоделательные и оружейные заводы близ Тулы. На русскую службу обильно поступали военные, врачи, техники, как правило, протестанты – в середине века в Москве насчитывалось до тысячи лютеран и кальвинистов. С 1652 г. начинает строиться особая Немецкая слобода (Кокуй), занявшая пятую часть столицы. По европейским образцам и под командованием иностранцев-офицеров пересоздавалось войско: в 1680–1682 гг. поместное ополчение было почти полностью заменено полками «нового ратного строя», общее количество солдат в них составило не менее 90 тыс. человек (дворянская конница насчитывала теперь всего около 16 тыс.). При царском дворе и в домах знатнейших вельмож, особенно с воцарением Федора Алексеевича, стали господствовать польские моды и развлечения. В царской, боярских и монастырских библиотеках появилось множество книг на польском и латыни. Государев печатный двор во второй половине столетия увеличил издание переводных сочинений более чем в десять раз (в абсолютных цифрах, правда, это выглядит не столь впечатляюще – 114 книг).
Так что да, Петру досталась уже хорошо подготовленная почва, и при всей своей революционности он был лишь продолжателем, а не зачинателем этого процесса. Следует, однако, оговориться, что и допетровская и петровская вестернизация имела характер внешний, технический – перенимались те или иные полезные или красивые новшества, но не социально-политические институты, благодаря которым Европа смогла эти новшества придумать. Москва оставалась Москвой, увлекались ли русские монархи «латинскими» веяниями или «протестантскими» – и те и другие использовались главным образом для укрепления и подновления старого и неизменного самодержавного принципа.
Были в ту пору умы, которые понимали необходимость иной, структурной вестернизации. Так, приехавший в Москву хорват-католик и первый «панславист» Юрий Крижанич в своей глубокомысленной «Политике», созданной в тобольской ссылке в 1660-х гг., писал об этом – при всем своем яростном пафосе борьбы с «чужебесием» – вполне недвусмысленно. Причину внутреннего неблагополучия Московского царства он видел в присущих ему «крутом правлении» и «людодерских законах», а в качестве лекарства от этой болезни прописывал «дать каждому сословию подобающие, умеренные и по справедливости положенные привилегии… или права (курсив мой. – С. С.)»: «…если [людям] в королевстве даны соразмерные привилегии, то на [королевских] слуг надевается узда, чтобы они не могли потакать всяким своим порочным прихотям и доводить людей до отчаяния. Это – единственное средство, которым подданные могут защититься от злодеяний [королевских] слуг; это единственный способ, который может обеспечить в королевстве правосудие. Если нет привилегий, то никакие запреты, никакие наказания со стороны короля не могут заставить [его] слуг отказаться от их злодеяний, а думников – от жестоких, безбожных людодерских советов».
Именно системой гарантированных прав и отличалась тогда практически вся Европа от России, притом что во многих европейских странах в XVII–XVIII вв. вроде бы установился режим абсолютной монархии и прекратилась работа сословно-представительных учреждений (за исключением Англии, Голландии, Швеции, Польши, Венгрии – список не так уж мал). Но тем не менее в Западной Европе «королевская власть была абсолютной во внешнеполитических, военных и религиозных делах, то есть в рамках королевской прерогативы. За этими границами находились ненарушимые (за исключением тех случаев, которые правитель считал чрезвычайными и которые в большинстве государств оспаривались) права подданных. Право на жизнь, свободу и собственность охранялось законом. Предполагалось, что подданных нельзя лишить их свободы и собственности без должного судебного процесса, а если закон менялся, то подразумевалось, что это происходит с согласия тех, чьи права затрагивались» (Н. Хеншелл).
Отсутствие указанной границы – между прерогативами монарха и ненарушимыми правами подданных, в силу полного отсутствия этих самых прав – и есть главная особенность самодержавной России, по крайней мере до Жалованной грамоты дворянству Екатерины II 1785 г. Не то чтобы в монархиях Западной Европы не было нарушения прав подданных – было, и сколько угодно! – но сам концепт этот существовал и играл большую роль не только в общественном сознании, но и в законодательстве и в социальных практиках. Это связано не с тем, что европейские короли были либералами – отнюдь нет! – а с тем, что им приходилось считаться с сильными сословиями, провинциями, городами, обладавшими развитым многовековым самоуправлением. В России, после московской централизации, этого ничего не осталось.
По пути, предложенному Крижаничем, самодержавие не пошло, хотя и утверждается иногда, что он-де загодя расписал чуть ли не все петровские реформы. Если и сверялся «большевик на троне» с рекомендациями мудрого хорвата, то слона в них явно не приметил. Говорят, копии «Политики» имелись в библиотеках царя Федора Алексеевича и «канцлера» царевны Софьи князя В. В. Голицына. Кстати, в последние годы все эти три имени все чаще противопоставляются Петру в качестве альтернативы. Но слишком короткий период их совокупного пребывания у власти (реально, в общей сложности, всего десятилетие, ибо Федор начал править самостоятельно с 1679 г.) и неустойчивость положения Софьи в качестве регентши (регентство вообще не приобрело в России статус вполне легитимного института), что заставляло ее тратить на борьбу за власть не меньше времени и сил, чем на государственные дела, делают эту потенциальную альтернативу слишком расплывчатой. Некоторые современники позднее оценивали правление царевны Софьи Алексеевны очень высоко: оно «началось со всякою прилежностию и правосудием всем и ко удовольству народному, так что никогда такого мудраго правления в Российском государстве не было. И все государство пришло во время ея правления, чрез семь лет, в цвет великаго богатства. Также умножилась коммерция и всякия ремесла; и науки почали быть возставлять латинскаго и греческаго языку…» (Б. И. Куракин). Но все же каких-то принципиальных сдвигов в жизни страны, подобных, например, реформам Избранной рады, мы в этот период не видим. Да, по сведениям француза де Невилля, Голицын имел в голове обширный план преобразований, вплоть до отмены крепостного права, но осуществил бы он сей план, бог весть…
С большой долей вероятности можно сказать только следующее. 1) Судя по характерам регентши и «канцлера», вестернизация при них шла бы более эволюционно, чем при Петре. 2) Они почти стопроцентно не ввязались бы в изнурительную войну со Швецией (подобные предложения к ним поступали, но они вежливо от них уклонялись), а продолжали бы додавливать Крым, что отвечало насущным российским интересам. По аргументированному мнению А. П. Богданова, крымские походы Голицына – особенно второй – вовсе не были провальными, их результатом стало значительное продвижение русской антитатарской оборонительной линии, практически «запиравшей» татар за Перекопом. (И это направление внешней политики, кстати, вполне совпадает с рекомендациями Крижанича, призывавшего московских царей «держать мир со всеми с верными, восточными и западными народами, а воевать – с одними татарами», ибо «крымцы… всегда требуют от нас откупа или дани, и все-таки никогда не перестают причинять нам бедствия», и даже предлагавшего после завоевания «Перекопской области» перенести туда столицу России.) Ну а Вечный мир 1686 г. с Польшей, окончательно закрепивший за Московским царством его западно-русские приобретения (даже Киев, признавать который российским поляки никак не хотели), – показатель высокой политической компетентности князя Василия Васильевича.
В любом случае расплывчатый курс Софьи – Голицына, на наш взгляд, предпочтительнее петровской «костоломной» (Д. М. Володихин) определенности. Проблема, однако, в том, что выбор между эволюционным и революционным путем развития в России, в сущности, зависел от особенностей монаршего темперамента, ибо институтов, способных в случае чего корректировать последние не существовало – говоря современным языком, напрочь отсутствовал механизм «защиты от дурака». Петр действительно просто продолжал дело своих предшественников, но в силу своего неуравновешенного нрава (впрочем, все же не настолько патологического, как у грозного «прапрадедушки», которого он, кстати, по его словам, «всегда принимал… за образец») делал это в настолько экстремальной форме, что изменения становились революционными.
Дворянство уже при Алексее Михайловиче начало складываться в замкнутое, привилегированное сословие – при его младшем сыне оно стало называться польским именем шляхетство и отгородилось от прочих слоев не только социальными, но и культурными барьерами – европейской одеждой, языком, бытом. Кстати, не стоит преувеличивать уровень петровской меритократии, якобы закрепленной Табелью о рангах, – не из дворян происходило менее 15 % офицерства, из них только 0,9 % смогли дослужиться до капитана и никто – до штаб-офицерских чинов. Более того, сохранились и боярские преимущества, хотя местничество было отменено еще в 1682 г. Из 12 генералов, имевших чины первых трех классов табели, десять принадлежали к родовой знати, а «представители тех фамилий, которым в допетровское время не удалось добиться думных чинов, как правило, не поднимались выше ранга бригадира или генерал-майора» (С. В. Черников). Впрочем, приобретя статус первого сословия, дворянство так и не получило никаких правовых гарантий, охранявших личную независимость и собственность его представителей. Дворяне были обязаны служить всю жизнь, поместье, хоть и уравнялось с вотчиной, не могло делиться, передаваясь только одному наследнику; прочие же сыновья не могли даже купить себе землю, пока не выслуживали определенное количество лет.
Федор Алексеевич ввел при дворе дресс-код по польскому образцу. Его младший единокровный брат заставил переодеться в европейское платье и сбрить бороды все дворянство и армию; купцы и крестьяне вынуждены были от этого нововведения откупаться. Петр регламентировал дискриминацию старообрядцев, за свой легальный статус обязанных платить двойной налог и носить особые красно-желтые нашивки – «козыри» на одежде (ничего не напоминает?).
Податное бремя и раньше было неподъемно – Петр обложил налогами все, что только можно, вплоть до бород, бань и дубовых гробов, введя к концу царствования подушную подать, собираемую не с имущества, а с лица – «души мужеска пола» (от подушного оклада были освобождены только дворянство и духовенство). Налоги на душу населения в его правление увеличились в среднем в три раза. Народ от такого «людодерства» стал массово разбегаться, перепись 1710 г. зафиксировала уменьшение количества дворов почти на 20 % по сравнению с переписью 1678 г. Общая сумма недоимок с 1720 по начало 1726 г. составила 3,5 млн руб. при ежегодном подушном окладе в 4 млн. Чтобы препятствовать передвижению крестьян, для них был резко ужесточен паспортный режим: они теперь имели право отлучиться на заработки на расстояние 30 верст лишь с письменным разрешением своего помещика, а свыше 30 верст – с паспортом от земского комиссара (местный выборный чиновник из дворян).
К этому добавились многочисленные экстренные повинности, например участие в строительстве Петербурга или рытье каналов. Вот что писали в челобитной царю реальные прототипы «массовки» «Епифанских шлюзов» Андрея Платонова, мобилизованные на строительство канала между Волгой и Доном: «Мы, холопы твои и крестьянишки наши в те годы у твоего, Великий Государь, корабельного и бригантного дела и адмиралтейского двора строения во время пахотное, и жатвенное, и сенокосное в домишках своих не были и ныне по работе ж и за тою работою озимаго и ярового хлеба в прошлом и нынешнем годах мы и крестъянишки наши не сеяли, и сеять некому и нечем, и за безлошадьем ехать не на чем, а который у нашей братьи и крестьянишек наших старого припасу молоченой и немолоченой хлеб был, и тот хлеб служилые и работные люди, идучи на твою, Великого Государя, службу и на Воронеж на работу, много брали безденежно, а остальной волею Божьей от мышей поеден без остатку, и многое нам и крестьянишкам нашим такие служилые и работные люди обиды и разоренье чинят».
Военные траты и при Федоре Алексеевиче были огромны – более половины расходного бюджета; при Петре они в среднем составили две трети оного, а в некоторые годы доходили до 83 %. К Московскому царству некоторые публицисты и историки любят применять метафору «военный лагерь», но именно в петровское царствование она стала реальностью. Гигантская, благодаря рекрутской повинности, сменившей спорадические наборы «даточных людей» и поставившей под ружье чуть ли не каждого десятого русского крестьянина, армия не распускалась и в мирное время (впрочем, последнего и было-то от силы пара лет). Она расквартировывалась почти по всем губерниям, выбивая из местного населения предназначенную как раз на войсковые нужды подушную подать. Избавленной от квартирантов за дальностью оказалась только Сибирь, но ее русские обитатели должны были денежно обеспечивать полки, размещенные в Прибалтике.
Собственно война – это главное, что интересовало «работника на троне», она и потянула за собой большинство его скороспелых реформ. И не надо думать, что Петр был вынужден воевать. В Северной войне именно Россия выступила агрессором. В конце 1690-х гг. «шведы, имея многочисленные внешнеполитические проблемы в Германии и на датских границах, стремились по возможности не доводить конфликт с Россией до войны» (Е. В. Анисимов). В 1697 г. Швеция даже подарила России 300 железных орудий для войны с Турцией. Вступив на престол, Карл XII сразу же выслал посольство в Москву с обещанием «все договоры с Россиею свято хранить». Кроме того, нападение на Швецию было еще и вероломным: буквально в день начала войны (19 авг. 1700 г.) русское посольство привезло Карлу XII царскую грамоту с заверениями в дружбе.
Победой над Швецией, столь дорого оплаченной – ни много ни мало разорением страны, Петр явно не собирался ограничиваться. Лишь только закончилась Северная война (1721), начался Персидский поход (1722). О дальнейших планах императора поведал один из его сподвижников А. П. Волынский: «По замыслам его величества не до одной Персии было ему дело. Ибо, если б посчастливилось нам в Персии и продолжил бы Всевышний живот его, конечно, покусился достигнуть до Индии, а имел в себе намерения и до Китайского государства, что я сподобился от его императорского величества… сам слышать». Так что недаром Петр не распускал армию и ввел идущую на нее подушную подать (1724) в, казалось бы, мирное время.
Тотальная милитаризация жизни страны накладывала неизгладимый отпечаток и на ее гражданское управление, которым также руководили в подавляющем большинстве военные. Вот, например, какие методы применял для проведения переписи населения 1721 г. (от которой, зная ее фискальный характер, многие укрывались) в великолуцкой провинции некий полковник Стогов: «Чинил многие обиды, посылал многократно офицеров и при них драгун и солдат по многому числу в уезды в шляхетские домы, и забирали днем и ночною порою дворян и жен их и привозили к нему… и держал тех дворян и жен их под крепким караулом в казармах многое время; також… людей и крестьян ста по два и по три человека… держались в казармах… многие числа под жестоким караулом. И, держав под караулом, многих дворян пытал; также из людей и крестьян многих пытал же, от которого его за караулом многого числа людей от тесноты и от жестоких его пыток, как шляхетства, так людей и крестьян безвременно многие и померли. И от таких его Стогова обид великолуцкой провинции обыватели пришли в великий страх, бить челом и доносить на него не смеют».
Правительство и прежде активно вмешивалось в экономику – Петр придал ей едва ли не плановый характер. До 1719 г. государство вообще монополизировало практически все отрас ли хозяйственной жизни, распоряжаясь ею по своему усмотрению. Русский экспорт был отдан в руки иностранцев. Московское купечество оказалось буквально задушено высокими налогами, государственным регулированием цен, разнообразными повинностями. Для того чтобы сделать из только что основанного Петербурга главный порт страны, «пришлось совершенно убить торговое значение Архангельска» (В. И. Пичета), сначала запретив возить в него большинство товаров с тем, чтобы русские купцы две трети последних отправляли в Северную столицу, а потом и вовсе – переселив туда всех именитых архангельских купцов и введя пошлины на товары, продающиеся в Архангельске, на треть выше, чем в Петербурге. Тем самым заодно были низвергнуты в нищету посадские люди и крестьяне Русского Севера, в большинстве своем так или иначе связанные с архангельской торговлей. Переселению подверглись не только архангелогородцы, всего из разных городов в Петербург принудительно направили несколько тысяч купцов и ремесленников, в указе об этом (1717) без всяких сантиментов предписывалось «купцов, ныне выбрав, выслать их с женами, и с детьми в Санктпетербург безсрочно; а выбирать их… как из первостатейных, так и средних людей добрых и пожиточных, которые б имели у себя торги и промыслы, или заводы какие свободные, а не убогие были б, не малосемейные, и тот выбор учинить им без всякого послабления, не обходя и не норовя никому ни для чего…».
Петровская экономическая политика разорила верхушку старого московского купечества: к 1715 г., по данным Н. И. Павленко, из 226 «гостей» только 104 сохранили торги и промыслы, причем семнадцать разорившихся вообще «изменили сословную принадлежность… одни оказались в денщиках, другие – в подьячих, пятеро угодили в солдаты, а 6 человек обрели пристанища в монастырских кельях». Рухнули целые торговые династии. А. И. Аксенов подсчитал, что если в 1705 г. «среди гостей насчитывалось 27 фамилий (собственно гостей было, естественно, больше, поскольку в ряде городов было несколько представителей в этом звании), то в 1713 году в качестве „наличных“ московских „гостей“ числилось только 10». В регламенте управлявшего городами Главного магистрата (1721) отмечалось, что «купецкие и ремесленные тяглые люди во всех городах… едва не все разорены».
С 1719 г. свобода торговли была формально восстановлена, а казенные мануфактуры разрешили приватизировать частным владельцам или компаниям, но государство продолжало руководить экономикой посредством уставов, регламентов, льгот, отчетов, проверок и т. д. Хозяева мануфактур, по сути, являлись только их арендаторами, выполняющими госзаказ; казна, в случае невыполнения тех или иных обязательств, всегда могла забрать предприятия обратно. Поскольку как сельские, так и посадские люди были прикреплены к местам жительства, с наймом работников на фабриках и заводах создалась напряженка. Сначала проблему пытались решить присылкой на трудовое перевоспитание «татей, мошенников и пропойц» и разного рода изловленных «гулящих людей». С 1721 г. фабриканты получили право покупать деревни с крепостными крестьянами, найдя, «наконец, желанный контингент рабочих рук» (В. И. Пичета), особенно востребованный на предприятиях «стратегического значения»: суконная промышленность вообще не знала вольнонаемного труда, в металлургической – к середине 1740-х гг. последний составлял менее двух процентов. Экономическое развитие России стало крайне однобоким – прогрессировало только то, что работало на армию и флот. Старые кустарные предприятия легкой промышленности (например, производившие полотно) были уничтожены нелепыми запретами. При этом главных своих целей в промышленной политике Петр так и не достиг: Россия продолжала вывозить сырье и ввозить готовые фабрикаты; даже войско, несмотря на все усилия, так и не удалось одеть в сукно отечественного производства. Ну и понятное дело, что к капитализму все это имело весьма косвенное отношение.
Петр довел самодержавный произвол до предела, сняв с него последние путы традиции: отменил патриаршество, напрямую подчинив церковь через Синод государству; отменил устоявшийся порядок передачи престола от отца к сыну, (теперь назначение преемника оставалось на личное усмотрение самого монарха); наконец, нарушил чуть ли не все бытовые нормы поведения монарха, принятые в Москве. Особенно здесь показательна проблема престолонаследия, хорошо помогающая понять специфику отечественного абсолютизма. Датский посол Вестфален рассказывает в одном из дипломатических донесений 1715 г. о весьма характерном разговоре с основателем Российской империи. Последний возмущался тем, что такой великий монарх, как Людовик XIV, предмет его восхищения, мог установить регентство герцога Орлеанского при малолетнем Людовике XV: дескать, не следовало отдавать ребенка в руки человека, способного его отравить и завладеть престолом, а если регент сам достоин стать королем, надо было передать трон ему. Вестфален отвечал, что основополагающие законы Франции обязывали Людовика передать регентство в руки ближайшего по крови принца, пока его прямой наследник не достигнет совершеннолетия. Король Франции не может назначить преемником любого, кого пожелает, – такой акт был бы лишен юридической силы. Петр решительно не согласился с датчанином и назвал «величайшей из жестокостей принесение безопасности государства в жертву обыкновенному установленному праву престолонаследия».
Надменный «король-солнце» терпеть не мог герцога Орлеанского, но поделать ничего не мог (кстати, приписываемая ему фраза «государство – это я» не имеет никаких подтверждений в источниках), впрочем, регент не отравил малолетнего короля и не завладел французским троном. Демократичный «державный плотник», ради сохранения своей политической линии, просто ликвидировал неудобную ему систему русского престолонаследия («уничтожил всякую законность в порядке наследства», по выражению А. С. Пушкина) вместе со своим прямым наследником – царевичем Алексеем. Между прочим, дело последнего интересно сравнить со всем известным по «Виконту де Бражелону» делом Фуке, длившимся три года и широко обсуждавшимся в обществе. Людовик не смог принудить Палату правосудия, назначенную им же из числа наиболее видных оффисье, к вынесению смертного приговора подсудимому, хотя судьи и подвергались сильнейшему нажиму со стороны правительства. Когда судили Алексея Петровича, процесса как такового не было, его место заняли допросы с применением кнута и закрытый суд, длившийся меньше месяца; а потом царевича то ли задушили подушками, то ли отравили в каземате Петропавловки – почувствуйте разницу!
Что же касается церкви, то она сделалась при Петре, по сути, казенным ведомством православных дел, с помощью которого государство осуществляло духовный контроль над населением. Священники, обнаружившие на исповеди «измену, или бунт на Государя, или на Государство, или злое умышление на честь или здравие Государево и на фамилию Его Величества», обязаны были донести об этом, «где надлежит», под недвусмысленной угрозой: «А ежели кто из священников сего не исполнит, и о вышеозначенном услышав, вскоре не объявит, тот без всякаго милосердия, яко противник, и таковым злодеям согласник, паче же Государственных вредов прикрыватель, по лишении сана и имения, лишен будет и живота». Что эта угроза не была пустым звуком, свидетельствует, например, дело подьячего Илариона Докукина (1718), подавшего царю бумагу с отказом от присяги, – за недонесение на него московский поп Авраам был приговорен к смертной казни, замененной наказанием кнутом, урезанием языка, вырыванием ноздрей и ссылкой на каторгу в вечную работу. Кроме того, государство лишило церковь функции культурного руководства общества, точнее, его социально-политической элиты, взяв на себя роль проводника европейского просвещения, ставшего для дворянства заменой просвещения православного. Культ императора приобрел поистине религиозный характер, недаром с петровских времен в круг церковных праздников вошли как обязательные дни рождения и тезоименитства царственных особ.
Петровская вестернизация оказалась чисто фасадной. Европейским просвещением было охвачено менее одного процента населения. Прямое копирование западных образцов – создание коллегий, реформы городского самоуправления, введение в городах цехового устройства, уже умиравшего на Западе, – либо наполняло их совсем иным, туземным содержанием, как в первом случае, где, конечно, никакой коллегиальностью и не пахло, либо вовсе превращалось в крайне черную комедию, как во втором и третьем. Вот, скажем, колоритный пример того, как в реальности функционировали при Петре городские магистраты, взятый у С. М. Соловьева и прокомментированный известным правоведом А. Д. Градовским: «„Костромские ратманы доносили в главный магистрат: в 1719 г. … костромская ратуша была построена из купецких мирских доходов, и ту ратушу отнял без указу самовольно бывший костромской воевода Стрешнев, а теперь в ней при делах полковник и воевода Грибоедов“. Итак, магистрат, „глава и начальство гражданству“, был самовольно изгнан из собственного своего помещения. Он попробовал извернуться и придумал следующую комбинацию. „За таким утеснением… взят был вместо податей у оскуделого посадского человека под ратушу двор… и тот двор в 1722 г. отнят под полковника Татаринова на квартиру, и теперь в нем стоит без отводу самовольно асессор Радилов“. Но куда же девался магистрат? Рапорт костромских ратманов продолжает: „…и за таким отнятием ратуши деваться им с делами некуда; по нужде взята внаем Николаевской пустыни, что на Бабайках, монастырская келья, самая малая и утесненная, для того, что иных посадских дворов поблизости нет, и от того утеснения сборов сбирать негде, также в делах немалая остановка“. Любопытно бы знать, помещались ли когда-нибудь бургомистры и ратсгеры какого-нибудь Нюрнберга или Аугсбурга „в утесненной монастырской келье“, по воле полковника Татаринова или асессора Радилова? (курсив мой. – С. С.)».
Впрочем, это еще вегетарианский случай. В Коломне творился и вовсе беспредел. «По одному делу велено было послать в Зарайск из коломенского магистрата одного бурмистра, но коломенский магистрат донес: этому бурмистру в Зарайске быть невозможно, потому что в Коломне, в магистрате, у отправления многих дел один бурмистр, а другого бурмистра, Ушакова, едучи мимо Коломны в Нижний Новгород, генерал Салтыков бил смертным боем, и оттого не только в Зарайск, но и в коломенский магистрат ходит с великой нуждой временем». А с другим бурмистром был такой случай: «Обер-офицер Волков… прислал в магистрат драгун, и бурмистра Тихона Бочарникова привели к нему… и велел Волков драгунам, поваля бурмистра, держать за волосы и руки, и бил тростью, а драгунам велел бить палками, топтунами и эфесами, потом плетью смертно, и от того бою лежит Бочарников при смерти. По приказу того же Волкова, драгуны били палками ратмана Дьякова, также били городового старосту, и за отлучкой этих битых, в Коломне, по указам, всяких дел отправлять не можно». Но «тут еще только бьют», – грустно замечает Градовский, случался иногда и вовсе какой-то Дикий Запад: «В 1716 году воинские люди убили из ружья Евдокима Иванова, а кружечного сбора бурмистра били так, что он умер. В 1718 году драгуны застрелили из фузей гостиной сотни Григорья Логинова в его доме».
«Мы все ему желаем смерти»
Петровская ломка встречала отчаянное сопротивление низов. Восстание Кондратия Булавина на Дону в 1707–1708 гг., едва не взявшего Азов, чуть не поставило воюющую страну на грань катастрофы. Кстати, нарвский разгром 1700 г. был, видимо, связан прежде всего с недовольством русских солдат насильственным навязыванием «немецких обычаев» и их ненавистью к своим иноземным командирам. «Стоило шведам взобраться на земляной вал, как раздались крики: „Немцы изменили!“ – и русские солдаты принялись избивать своих офицеров. „Пусть сам черт дерется с такими солдатами!“ – воскликнул [русский главнокомандующий] де Кроа и вместе с другими немецкими офицерами поспешил сдаться в плен. По-видимому, это был единственный случай в военной истории, когда командующий искал в плену спасения от своих солдат… После битвы приближенные Карла XII советовали королю вторгнуться в Россию, поддержать приверженцев Софьи и воспользоваться недовольством стрельцов и черни…» (С. А. Нефедов).
Главной причиной Астраханского восстания 1705–1707 гг., наряду с ростом налогов и всевозможными вопиющими злоупотреблениями местной администрации, стали насилия и издевательства, которыми подвергались астраханцы, носившие бороды и русскую одежду. Воевода Т. Ржевский активно и жестко проводил в жизнь петровские указы о брадобритии и ношении в городах «немецкого платья» и взыскании пошлин с бородачей (у них воеводские прислужники «усы и бороды ругаючи обрезывали с мясом») и тех, «кого в русском платье поимают». Во всяком случае, сами восставшие в своих письмах-обращениях, рассылаемых в соседние города, делали акцент именно на этом: «Ведомо вам чиним, что у нас в Астрахани учинилось за веру христианскую и брадобритие, и за немецкое платье, и за табак, и что к церквам божиим нас и жен наших, и детей в старом русском платье не пущали, а которые в церковь божию войдут, и у тех, у нашего мужского и женского полу, платье обрезывали, и от церквей божих отлучали и выбивали вон, и всякое ругательство нам и женам нашим и детям чинили, и болваном, кумирским богам велели поклоняться». Но Астраханское восстание интересно еще и тем, что наглядно демонстрирует всю лживость навязшей в зубах басни, что-де без строгого начальника русский человек сам собой управлять не может. Избавившись от царской администрации, астраханцы (вос)создали структуру выборного земского управления – почти восемь месяцев «четко работавшую систему государственных органов, которая… успешно справлялась с функциями управления, обеспечивая внутренний порядок и защиту контролируемой ими территории» (Н. Б. Голикова).
Как показал П. Бушкович, при расследовании дела царевича Алексея Петр с ужасом обнаружил, что царевичу в той или иной мере сочувствует большая часть России, в том числе почти вся элита, настолько непопулярна была петровская политика. Духовник царевича Яков Игнатьев сказал ему на исповеди в ответ на признание, что он желает смерти отцу: «Мы и все желаем ему смерти для того, что в народе тягости много». Датский посол Вестфален сообщал на родину: «…число тех, кто желал, чтобы корона осталась в потомстве старшего принца [Алексея Петровича], так велико, что царю по необходимости придется встать на путь лицемерия в отношении многих людей, если он не хочет срубить головы всему своему духовенству и дворянству». И действительно, Петр, казнив ближайших единомышленников и слуг царевича, в дальнейшем свернул дело – ликвидировать оппозицию такого масштаба было невозможно.
А вот потрясающий пример индивидуального протеста против петровской «модернизации». В 1704 г. нижегородский красильщик Андрей Иванов (скорее всего, старообрядец) явился к дворцовому Красному крыльцу и объявил за собой «государево дело»… на самого царя: «…пришел я извещать государю, что он разрушает веру христианскую: велит бороды брить, платье носить немецкое и табак велит тянуть… А на Москве у него, Андрея, знакомцев никого нет и со сказанными словами к государю его никто не подсылывал – пришел он о том извещать собою, потому что и у них посадские люди многие бороды бреют, и немецкое платье носят, и табак тянут – и потому для обличения он, Андрей, и пришел, чтоб государь велел то все переменить». Участь этого диссидента была конечно же печальна – он погиб под пытками.
Петр I был одним из самых непопулярных правителей России за всю ее историю, во всяком случае, при жизни и в ближайшие десятилетия после смерти, пока планомерно осуществлявшийся государственный культ его личности не заслонил живую память о недавнем прошлом (в XVIII – первой половине XIX в. критика его политики в легальной российской печати была невозможна). Всем известны восприятие его как «антихриста» в старообрядческой среде или простонародный миф о подмененном за границей царе, но вот вполне прагматический взгляд на «державного плотника», исходящий от представителей провинциального дворянства и зафиксированный И.-Г. Фоккеродтом, секретарем прусского посольства в Петербурге в 1718–1737 гг.: «…только что замирились, думают уж опять о новой войне, у которой зачастую и причины-то другой нет, кроме самолюбия государя да еще его близких слуг. В угоду им не только разоряют не на живот, а на смерть наших крестьян, да и мыто сами должны служить, да и не так еще, как в старину, пока идет война, а многие годы кряду жить вдалеке от своих домов и семейств, входить в долги, между тем отдавать свои поместья в варварские руки наших чиновников, которые за уряд так их доймут, что когда, наконец, придет такое благополучие, что нас по старости или по болезни уволят, нам и всю жизнь не поправить своего хозяйства. Словом, постоянное содержание войска и все, что следует к нему, до того разорят нас и ограбят, что хоть опустоши все наше царство самый лютый враг, нам он и вполовину не наделает столько вреда… Земля наша довольно велика, и потому распространять ее не для чего, а разве только населять. Завоевания, сделанные Петром I, не дают России ничего такого, чего бы не имела она прежде, не умножают и нашу казну, но еще стоят нам гораздо дороже, чем приносят дохода. Они не прибавляют безопасности нашему царству, а еще вперед, пожалуй, сделают то, что мы станем больше, чем следует, мешаться в чужие ссоры и никогда не останемся в барышах от того. Потому-то Петр I наверное уж поступил бы гораздо умнее, если бы миллионы людей, которых стоила шведская война и основание Петербурга, оставил за сохою дома, где недостаток в них слишком ощутителен. Старинные цари хоть и делали завоевания, да только таких земель, владение которыми необходимо для царства или откуда нас беспокоили разбои. Кроме того, они давали нам пользоваться плодами наших трудов, поступали с побежденными, как с побежденными, делили между дворянством их земли: а на место того ливонцы (то есть немецкие дворяне из Прибалтики. – С. С.) чуть у нас на головах не пляшут и пользуются большими льготами, чем мы сами, так что изо всего этого завоевания не выходит нам никакой другой прибыли, кроме чести оберегать чужой народ на свой счет да защищать его своею же кровью». Кто скажет, что эти рассуждения вовсе лишены здравого смысла?
Да, Петр вывел Россию к Балтийскому морю, правда потеряв при этом в результате Прутского позора выход к Черному: мир, заключенный в 1711 г. с турками, – «пожалуй, одно из самых тяжелых мирных соглашений, на которые была вынуждена пойти Россия в XVIII веке» (Е. В. Анисимов). Вошедшие в империю Лифляндия и Эстляндия получили права областных автономий, а их дворянство – подтверждение своих старинных привилегий. «Империя наоборот» набирала обороты. Автономия Украины, из-за измены Мазепы, была ограничена, но все же не упразднена. В Великороссии окончательно закрепился с помощью новейших западных технологий модернизированный принцип Москвы, с большой, однако, разницей: военная машина империи, питавшаяся русскими кровью и деньгами, обслуживала теперь главным образом личные амбиции ее правителей, очень хотевших стать «царями горы» в одновременно презираемой и вожделенной Европе.
Петровская система оказалась чрезвычайно прочной, просуществовав почти двести лет. «Время показало удивительную жизнеспособность многих институтов, созданных Петром. Коллегии просуществовали до 1802 года, то есть 80 лет; подушная система налогообложения, введенная в 1724 году, была отменена лишь 163 года спустя – в 1887-м. Последний рекрутский набор состоялся в 1874 году – спустя почти 170 лет после первого. Синодальное управление русской православной церковью оставалось неизменным почти 200 лет, с 1721 по 1918 год. Наконец, созданный Петром в 1711 году Правительствующий Сенат был ликвидирован лишь в декабре 1917 года, спустя 206 лет после его образования» (Е. В. Анисимов). Но крепость этих учреждений – не в поверхностных европейских влияниях, а в многовековом московском фундаменте, на котором они были поставлены.
Особо следует оговориться, что дискурс петровских реформ не был «русофобским». Свойственное им радикальное отрицание предшествующей им русской культуры порой напоминают по методам и лозунгам большевистскую денационализацию: «Противопоставление старой и новой России строилось на наборе взаимоисключающих характеристик, так что не оставалось места никакой преемственности. Поэтому, приписывая новой России просвещение, старой приписывали невежество, приписывая новой России богатство и великолепие, старой отдавали в удел убожество и нищету. Новая Россия как бы рисовала карикатуру на Россию старую…» (В. М. Живов). Но все же европеизация в XVIII в. не мыслилась как дерусификация, а, напротив, как возвышение русскости/«российскости» – тогда эти понятия были фактически идентичны и не противопоставлялись друг другу – на новую, еще более великую ступень могущества и процветания.
Петровская «русскость» по многим параметрам конфликтно противостояла старомосковской, но сам русский («российский») народ в ней не дискредитировался как «неполноценный» (наоборот, декларировалась вера в его огромные творческие силы), «неполноценными» объявлялись только его старые, «ветхие» формы существования, сама же «народная» (национальная) парадигма развития России сомнению не подвергалась. Проще говоря, «птенцы гнезда Петрова» полагали свою русскость гораздо более «прогрессивной», чем русскость «допетровская». Довольно характерный образчик подобного самосознания являют собой, например, писания русского агента в Англии Ф. С. Салтыкова, забрасывавшего Петра разного рода проектами. Салтыков мыслит русских как один из европейских народов, ничуть им не уступающий, а лишь несколько задержавшийся в своем историческом развитии, но отставание это способный легко преодолеть: «Российский народ такие же чувства и рассуждения имеет, как и прочие народы, только его довлеет к таким делам управить», чтобы «уравнять наш народ с европейскими государствами». Разумеется, в плане развития институтов национального самоуправления такие пожелания при петровской политической системе были не более чем благой утопией, но само стремление быть как европейцы провоцировало вопрос не о переодевании только в заграничные костюмы, но и о перемене самих порядков.
Продвижение русского фронтира
Итоги переходной эпохи XVII – первой четверти XVIII в. оказались для русского народа весьма неоднозначными. Тем не менее закончить эту главу хочется его вполне бесспорными достижениями.
Во-первых, это продвижение русской границы на Юг для борьбы с висевшей «как дамоклов меч» (Д. И. Багалей) крымской угрозой. По подсчетам А. А. Новосельского, только в течение первой половины XVII в. татары увели в полон как минимум 150–200 тыс. русских людей. В 1630-х гг. нападения крымчаков отбивали недалеко от Оки, порой они прорывались даже в Московский уезд. С 1635 г. начинается строительство Белгородской черты, призванной перекрыть крепостями и земляными валами Ногайский и Изюмский шляхи, по которым происходили татарские вторжения. Рядом с Воронежем и Белгородом встали Козлов, Яблонов, Ольшанск, Усмань, Карпов, Болховец, Орлов, Новый Оскол и др. С 1653 г. на важнейшие участки черты выдвигаются солдатские полки, набранные в южных областях. К 1658 г. Белгородская черта, состоявшая из 25 городов, соединенных земляным валом и другими укреплениями, была окончательно завершена. Она протянулась почти на 800 км «по территории пяти современных областей: Сумской, Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской» (В. П. Загоровский).
Таким образом, арена русско-татарских столкновений отодвинулась к югу на сотни километров, и проникновение татар в центральные уезды стало практически невозможно. Кроме того, это позволило заселить южные окраины России. В одном из документов Разрядного приказа 1680-х гг. говорится, что «ныне по той всей черте уселилось многолюдство большое». В пределах самой черты среди переселенцев преобладали великороссы, за ней – малороссы, в силу целенаправленной государственной политики, о которой уже говорилось выше.
В 1679–1681 гг. была построена еще одна, более локальная черта – Изюмская, закрывающая от татарских набегов недавно заселенные «черкасами» земли к югу и юго-западу от Белгорода. Но, конечно, жизнь колонистов «на черте», а тем более «за чертой» была крайне беспокойной и опасной. Татарские нападения снова усилились во время войны со Швецией, когда все военные усилия России сосредоточились на Севере. Только в один набег 1713 г. крымчаки взяли более 14 тыс. полонян. Лишь со строительством в 1730-х гг. Украинской линии Белгородчина и Слобожанщина перестали быть боевым пограничьем.
Одновременно происходило русское движение «встречь солнца» – продолжалось и в главном завершилось присоединение Сибири, начатое в конце XVI в. Западная ее часть была покорена к началу следующего столетия, вскоре после этого русские служилые люди дошли до Енисея. В 1630-х гг. казацкие ватаги достигли Лены, в 1640-х – Байкала, в 1640– 1650-х – проникли на Амур. В 1628 г. был заложен Красноярск, в 1632-м – Якутск, в 1653-м – Нерчинск, в 1662-м – Иркутск. В 1690-х гг. началось освоение Камчатки. К 1678 г. общее количество русских в Сибири, по подсчетам Г. В. Вернадского, составило не менее 84 тыс. человек. Нельзя не изумиться блестящему успеху этой невероятной авантюры. По словам английского историка географии Дж. Бейкера: «Продвижение русских через Сибирь в течение XVII века шло с ошеломляющей быстротой. Успех русских отчасти объясняется наличием таких удобных путей сообщения, какими являются речные системы Северной Азии, хотя преувеличивать значение этого фактора не следует, и если даже принять в расчет все природные преимущества для передвижения, то все же на долю этого безвестного воинства достанется такой подвиг, который навсегда останется памятником его мужеству и предприимчивости, равного которому не совершил никакой другой европейский народ».
Составлявшие передовой отряд русского освоения Сибири землепроходцы – охотники и купцы, занимавшиеся пушным промыслом, и нанявшиеся на государеву службу для сбора пушного же ясака с туземцев казаки мало чем отличались от испанских конкистадоров или пионеров Дикого Запада. С. В. Бахрушин отмечал в них «черты, свойственные всем искателям приключений: упорство в достижении цели, неразборчивость в средствах, предприимчивость, практическую сметку и не знающую удержу смелость… Беспощадные к инородцам, безжалостные к своим близким, все эти служилые и промышленные люди… поражают нас и своей беспечной удалью и нечеловеческой выносливостью и вместе с тем алчностью к добыче и хладнокровной жестокостью».
Многих канонических героев «сибириады» иначе как разбойниками и не назовешь. Вот, скажем, стиль общения «Камчатского Ермака» – Владимира Атласова с местным населением, откровенно явленный в его отчетах-«сказках»: «камчадалов громили и наибольших людей побили, и посады их выжгли для того, чтобы было им в страх»; «они, коряки, учинились непослушны и пошли… на побег, и он, Володимер, с товарищи их постигли, и они, иноземцы, стали с ними бится, и божиею милостию и государевым счастием их, коряк, многих побили, и домы их и олени взяли, и тем питались…». Из первого своего похода 1697–1698 гг. Владимир Васильевич вывез «прибытку» больше, чем собрал в ясачную казну. За свое пребывание на Камчатке в 1706–1707 гг. он «накопил» 1235 соболей, 400 красных и 14 сиводущатых лисиц, 75 морских бобров и массу другой «мяхкой рухляди» в виде одежды, что было немногим меньше среднего годового объема камчатского «государева ясака». Погиб Атласов от рук взбунтовавшихся против него казаков. В том же духе действовал и другой знаменитый землепроходец – Ерофей Хабаров, которого в 1653 г. за его гомерические злоупотребления как в отношении туземцев («мы их в пень рубили, а жен их и детей имали и скот»), так и в отношении «государевой казны» («государеву делу не радел, радел своим нажиткам, шубам собольим») и собственных подчиненных, царский посланец отстранил от руководства отряда.
Но были и исключения, например Семен Дежнев, старавшийся брать ясак «ласкою» и умевший налаживать с местным населением дружественные отношения, «да такие, что, когда его отряд подвергся нападению немирных тунгусов и гибель была неминуема, только что объясаченные друзья пришли на помощь и помогли отбить нападение» (А. С. Зуев). Московские чиновники жаловались, что в азарте «пушной лихорадки» между русскими промысловыми ватагами «для… своей бездельной корысти бывают бои, друг друга… побивают до смерти, а новым ясачным людям чинят сумнение, тесноту и смуту и от государя их прочь отгоняют». Впрочем, вряд ли Сибирь смогли бы покорить платоны каратаевы…
Вхождение сибирских земель и народов (кстати, многие из последних были весьма воинственны и хорошо вооружены, а к чужакам относились крайне агрессивно) в состав России происходило по-разному – когда добровольно, когда насильственно – что случалось, кажется, чаще. Русские источники 1630—1640-х гг. сообщают множество фактов о вооруженных столкновениях с якутами и бурятами. Эвенки, эвены и юкагиры активно сопротивлялись русским еще во второй половине XVII в., коряки и ительмены – до 1730—1750-х гг. Войны с чукчами продолжались до 1778 г. Поскольку сибирские этносы сами друг с другом непрерывно воевали, русские успешно использовали в своих экспедициях одних «иноземцев» против других. Только на Северо-Востоке во второй половине XVII – первой четверти XVIII в., по подсчетам А. С. Зуева, произошло по меньшей мере 23 вооруженных столкновения с чукчами, 41 – с коряками, 39 – с ительменами.
«В 1707–1711 гг. большая часть Камчатки превратилась в зону военных действий. В результате ясак с Камчатки не вывозился в течение пяти лет. За 12 лет противостояния (1703–1715) были сожжены Большерецкий и Акланский остроги, убито около 200 казаков – огромные по тому времени потери… Несколько походов на приколымских чукчей во второй половине XVII в. не принесли результатов, больше того, чукчи сами перешли к активным действиям. Вплоть до конца 80-х годов XVII в. они неоднократно осаждали Нижнеколымское ясачное зимовье, нападали на служилых людей, заставляя их жить „взаперти“» (В. А. Тураев). Атмосферу этой осады хорошо передает сообщение одного из «сидельцев» (1679): «А к нижнему ясачному зимовью немирные люди чюхчи прикочевали и живут от зимовья во днище, а караулят русских людей и ясачных, и как кого схватают, и тех людей всякими разными муками мучат, а в достале смертью позорную кончают».
Слегка забегая вперед, упомянем и наиболее, наверное, яркий эпизод русско-чукотских войн – разгром отряда майора Д. И. Павлуцкого в марте 1747 г. Рапорт одного из офицеров так описывает схватку: «…а больше и ружей заправить было некогда, понеже пошли неприятели чюкчи на копьях, так же и они [казаки] насупротив их, неприятелей чюкоч, пошли на копьях же и бились с ними не малое время… они, неприятели, у служилых и служилые у них друг у друга отнимали из рук копья, а протчи служилые, у которых отбиты были ружья, оборонялись и ножами». С русской стороны было убито более 50 человек, в том числе и сам майор Павлуцкий. Сцена его гибели так и просится в кино жанра истерн. Майора долго не могли убить, потому что он носил панцирь. Чукчи стреляли в него из луков и кололи копьями, но он оставался неуязвим; «наконец, обступив его, как волки оленя, запутали ремнями, уронив на землю, и нашли место заколоть, под самым подбородком» (Г. Дьячков). Кто хоть немного знает историю Дикого Запада, сразу ассоциативно вспомнит о неоднократно обэкраненных генерале Кастере и битве при Литтл-Бигхорн (1876).
Постоянным фоном «сибириады» были набеги калмыков и башкир. В Приамурье русские столкнулись с маньчжурами. Ярким эпизодом борьбы с ними стала «исключительная по героизму и воинской доблести» (Н. И. Никитин) оборона Албазина (1686), когда около 800 казаков во главе с Афанасием Байтоном пять месяцев отбивались от десятитысячного маньчжурского войска с 40 пушками, не сумевшего ни взять острог штурмом, ни выморить его защитников голодом и вынужденного отступить. Но по Нерчинскому миру с Китаем (1689), лишившего Россию Приамурья, Албазин – этот маленький дальневосточный Азов – был оставлен и уничтожен русскими.
Вслед за промысловыми людьми в Сибири появились царские воеводы, постепенно подчиняя новоприсоединенные территории государеву порядку. Поскольку местное население воспринималось в Москве прежде всего как плательщик чрезвычайно ценного пушного ясака, правительство старалось защитить коренных жителей «не только от истребления, но и от притеснений… и нередко жертвовало… интересами русских колонистов» (С. В. Бахрушин). Сибирской администрации предписывалось действовать на туземцев «ласкою», а не «жесточью», без разрешения из Москвы или Тобольска (главного в ту пору центра Сибири) их запрещалось казнить, крайне неохотно разрешалось прибегать к силе оружия, даже в случае восстаний. Разумеется, на практике эти благие пожелания было непросто исполнить, но если бы не «миротворческая» позиция Центра, как знать, многие ли сибирские этносы сохранились до сего дня…
За государевыми людьми шли переселенцы-землепашцы. Первоначально это были принудительно переводимые дворцовые крестьяне, но с 1621 г. приоритетом стала вольная крестьянская колонизация, проводимая в основном «черными людьми» с Русского Севера. Вот некоторые ее итоги на конец XVII в., по данным В. И. Шункова. Количество русских дворов в Сибири достигло 25 тыс., из них по меньшей мере 11 тыс. были крестьянскими. Лишь 3 из 20 сибирских уездов оставались непашенными. В подавляющем большинстве крестьяне находились на государевом оброке, крепостничество в Сибирь почти не проникло и практиковалось только монастырями, которым принадлежало всего 1495 (14 %) крестьянских дворов. Все угодья, за исключением выгонов, находились в личном пользовании крестьян, регулярные переделы и прочие общинные прелести полностью отсутствовали, в связи с чем, естественно, развивалось и значительное имущественное расслоение. Словом, перед нами воспроизведение земледельческих порядков черносошного Севера.
Конечно, «самовластье» и коррумпированность воевод и ясачных приказчиков в Сибири, так далеко отстоявшей от Центра, были огромными. Но, с другой стороны, и с реакцией на это сибирского, весьма вольнолюбивого и неробкого в массе своей русского простонародья власти приходилось считаться. Упомяну только один яркий эпизод – отстранение от власти в 1696 г. виновника многочисленных «обид и налог и напрасного разорения» воеводы Богдана Челищева служилыми и посадскими людьми и пашенными крестьянами Илимского острога. «До указу великих государей» царского наместника во главе управления заменили выборные илимские жители. Челищев был несомненно грешен по всем статьям, но следствие по его делу длилось несколько лет – Москву явно смущало, что илимцы свой «отказ» «учинили самовольно, нашему великого государя указу противно», «чего преж сего не бывало». В конце концов в пользу Челищева со служилых и посадских людей взыскали 2000 рублей, но на воеводство в Илимск он не вернулся. Вряд ли бы бунтовщики так легко отделались, произойди это где-нибудь в Рязани или Калуге.
Присоединение Сибири, таким образом, важно для судеб русского народа не только тем, что местная пушнина, по расчетам Г. В. Вернадского, давала во второй половине XVII столетия треть государственного дохода, или тем, что там был обретен поистине кладезь полезных ископаемых, только-только в ту пору разведываемых и осваивымых. Но и тем еще, что там возник новый резервуар – пусть и очень относительной – русской свободы, хотя это и звучит парадоксом применительно к земле, куда уже тогда начали отправлять на поселение ссыльных. Кроме уголовников, это были разного рода беглые и бродяги, а также участники антипетровских восстаний – стрелецкого 1699 г., астраханского, булавинского – и «диссиденты»-старообрядцы. Позднее к ним добавились непокорные помещикам крестьяне и «политические». Контингент, как на подбор, сплошь незаконопослушный, создававший вокруг себя совсем иную атмосферу, чем та, которая господствовала и потому отторгла их в доуральской Великороссии.
Ну и напоследок остается выразить горькое сожаление, что грандиозная эпопея как Южного, так и Восточного русских фронтиров, перед которой бледнеет сага Дикого Запада, до сих пор не нашла ни своего Фенимора Купера в литературе, ни своего Джона Форда в кинематографе.
Глава 4. Рука Петербурга
«Хозяева земли русской»
Русская верховная власть с петровского переворота до 17 октября 1905 г., несмотря на ее переезд из Москвы в Петербург, принятие императорского титула, подражание то Стокгольму, то Парижу, то Берлину, щедрый приток немецкой крови в жилах Гольштейн-Готторп-Романовых (именно так именовался род российских монархов начиная с Петра III в европейском аристократическом справочнике «Готский альманах») и декларации про «общее благо», оставалась неизменной, скроенной еще по московской мерке – «надзаконной и автосубъектной» (А. И. Фурсов). «Ни при одном из более или менее размеренных видов правления, которые принято называть неограниченными, единоличная власть никогда не достигала и никогда не достигнет той степени, каковой она достигла в России, где все управление, по сути, осуществляется особой императора. Во всех странах, управляемых неограниченной властью, был и есть какой-нибудь класс или сословие, какие-нибудь традиционные учреждения, заставляющие государя в известных случаях поступать так, а не иначе и ограничивающие его причуды; в России ничего подобного нет», – писал в своей знаменитой книге «Россия и русские» (1847) декабрист-эмигрант Н. И. Тургенев. «Фактически старое московское самодержавие в новой оболочке приняло еще более резко выраженный характер», – констатировал в начале XX в. юрист В. М. Грибовский.
Какие бы решительные перемены ни происходили в жизни страны – вплоть до отмены крепостного права, – самодержавие менять свою природу не находило нужным. В петровском Воинском артикуле говорилось: «Его Величество есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответу дать не должен, но силу и власть имеет свои государства и земли, яко христианский государь, по своей воле и благомнению управлять». «Император Всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться верховной Его власти не токмо за страх, но и за совесть Сам Бог повелевает» – такая формулировка царской власти была дана при Павле I. «Основанием России было и должно быть самодержавие… Свобода в ней должна состоять… в повиновении всем законам, исходящим от одного высшего источника», – утверждалось в одном из официальных документов эпохи Николая I. В первых же параграфах введения к фундаментальным «Началам русского государственного права» А. Д. Градовского (1875) читаем: «Россия, по форме своего государственного устройства, есть монархия неограниченная… Ст. 1-я наших основных законов признает русского Императора монархом неограниченным и самодержавным. – Название „неограниченный“ показывает, что воля императора не стеснена известными юридическими нормами, поставленными выше его власти… Выражение „самодержавный“ означает, что русский Император не разделяет своих верховных прав ни с каким установлением или сословием в государстве, то есть что каждый акт его воли получает обязательную силу независимо от согласия другого установления». В 1897 г. в ответе на вопрос всероссийской переписи о роде занятий последний российский самодержец с обескураживающей прямотой написал: «Хозяин земли Русской». Под этим пассажем легко представить автограф Ивана III.
Не стесненные юридическими нормами хозяева могли позволить себе какие угодно неожиданные перемены. «Наши обычаи, служба и все переменяются у нас быстро, и с каждым царствованием Россия и ее народ переделываются заново, и на всем лежит печать скоропреходящего времени, которое едва успевает накладывать свой штемпель; эта печать времени есть царская воля, нрав и каприз Государя», – писал в 1865 г. наблюдательный мемуарист М. А. Дмитриев. Иногда перемены эти были пугающе жестокие, например, репрессии против русской знати в правление Анны Ивановны. «Дело Долгоруких» – казнено четверо, троим вырезали языки и вырвали ноздри, так или иначе пострадало около 50 человек; «дело Волынского» – казнено три человека, двоих «нещадно били кнутом», одному вырезали язык. Все это как будто возвращает нас в опричные времена, кстати, А. П. Волынского, среди прочего, обвиняли в том, что он в частных разговорах называл Ивана Грозного «тираном». Иногда – напротив, случались нововведения весьма гуманные: Елизавета Петровна, гармонично сочетавшая в себе любовь к радостям плоти и богобоязненность, не считаясь с мнением своих вельмож, из личных религиозных убеждений отменила в России смертную казнь, чего не было в ту пору нигде в Европе, а Петр III упразднил страшную своими бессудными расправами Тайную канцелярию.
Но несравненно чаще перемены были просто самодурские, лишавшие как внешнюю, так и внутреннюю политику последовательности и логики. Как признавал в 1801 г. Александр I, законы в империи, «быв издаваемы более по случаям, нежели по общим Государственным соображениям, не могли иметь ни связи между собою, ни единства в их намерениях, ни постоянности в их действии. Отсюда… бессилие законов в их исполнении, и удобность переменять их по первому движению прихоти или самовластия». Отсюда же, добавим, и традиционный российский алгоритм конца XVIII–XIX в. «реформы – реакция». Все зависело от степени здравого смысла в монаршей голове. Когда первого в последней образовывался дефицит, происходили сущие нелепицы. Тот же Петр III из-за своего поклонения прусскому королю Фридриху II свел на нет все русские усилия в чрезвычайно кровопролитной (хотя, по совести говоря, не очень-то России нужной) Семилетней войне и заключил со своим обожаемым идолом мир без всяких условий, начав готовиться к еще более бесполезной для империи войны с Данией. Экстравагантный романтик Павел I одним мановением руки отменил важнейшие законодательные акты Екатерины II – Жалованные грамоты дворянству и городам. Впрочем, как известно, оба эти оригинала – отец и сын – плохо кончили, что и имеет в виду знаменитый пушкинский парафраз «славной шутки» мадам де Сталь: «Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою». Позднее к удавке добавится бомба. Но суть дела останется прежней: в правовом поле тягаться с верховной властью невозможно, для политической оппозиции предусмотрен единственный выход – насилие.
Нередко крутые повороты самодержавной политики вовсе не удостаивались обоснований или объяснений. Скажем, введение военных поселений при Александре I не имело вообще никакого правового обеспечения – никаких регламентов или положений, этот вопрос не обсуждался ни одним государственным органом, все совершилось, «так сказать, келейно – волею императора Александра и трудами графа Аракчеева» (Н. К. Шильдер). Совершенной тайной было покрыто отречение от престола цесаревича Константина Павловича и назначение наследником престола великого князя Николая Павловича, что нарушало установленный Павлом I автоматический порядок наследования престола и что аукнулось государственным кризисом после смерти Александра I.
Карьеры главнейших имперских чиновников ломались порой совершенно по-кафкиански. Так, в манифесте 1758 г. о лишении чинов и ссылке первоначально приговоренного к смерти канцлера А. П. Бестужева-Рюмина говорилось, что императрица Елизавета никому, кроме Бога, не обязана давать отчет о своих действиях, что сам факт опалы есть свидетельство великих и наказания достойных преступлений, что, наконец, она не могла Бестужеву «уже с давнего времени… доверять». Через полвека Александр I, просвещенный воспитанник швейцарского республиканца Лагарпа, поступит почти так же, как и его патриархальная прабабка. В 1812 г. государственный секретарь М. М. Сперанский был внезапно арестован и безо всякого объявления его вины сослан в Нижний Новгород, а потом в Пермь, где и провел четыре года. В 1816 г. его столь же внезапно помиловали и сделали пензенским губернатором, но в указе об этом опять-таки ничего не говорилось о сути совершенного им «преступления», сообщалось только, что ранее были «доведены до сведения моего обстоятельства, важность коих принудила меня удалить со службы тайного советника Сперанского», но теперь «приступил я к внимательному и строгому рассмотрению… и не нашел убедительных причин к подозрению». Со временем нравы сильно смягчились, но Николай II, не арестовывая и не ссылая своих министров, отправлял их в отставку (причем, по его понятиям, сами они не имели права заявить инициативу в этом вопросе), также не затрудняя себя сообщением каких-либо внятных мотивов оной: например, так случилось в 1914 г. с В. Н. Коковцовым. Ну, на то он и хозяин…
Особенно пристальным хозяйским вниманием пользовалась любимая игрушка русских самодержцев – армия, что нередко приводило к печальным последствиям. При Александре I, следовавшем здесь всецело по стопам отца, «все, что касалось армии, вплоть до какого-нибудь малейшего производства, должно было исходить непосредственно от императора, от его личной воли» (А. Чарторыйский), отсюда произошла катастрофа Аустерлица. Д. А. Милютин, служивший в Военном министерстве во время Крымской войны, вспоминал, что «император Николай принимал на себя лично инициативу всех военных распоряжений», поэтому «на самые маловажные подробности испрашивалось высочайшее разрешение и утверждение. Едва ли возможно довести военное управление до более абсолютной централизации». Даже после Великих реформ назначение высшего генералитета оставалось монаршей прерогативой. Тот же Милютин, ставший военным министром, жаловался в дневнике, что перед самым началом Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. он еще не знал, составил ли Александр II список генералов, которые будут командовать войсками. Выдвижение императором на ключевые посты без согласования с главой военного ведомства нескольких великих князей стало в силу некомпетентности последних одной из важных причин длительных неудач и тяжелейших потерь русской армии. Николай II, как известно, во время Первой мировой войны посчитал необходимым принять на себя должность Верховного главнокомандующего.
А вот совсем мелочь, но уж больно показательная. В 1901 г. танцовщица Матильда Кшесинская, в прошлом предмет сердечной привязанности Николая II, а в ту пору – фаворитка великого князя Сергея Михайловича, вступила в конфликт с директором императорских театров князем С. М. Волконским, отказавшись от ношения какого-то костюма в какой-то роли. Волконский наложил на нее штраф в 50 рублей, Кшесинская написала государю, прося этот штраф снять. Тот приказал министру двора барону В. Б. Фредериксу ее просьбу исполнить. На попытку последнего возразить, что в таком случае положение всякого директора театров станет невозможным, «хозяин земли Русской» безапелляционно ответил: «Я этого желаю и не желаю, чтобы со мной об этом больше разговаривали!» В результате Волконский подал в отставку, а на его место был назначен сговорчивый В. А. Теляковский.
Разумеется, при надзаконности верховной власти никаких законодательных учреждений, ее контролирующих, в принципе быть не может. Все усилия придать такую функцию формально высшему государственному органу империи – Сенату – неизменно и неизбежно проваливались. Чрезвычайно характерен следующий эпизод. В 1802 г. Сенат получил право возражать против новых императорских указов, если они ему покажутся несогласными с другими законами, неясными или неудобными к исполнению. Вскоре Сенат этим правом воспользовался. По докладу военного министра Александр I определил, что все дворяне унтерофицерского звания обязаны служить в военной службе 12 лет, против чего сенаторы единогласно выразили свой протест, справедливо увидев здесь нарушение Жалованной грамоты, восстановленной императором сразу по восшествии на престол. В ответ на это царь-реформатор издал указ, в котором разъяснялось, что Сенат неправильно истолковал свои права, ибо право возражений относится только к старым указам, а не к новым, которые он обязан принимать неукоснительно. А. А. Корнилов так прокомментировал эту архетипическую историю: «Трудно понять, каким образом в уме Александра совмещалась идея необходимости ограничения самодержавной власти с такого рода противоречиями этой идее на практике. Поведение Александра в данном случае тем более было странно, что изложенное право Сената далее не ограничивало, в сущности, его самодержавной власти, так как в случае, если бы государь в ответ на протест Сената просто повторил свою волю об исполнении изданного им указа, то Сенат обязывался по регламенту немедленно принять его к исполнению». Но даже возможность просто возражать против самодержавного произвола вызвала негодование самого либерального из русских монархов. Что уж говорить про других…
Пускай Сенат был средоточием консервативной оппозиции александровским реформаторским замыслам. Но и Государственный совет, созданный по высочайше одобренному плану Сперанского, состоящий из высших чиновников империи, не только не получил ограничительных полномочий (император мог утвердить мнение меньшинства и, кстати, делал это весьма часто, так, в 1810–1825 гг. из 242 дел, по которым в Госсовете произошли разногласия, Александр I в 83 случаях утвердил мнение меньшинства, причем в 4 случаях это было мнение одного члена), он даже не стал дефакто единственным законосовещательным учреждением России. В дальнейшем новые законы неоднократно принимались без обсуждения в ГС – после рассмотрения в Комитете министров, Собственной его императорского величества канцелярии, Синоде, по итогам «всеподданнейших докладов» отдельных министров… Четкого разграничения законодательной и исполнительной власти в Российской империи до 1905 г. так и не сложилось.
Не стал Сенат и высшим органом государственного надзора за администрацией. В этой области с ним небезуспешно конкурировали те же Комитет министров и Собственная его императорского величества канцелярия. Русская монархия сознательно шла на создание ситуации «семи нянек», ибо более всего боялась возникновения такого института исполнительной власти, который мог бы поставить верховную власть в положение «царствует, но не правит». Лавируя между всевозможными соперничающими учреждениями, самодержавие, таким образом, сохраняло полную свободу рук. Даже Комитет министров не был единственной высшей инстанцией исполнительной власти, ибо до 1905 г. не предполагал наличия однородного правительства, связанного единым курсом и лидером, являясь ареной борьбы разных ведомств, особенно таких гигантов, как МВД и Министерство финансов. А практика индивидуальных «всеподданнейших докладов» часто и вовсе обессмысливала комитетские совещания. При Александре II, по словам С. М. Соловьева, не было «никакой системы, никакого общего плана действий, каждый министр самодержавствовал по-своему…». А вот сетования министра иностранных дел империи начала XX в. В. Н. Ламздорфа: «Положение нашего министерства становится невыносимо сложным, когда мы не можем обойтись без содействия других ведомств. Исполнение от нас ускользает; то и дело оказываешься перед сюрпризами и противоречиями. Не надо забывать, что в России, увы, нет единого императорского правительства, но есть более десятка министров, так или иначе соперничающих между собою, каждый из которых весьма далек от того, чтобы стремиться к общей цели, но ищет способа добиться своих в ущерб целям других и зачастую даже в ущерб высшим интересам отечества». По справедливому замечанию А. Е. Преснякова: «Не отрекаясь от своей сущности, самодержавие не могло быть введено не только в конституционные, но и в бюрократические рамки».
Перефразируя современного политолога М. В. Ремизова, можно сказать, что в империи безусловно существовала «вертикаль власти» (в смысле наличия лояльной монарху бюрократии), но была крайне слаба «вертикаль управления» (в смысле эффективности последнего на всех уровнях). И неэффективность этой системы задавалась именно сверху: «Одно из самых серьезных и неизбежных неудобств абсолютной власти состоит в том, что, веря в свои возможности сделать все, она не делает совершенно ничего или делает очень мало. В еще большей степени, чем власть представительная, она должна была бы действовать так, чтобы управление шло, так сказать, само собой и ее вмешательство требовалось бы как можно реже; на деле же вмешательство абсолютной власти происходит очень часто. Сама природа этой власти возлагает на нее это тяжкое и удручающее бремя; единственное средство освободиться от него – это передать часть своей власти представительным органам. Но самодержцы, как правило, не любят, чтобы административные дела шли единообразно и регулярно, без их непосредственного влияния; они предпочитают во все вмешиваться. И каков же результат этого? Они до тех пор будут уделять все свое внимание мелочам и частным подробностям, всегда более легким и многочисленным, пока не рухнут под их бременем. Тогда, убедив себя, что совесть их чиста, они говорят себе, что трудятся для страны, жертвуют временем, отдыхом, даже здоровьем, что они, наконец, исполняют свой долг монархов с поистине религиозным рвением. Но, поглощенные мелочами, они не замечают, как упускают важные дела, предоставляя их небрежности, неспособности или дурным страстям своих министров или низших чиновников или вообще оставляя их на волю случая. Заботиться о деталях и одновременно управлять ходом правительственной машины – задача, с которой одному человеку справиться невозможно, даже если он употребит на это все свои силы. Поэтому, идя таким путем, самодержцы верны себе: они прежде всего и в основном занимаются частностями» (Н. И. Тургенев).
Прекрасной иллюстрацией к этой цитате может служить государственная деятельность Николая I, находившего время для личных допросов неблагонадежных поэтов и публицистов и определения фасона и цвета чиновничьих мундиров, но с горечью признававшего, что Россией управляет не он, а несколько тысяч столоначальников. Н. И. Пирогов вспоминал, что в середине 1830-х гг. для того, чтобы ему можно было прочитать курс хирургической анатомии при петербургской Обуховской больнице, потребовалось личное разрешение государя, которое было испрошено у последнего через императорского лейб-медика. По словам придворной фрейлины А. Ф. Тютчевой, Николай Павлович «проводил за работой восемнадцать часов в сутки из двадцати четырех, трудился до поздней ночи, вставал на заре, спал на твердом ложе, ел с величайшим воздержанием, ничем не жертвовал ради удовольствия и всем ради долга и принимал на себя больше труда и забот, чем последний поденщик из его подданных. Он чистосердечно и искренне верил, что в состоянии все видеть своими глазами, все слышать своими ушами, все регламентировать по своему разумению, все преобразовать своею волею. В результате он лишь нагромоздил вокруг своей бесконтрольной власти груду колоссальных злоупотреблений, тем более пагубных, что извне они прикрывались официальной законностью и что ни общественное мнение, ни частная инициатива не имели ни права на них указывать, ни возможности с ними бороться». Ей вторит М. А. Дмитриев: у Николая «были такие неясные и странные понятия о пространстве и пределах правительственной власти, что он путался во все: ему хотелось быть и судьей, и полицмейстером своей империи: от этого ему недоставало ни времени, ни уменья быть истинною главою государства. Эта глава хотела быть и руками двигающими, и ногами бегающими, и всем, кроме мыслящей силы, правящей хладнокровно в пределах закона». Политическая полиция – Третье отделение и приданный ему корпус жандармов, которая, по словам того же Дмитриева, «вступалась во все, путалась во все дела», притом что ее контрольно-надзорные функции не были закреплены никакими юридическими нормами, могла задавить любой робкий оппозиционный росток, но добавить творчества в государственное управление была бессильна.
Методы работы верховной власти, естественно, копировала бюрократия. «…Наблюдая многих губернаторов, – писал в своих мемуарах минский губернатор в 1916–1917 гг. В. А. Друцкой-Соколинский, – я отметил одну общую… черту: страх что-то упустить, страх выпустить малейшее из-под непосредственного своего наблюдения и влияния, страх упустить власть… Большинство губернаторов… буквально утопали в мелочах, заваливали себя грудами совершенно ничтожных дел и бумаг, просмотр и подпись которых отнимали у них бездну времени…»
Вместо усиления управляемости государственного аппарата (общая численность которого с конца XVII в. до 1913 г. увеличилась с 4,7 тыс. до 252,9 тыс. человек, то есть почти в 54 раза) мы видим административный хаос, господство временщиков (среди которых преобладали отнюдь не Потемкины, а, скорее, Бироны и Аракчеевы) и множество локальных самодержцев в виде министров и губернаторов. В эпоху Николая I, по свидетельству вовсе не либерала, а твердого консерватора Н. А. Любимова, «губернатор, при какой-то ссылке на закон, взявший со стола том свода законов и севший на него с вопросом: „где закон?“, был лицом типическим, в частности, добрым и справедливым человеком… Начальник был безответственен в отношениях своих к подчиненным, но имел, в тех же условиях, начальство и над собою». Новый взлет губернаторского беспредела приходится на правление Александра III. Вполне благонадежный генерал-славянофил А. А. Киреев возмущался в своем дневнике в апреле 1894 г.: «Администрации дается воля небывалая. Нелепое сечение считается энергией. Неклюдов [орловский губернатор] высек георгиевского кавалера, Клиненберг [ковенский губернатор] – целый приход, Трубецкой [минский губернатор] – адвоката».
Для контроля управления на губернском уровне, судя по замечанию П. А. Вяземского в записных книжках 1846 г., империя сохранила старую добрую московскую традицию – назначать областными начальниками только «варягов»: «Есть у нас какое-то правило, по коему не определят человека губернатором в такую губернию, где он имеет поместье». Но вряд ли эта мера имела антикоррупционный смысл, ибо главным источником коррупции была неподотчетность бюрократии обществу. Скорее, прав тот же Вяземский, который по другому поводу так объяснил тайный резон данного правила: «…человек на своем месте делается некоторою силою, самобытностью, а власть хочет иметь одни орудия, часто кривые, неудобные, но зато более зависимые от ее воли». Характерно, что долго на одном месте губернаторы не задерживались. При Николае I из 48 губернаторов «до 1 года занимали свою должность 15 губернаторов, до 2 лет – 9. Таким образом, ровно 50 % губернаторов находились в данной губернии не более двух лет. 12 человек выполняли обязанности от 5 до 10 лет, и только 6 губернаторов – более 10 лет. Следовательно, 37,5 % губернаторов занимали должность свыше 5 лет» (П. А. Зайончковский). «Если губернатор где-либо просидит более 5 лет, то это считается чем-то особенным…» – писал в 1903 г. помощник статс-секретаря Госсовета Э. Н. Берендтс. Много ли пользы на местах могла принести такая губернаторская чехарда?
Следует заметить, что по сравнению с общей массой населения количество чиновников было невелико и сильно отставало от соответствующих показателей в ведущих европейских странах. Так, в 1910–1913 гг. в России на 1000 человек приходилось 1,53 чиновника, а в Германии – 6,13, во Франции – 7,30, в Великобритании – 8,20. В связи с этим Б. Н. Миронов даже утверждает, что в Российской империи государство было «минималистским». Правильнее, однако, используя терминологию Майкла Манна, констатировать, что власть в Петербургской России так и не стала «инфраструктурной», то есть способной координировать и регламентировать социальную жизнь «изнутри», оставшись при этом «деспотической», то есть основанной на внешнем произволе. Даже в начале XX в. принцип судебной ответственности должностных лиц за превышение и злоупотребление властью реально не действовал, а административная юстиция находилась в зародыше. Как следствие – чудовищная коррупция, которой пронизана вся история российской бюрократии Петербургского периода.
Только пара примеров, специально взятых не из XVIII в., когда крали целыми рекрутскими наборами, и не из 30– 40-х гг. XIX в., всем памятных по «Ревизору». В 1860-х гг., рассказывает П. А. Кропоткин, «всем было известно, что невозможно добиться утверждения акционерного предприятия, если различным чиновникам в различных министерствах не будет обещан известный процент с дивиденда. Один мой знакомый захотел основать в Петербурге одно коммерческое предприятие и обратился за разрешением куда следовало. Ему прямо сказали в Министерстве внутренних дел, что 25 % чистой прибыли нужно дать одному чиновнику этого министерства, 15 % – одному служащему в Министерстве финансов, 10 % – другому чиновнику того же министерства и 5 % – еще одному». В дневниках за 1901–1903 гг. члена ГС А. А. Половцова читаем о деле петербургского градоначальника генерал-лейтенанта Н. В. Клейгельса, воровавшего «самым беззастенчивым манером». За его грехи, по мнению прокурора петербургского окружного суда, ведшего дознание, полагалась ссылка на поселение. Но связи наверху, в том числе и личное благоволение Николая II, завершили это дело переводом Клейгельса в Киев – генерал-губернатором, с присвоением чина генерал-адъютанта.
С конца XVIII в. Европа стремительно менялась. Образцовая «абсолютная» монархия Франция после почти столетнего примеривания различных форм правления в 1871 г. успокоилась на республике. Одна за другой множились конституционные монархии: Швеция (1809), Испания (первая конституция – 1812, окончательно – 1837), Норвегия (1814), Нидерланды (1815), Греция (1822), Бельгия (1831), Дания (1848), Италия (1861), Сербия (1869), Румыния (1866), Австро-Венгрия (1867), Германия (1871)… В 1879 г. конституцию получила освобожденная от турецкого гнета самодержавной Россией Болгария – особенно пикантно, что и сочинили ее русские юристы (в том числе и упомянутый выше Градовский). Еще более пикантно, что внутри самой империи конституцию имела Финляндия и – в 1815–1830 гг. – Польша. К концу XIX в. Россия оставалась единственной неограниченной монархией в Европе. Даже на «деспотическом» Востоке подули новые веяния. В 1876 г. конституцией (правда, вскоре ликвидированной и восстановленной только в 1908 г.) обзавелась Османская империя, в 1889-м – Япония. В Новом Свете все выше поднималась звезда североамериканской демократии.
На этом фоне Российская империя выглядела все более архаичной, вызывая отторжение у собственной вестернизированной интеллектуальной элиты, и явно проигрывала в эффективности странам, следовавшим европейскому мейнстриму, о чем свидетельствовали ее поражения в Крымской и Русско-японской войнах. Более того, такая система развращала народную психологию, ибо зыбкость основополагающих правил общежития, идущая сверху, не могла не порождать пресловутого правового нигилизма внизу, что ясно видели и радикалы, и консерваторы: «Русский, к какому бы классу он ни принадлежал, нарушает закон всюду, где он может сделать это безнаказанно; точно так же поступает правительство» (А. И. Герцен); «Как же хотят уважения к законам в частных лицах, когда правительство все беззаконное себе позволяет?» (В. А. Жуковский). Ну и наконец, без свободы политической все гражданские свободы оказывались более или менее фиктивны. Как писал еще М. М. Сперанский: «Хотя права гражданские и могут существовать без прав политических, но бытие их в сем положении не может быть твердо».
Показательно, что до 1906 г. регистрация любых общественных организаций имела в России разрешительный характер, то есть «являлось не законным правом граждан, а милостью, даруемой властью по своему усмотрению» (А. С. Туманова). В российском законодательстве отсутствовал специальный закон на сей счет, но в «Уставе о пресечении и предупреждении преступлений» (глава 5 – «О незаконных и тайных обществах») было четко прописано: «Запрещается всем и каждому заводить и вчинять в городе общество, товарищество, братство или иное подобное собрание без ведома или согласия правительства». Полиция бдительно следила за зубоврачебными или астрономическими обществами, за литературно-художественным кружком при МХТ, за клубом футболистов и т. д., везде подозревая возможную крамолу; в 1848–1859 гг. действовал запрет даже на создание благотворительных обществ: бедным предписывалось помогать либо индивидуально, либо через посредничество Приказов общественного призрения. И это не было просто паранойей – при отсутствии легальной политической жизни оппозиционные элементы действительно могли угнездиться под каким угодно прикрытием. Тупиковая для развития страны ситуация.
Наиболее влиятельная русская историко-юридическая школа XIX в. – «государственная», представленная такими светилами, как С. М. Соловьев, К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин, В. И. Сергеевич, А. Д. Градовский, разработала концепцию, согласно которой после необходимого в интересах обороны страны «закрепощения сословий» русская монархия эволюционно их «раскрепощает» и движется к установлению правового порядка. Великие реформы вроде бы подтверждали правоту «государственников», но вдруг забуксовали, как только речь зашла об участии общества в управлении государством, что обессмысливало эти преобразования, лишало их перспективы, сохраняя в стране все тот же старорежимный военно-бюрократический порядок, еще более укрепившийся в эпоху «контрреформ». С 1881 до 1917 г. в наиболее населенных и развитых регионах и городах империи (в том числе и в обеих столицах) непрерывно действовало «Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия», дающее генерал-губернаторам, губернаторам и градоначальникам право воспрещать различные общественные и частные собрания, делать распоря жения о закрытии торговых и промышленных заведений, практиковать административную высылку тех или иных подозрительных лиц и т. д. Николай II, едва вступив на престол, с ходу отверг самые скромные пожелания земских деятелей, назвав их «бессмысленными мечтаниями».
Наблюдая все это, на пороге XX столетия патриарх «государственной школы» Б. Н. Чичерин, долгое время считавший ограничение самодержавия преждевременным для России, вынужден был радикально пересмотреть свою позицию: «Для всякого мыслящего наблюдателя современной русской жизни очевидно, что главное зло, нас разъедающее, заключается в том безграничном произволе, который царствует всюду, и в той сети лжи, которой сверху донизу опутано русское общество. Корень того и другого лежит в бюрократическом управлении, которое, не встречая сдержки, подавляет все независимые силы и, более и более захватывая власть в свои руки, растлевает всю русскую жизнь… Но ограничить бюрократию невозможно, не коснувшись той власти, которой она служит орудием и которая еще чаще служит ей орудием, – то есть неограниченной власти монарха. Пока последняя существует, безграничный произвол на вершине всегда будет порождать такой же произвол в подчиненных сферах. Законный порядок никогда не может упрочиться там, где все зависит от личной воли и где каждое облеченное властью лицо может поставить себя выше закона… (курсив мой. – С. С.)»
Бесплодные усилия русского конституционализма
Попытки ограничения «безграничного произвола на вершине» в Петербургский период предпринимались неоднократно. Самой значительной и близкой к успеху из них была «затейка» Верховного тайного совета, высшего совещательного органа империи, учрежденного вскоре после смерти Петра I. Преобладавшие там «сильные персоны» – князья Голицыны и Долгорукие, среди которых особенно выделялся Дмитрий Михайлович Голицын, пригласив в 1730 г. на ставший в очередной раз вакантным русский трон племянницу Петра – вдовствующую герцогиню Курляндскую Анну Ивановну, поставили ей обязательным условием подписание «кондиций», по сути юридически ликвидировавших самодержавие. Неверно считать, что «верховники» отстаивали только свои личные корыстные интересы. В «кондициях», сначала подписанных, а потом разорванных Анной, содержались требования к монарху без согласия ВТС «ни с кем войны не всчинать», «миру не заключать», «верных наших подданных никакими новыми податми не отягощать», «у шляхетства живота и имения и чести без суда не отъимать». Первые три пункта были актуальны для всех слоев населения, измученных петровской военно-налоговой вакханалией. Последний – наконец-то давал правовые гарантии всему русскому дворянству.
В форме присяги императрице, разработанной «верховниками», понятие «самодержавие» полностью отсутствовало, а от присягающего требовалось быть верным не только государыне, но и «государству», «отечеству», что существенно поднимало уровень тогдашней русской правовой культуры. Там же речь идет о том, чтобы «х купечеству иметь призрение, и отвращать от них всякие обиды и неволи, и в торгах иметь им волю, и никому в одни руки никаких товаров не давать (то есть речь идет о запрещении монополий, активно практиковавшихся при Петре. – С. С.), и податми должно их облехчить» и «крестьян податми сколько можно облехчить, излишние росходы государственные разсмотрить». Декларировалось расширение совещательного начала в государстве: «Будет же когда случитца какое государственное новое и тайное дело, то для оного в Верховный тайный совет имеют для совету и разсуждения собраны быть Сенат, генералитет, и калежские члены и знатное шляхетство; будет же что касатца будет к духовному управлению, то и синодцкие члены и протчие архиереи, по усмотрению важности дела». «Верховники» планировали созвать комиссию для разработки новых законопроектов, в которую должны были войти 20–30 выборных от шляхетства. Причем в случае, если комиссия будет касаться церковных, военных или торговых вопросов, то следовало привлекать к их обсуждению выборных от духовенства, «военных людей» и купечества, «и тех выборных от всякого чина допускать в совет и давать им ровные голосы».
По точной формулировке П. Б. Струве, в «кондициях» и других документах «верховников» «заключены были в зародышевом виде две основные здоровые идеи конституционализма. Это: 1) идея обеспечения известных прав человека, его личной и имущественной неприкосновенности; 2) идея участия населения в государственном строительстве». Неверно также считать, что шляхетство было сплошь за самодержавие, напротив, из его среды было выдвинуто несколько конституционных проектов, но их создатели и «верховники» не смогли найти между собой компромисс (в дворянских проектах планировалось значительно расширить число членов ВТС), и в результате в момент конфликта «сильных персон» и императрицы шляхетство взяло сторону последней, надеясь, что она удовлетворит их требования лучше. Кое-какие льготы дворянство действительно приобрело, но не политические или даже гражданские права, взамен получив все прелести «бироновщины», оставшейся в памяти «благородного сословия» как одна из самых черных эпох в его истории.
В 1762 г., после вступления на престол Екатерины II, воспитатель цесаревича Павла граф Никита Иванович Панин предложил одновременно учредить Императорский совет из 6–8 сановников, без согласования с которым императрица не могла принять ни одного закона, и усилить значение Сената, которому давалось право представлять возражения на «высочайшие указы». Екатерина, чье положение на троне было тогда еще очень шатким, несколько месяцев раздумывала над этим демаршем и даже подписала составленный Паниным соответствующий манифест, но позже, поняв, что реальной общественной силы за его автором нет, оторвала от документа свою подпись. Несмотря на почтение к Монтескье и энциклопедистам, императрица ограничивать свою власть явно не желала, и откупилась от дворянских притязаний дарованием первому сословию неотъемлемых гражданских прав.
Панин, однако, не расстался с конституционными намерениями и вместе с братом Петром и Д. И. Фонвизиным принялся обдумывать проект «фундаментальных законов» для России, где весьма четко изложена суть проблемы: «Где… произвол одного есть закон верховный, тамо прочная общая связь и существовать не может; тамо есть государство, но нет отечества, есть подданные, но нет граждан, нет того политического тела, которого члены соединялись бы узлом взаимных прав и должностей… Государь… не может… ознаменовать ни могущества, ни достоинства своего иначе, как постановя в государстве своем правила непреложные (курсив мой. – С. С.), основанные на благе общем, и которых не мог бы нарушить сам, не престав быть достойным государем». Никита Иванович возлагал все надежды на воцарение своего воспитанника, но не дожил до этого дня, и слава богу, ибо разочарование было бы слишком жестоким – сын отнял у дворянства даже то, что дала мать. Трудно поверить, что автор афоризма «велик в России лишь тот, с кем я говорю и пока я с ним говорю» некогда сочувственно внимал панинским мечтам. Есть сведения, что руководители антипавловского заговора 1801 г. П. А. Пален и Н. П. Панин (племянник Н.И.) планировали после переворота установить конституционное правление.
«Дней Александровых прекрасное начало», когда на престол взошел монарх, практически не скрывавший своих республиканских убеждений, породили немало конституционных проектов, наиболее значительные из которых – и по глубине мысли, и по возможностям их реализации – разработки Михаила Михайловича Сперанского. Заказчиком их был сам царь. Сперанский основывался на разделении законодательной, исполнительной и судебной властей, осуществлявшихся различными учреждениями: первая – Государственной думой, вторая – министерствами, третья – Сенатом. Хотя право законодательной инициативы оставалось почти исключительной прерогативой императора, четко прописывалось, что «никакой новый закон не может быть издан без уважения Думы» и что «установление новых податей, налогов и повинностей уважается в Думе»; предполагалась ответственность министров перед «законодательным сословием». Думское начало должно было проникнуть всю Россию, начиная с волостного уровня, из депутатов губернских дум образовывалась уже дума Государственная. В думских выборах получало право принимать участие, кроме дворян, «среднее состояние» (купцы, мещане, государственные крестьяне). Все эти предложения были похоронены после отставки Сперанского, о которой уже говорилось выше.
В 1820 г., по поручению Александра I, Н. Н. Новосильцов разработал проект Государственной уставной грамоты Российской империи – в ней фигурировал двухпалатный Государственный сейм, который «законодательной власти государя содействует», вплоть до права вето. Кроме того, Уставная грамота содержала «ручательства» всевозможных свобод – вероисповедания, «тиснения» (то есть печати), неприкосновенность личности и собственности, утверждала «коренной российский закон: без суда никто да не накажется». Но несмотря на то что император «был действительно близок к реальному введению в России пусть крайне ограниченной, но все же конституции» (С. В. Мироненко), обнародовать этот документ и придать ему силу закона он так и не решился. В конце 1822 – начале 1823 г. Александр окончательно покончил с планами политических реформ.
С той поры до начала XX в. верховная власть в России никогда более всерьез не задумывалась над вопросом своего законодательного самоограничения. Даже пресловутая «конституция» М. Т. Лорис-Меликова 1881 г. не предполагала ничего более, чем включение в ГС выборных от земств; «Земский собор» Н. П. Игнатьева 1882 г. также имел чисто совещательное значение. Начиная с «Русской правды» П. И. Пестеля и «Конституции» Н. М. Муравьева, ограничительные проекты, заслуживающие разговора не только в кругу узких специалистов-историков, стали уделом нелегальной политической оппозиции, легальной в Российской империи не могло быть по определению.
Просвещение или «помрачение»?
Легитимность самодержавия начиная с Петра обосновывалась не только его божественным происхождением, но и тем, что оно – протагонист Просвещения в России, причем в обоих наиболее распространенных смыслах этого слова. В первом, узком, идеологическом – петербургская монархия претендовала быть носителем и проводником идеи разумно устроенного, сначала «регулярного», а потом и «законного» государства. Но при всех своих – иногда несомненно искренних – потугах в этом направлении Романовы сами их же подрывали на корню. Просвещение – это предсказуемость, расчет, установление компромиссных правил и соблюдение оных. Но когда правила не соблюдаются, причем на уровне суверена гигантской империи, когда правитель в своей власти ничем не ограничен, кроме удавки или бомбы – тут уже не Просвещение, тут самый настоящий романтизм крайне реакционного извода.
Уже Павел с его идеалом рыцарского ордена в качестве основы государственного порядка, на практике выразившимся в какой-то оргии плац-парадов, как призрак из прошлого явившийся после вольтерьянствующей матушки, был пугающим симптомом. Но царил он недолго, а его необузданный деспотизм современники списали на действительно имевшую место психическую неуравновешенность. Между тем, как верно заметил А. Е. Пресняков, хотя «многое в личности и действиях Павла может быть предметом индивидуальной патологии… самодержавие выступило при нем в полном обнажении своей сущности». Что роман верховной власти с Просвещением явно разладился, стало окончательно понятно, когда наследник и, казалось бы, полный антипод императора-магистра – ученик Лагарпа и покровитель Сперанского объявил своей главной задачей борьбу за незыблемость монархического правления в Европе, сделал надконфессиональный христианский мистицизм государственной идеологией и дал добро на разгром университетов, в которых теперь требовалось преподавать политэкономию на основе Писания.
И это конечно же не случайно. Для обоснования надзаконного самодержавия несравненно более подходят религиозные, а не правовые аргументы, простодушная вера, а не лукавый разум. «Лучшая теория права – добрая нравственность, и она должна быть в сердце независимой от этих отвлеченностей и иметь своим основанием религию», – говорил Николай I, чуждый мистических озарений отца и брата, но понимавший практическую ценность благочестия для прочности его власти. Его господствовавший почти тридцать лет казарменный романтизм твердо закрепил за самодержавием репутацию антипросвещенческой силы. По словам С. М. Соловьева, Николай «инстинктивно ненавидел просвещение как поднимающее голову людям, дающее им возможность думать и судить, тогда как он был воплощенное: „не рассуждать!“… По воцарении Николая просвещение перестало быть заслугою, стало преступлением в глазах правительства… Смотр стал целью общественной и государственной жизни». «Под конец [николаевского] тридцатилетия задыхались уже все, не то что дурные, а именно хорошие, благомыслящие люди, преданные и государю, и государству», – вспоминал И. С. Аксаков.
Не случайно и то, что, со времен «официальной народности» С. С. Уварова, в агитпропе «западнической» по своему генезису империи все более усиливаются проклятия в адрес «загнивающей Европы» и декларации об особом пути России (особость эта, естественно, заключена в незыблемости самодержавия), что понятно – Европа после 1789 и 1848 гг. и в теории и на деле уже отрицала монархический принцип как таковой. И вот потомки «державного плотника», яростного гонителя Московской Руси, начиная с Александра III, становятся ее горячими поклонниками. Петербургская империя на идеологическом уровне пришла к самоотрицанию, покаянно вернувшись к отвергнутым некогда московским корням (в государственной практике, впрочем, никогда от них не отрываясь). При последнем российском самодержце, любившем наряжаться на придворных маскарадах в костюм русского царя XVII столетия, было прославлено больше святых, чем за предшествующие два века. Так он надеялся восстановить связь с «народной почвой», якобы утерянную Романовыми в эпоху петровских преобразований, когда, в частности, почти прекратились новые канонизации. Но за эти два века «почва» изменилась столь сильно, что вместо обретения фундамента самодержавие провалилось в пустоту.
С просвещением в широком, образовательном смысле у российской монархии также сложились весьма двусмысленные отношения. С одной стороны, невозможно отрицать, что создание университетов, которых к началу XX в. насчитывалось десять, – почти исключительно ее заслуга. С другой – постоянное урезание их автономии (а в конце 1840-х – начале 1850-х они и вовсе балансировали на грани закрытия; в 1853 г. на 50 млн населения приходилось всего лишь 2900 студентов, «то есть почти столько же, сколько в одном Лейпцигском университете» (М. А. Рахматуллин) сигнализировало об отрицании верховной властью самой сути университетского обучения. Среднее образование бдительно охранялось от социальных низов (то есть от 90 % населения страны), последний по времени законодательный акт, подтверждающий неуклонное следование этой стратегии, датируется 1887 г. – пресловутый указ о «кухаркиных детях».
Настоящей ахиллесовой пятой Российской империи было начальное школьное образование. К концу XIX в. всеобщий (но не обязательный!) характер оно имело только в двух прибалтийских губерниях – Эстляндской и Курляндской (с 1870-х гг.). (Для сравнения: Австрийская империя начала планировать введение всеобщего начального образования уже в конце XVIII в.) По данным Министерства народного просвещения, в 1890 г. училось только 15 % детей школьного возраста, то есть 1 учившийся приходился на 7 неучившихся. Между тем в Японии в том же году было введено обязательное всеобщее начальное образование, в 1894 г. начальную школу посещали уже почти 62 % детей, а к началу нового столетия этот показатель стал практически стопроцентным. По доле учащихся среди населения страны Россия занимала одно из последних мест в Европе: в 1905 г. – 3,5 %, в то время как в большинстве европейских стран этот показатель колебался от 12 до 17 %. Доля казны в материальном обеспечении начальной школы была очень невелика и со временем не увеличивалась, а снижалась (как и расходы в абсолютных цифрах), а доля городских и сельских обществ и особенно земств возрастала. В 1899 г. государство финансировало народную школу менее чем на одну десятую, а земства, городские и сельские общества и частные лица – более чем на четыре пятых. Уровень грамотности в стране, по переписи 1897 г., едва превышал 20 %.
Логику самодержавия нетрудно понять: оно просто никогда не ставило своей задачей поступательное повышение образовательного уровня как можно большего числа своих подданных. Более того, такая задача была прямо противоположна ее сущности – надзаконно управлять десятками миллионов грамотных людей слишком затруднительно. В архаическом социуме империи большинство составляли крестьяне, которые, как правило, из поколения в поколение жили в своем собственном аграрно-циклическом замкнутом мире, где в узкопрактическом смысле даже умение читать и писать не казалось столь уж необходимым. Подход к образованию у Романовых был сугубо прагматический – им нужны были образованные чиновники, все остальное казалось излишним или даже подрывающим устои. Отсюда и стремление держать университетскую жизнь под жестким контролем.
Ф. И. Тютчев прекрасно определил культурную политику петербургской монархии как «попытку присвоить себе современную культуру, но без ее основы, без свободы мысли». Истинность этой сентенции всецело подтверждается отношением самодержавия к печатному слову. Недолгие периоды его относительного раскрепощения сменялись эпохами «цензурных оргий» (С. М. Соловьев). Разрешение частных типографий и частных журналов при Екатерине II очень быстро обернулось многочисленными запретами, расправами над А. Н. Радищевым и Н. И. Новиковым (если над первым состоялся, хотя и фиктивный, но суд, то второго осудили на 15 лет заключения в Шлиссельбургской крепости по именному указу императрицы с загадочной формулировкой: «по силе законов») и, в конце концов, уничтожением всех вольных типографий, ибо «для печатания полезных и нужных книг имеется достаточное количество казенных типографий». Зигзаги екатерининской политики хорошо иллюстрирует динамика количества издаваемых книг: в 1762 г. – 95 названий, 1785 – 183, 1786 – 271, 1787 – 387, 1788 – 439, 1789 – 339, 1790 – 263, 1797 – 165. При ревизии новиковских книжных складов было сожжено 18 656 томов.
Похожая история в лайт-варианте произошла и при Александре I: сначала – возобновление частных типографий и смягчение цензуры, в конце – «система гонений, придирок, оскорблявших писателя, достигшая нелепости нередко анекдотической, при знаменитых цензорах [А.С.] Бирукове и [А.И.] Красовском» (Н. Л. Бродский). Запрещению могли подвергнуться, например, невиннейшие любовные вирши «О, как бы я желал пустынных стран в тиши / Безвестный, близ тебя к блаженству приучаться» с вердиктом: «…автор не хочет продолжать своей службы государю для того только, чтобы всегда быть со своей любовницей».
Эпоха настоящего террора против отечественной словесности – правление Николая I, как будто запустившего специальный смертоносный антилитераторский вирус – ни при каком правителе России за всю ее историю (исключая Сталина, ну, этот вне конкуренции) ранняя писательская смертность не была столь высока: Рылеев, А. Одоевский, Бестужев-Марлинский, Грибоедов, Веневитинов, Дельвиг, Пушкин, Лермонтов, Боратынский, Кольцов, Гоголь, Станкевич, Полежаев, Языков… Не ко всем этим смертям Николай прямо или косвенно руку приложил, но во всех них чувствуется какой-то рок, говоря словами Гоголя: «Слышно страшное в судьбе наших поэтов…» А прибавим сюда аресты, тюремные заключения, ссылки, цензурные кары, жертвами которых стали Достоевский, Герцен, Огарев, Тургенев, Чаадаев, И. Киреевский, Даль, И. Аксаков, Самарин, Салтыков-Щедрин, Надеждин, Шевченко, Костомаров, С. Глинка… В «мрачное семилетие» 1848–1855 гг. незавуалированное обсуждение каких-либо насущных общественных проблем в легальной российской прессе стало фактически невозможно. «…Мысль и ее движение теперь подозрительны, какое бы ни было их направление», – писал в частном письме начала 1850-х гг. славянофил А. С. Хомяков.
Отмена предварительной цензуры при Александре II не привела русскую печать к освобождению от административного произвола, который теперь использовал систему «предостережений», после третьего из которых журнал или газета приостанавливались на срок от двух до восьми месяцев. Позднее к этому добавились другие ограничения – запрет розничной продажи издания «за вредное направление»; увеличение времени предоставления на просмотр в цензуру вроде бы «бесцензурных» журналов; права, данные министру внутренних дел, запрещать печати касаться любого вопроса внутренней или внешней политики и принимать внесудебные меры (приостановка, запрет, распространение) по отношению к любому изданию, выходившему без предварительной цензуры, на период до вынесения по делу решения Комитета министров и т. д. Возобновилась практика сожжения неугодных книг. А. В. Никитенко в 1872 г. горевал в дневнике, что нынешняя цензура «чуть не свирепее, чем в николаевское время».
Отношение к печатному слову при Александре III рельефно отражено в циркулярном письме от 25 декабря 1881 г. и. о. начальника Главного управления по делам печати П. П. Вяземского (между прочим, сына известного поэта): «…цензура обязана не только устранять все то, что имеет прямо вредный или тенденциозный характер, но и все то, что может допускать предосудительное толкование». Какой простор для самых смелых чиновничьих фантазий! Всего за этот недолгий период в результате цензурных репрессий прекратили свое существование 15 газет и журналов.
Так что по мере роста культурного уровня образованного слоя русского общества, ориентированного на ценности европейской цивилизации, в глазах последнего верховная власть все более представала скорее не светочем Просвещения, а орудием помрачения, как сострил еще в 1821 г. Вяземский-старший.
«Победители не получают ничего»
Нет, не Просвещение и не «общее благо» были истинными ценностями для Петербурга, а внешнеполитическое могущество как таковое (недаром любимым развлечением Романовых начиная с Павла были плац-парады), заветная вершина которого – гегемония в Европе, хотя российская экспансия развивалась по самым разным направлениям. На Северо-Западе борьба со Швецией завершилась в 1809 г. присоединением к империи Финляндии. На Западе, после участия в разделах Речи Посполитой, Россия получила Литву, Белоруссию и Правобережную Украину (без Галиции, оказавшейся под властью Австрии). По итогам войн с Наполеоном в 1815 г. в состав империи вошла большая часть «этнографической Польши». На Юго-Западе и Юге Россия, упорно продолжая линию, начатую еще при Алексее Михайловиче, стремилась установить свое доминирование на Балканах и в перспективе снова водрузить крест на константинопольской Софии. Второй фронт этой многосерийной, так и не решившей поставленной задачи войны проходил по Кавказу, окончательно покоренному в 1860-х гг. Завоевание Средней Азии в 1860– 1880-х гг. также было обусловлено перипетиями европейской политики империи – соперничеством с Англией в рамках Большой игры.
С Петра прошло почти два века, но геополитические фантазии российских самодержцев оставались столь же безудержными. Военный министр Николая II А. Н. Куропаткин записал в дневнике 16 февраля 1903 г.: «…у нашего государя грандиозные в голове планы: взять для России Маньчжурию, идти к присоединению к России Кореи. Мечтает под свою державу взять Тибет. Хочет взять Персию, захватить не только Босфор, но и Дарданеллы».
Империя была, по сути, машиной, запрограммированно работающей на войну. Тот же Куропаткин подсчитал, что за два века – XVIII и XIX – Россия провела 72 года в мире и 128 лет в войне, причем из 33 внешних войн только 4 были оборонительными, а остальные 29 – наступательными, предпринятыми либо «для расширения пределов», либо «в интересах общественной политики». Естественно, армия и расходы на нее росли как на дрожжах. Всего, по Куропаткину, «войны истекших двух столетий привлекли к бою около 10 млн человек, из них около одной трети потеряно для народа, в том числе убитых и раненых почти один миллион». А. Н. Радищев уже в конце XVIII в. видел Россию как «пространный воинский стан».
В 1800 г. армия насчитывала 400 000 человек на 35 млн населения (1,14 %). При Александре I под ружье было поставлено в общей сложности более двух миллионов человек – свыше четверти населения, способного носить оружие. В некоторых губерниях, не набиравших предписанного числа рекрутов, разрешили вместо них сдавать двенадцатилетних мальчиков в военно-сиротские заведения. Военный бюджет составил в 1814 г. более двух третей общего государственного бюджета (70 млн руб. из 114). С 1810 по 1818 г. подушная подать, платимая русским крестьянством прежде всего на содержание войска, выросла в 2,5 раза (с 1 руб. 26 коп. до 3 руб. 30 коп). При Николае I даже в мирное время военную службу несли более миллиона человек. С 1825 по 1854 г. численность армии и флота увеличились почти на 40 %, а ежегодные расходы на их содержание – на 70 %. Из общего сильно дефицитного бюджета (за указанный период расходы возросли со 115 до 313 млн руб. в год, а доходы – со 110 до 260 млн) вооруженные силы поглощали, в среднем, свыше 40 %. Отсюда, кстати, и дикое явление военных поселений, отмененных лишь в 1857 г., призванных сократить военные расходы – дескать, крестьянин «землю попашет», а после займется выполнением воинских артикулов, не требуя от государства ни копейки.
Только после военной реформы Д. А. Милютина (1874), заменившей рекрутскую систему на современную призывную, удалось значительно сократить численность армии (на 40 %) и несколько нормализовать военный бюджет. В правление «царя-миротворца» Александра III военные расходы на какое-то время заметно сократились, но уже к началу 1890-х гг. приблизились к показателям первого года царствования, а затем стали стабильно расти (1881 г. – 256,4 млн руб.; 1882 – 209,2; 1891 – 242,5; 1894 – 270,3). И это не случайно: военное министерство разрабатывало планы наступательной войны с театром военных действий на Босфоре и в Галиции, одобряемые императором, проводились соответствующие учебные маневры, шло создание пограничных укрепрайонов, активно строился военный флот (скажем, в 1883 г. у России имелось только 3 броненосца, в 1897-м – уже 18). К 1900 г. русская армия – самая большая в мире – составляла около миллиона человек на 132 млн населения (0,75 %). Понятно, что при таких приоритетах на просвещение, здравоохранение, улучшение крестьянского быта и прочие мелочи денег всегда не хватало, меж тем, как заметил А. А. Половцов, при сокращении военных сил на треть или даже на четверть «нашлись бы на все деньги».
К началу XX столетия Россия была второй после Британии величайшей империей Земли, раскинувшейся на одной шестой мировой суши. Только вот ни материальных выгод, ни новых территорий для расселения стремительно растущий русский народ от этого, в отличие от англичан, создавших целую англосаксонскую ойкумену (и даже от французов с их Алжиром), не приобрел. «Армии и отношения внешней политики государств должны быть обращены на одно: на расширение торговых сношений. А у нас о них и не помышляют. Мы проливаем свою кровь за Кавказом, а англичане там торгуют», – печалился в записной книжке 1841 г. П. А. Вяземский. Доля России в мировой торговле далеко не соответствовала ее державным размерам: в начале XIX в. – 3,7 %, в середине – 3,6 %, в конце – 3,4 %. «Не имея своего торгового флота, сколько-нибудь стоящего такого названия, Россия не только на Балтийском море была по части транспорта в руках иностранцев, преимущественно англичан, но и на Черном обходилась греческими и турецкими судами, хотя бы часть их плавала под русским флагом… даже в Азии русская торговля была почти целиком в руках армянских, бухарских, персидских купцов» (А. Е. Пресняков).
В статье, опубликованной в газете «Северная пчела» (1862, № 32, от 2 февраля) и принадлежащей с большой долей вероятности перу Н. С. Лескова, приведена любопытная цифирь по 328 купеческим фирмам, ведущим зарубежную торговлю при Петербургском порте, за 1861 г. Из хозяев этих фирм «представителями коренного русского купечества… являются лишь пятьдесят пять русских имен, или только 17 процентов всех портовых торговцев». Зато «более 77 процентов торговцев решительно нерусские и либо англичане, либо отчасти французы, либо голландцы, либо – и это преимущественно – немцы; одних немецких фирм 160». При этом «на долю каждого немца, англичанина или француза, торгующего при с. – петербургском порте, средним числом, ежегодного обороту приходится по 471 053 рубля. А на долю каждой коренной русской фирмы годовой оборот ограничивается среднею цифрою лишь в 332 970 руб. … Немцев, французов и англичан в империи обретается раз в тридцать менее, чем русских по языку и по вере, а в иностранной торговле отношение этих двух категорий выражается 77:17, да и тут участие капиталами представляет отношение 79:12».
Показательна в этом смысле судьба единственной не имевшей геополитического значения, чисто «экономической» русской колонии – Северной Аляски, управлявшейся, по подобию западноевропейских колониальных предприятий, коммерческой структурой – Российско-Американской компанией. Империя быстро, легко и за бесценок с ней рассталась. Плоды отваги и предприимчивости Г. И. Шелихова, Н. П. Резанова, А. А. Баранова пошли прахом. Как и грандиозный проект И. Ф. Крузенштерна начала XIX в. – преобразование русской заморской торговли с Востоком по европейским стандартам, ради «свержения ига, налагаемого на нас… иностранцами, которые, приобретая в России на щет ея великие богатства, оставляя наше Государство для того, чтобы проживать оные на своей родине, и таким образом лишают Россию капиталов, кои оставаясь в нашем отечестве развивали бы повсеместное благосостояние, если бы природным Россиянам предстояли средства, могущие оживлять общий дух и рвение… Чрез сие можно было достигнуть до того, чтобы мы не имели более надобности платить Англичанам, Датчанам и Шведам великие суммы за Ост-Индские и Китайские товары. При таковых мерах скоро бы пришли Россияне в состояние снабжать сими товарами и Немецкую землю дешевле, нежели Англичане, Датчане и Шведы…»
Похоронено было и предложение А. С. Грибоедова (1828) об учреждении Российской Закавказской компании, с привлечением «выходцев русских» – «для заведения и усовершенствования в изобильных провинциях, по сю сторону Кавказа лежащих: виноделия, шелководства, хлопчатой бумаги, колониальных, красильных, аптекарских и других произведений», чтобы извлечь из этих земель «для государства ту пользу, которую в течение 27 лет Россия напрасно от них ожидала». В середине XIX в. была задавлена бюрократическим контролем и произволом Амурская компания, созданная по инициативе и под покровительством генерал-губернатора Восточной Сибири знаменитого Н. Н. Муравьева-Амурского, этого русского «отважного, предприимчивого янки», по характеристике И. А. Гончарова. Ничего такого Гольштейн-Готторп-Романовым не надо было, ибо они «владели, а не правили Россией, проводили в ней свой династический, а не государственный интерес, упражняли на ней свою волю, не желая и не умея понять нужд народа, истощили в своих видах его силы и средства, не обновляя и не направляя их к целям народного блага» (В. О. Ключевский). А надо было им только одного – чтобы Европа признавала их за «царей горы»…
Но зато почти неизменным монаршим покровительством (начиная со смерти Петра I и до введения в 1914 г. сухого закона) пользовался питейный промысел в разных его формах – откупа, акцизная система, наконец, с 1894 г. государственная монополия. «Питейные взносы» составляли около трети (а иногда и около 40 %) всех государственных доходов.
Отрадным исключением среди итогов имперской экспансии явились последствия побед над Турцией последней трети XVIII – начала XIX в. (войну 1735–1739 гг. к этому ряду не отношу, ибо возвращением Азова, к тому же разрушенного, по условиям мирного договора, не могут быть оправданы гигантские людские потери – 150–160 тыс. человек, по подсчетам Н. Н. Петрухинцева, больше, чем в Северную войну! – допущенные из-за авантюризма Миниха и Бирона). Их результатом стали долгожданная ликвидация Крымского ханства, освоение Новороссии (главными бенефициарами которого, правда, оказались почти исключительно малороссы – выходцы из Черниговской и Полтавской губерний) и присоединение Бессарабии (там не было крепостного права, край стремительно заселялся русскими, в том числе и беглыми крепостными, в 1897 г. немолдаване, среди которых преобладали славяне, составляли более половины местных жителей).
В остальном же русские были, используя хемингуэевский парафраз А. И. Фурсова, «победителями, не получающими ничего». Некоторые войны России приносили ей одну только славу, причем не всегда полезную. Например, Семилетняя война (о ее нулевых результатах говорилось выше, при этом стоила она нам, по разным оценкам, от 60 до 138 тыс. убитых и раненых) или поход Николая I 1849 г., предпринятый для спасения Австрии от венгерской революции и закрепивший за империей репутацию «жандарма Европы» (кстати, тоже обошедшийся не так уж дешево, учитывая отсутствие крупных сражений: 708 убитых и 10 885 умерших от болезней и ран). Знаменитое освобождение Болгарии от турок в 1877–1878 гг., купленное более чем ста тысячами русских жизней, привело лишь к появлению нового государства, недружественного к России (возвращение южной Бессарабии – недостаточно утешительный приз). П. А. Вяземский, один из немногих не захваченных панславистской истерией, написал еще весной 1877 г., в самом начале этой войны, стихотворение, дающее трезвую оценку не только ей, но и российской внешней политике в целом, призывая думать о том, что от последней «выиграет Курск, Чембар, Курмыш иль Вятка», и о том, чтобы она проводилась «не ценой потоков русской крови: / В нас лишней крови нет, она и нам нужна»:
Зачем так чутки мы на чуждые нам стоны, А страждущей семьи нам голос часто чужд? Зачем по сторонам кидаем миллионы, Когда их нет для кровных наших нужд? Как будто нет у нас ни скорби, ни страданья, Как будто нет у нас ни туги, ни страды, Ни хлеба алчущих, ни алчущих познанья, Ни жадно чающих движения воды! Нет, многие поля еще у нас безводны — Для орошенья их да брызнет свежий ключ. Торговле, грамоте упрочьте путь свободный, Степям вы дайте жизнь, потемкам – Божий луч. Нет, почва русская, томясь без удобренья, И много просит рук, и много денег ждет, Чтоб зрелой жатвою добра и просвещенья Насытиться вполне мог доблестный народ.(Подобные настроения проникали даже в сознание части – правда, меньшей – российской бюрократии. Так, министр финансов М. Х. Рейтерн писал в 1862 г. генерал-губернатору Западной Сибири А. О. Дюгамелю по поводу планов продвижения в Среднюю Азию, что «стремиться к дальнейшим завоеваниям вместо того, чтобы развивать уже имеющиеся средства, то же, что отказываться от существенного и гоняться за призраками».)
Или возьмем войны с Францией при Павле и Александре I, окруженные в отечественной культуре восторженным ореолом: трудно понять, какие насущные русские интересы привели наши войска на Сен-Готард и под Аустерлиц – ни Французская республика, ни Наполеон никак России не угрожали. Вторжение «двунадесять языков» стало лишь следствием ее участия в антифранцузской коалиции. Как утверждал Н. Я. Данилевский, которого трудно заподозрить в антипатриотизме: «Войну 1812 года мы вели за чуждые нам интересы, война эта была величайшею дипломатическою ошибкой, превращенной русским народом в великое народное торжество». Боевые потери России в Наполеоновских войнах составили 420 тыс. убитых, раненых и пленных. Велики были жертвы и среди мирных жителей (убыль только мужской части населения Смоленской губернии в 1812 г. равнялась 100 тыс. человек), так что общий итог людских утрат, видимо, приближается к миллиону. Большая часть Европейской России была совершенно разорена военными действиями, в одной Москве ущерба насчитали свыше 340 млн рублей серебром. И что же получили взамен победители? Польшу?
Но никаких русских выгод здесь не просматривается – одни убытки. Несмотря на польские легионы в составе Великой армии, автономное Царство Польское удостоилось массы привилегий (конституция, парламент-сейм, собственные вооруженные силы), в том числе и экономических: его торговля, сетовал декабрист М. С. Лунин, «поддерживалась единственно путем транзита, разрешенного в ущерб русской торговле… Дороги Царства, его каналы, мосты, города, его храмы и крепости ремонтировались за счет России. Вплоть до 1821 года доходов Царства не хватало для покрытия бюджетных расходов; и опять-таки именно Россия постоянно пополняла бюджет». От своей части (100 млн франков) контрибуции, наложенной участниками антинаполеоновской коалиции на Францию в 1815 г., Александр I красиво и благородно отказался, в то время когда, по словам другого декабриста М. И. Муравьева-Апостола, «огромная полоса России… еще представляла одни развалины от нашествия врагов». Доля русских в населении Польши за всю историю ее пребывания в составе империи не достигла и 3 %.
Великое княжество Финляндское, несмотря на то что ее обитатели активно сражались на стороне шведов («Из-за утесистых громад / На нас летел свинцовый град; / Вкусить не смела краткой неги / Рать, утомленная от ран: / Нож исступленный поселян / Окровавлял ее ночлеги!» – Е. А. Боратынский), так же, как и Царство Польское, получило конституцию, парламент (сейм), язык заседаний которого был шведский, свое войско и множество других льгот. К нему прирезали вошедшую в империю еще в начале XVIII в. Выборгскую область. Финские товары продавались в остальной России беспошлинно, а русские товары в княжестве пошлиной облагались; импорт германских зерновых составлял в Финляндии 58 %, а российских – только 36 %. Русских в Финляндии проживало всего 0,2 % (самая малая доля русских в империи). Православным в Финляндии запрещалось преподавать историю, в то время как финны могли занимать любые должности на территории всей империи. «В настоящее время, – констатировал в 1890 г. журналист К. А. Скальковский, – только в двух пунктах еще и сохранилась связь России с Финляндией, кроме, конечно, династического единения – это то, что финляндские суда плавают под русским коммерческим флагом… и то, что телеграфы в Финляндии подчинены нашему Министерству Внутренних Дел». В конце XIX в. нахождение русских войск в княжестве, не оплачиваемое местными жителями, ежегодно приносило казне 2,5 млн руб. чистого убытка.
«Без ложного стыда, – писал Куропаткин, – мы должны признать, что Финляндия в течение XIX столетия, хотя в значительной степени за счет платежных сил и средств русского населения, стала культурнее многих русских губерний». Порядки, существующие в остальной России, признавал председатель Комитета министров в 1890-х гг. Н. Х. Бунге, «во многом отстают от тех начал, которые обусловливают гражданственность и внутреннее благоустройство Финляндии». Скальковский горько иронизировал, что он вовсе не призывает уравнять княжество с «обыкновенной русской губернией», ибо «выдерживает ли какая-нибудь наша губерния даже отдаленное сравнение» с ним – взять хоть Черниговскую, находящуюся в несравненно лучших климатических и природных условиях: «Где в последней университет, масса учебных заведений, газет, отличные дороги, фабрики, производительность которых известна в целом мире, где благоустроенные города, освещенные газом, порядок и уважение к закону и т. д.? Так можно ли серьезно толковать о насильственном обращении Финляндии в русскую область? Это значило бы отодвинуть Финляндию на степень Олонецкой, Архангельской или Вологодской губерний, умирающих с голоду среди гигантских богатств, их окружающих и лежащих мертвым капиталом».
Северному Кавказу, вплоть до самого конца XIX в., российское правительство предавало «не столько экономическое, сколько стратегическое значение – как перешейка между Южной Россией и русскими владениями в Закавказье и Средней Азии» (И. Л. Бабич). По поводу русского проникновения в Среднюю/Центральную Азию «большинство современных ученых склонны полагать, что экономическая политика в регионе была малоактивной, а основным стимулом были политические задачи, в частности соперничество с Англией», характерно, что «объемы российско-центральноазиатского товарооборота были в десятки раз меньше товарооборота Англии с Индией… Для России более важным являлось идеологическое господство, осознание себя „мировой державой“, которая несет окраинам „цивилизованную жизнь“ и конкурирует на этом поприще с другими великими державами» (С. Н. Абашин). Переселение из Великороссии в этот регион в 1860—1870-х гг. шло почти исключительно самовольно, несмотря на запретительные меры; только с 1893 г. оно было окончательно легализовано, однако «политика, направленная на ограничение потока переселенцев и „учинение препятствий“ для самовольного водворения, сохранялась и в первые годы XX в.» (О. А. Брусина). За исключением Семиречья, русская миграция в Среднюю Азию была очень невелика. Лишь после переселенческого бума начала прошлого столетия русские там составили весомое меньшинство – 10 %.
Впрочем, что говорить про Среднюю Азию, если в иные времена даже в Сибирь перебраться было крайне затруднительно – так, в 1860—1880-х гг. правительство фактически закрыло для переселения наиболее доступные сибирские губернии, по закону 1866 г. отменялись ссуды и льготы для переселенцев – государственных крестьян, за самовольное переселение предусматривалось уголовное наказание от 3 недель до 3 месяцев. В 1861 г. в Петербурге отвергли масштабный план по заселению Приамурья, предложенный Н. Н. Муравьевым-Амурским, со следующей формулировкой: «Правительство, не встречая никакой побудительной причины желать особенно поспешного заселения Амурского края, который должен, так сказать, составлять поземельный запас для России в будущности, не имеет надобности и дарить принадлежащие ему земли в собственность частным лицам или даже продавать их за бесценок, когда, без малейшего сомнения, страны, прилегающие к Амуру, будут с каждым годом приобретать и большее значение и большую ценность, по мере развития Европейской и Американской промышленности и торговли на Восточном океане». Когда в 1873 г. другой восточносибирский генерал-губернатор Н. П. Синельников обратился в МВД с просьбой разрешить опубликовать в «Правительственном вестнике» объявление о желательности переселения в Амурский край, то министр внутренних дел А. Е. Тимашев поспешил ему разъяснить, что этого делать нельзя «ввиду склонности крестьян к переселениям». В 1890-х гг. переселенческое движение в целом заметно активизировалось, но время от времени власти снова приостанавливали разрешения на переселения, а в 1901–1905 гг. оно из-за слабой правительственной поддержки сократилось вдвое по сравнению с предыдущим пятилетием.
Вообще, Сибирь так и не была до конца XIX в. по-настоящему освоена, не сделавшись ни объектом массовой русской колонизации, ни источником сырья для российской промышленности, ни заметным рынком сбыта для мануфактур и фабрик Центра. Но при такой активной внешней политике – «до того ль, голубчик, было…». Вплоть до строительства Транссиба (1891–1901) с экономической точки зрения Сибирь, по резкому, но удачному выражению одного автора, оставалась большим «географическим трупом». Полковник Генерального штаба Н. А. Волошинов в 1889 г. риторически вопрошал: «Триста с лишком лет Сибирь считается покоренной русскими, но владеет ли ею Россия? Принадлежит ли на самом деле Сибирь русскому народу и русскому государству? Пользуется ли этим громадным пространством своих владений стомиллионный русский народ или им владеют и извлекают из него выгоды несколько тысяч заброшенных туда выходцев, назвавших себя „сибиряками“…» В правительстве и в обществе доминировало представление о безнадежной убыточности и бесперспективности развития сибирских земель, единственное предназначение которых, по словам министра иностранных дел второй четверти XIX в. К. В. Нессельроде, быть «для России глубоким мешком, в который опускались наши социальные грехи и подонки в виде ссыльных и каторжан и тому подобное».
При этом русские Сибири жили несравненно лучше своих единоплеменников в Великороссии, что было связано как с отсутствием крепостного права, так и с удаленностью от высокого начальства. Декабрист В. Ф. Раевский, находившийся в 1820—1850-х гг. в иркутской ссылке, позднее вспоминал: «Я воображал себе Сибирь холодной, мрачной, страною, заселенной простодушным и бедным народом, и вдруг увидел огромные слободы, где не было ни одной соломенной крыши, и народ разгульный и бойкий». П. П. Семенов-Тян-Шанский поделился такими своими впечатлениями 1855 г.: «Избы крестьян Тобольской губернии поражали меня своим простором по сравнению с тесными курными избами крестьян черноземных великорусских губерний… одежда сибирских старожилов также была несравненно лучше одежды крестьян Европейской России, особенно черноземной ее полосы… Сибирские старожилы не хотели верить, что в Рязанской губернии на целый двор приходится иногда по одному тулупу…» Большинство наблюдателей подчеркивали такие черты «сибирского характера», как развитое чувство собственного достоинства, отсутствие «той раболепной услужливости» и одновременно «той равнодушной грубости, которые так обыкновенны в русском крестьянине» (М. С. Каханов), сходство с американцами, «необыкновенную восприимчивость к новизне» (А. А. Кауфман), а иные даже делали вывод, что «мужик сибирский… целой головой выше российского», ибо «он богаче значительнее» и «самостоятельнее и независимее» (Н. Г. Гарин-Михайловский). Управляющий Морским министерством И. А. Шестаков записал в дневнике (1886): «Россия, пожалуй, возродится Сибирью. У нас остаются дураки, а сюда идет сметка, способность…»
Кавказ, Закавказье и Средняя Азия были объектами постоянных дотаций из великорусского Центра. В русской прессе писали, что политика империи на Востоке есть «политика самопожертвования, более тратящая на покоренных, чем приобретающая от них». В 1890-х гг. государство тратило на Кавказ до 45 млн руб. в год, а получало только 18 млн, естественно, дефицит в 27 млн покрывала Великороссия. В 1913 г. расходы российской казны в Тифлисской губернии и Закатальском округе превышали получаемые казной доходы на 40 млн руб., то есть на сумму большую, чем все расходы на высшее и среднее образование по смете Министерства просвещения. В рапорте управляющего Бакинской казенной палатой А. А. Пушкарева (начало 1880-х гг.) говорится: «Несравненно богатейшие жители Закавказского края по сравнению с какой-нибудь Новгородской или Псковской губерниями, жители которых едят хлеб с мякиной, платят вчетверо меньше, в то время как голодный мужик северных губерний обязывается платить за богатых жителей Закавказья все не покрываемые местными доходами потребности по смете гражданского управления, не считая военной».
С 1868 по 1881 г. из Туркестана в Государственное казначейство поступило около 54,7 млн рублей дохода, а израсходовано на него – 140,6 млн, то есть почти в три раза больше. Разницу, как говорилось в отчете ревизии 1882–1883 гг., Туркестанский край «изъял» за «счет податных сил русского народа». В 1879 г. полковник А. Н. Куропаткин (будущий министр) сообщал в отчете Военному министерству: «Оседлое население Туркестанского края по своему экономическому положению стоит в значительно лучших условиях, чем земледельческое население России, но участвует в платеже всех прямых и в особенности косвенных сборов в гораздо слабейшей пропорции, чем русское население». Только начиная с 1906 г. доходы казны от Туркестана стали превышать расходы (22,2 и 18,8 млн руб. соответственно). Но и в 1912 г. главноуправляющий землеустройством и земледелием А. В. Кривошеин писал, что если сопоставить данные об этих доходах с количеством земли, земельной площади и ее ценностью на других окраинах империи, «то окажется, что Туркестан дает казне, относительно, вчетверо менее других частей Государства». По оценкам И. В. Артемова, «содержание Средней Азии ежегодно вытягивало из российского народного организма не менее 15 % его доходов». При этом, как писал в 1916 г. тот же Куропаткин: «Российской власти за полувековое владычество в крае не удалось не только сделать инородцев верными слугами Российского императора и преданными гражданами российского государства, но и вселить в их сознание чувство единства их интересов с интересами русского народа». Не случайно директор Ташкентской гимназии и попечитель учебного округа, основатель Туркестанского кружка любителей археологии и истории Востока Н. П. Остроумов, почти всю жизнь проживший в Ташкенте, признавался, что он «и дня не остался бы в крае, если из него вывели бы войска».
В 1868–1871 гг. русские центральные земледельческие районы, приносившие 10,39 % дохода, расходовали только 4,6 % от общего бюджета, а в 1879–1881 гг. показатели доходов и расходов были 11,1 и 5,42 % соответственно. Центральный промышленный район давал бюджету в 1868–1871 гг. 6,2 % дохода, а расходов на него приходилось 3,3 %, в 1879–1881 гг. эти показатели составляли 6,34 и 2,83 %. Получалось, что в среднем на душу населения в губерниях Европейской России приходилось в 1,3 раза больше прямых податей, чем в Польше; в 1,6 больше, чем в Прибалтике; по чти в 2 раза больше, чем в Средней Азии; в 2,6 раза больше, чем в Закавказье. Коренное население Сибири платило государству в 2—10 раз меньше, чем русские крестьяне в тех же регионах. По некоторым подсчетам, население окраин ежегодно «обогащалось» в среднем на сумму от 12 до 22 руб. на одну душу мужского пола. В среднем налогообложение великорусских губерний в сравнении с национальными окраинами в конце XIX в. было больше на 59 %. «Казна больше берет с населения [Центра], чем дает ему», – признавал в начале XX столетия крупный чиновник Министерства финансов П. Х. Шванебах. Такой перекос был связан в первую очередь с внешней политикой империи: именно на приграничных окраинах главным образом располагалась армия, финансовые вливания в которую составляли государственный приоритет.
В настоящее время ООН для измерения качества жизни населения использует так называемый индекс человеческого развития, или индекс развития человеческого потенциала. Он включает три показателя: 1) индекс ожидаемой продолжительности жизни при рождении, 2) индекс образования (процент грамотности и доля детей школьного возраста, посещающих школу, 3) индекс производства (валовой внутренний продукт на душу населения). Каждый показатель принимает значение от 0 до 1, индекс человеческого развития равен их среднему арифметическому. Так вот, по расчетам Б. Н. Миронова, индекс человеческого развития для русских в императорской России равен 0,247, а для нерусских (взвешенный на доле каждого этноса) – 0,301, то есть на 22 % выше. Из 14 народов, для которых имеются данные для подсчета индекса человеческого развития, у восьми – евреев, латышей, литовцев, поляков, украинцев, финнов, эстонцев и немцев – индекс был выше, чем у русских, а у пяти – башкир, белорусов, молдаван, татар, чувашей – ниже. Но зато средняя продолжительность жизни у русских (28,7 года) была ниже не только чем у немцев (45), латышей (45), финнов (44,3), эстонцев (43,1), литовцев (41,8), поляков (41), евреев (39), украинцев (38,1), но и чем у молдаван (40,5), белорусов (36,2), башкир (37,3), татар (34,9), чувашей (31), и ниже средней продолжительности жизни для 14 народов империи (32,4).
Что же касается образования, то к концу XIX в. русских, умеющих читать, было 29,3 %. Для сравнения: финнов – 98,3 %, эстонцев – 94,1 %, латышей – 85 %, немцев – 78,5 %, евреев – 50,1 %, литовцев – 48,4 %, поляков – 41,8 %, греков – 36,7 %. Из европейских народов империи от великороссов отставали только белорусы (20,3 %) и украинцы (18,9 %). И это неудивительно. Правительство из-за политических соображений гораздо обильнее финансировало просвещение национальных окраин, чем русских областей. Скажем, в конце XIX в. Московскому учебному округу, население которого почти вдвое превышало население Кавказского округа, доставалось вдвое меньше средств; Харьковский округ, по населенности превосходивший Кавказский в полтора раза, получал в четыре раза меньше; Одесский округ – столько же, сколько Рижский, хотя обгонял последний по числу жителей более чем в три раза. К общественной инициативе в Великороссии начальство относилось гораздо более строго: так, в дореформенный период из около ста зарегистрированных обществ половина приходилась на Прибалтику и западные губернии.
Россия как колония
«Оскудение центра» было одной из центральных тем русской публицистики конца XIX – начала XX в. Впрочем, еще раньше, в 1854 г. сенатор К. Н. Лебедев так описывал свои впечатления от поездки в орловскую деревню (опубликованные, правда, только в 1888 г.): «Крестьяне… очень недалеки от домашних животных. Этот старик не мытый, никогда не чесанный, босоногий; эта женщина полуобнаженная, мальчишки грязные, растрепанные, валяющиеся в грязи и на соломе, все эти нечеловеческие фигуры! Все они, как будто вне черты государственной жизни, как будто незаконные дети России, как будто побежденные мечом победителей им не соплеменных (курсив мой. – С. С.)…»
Уроженец Воронежской губернии А. С. Суворин сетовал (1903): «…центр наш стал ослабевать еще с XVIII столетия. Из него брали все, что можно было взять, – деньги, войска, интеллигенцию – и почти ничего в него не возвращали, то есть не удобряли землю, не насаждали земледельческих школ, не распространяли грамотности, не учреждали высших учебных заведений, даже обходили железными дорогами. Наш Центр изнемогал под бременем расходов и напряжением всех своих сил создавал мощь государства, а государство, расширяясь в границах, забывало этот Центр… Я назвал наш Центр Геркулесом, и правительство смотрело на него как на Геркулеса, способного совершить всякий подвиг… Но и у Геркулеса не Божьи силы. И Геркулесы теряют их. Бедные русские селения остаются в таком же виде, как при царе Алексее Михайловиче… Геркулес стоит в своей посконной рубахе у своих хором – жалкой избенки, покрытой соломой, которой нередко лакомится издыхающий друг его, лошадь…»
Другой воронежец, земский врач А. И. Шингарев, провел в 1901 г. санитарное исследование двух селений Воронежского уезда и пришел к такому выводу: «Картина физической и материальной немощи населения, к тому же стоящего очень невысоко в культурно-бытовом отношении, почти безграмотного, забитого и лишенного стойкой самодеятельности… тем более тяжка, что она являлась как бы характеристикой общего положения сельского населения обширного района России…»
Костромич В. В. Розанов возмущался (1896): «Ничего нет более поразительного, как впечатление, переживаемое невольно всяким, кто из центральной России приезжает на окраину: кажется, из старого, запущенного, дичающего сада он въезжает в тщательно возделанную, заботливо взращиваемую всеми средствами науки и техники оранжерею. Калужская, Тульская, Рязанская, Костромская губернии – и вся центральная Русь напоминает какое-то заброшенное старье, какой-то старый чулан со всяким историческим хламом, отупевшие обыватели которого живут и могут жить без всякого света, почти без воздуха… Можно подумать, что „империя“ перестает быть русской, что не центр подчинил себе окраины, разросся до теперешних границ, но, напротив, окраины срастаются между собою, захлестывая, заливая собою центр, подчиняя его нужды господству своих нужд, его вкусы, позывы, взгляды – своим взглядам, позывам, вкусам (курсив мой. – С. С.)… Русские в России – это какие-то израильтяне в Египте, от которых хотят и не умеют избавиться, „исхода“ которых ожидают, – а пока он не совершился, на них возлагают все тяжести и уплачивают за труд ударами бича».
Саратовец Г. П. Федотов, уже будучи в эмиграции, констатировал (1929): «Великороссия хирела, отдавая свою кровь окраинам, которые воображают теперь, что она их эксплуатировала». Современные историки в этой связи недвусмысленно говорят о «привилегированной периферии и дискриминированном центре».
Русские не только не были доминирующей этнической группой в Российской империи, но, напротив, одной из самых ущемленных. Получалось, что быть русским – невыгодно. Разумеется, речь идет не о дворянстве, верхушке духовенства или буржуазии (вкупе они составляли не более 2 % русского этноса), а прежде всего о крестьянстве (90 %). Система льгот, с помощью которых самодержавие стремилось привязать к себе новые территориальные приобретения, впервые опробованная на Украине при Алексее Михайловиче, выстроилась, таким образом, в систему нещадной эксплуатации русского большинства империи, которая с конца XVIII в. распространилась и на украинцев. До отмены крепостного права экономическое угнетение русских дополнялось социальным. Представители «господствующего племени» легко могли стать крепостными дворян-католиков, дворян-мусульман и даже дворян-иудеев. Так, православное крестьянство Правобережной Украины и Белоруссии, считавшееся частью единого русского народа, войдя в православную Российскую империю еще в конце XVIII в., до 1860-х гг. продолжало быть крепостной собственностью польских панов. В XVIII в. Нота Ноткин и Иосиф Цейтлин, оставаясь в иудейской вере, владели большими имениями с сотнями крепостных. При этом православные дворяне владеть крестьянами-мусульманами не могли, а крепостных иуде ев в природе и вовсе не существовало.
Вообще, крепостное право было почти исключительно русским (великороссов, малороссов и белорусов) уделом (еще оно практиковалось в Грузии). Так же как и основное бремя военной службы. При рекрутчине армия комплектовалась православными славянами практически стопроцентно (с 1815 г. добавились поляки, до 1831 г., правда, служившие в своей особой армии). После введения всеобщей воинской повинности в 1874 г. – на 86 %, даже накануне Первой мировой войны от этой повинности было освобождено 45 народов – «инородцы» Сибири, Кавказа, Центральной Азии. После падения крепостного рабства все русское крестьянство оказалось в рабстве общинном (об этом подробнее ниже). Или вот такие два символических факта. При Павле I в немецких колониях «было предписано закрыть все казенные питейные заведения, потому что было замечено, что там, где они существуют, «колонисты становятся менее домовиты, и дворы их хуже устроены». Кабаки же было решено переносить в русские селения. За обитателей этих селений, очевидно, не опасались ни в смысле уменьшения их домовитости, ни в смысле ухудшения их хозяйств» (А. Велицын).
А. А. Половцов в дневнике от 30 апреля 1901 г. рассказывает об обсуждении в Госсовете следующего вопроса: «Забайкальский генерал-губернатор представлял о том, что по существующему для бурят порядку они не могут быть подвергаемы своим начальством телесному наказанию, тогда как находящиеся в той же местности русские переселенцы подвергаются телесному наказанию по приговору своих волостных судов».
Вполне можно говорить и о культурно-символической дискриминации русского неевропеизированного большинства. Его культура, быт, внешний облик воспринимались вестернизированной элитой (по крайней мере до середины XIX в.) как проявление дикости, отсталости, невежества и т. д. В конце 1820-х гг. полиция могла вывести из столичного театра русского купца просто из-за его бороды (случай упомянут в переписке А.Я. и К. Я. Булгаковых), и даже в 1870-х гг. вход в петербургский Таврический сад украшала надпись: «Вход воспрещается лицам в русском платье». Представителей образованного класса, носивших «русское платье», подозревали в неблагонадежном образе мысли, в 1859 г. за это был арестован и выслан из Черниговской губернии в Петрозаводск под надзор полиции фольклорист П. Н. Рыбников. Один из мемуаристов пишет, что, когда Рыбникова доставили по месту назначения «в том самом костюме, который „повлек за собою важные неудобства“», то «этот костюм привел в ужас весь чиновничий мир» города: «На молодого человека пальцами показывали на улицах, чиновники нарочно ходили смотреть на него, а чиновницы пугали им малых детей». А. Н. Энгельгардт в 1874 г. выражал надежду, что на «русский костюм» «начальство, наконец, перестанет… коситься».
Такой глубоко русский писатель, как Н. С. Лесков, в «Соборянах», в дневнике 1830-х гг. своего героя, священника Савелия Туберозова дает впечатляющий, разумеется, художественно-сгущенный образ нерусской официальной России на всех ее этажах: «9-го мая, на день св. Николая Угодника, происходило разрушение Деевской староверческой часовни. Зрелище было страшное, непристойное и поистине возмутительное; а к сему же еще, как назло, железный крест с купольного фонаря сорвался и повис на цепях, а будучи остервененно понуждаем баграми разорителей к падению, пал внезапно и проломил пожарному солдату из жидов голову, отчего тот здесь же и помер. Ох, как мне было тяжко все это видеть: Господи! да, право, хотя бы жидов-то не посылали, что ли, кресты рвать! …20-го июня. По донесению городничего, за нехождение со крестом о Пасхе в дома раскольников, был снова вызван в губернию… Губернатор, яко немец, соблюдая амбицию своего Лютера, русского попа к себе не допустил, отрядил меня для собеседования о сем к правителю. Сей же правитель, поляк, не по-владычнему дело сие рассмотреть изволил, а напустился на меня с криком и рыканием, говоря, что я потворствую расколу и сопротивляюсь воле моего государя. Оле же тебе, ляше прокаженный, и ты с твоею прожженною совестию меня сопротивлением царю моему упрекаешь!»
Методы, которыми управлялась в петербургский период собственно русская Россия, трудно определить иначе, чем колониальные, и их надо сопоставлять не с внутренними практиками современных ей европейских государств, а с практиками последних в их колониях, например Англии в Индии. П. А. Вяземский саркастически заметил в записной книжке 1830 г.: «Россия была в древности Варяжская колония, а ныне немецкая, в коей главные города Петербург и Сарепта (немецкая колония на Волге, в которой жителям были предоставлены огромные привилегии. – С. С.). Дела в ней делаются по-немецки, в высших званиях говорят по-французски, но деньги везде употребляются русские. Русский же язык и русские руки служат только для черных работ». Причем некоторые окраины империи как раз не управлялись как колонии (Финляндия, да и, в общем, Польша); некоторые – управлялись как колонии местными элитами, но империя к этому фактически не имела отношения (Остзейский край); большинство окраин считались колониями, но колониальные практики реализовывались в них не слишком интенсивно и эффективно (Кавказ, Закавказье, Средняя Азия). Наиболее же полно колониализм осуществлялся именно в русской России. Возникает вопрос: а где метрополия у этой колонии? В данном случае перед нами пример так называемого «внутреннего колониализма». Метрополия здесь находится не «вне», а «внутри». И колонизаторы – не чуждый этнос, а привилегированный социальный слой.
Лучшую формулировку сущности метрополии в Российской империи дал, на мой взгляд, американский историк Рональд Суни: «Важно отметить, что метрополия не обязательно определяется по этническому или географическому признаку. Метрополия является институтом политического господства. В некоторых империях властные структуры характеризовались не этническим или географическим отличием, а особым статусом или классовым характером, идентифицируясь со служилым дворянством или правящим классом. Такой была роль османов в Оттоманской империи, императорской семьи и высших эшелонов поземельного дворянства и бюрократии в Российской империи (курсив мой. – С. С.) или, сходным образом, коммунистической номенклатуры в Советском Союзе».
«Хозяева» против «наемников»
Но даже внутри указанной выше метрополии русское доминирование было весьма проблематичным. До Александра III Романовы позиционировали себя как наднациональные монархи, для которых первичен сословно-династический, а не этнический принцип. Политику, неподконтрольную никаким общественным силам, конечно, удобнее осуществлять, не связывая себя с каким-либо конкретным народом, а изображая из себя «равноудаленный» от всех народов империи наднациональный центр, опирающийся на лояльность этнически разношерстной элиты, которая (лояльность) направлена не на государство как таковое, а на личность монарха. Ю. Ф. Самарин язвительно называл такой стиль управления «многоженством, поднятым на уровень долга и возведенным в политическую систему».
В принципе подобная политика свойственна для большинства континентальных империй, но если искать наиболее близкие ее аналогии, то это будет даже не монархия Габс бургов, а скорее Оттоманская Порта. «Вот, извольте взглянуть, – говорил Николай I в 1839 г. заезжему маркизу де Кюстину на празднестве в Михайловском замке, – неподалеку от нас стоят двадцать офицеров; из них только первые двое русские, за ними трое из верных нам поляков, другие частью немцы; даже киргизские ханы, случается, доставляют ко мне сыновей, чтобы те воспитывались среди моих кадетов…» В 1762 г. 41 % из числа 402 высших офицеров и половина из четырех офицеров самого высокого ранга были нерусскими. В поздней Российской империи 38 % из 550 генералов носили нерусские фамилии. Особенно были сильны в метрополии польский и немецкий элемент.
В конце 1850-х гг. польское шляхетство составляло более половины всего потомственного российского дворянства. Даже в 1897 г., во время переписи населения, после десятилетий планомерной правительственной политики деклассирования безземельных шляхтичей, польский язык назвали родным около трети потомственных дворян империи. Поляки играли заметную роль не только в администрации западных окраин, но и в высшей бюрократии: в 1850-х гг. их доля среди чиновников центрального аппарата достигала 6 %. Многие русские аристократы (а иногда и особы царствующего дома) были связаны с польской шляхтой семейными или романтическими узами. Но антироссийское восстание 1830 г. поставило польскому влиянию жесткий предел, а мятеж 1863 г. весьма значительно его подорвал.
Немцы (как прибалтийские, так и подданные других государств, находящиеся на русской службе или владеющие какой-либо собственностью в российских пределах), напротив, будучи количественно немногочисленными (2–3 % дворянства империи), играли непропорционально высокую роль в управлении последней, сохраняя за собой весь описываемый период в среднем около 20 % высших постов в государственном аппарате, армии, при дворе. Благожелательное покровительство верховной власти, за исключением времени Александра III, по отношению к ним было практически неизменным. И причины этого вполне понятны. Остзейцы стали следующей после малороссов этнокорпорацией, на которую самодержавие могло опереться для сохранения своей «надзаконности» и «автосубъектности». Ощущавших себя чуждыми русскому большинству немцев волновали не проблемы политического ограничения русской монархии, а собственные привилегии, которые последняя стабильно подтверждала.
Нет сомнений, что привлечение немцев (как и иностранцев вообще) в Россию сыграло важную и нужную роль в процессе модернизации страны, но со временем (во всяком случае, с начала XIX в.) необходимость большого количества нерусских специалистов отпала, воспитались уже достаточно квалифицированные (и весьма многочисленные) отечественные кадры, карьерному продвижению которых иноземцы, обосновавшиеся на самых выгодных местах, и объективно, и субъективно препятствовали. «Ученики» перестали нуждаться в «учителях». Однако – чем дальше, тем больше – немцы исполняли функцию не только «спецов», но и наиболее надежной «опоры трона», поэтому главной помехой их вытеснению с занятых социально-политических позиций была сама императорская власть.
«Русские дворяне служат государству, немецкие – нам», – с замечательной точностью сформулировал суть дела государь Николай Павлович, при котором количество немцев резко возросло не только в центральном аппарате, но и в управлении провинцией – в 1837 г. 18 % губернаторов были лютеранами. «Я не сомневаюсь… – писал Фридрих II в 1762 г. Петру III, собиравшемуся на войну с Данией, – что вы оставите в России верных надсмотрщиков, на которых можете положиться, голштинцев или ливонцев, которые зорко будут за всем наблюдать и предупреждать малейшее движение». Защитник остзейских интересов (и, несмотря на польское происхождение, лифляндский помещик) Ф. В. Булгарин в донесении в Третье отделение (1827) так описывал данную ситуацию: «Остзейцы вообще не любят русской нации – это дело неоспоримое. Одна мысль, что они будут когда-то зависеть от русских, приводит их в трепет… По сей же причине они чрезвычайно привязаны к престолу, который всегда отличает остзейцев, щедро вознаграждает их усердную службу и облекает доверенностью. Остзейцы уверены, что собственное их благо зависит от блага царствующей фамилии и что они общими силами должны защищать Престол от всяких покушений на его права. Остзейцы почитают себя гвардией, охраняющей трон, от которого происходит все их благоденствие и с которым соединены все их надежды на будущее время».
Впрочем, и сами «надсмотрщики» не делали тайны из своих взглядов по этому вопросу, так известный остзейский публицист Г. Беркгольц высказался в 1860 г. предельно откровенно: «Прибалтийские немцы имеют полное основание быть всей душой за династию, ибо только абсолютная власть царя оберегает их. Между тем любая русская партия, демократическая, бюрократическая или какая-нибудь, сожрет их, едва лишь она добьется решающего перевеса». В свою очередь, русские дворяне бурно возмущались тем предпочтением, которое верховная власть оказывала «наемникам» в ущерб «хозяевам»: «Вот это-то упорное пособничество верховной власти чужеземцам и содействовало более всего воспитанию в русской натуре, самой добродушной из всех, недоброго чувства по отношению к немцам» (Ф. И. Тютчев).
Исследователи, оспаривающие известный афоризм Ключевского: при Анне Ивановне «немцы посыпались в Россию, точно сор из дырявого мешка» – разумеется, правы. Немцы «посыпались» в Россию гораздо раньше. В 1709 г. (после Полтавы) российский генералитет на 64,3 % (33 человека из 51) состоял из иностранцев, среди которых немцев – 63,6 % (21 человек), то есть 41,2 % от общего состава. Значительно меньше (но также весьма изрядно) немцев было среди гражданских чиновников: всего иноземцы составляли примерно четверть членов коллегий, из них большинство (79 %) – немцы. Но именно в эпоху бироновщины немецкое влияние обрело значение весомого политического фактора: «Немцы впервые оказались во главе ключевых гражданских и военных ведомств (Остерман – Иностранной коллегии, Миних – Военной; Курт фон Шемберг – горного ведомства; Карл фон Менгден… Коммерц-коллегии). Кроме того, через новые созданные по их предложениям учреждения (Кабинет министров) – также во главе общегосударственных ведомств, руководивших Российской империей» (Н. Н. Петрухинцев). (Не говоря уже об особой, формально не обозначенной роли самого Бирона и братьев Левенвольде.)
Свидетельств о том, что русские воспринимали бироновщину именно как господство «немецкой группировки», предостаточно в донесениях иностранных дипломатов, следственных показаниях, мемуарах и дневниках современников. К. Г. Манштейн, например, в своих записках отмечал, что «до некоторой степени можно извинить эту сильную ненависть русских дворян к иноземцам», ибо «в царствование Анны все главнейшие должности были отданы иноземцам, которые распоряжались всем по своему усмотрению, и весьма многие из них слишком тяжко давали почувствовать русским власть, бывшую в их руках». Да, на властной вершине были и русские, но там удерживались только те из них, кто умел подлаживаться к немцам и не пытался проявлять самостоятельности. Опалы А. И. Румянцева, А. В. Макарова, В. Н. Татищева, гибель А. П. Волынского это ясно доказывают. В размышлениях и планах последнего (каковы бы ни были его личные мотивы столкновения с Бироном) «немецкая» тема ощутимо присутствует. Он полагал, что «от иноземцев государство всегда находится в худом состоянии, от чего вред государству и государю быть может» и, следовательно, министры должны быть «свои природные».
Продолжившееся (несмотря на устранение Бирона) при наследниках Анны Ивановны – Иване VI и Анне Леопольдовне «немецкое засилье» стало одной из важнейших причин свержения «брауншвейгского семейства» и воцарения Елизаветы Петровны. Любопытно, что шведы, начавшие в 1741 г. войну против России, пытались использовать «немецкий вопрос» в своих политических целях. От имени фельдмаршала Левенгаупта распространялся манифест, в котором говорилось, что «королевская шведская армия вступила в русские пределы не для чего иного, как для получения… удовлетворения шведской короны за многочисленные неправды, ей причиненные иностранными министрами, которые господствовали над Россиею в прежние годы… а вместе с тем, чтобы освободить русский народ от несносного ига и жестокостей, с которыми означенные министры для собственных своих видов притесняли с давнего времени русских подданных, чрез то многие потеряли собственность или лишились жизни от уголовных наказаний или, впадши в немилость, бедственно ссылались в заточение… намерение короля Шведского состоит в том, чтобы избавить достохвальную русскую нацию, для ее же собственной безопасности, от тяжелого чужеземного притеснения и бесчеловечной тирании и предоставить свободное избрание законного и справедливого правительства, под управлением которого русская нация могла бы безопасно пользоваться жизнию и имуществом, а со шведами сохранять доброе соседство. Этого достигнуть будет невозможно до тех пор, пока чужеземцы по своему произволу и из собственных видов будут свободно и жестоко господствовать над верными русскими подданными и их соседями-союзниками». Этот манифест вызвал настоящую панику при императорском дворе (Анна Леопольдовна сказала, что он «остро писан») и в правительстве: А. И. Остерман и вице-канцлер М. Г. Головкин всерьез обсуждали перспективу высылки немцев из страны. Шведская пропаганда явно попала в «десятку».
Другое дело, что «немецкая партия» была лишь орудием самодержавия, а не наоборот, как полагали многие историки позапрошлого столетия, перелагавшие, таким образом, вину за преступления последнего на первую. Конечно, прав И. В. Курукин в том, что «бироновщина» «означала не столько установление „немецкого господства“, сколько создание лояльной управленческой структуры… Бирон и другие деятели той поры… „достраивали“ именно петровскую машину управления…» Самодержавие в лице Анны Ивановны попыталось порвать свою зависимость от русского дворянства, образовавшуюся в 1727–1730 гг., используя как точку опоры, служащих не государству, а «нам», «мамелюков»-немцев. Характерно, что, когда самодержавие отступало перед дворянством, шло с ним на компромисс (при Елизавете Петровне и Екатерине II), количество немцев в высших эшелонах власти заметно сокращалось, а при «антидворянских» царях (Петр III, Павел I, Александр I, Николай I) немецкое влияние, напротив, усиливалось. Показательна и разница в восприятии этих монархинь и монархов в сознании русских дворян: в первом случае, как правило, их правление расценивалось как золотой век, во втором – трудно найти примеры позитивных оценок. Бироновщина надолго осталась для русского дворянства самым жутким символом самодержавного произвола и «немецкого тиранства». Больше никогда немцы не достигали таких высот, но, с другой стороны, именно с этой поры остзейцы закрепили за собою около 25 % должностей в армии. Устойчивые позиции немцев в армии и госаппарате сохранялись и в «национальное царствование»
Елизаветы (8,2 % гражданских служащих в центральных учреждениях страны, 2 из 5 полных генералов, 4 из 8 генерал-лейтенантов, 11 из 31 генерал-майоров), и позднее.
И. В. Курукин считает, что в «постбироновскую» эпоху Россия «переболела немцами» и «природные русские дворяне уже не смущались присутствием „немцев“ на всех этажах служебной лестницы». Поразительное заявление для столь компетентного историка, каковым, несомненно, является его автор! Очевидно, он никогда специально не занимался этим вопросом, хотя даже люди просто более-менее начитанные помнят ерническую просьбу А. П. Ермолова к Александру I: «Государь, произведите меня в немцы!» На самом деле немецко-русское соперничество при дворе, в армии, администрации и т. д. – постоянный и устойчивый сюжет всей русской истории петербургского периода. Но, во-первых, никто этот сюжет толком не исследовал, а во-вторых, таких романических страниц, как дело Волынского, начиная со второй половины XVIII столетия здесь уже не наблюдается – перед нами типичный служебный конфликт, столкновение карьерных самолюбий. Но из-за этого сей конфликт не перестает быть этнически окрашенным, ибо «русские немцы» действуют как сплоченная корпорация (клан), последовательно и жестко отстаивающая свои властные и материальные интересы. Да, к немецкой корпорации примыкали и другие иностранцы, и порой даже «природные русские», из-за тех или иных своих личных выгод, но ядро ее, несомненно, однородно-этническое – германское. Так же как и противостоящие немцам «природные русские» нередко имели в своих рядах этнических немцев, но только тех, которые выламывались из немецкой корпорации и пытались ассимилироваться в русских, стать членами «малой» русской нации, которой себя осознавала элита русского дворянства.
Возьмем, например, армию. Во второй половине XVIII в. русские офицеры задавались вопросом: «Зачем нам нужно так много иностранных офицеров?», отмечая, что последние затрудняют продвижение наверх способным «природным русским»: «Немцы нелюбимы в нашей армии… Они интриганы, эгоисты и держатся друг за друга, как звенья одной цепи». В 1812 г. в неудачах начала войны не только общество, но и войска – сверху донизу – винили «немца» М. Б. Барклая-де-Толли (у нас распространено представление, что он «шотландец», но шотландцем был его далекий предок, перебравшийся в Ригу и основавший вполне немецкий бюргерско-дворянский род). По 10—20-м гг. XIX в. мы имеем замечательный материал – переписку генералов А. А. Закревского, П. М. Волконского, А. П. Ермолова и П. Д. Киселева, членов «русской партии» в армейском руководстве (к ней были близки также Н. Н. Раевский и многие декабристы). Борьба между Волконским и бароном И. И. Дибичем за место начальника Генерального штаба (закончившаяся торжеством Дибича, поддержанного А. А. Аракчеевым) воспринималась русскими генералами именно как борьба «русских» и «немцев».
Пушкин в «Путешествии в Арзрум» вспоминает о своем разговоре с А. П. Ермоловым во время Русско-турецкой вой ны 1829 г.: «Немцам досталось. „Лет через пятьдесят, – сказал он [Ермолов], – подумают, что в нынешнем походе была вспомогательная прусская или австрийская армия, предводительствованная такими-то немецкими генералами“». П. А. Вяземский в записной книжке 1829 г. возмущается: Петр I «мог и должен был пользоваться чужестранцами, но не угощал их Россиею, как ныне делают. Можно решительно сказать, что России не нужны и победы, купленные ценою стыда, видеть какого-нибудь Дибича начальствующим русским войском на почве, прославленной русскими именами Румянцева, Суворова и других. При этой мысли вся русская кровь стынет на сердце, зная, что кипеть ей не к чему. Что сказали бы Державины, Петровы, если воинственной лире их пришлось звучать готическими именами: Дибича, Толя? На этих людей ни один Русский стих не встанет». В 1860-х гг., по данным официального «Военного сборника», количество генералов-лютеран превышало 70 %.
Даже в начале XX в. проблема стояла весьма остро, так, А. А. Брусилов вспоминает о своей службе в Варшавском военном округе в 1909–1910 гг.: «Не могу не отметить странного впечатления, которое производила на меня тогда вся варшавская высшая администрация. Везде стояли во главе немцы: генерал-губернатор Скалон, женатый на баронессе Корф, губернатор – ее родственник барон Корф, помощник генерал-губернатора Эссен, начальник жандармов Утгоф, управляющий конторой государственного банка барон Тизенгаузен, начальник дворцового управления Тиздель, оберполицмейстер Мейер, президент города Миллер, прокурор палаты Гессе, управляющий контрольной палатой фон Минцлов, вице-губернатор Грессер, прокурор суда Лейвин, штаб-офицеры при губернаторе Эгельстром и Фехтнер, начальник Привислинской железной дороги Гескет и т. д. Букет на подбор! Я был назначен по уходе Гершельмана и был каким-то резким диссонансом: „Брусилов“. Зато после меня получил это место барон Рауш фон Траубенберг».
Но если армия и гражданская администрация была местом русско-немецкого соперничества, то МИД со времен Анны Ивановны, являлся, по сути, немецкой вотчиной, где русские играли вторые-третьи роли. «Мы как сироты в Европе, – жаловался в 1818 г. Ф. В. Ростопчин. – Министры наши у чужих дворов быв не русскими совсем для нас чужие». Пика эта ситуация достигла в долгое министерство К. В. Нессельроде (1828–1856), когда 9 из 19 российских посланников исповедовали лютеранство. По свидетельству дочери Николая I великой княжны Ольги Николаевны: «При Нессельроде было много блестящих дипломатов, почти все немецкого происхождения, как, например, Мейендорф, Пален, Матусевич, Будберг, Бруннов. Единственных русских среди них, Татищева и Северина, министр недолюбливал, как и Горчакова». Отставка Нессельроде и замена его на Горчакова была воспринята в обществе как победа «русской партии» над «немецкой». С течением времени, однако, ситуация изменилась не слишком радикально. Российские дипломаты немецкого происхождения в XIX – начале XX в. служили практически во всех странах мира, кроме Касселя, Папской области, Святейшего престола, Тосканы, Сиама (Бангкока), Абиссинии, Марокко. Наибольшее количество немецких дипломатов находилось в Вюртемберге – 54,5 % (12 из 22 человек). В абсолютных значениях – в Саксен-Веймаре – 80 % (8 из 10 человек). В Австрии / Австро-Венгрии их было 27,8 % (5 из 18), в Великобритании – 50 % (8 из 16), в Дании – 75 % (6 из 8), в Италии – 60 % (3 из 5), в Пруссии / Германской империи – 62,5 (10 из 16), в США – 38,9 % (7 из 18), во Франции – 44,4 % (8 из 18), в Японии – 50 % (5 из 10) и т. д.
Даже в 1915 г. 16 из 53 высших мидовских чиновников носили немецкие фамилии. Иные из них продолжали оставаться практически «необруселыми». Например, посол в Лондоне граф А. К. Бенкендорф «с трудом владел русской речью и единственный из русских представителей с разрешения государя до конца жизни (1916 г.) доносил в МИД на французском языке… Писать по-русски он совсем не мог… Не случайно… что националистическая печать выбрала для своих нападок по поводу „иностранных фамилий“ в дипломатическом ведомстве именно Лондон, так как здесь почему-то годами в составе посольства не бывало ни одного чисто русского имени» (Г. Н. Михайловский).
Еще один немецкий «заповедник» – Министерство почт и коммерции, где немцы в конце XIX в. занимали 62 % высших постов (в Военном министерстве тогда же – 46 %). Министерство финансов возглавляли почти исключительно немцы: Е. Ф. Канкрин, П. Ф. Брок, М. Х. Рейтерн, С. А. Грейг, А. А. Абаза, Н. Х. Бунге, С. Ю. Витте, Э. Д. Плеске, П. Л. Барк. Естественно, что там заметно обилие германских фамилий.
Немецкая группа играла большую роль в Государственном совете. При Николае I 19 из 134 его членов были балтийскими немцами. В 1906–1917 гг. из 202 сановников, входивших в него, 54 носили немецкие фамилии, то есть более четверти, если же учитывать только неправославных немцев, то и тогда их получается немало – 12,1 %. Очевидное «немецкое засилье» обнаруживалось в самом ближайшем окружении последнего российского императора: накануне Первой мировой войны в свите насчитывалось более 20 % немцев по этническому происхождению (37 человек из 177), количество же немцев-лютеран в придворном штате колебалось от 17 % (для первых чинов) до 6,4 % камергеров. Т. е. почти за двести лет (во всяком случае, начиная со времен Елизаветы Петровны) количество немцев в «высших сферах» принципиально не уменьшилось.
Ну и, наконец, в царствование Николая I немецкое доминирование несомненно в руководстве политической полиции империи – Третьего отделения. Некоторые исследователи даже утверждают, что при А. Х. Бенкендорфе и Л. В. Дубельте «III Отделение выражало интересы по преимуществу привилегированной этнической группы внутри правящей элиты – „русских немцев“» и представляло своего рода «штаб… „немецкой партии“» (О. А. Проскурин).
Комментируя немецкий вопрос в одном из писем 1864 г., Ю. Ф. Самарин предложил такой мысленный эксперимент: «…вообразим группу ирландцев, представляющих Англию в Париже, Вене, Берлине и Петербурге, командующих, по меньшей мере, половиной английских полков, занимающих треть важнейших должностей во всех сферах общественного назначения, склоняющих короля внушать чистокровным англичанам, что напрасно они считают себя созидателями и хозяевами Британской империи и что, прежде всего, в Ирландии, Индии, Австралии англичанин – всего-навсего иностранец. Добавим, чтобы заставить себя слушать, те же самые ирландцы не забывают намекать властям, что чем меньше дорожишь страной, тем больше чувствуешь свою пригодность к служению династии вопреки всему на свете. Что на этот счет могут думать англичане?»
Раздражали русское дворянство и те привилегии, которые «наемники» имели в Прибалтике и о которых «хозяевам» приходилось лишь мечтать. Самарин остроумно сравнил два государственных документа о вербовке на службу русских и остзейцев в 1734 г. В первом случае это выглядит так: «Подтвердить новыми крепчайшими указами, чтоб все к службе годные недоросли и молодые дворяне сысканы и при армии, артиллерии и флоте определены были». Во втором: «Публиковать пристойными указами, чтоб в Лифляндии и Эстляндии из дворянства и купечества охочих в службу военную принимать». Почувствуйте разницу! По сути, власть в остзейских губерниях сосредоточивалась в органах местного дворянского самоуправления (ландтагах). В управлении, делопроизводстве, культуре и образовании безраздельно царил немецкий язык. Господствующей религией являлось лютеранство. Русские губернаторы обязаны были строить свою служебную деятельность на основе уважения привилегий и прав немецкого дворянства. Принятые ландтагами решения по сословным делам не подлежали утверждению со стороны губернских властей и сообщались им только для сведения. В губерниях внутренней России «рыцари» получали те же права, что и русские дворяне, зато последние правами немецких дворян пользоваться не могли (если только их фамилии по согласованию с ландтагами не были внесены в местные «матрикулы» – дворянские родословные книги). Де-факто (а отчасти и де-юре) в крае могли иметь силу лишь законы, специально для него изданные, а из российских только те, распространение которых на Прибалтику особо оговаривалось.
Напомню, что русское дворянство до Жалованной грамоты 1785 г. вообще не имело своего самоуправления, а когда последнее возникло, то оно не шло ни в какое сравнение с немецким, по структурированности, правам и возможностям воздействовать на власть. Благодаря немецкому влиянию при дворе и в администрации, а также хорошо налаженному подкупу русской знати (один из способов – внесение имени того или иного «нужного человека» в «матрикулы») и чиновников, остзейцы успешно отбивали атаки русских дворян, недовольных этим очевидным неравноправием. Как только при Екатерине II русские дворяне обрели значительное политическое влияние, они тут же предприняли атаку на немецких собратьев по благородному сословию. В 1782–1786 гг. Екатерина формально отменила особый статус остзейских губерний и «слила» их с остальной империей. Но уже в 1796 г. Павел I снова восстановил его в полном объеме. При Александре I и Николае I привилегии «рыцарей» соблюдались неукоснительно. Особенно следил за этим Николай, который, по свидетельству М. А. Корфа, в начале 1839 г. высказался на сей счет следующим образом: «Что касается до этих привилегий, то я и теперь, и пока жив, буду самым строгим их оберегателем, и пусть никто и не думает подбираться ко мне с предложениями о перемене в них, а в доказательство, как я их уважаю, я готов был бы сам сейчас принять диплом на звание тамошнего дворянина, если б дворянство мне его поднесло».
Проживавшие в остзейских городах (например, в Риге) русские купцы также были дискриминированы по отношению к немецким бюргерам и фактически не могли участвовать в работе муниципальных органов. Так, в Риге до 1877 г. избирательное право «отстраняло от участия в политической жизни всех не являвшихся немцами»; русские до того же периода «играли в жизни Риги лишь маргинальную роль. Узкой прослойке солидных купцов и лиц свободных профессий… было запрещено принимать участие в политической жизни города, и, за исключением некоторых высокопоставленных чиновников, этот небольшой круг не оказывал никакого влияния на культуру и общество Риги»; по свидетельству современника, «чиновники не знали, что в городе имелись русские»; даже в 1880 г., «в то время как немцы и латыши имели в своем распоряжении сотни союзов самого разнообразного толка, в рижской адресной книге… насчитывалось только 7 русских союзов, преследовавших почти исключительно благотворительные цели» (У. фон Хиршхаузен). И это при том, что русских в Риге вообще-то было не так уж мало: в 1867 г. – 25 % (немцев – 42 %, латышей – 24 %).
В годы «Великих реформ», несмотря на мощную публицистическую антиостзейскую волну в русской прессе, никаких существенных перемен в данном вопросе не последовало. Перелом (хотя отнюдь не «коренной») произошел только при Александре III, но об этом мы поговорим немного позже.
Происходило русско-немецкое противостояние и в сфере науки и культуры. Всем памятно столкновение М. В. Ломоносова с академиками-немцами, закончившееся его поражением. Историографическую дискуссию Ломоносова с норманнизмом (подчеркивание германского происхождения первых русских князей пришлось очень кстати ко временам бироновщины), основоположники коего (Г. З. Байер, Г. Ф. Миллер, А. Л. Шлецер) были, все как на подбор, «германцами», его стремление найти славянские корни древнерусской государственности также невозможно понять вне контекста борьбы между русскими и немецкими учеными в стенах Академии, долгое время возглавляемой и наполняемой немцами. Борьба эта продолжалась и в XIX столетии, о чем свидетельствует такой важный источник, как дневник А. В. Никитенко (члена-корреспондента Академии с 1853 г., ординарного академика – с 1855). Но самый громкий академический скандал разразился в 1880 г., когда Академия забаллотировала при избрании в ее действительные члены великого Д. И. Менделеева, предпочтя ему посредственного Ф. Ф. Бейльштейна. В ряде газетных публикаций («Новое время», «Голос», «Русь») эта несправедливость напрямую связывалась с интригами «немецкой партии». И надо сказать, данная версия имеет под собой определенную фактическую базу. Известный химик А. М. Бутлеров так записал распределение белых и черных шаров: «Очевидно – черные: Литке (2 (он, как президент Академии, имел два голоса. – С. С.), Веселовский, Гельмерсен, Шренк, Максимович, Штраух, Шмидт, Вильд, Гадолин. Белые: Буняковский, Кокшаров, Бутлеров, Фаминцын, Овсянников, Чебышев, Алексеев, Струве, Савич». Статистика красноречивая: из голосовавших против Менделеева 9 человек – 7 немцев, из голосовавших за 9 человек – 1 немец. В. И. Вернадский в своих дневниках приводит слова ботаника А. С. Фаминцына, «что когда он вступил в члены Академии (ординарным академиком Фаминцын стал в 1891 г.), разговорный язык – вне официального (общения) немец[кий] – преобладал». Русско-немецкая академическая «война», по свидетельству того же Вернадского, прекратилась только в начале XX в.
Ареной русско-немецкой борьбы были и другие научные учреждения. Например, к концу 1840-х гг. русские ученые-националисты (Р. В. Голубков, В. В. Григорьев, Н.А. и Д. А. Милютины, Н. И. Надеждин) после длительной и упорной борьбы оттеснили от руководства Русским географическим обществом «немецкую партию» во главе с К. М. Бэром, Ф. П. Врангелем, Ф. П. Литке, ориентировавших деятельность Общества не на запросы русской жизни, а исключительно на связи с европейским научным сообществом. Скажем, Бэр, будучи академиком Российской академии наук, так и не удосужился выучить русский язык и свои труды публиковал почти исключительно на немецком или латыни.
Очень остро немецкий вопрос стоял в русской медицине, по крайней мере до второй половины XIX в. В XVIII столетии из более чем 500 медиков, имевших докторский диплом, лишь 61 человек были русскими в широком смысле слова (около пятидесяти из них – малороссы). Н. И. Пирогов вспоминал, что в конце 1830-х гг. «из чистокровных русских врачей никто не являлся на мой курс (лекций при Обуховской больнице. – С. С.). И я читал по-немецки. Да в то время в санкт-петербургских больницах между ординаторами редко встречался русский: все были или петербургские, или остзейские немцы. Да и откуда было взяться русским? Русские студенты Медико-хирургической академии того времени (единственного, как и теперь, высшего учебно-медицинского учреждения) были почти все казеннокоштные, бедняки и поповичи; окончив курс, они поступали тотчас на службу, в полки, уездные города и т. п. В Петербурге же оставались только сыновья петербургских обывателей, а из петербургских обывателей только немцы посылали сыновей своих учиться в академию, и это были дети докторов, чиновников, учителей, ремесленников, вообще из более культурных классов». Понятно, что преобладание немцев было связано прежде всего с изначальным отсутствием собственных подготовленных кадров. Но все же дело не только в этом. Есть немало свидетельств о том, как монополизировавшие медицинскую сферу немцы препятствовали карьере своих русских коллег. Придворный врач Петра I голландец Николай Бидлоо жаловался императору на то, что врачи-иностранцы противодействовали обучению «туземцев»: «…многие хирурги советовали, дабы я народу сего [русского] юноши не учил, сказующе, что не возможешь сие дело совершить. Боялся, что многие из тех иностранных хирургов мне явились неприятели и яко уже ныне и вижду. Понеже сие против чести их и против их интересов сего народ юноши изучил хотят убо оных моих посланных вместо слуг до смерти себе имети». Историк русской медицины Я. А. Чистович писал: «…иностранные администраторы медицинского дела в России были уверены и старались уверить кого следует, что русские не способны и не должны получать полного медицинского образования (потому что иначе заняли бы высокие места в медицинской администрации, чего никак не следовало допускать). Для этого в госпитальных русских школах учили медицине настолько, чтобы только освоить воспитанников с практическою стороною ее, стоявшею почти что на степени ремесла, и держали школы в этом неизменном положении около восьмидесяти лет. Для этого же основали потом в Петербурге Медико-Хирургический (Калинковский) Институт, с университетскою программою, исключительно для иностранцев, и не щадили ни трудов, ни денег на его организацию, вполне впрочем не удавшуюся»; воспоминания современников говорят «о тяжелом гнете, лежавшем в прошлом (то есть XVIII. – С. С.) столетии на всяком русском человеке медицинского звания… нужна была необыкновенная живучесть, чтобы не погибнуть под ежедневными и многоразличными угнетениями».
Следы русско-немецкого противостояния можно найти и в классике отечественной словесности. Берг в «Войне и мире», бездушный и пустой карьерист, ходячий образ немца из дворянских мемуаров и писем, самое презираемое автором его создание – не удостаивается даже ненависти, как Наполеон или Элен. Карикатурный губернатор фон Лембке в «Бесах» к последним не причислен только в силу своей полной ничтожности, а характеристика его как члена немецкой корпорации типична для русского германофобского дискурса: «Андрей Антонович фон Лембке принадлежал к тому фаворизованному (природой) племени, которого в России числится по календарю несколько сот тысяч и которое, может, и само не знает, что составляет в ней всею своею массой один строго организованный союз. И уж, разумеется, союз непредумышленный и не выдуманный, а существующий в целом племени сам по себе, без слов и без договору, как нечто нравственно-обязательное, и состоящий во взаимной поддержке всех членов этого племени одного другим всегда, везде и при каких бы то ни было обстоятельствах».
Отдал должное немецкой теме и Н. С. Лесков: от мифологизированного русско-немецкого конфликта в «Железной воле», заканчивающегося трагикомической смертью Гуго Пекторалиса, поперхнувшегося блином, до пугающей истории онемечивания русского человека в «Колыванском муже»; в романе «Обойденные» (1865) один из персонажей говорит: «Они ведь, эти лифляндцы, знаете, не так, как мы русские; мы все едим друг друга да мараем, а они лесенкой… Один за другим цап-царап, цап-царап – и все наверху» (и это только художественные произведения, публицистика писателя по данному вопросу, недавно впервые собранная воедино, составила весьма солидный том).
Все перечисленное (плюс изобилие германской крови в монарших жилах) создавало империи Романовых репутацию не русской, а «немецкой». Причем этим определением пользовались как крайние консерваторы, вроде Ф. Ф. Вигеля, автора вышедшей за границей в 1844 г. на французском языке брошюры «Россия, завоеванная немцами», так и радикальные анархисты, вроде М. А. Бакунина с его книгой «Кнутогерманская империя и Социальная революция».
«Больные места» империи
Французская революция конца XVIII столетия открыла в Европе эру национализма, главные принципы которого – суверенитет нации, совпадение национальных и государственных границ, господство единой национально-государственной культуры. Многоэтничные империи, с одной стороны, и карликовые королевства и княжества, дробящие народы на изолированные друг от друга части, – с другой, постепенно уходят в прошлое. В 1829 г. из Оттоманской Порты выламывается Греция, позднее Сербия, Черногория, Болгария. В 1881 г. провозглашено создание королевства Румыния, объединившего в себе Валахию и Молдову. В 1861 г. вокруг Пьемонта образуется единая Италия, в 1871 г. вокруг Пруссии – единая Германия. Австрийская империя с трудом удерживала центробежные тенденции своих славянских и мадьярских подданных и последним вынуждена была предоставить широкую автономию.
Российская империя до конца XIX в. не только не являлась русским национальным государством, но даже не позиционировала себя таковым. Недаром министр финансов в 1823–1844 гг. Е. Ф. Канкрин на полном серьезе предлагал переименовать Россию в Романовию или в Петровию (в честь Петра I). Зато под ее обширным и внешне нерушимым куполом весьма успешно расцветали или зарождались многочисленные нерусские национальные проекты. И как ни парадоксально, этому процессу – пусть и бессознательно – способствовало само самодержавие своей весьма своеобразной национальной политикой. Типичная схема последней выглядит так. Для того чтобы привязать к себе новоприсоединенную территорию, империя предоставляла ей максимум льгот, в первую очередь – автономию, конституируя тем самым особое положение того или иного народа и гарантируя его права. Естественно, национальное самосознание этих народов росло как на дрожжах, когда же этот рост начинал пугать власти предержащие, следовали репрессии, которые уже не могли его остановить, а только отрицательным образом укрепляли, объединяя народ в борьбе с притеснениями. Во всем этом видно полное непонимание Петербургом сущности и механизмов нациестроительства.
Весьма характерен в этом смысле случай Польши. Как можно было надеяться сделать послушным или тем более «переварить» пусть деградировавшее и расчлененное, но все же великое в прошлом государство, обладающее многовековыми имперскими традициями, развитой исторической памятью и национальной культурой, еще и к началу XIX в. гораздо более развитой, чем русская? Поляки не только не хотели становиться русскими (от них, в общем, этого и не требовали), а в том, что они не могли даже и мысли допустить, чтобы русскими сделались их украинские и белорусские «хлопы». Идея восстановления Польши «в границах 1772 года» (то есть до ее разделов) властно владела умами практически всей польской социальной и интеллектуальной элиты. При всем внешнем безумии этой архетипической польской мечты нельзя сказать, чтобы под ней не было никакой реальной почвы.
Во-первых, существовал некий прообраз польской государственности в виде Царства Польского с практически стопроцентной польской администрацией: «До штурма Варшавы в 1831 г. русские, в особенности гражданские служащие, считались в ЦП на единицы» (Л. Е. Горизонтов). Но даже после мятежа 1863 г. и последовавшего за ним упразднения ЦП и переименования его в Привислинский край поляки сохранили очень весомые позиции в местной администрации: 80 % – в конце 1860-х гг., 50 % – в конце 90-х. «Тотальная деполонизация управления не была исполнимой задачей: в конечном счете, Привислинский край оставался польским культурным миром, польскоязычной в большинстве своем средой, а знавших польский язык русских чиновников было слишком мало» (М. Д. Долбилов). Если не удалось «обрусить» даже чиновничество «этнографической Польши», что уж говорить о ее населении в целом. «Денационализация русской Польши недоступна ни русскому народу, ни русскому государству, – констатировал в 1908 г. П. Б. Струве. – Между русскими и поляками на территории Царства Польского никакой культурной или политической борьбы быть не может: русский элемент в Царстве Польском представлен только чиновничеством и войсками».
Весь период своего пребывания в составе империи Польша была ее «больным местом», по выражению иностранных наблюдателей. Как мудро писал П. А. Вяземский во время польского восстания 1830 г.: «Польшу нельзя расстрелять, нельзя повесить ее, следовательно, силою ничего прочного, ничего окончательного сделать нельзя. При первой войне, при первом движении в России, Польша восстанет на нас, или должно будет иметь русского часового при каждом поляке. Есть одно средство: бросить царство Польское… Пускай Польша выбирает себе род жизни. До победы нам нельзя было так поступить, но по победе очень можно… Польское дело такая болезнь, что показала нам порок нашего сложения. Мало того, что излечить болезнь, должно искоренить порок. Какая выгода России быть внутренней стражею Польши? Гораздо легче при случае иметь ее явным врагом. К тому же я уверен, что одно средство сохранить нам польские губернии (то есть Западный край. – С. С.) есть развязаться с царством Польским».
Действительно, в Западном крае (Правобережная Украина, Белоруссия, Литва), с конца XVIII в. управлявшегося российской администрацией, польское присутствие было тоже весьма внушительным. Накануне восстания 1863 г. только в Юго-Западном крае (то есть на Правобережной Украине) число чиновников-поляков превышало полторы тысячи человек: «Даже начальниками канцелярий губернаторов, в том числе и после 1863 г., часто служили поляки, порой делавшие своим подчиненным выговоры за незнание польского языка, на котором большинство чиновников и общалось между собой» (А. И. Миллер). В Виленской и Гродненской губерниях среди старших чиновников православные составляли менее шестой части, а в «низшем слое» и того меньше. После масштабной деполонизации управленческого аппарата ЗК в 1860-х гг. к началу 1880-х в большинстве присутственных мест той же Виленской губернии поляки тем не менее составляли около трети чиновников.
Но еще важнее то, что практически вся социальная верхушка ЗК – шляхта – была либо польской, либо полонизированной. Несмотря на количественную ничтожность (максимум – 5 %), она являлась главным землевладельцем и культуртрегером этих мест, а украинцы и белорусы – бесправными и безземельными «хлопами» (причем православными крепостными владели не только светские магнаты, но и католическая церковь). В начале 1860-х гг. католики составляли в Северо-Западном крае (Белоруссия и Литва) 94 %, а в Юго-Западном – 90 % всех землевладельцев. После нескольких десятилетий целенаправленной правительственной политики по борьбе с польским землевладением ситуация существенно изменилась, но говорить о полной победе было явно преждевременно. К началу 1880-х гг., по завышенным официальным данным, русские поместья относились к польским в ЮЗК как 2:3, а в СЗК как 1:3. Соотношение русских и польских землевладельцев в СЗК составляло 4:25. На Правобережной Украине лишь к 1896 г. совокупная площадь русских имений превысила 50-процентную отметку, и то не во всех губерниях. На рубеже веков рост их количества остановился, а после 1905 г., когда были отменены запреты на покупку земель поляками, снова стало наблюдаться увеличение удельного веса польского землевладения.
Автор фундаментального исследования о шляхте ЮЗК французский историк-славист Даниэль Бовуа подводит неутешительные итоги деполонизации Правобережной Украины: «…российской власти не удалось, несмотря на все русификаторские усилия, элиминировать поляков из этого региона… крупные польские землевладельцы сохранили не только свое высокое положение, влияние на народ, но и задавали тон экономическому развитию Юго-Западного края».
В системе образования ЗК, созданной при прямом покровительстве Александра I и долгое время курировавшейся близким к императору человеком – польским аристократом и министром иностранных дел империи в 1804–1806 гг. Адамом Чарторыйским, до начала 1830-х гг., а отчасти и до начала 1860-х безраздельно доминировали польский язык и польская культура. В Виленском университете, вплоть до его закрытия в 1832 г., все предметы преподавались на польском языке, а русский относился к предметам второстепенным. Ничего не изменилось даже после войны 1812 г., когда ученая корпорация университета «приветствовала вступление наполеоновских войск в Вильно, некоторые преподаватели служили в оккупационных учреждениях, а студенты вступали добровольцами в сражавшуюся на стороне французов местную „гвардию“» (Ф. А. Петров). Позднее под университетской крышей свивали гнезда польские молодежные общества. Там преподавал классик польской национальной историографии Иоахим Лелевель, учились классики польской литературы Адам Мицкевич и Юлиуш Словацкий. Сменивший Чарторыйского на месте попечителя Виленского учебного округа Н. Н. Новосильцов после ревизии университета пришел к выводу, что вся система образования последнего имела целью внушать юношеству «надежду на восстановление прежней Польши». В Кременце с 1803 по 1831 г. действовала великолепная польская гимназия, призванная «воспитать истинную шляхетскую элиту», с явным прицелом на будущий университет. В то же время единственную русскую гимназию в Киеве удалось открыть только в 1811 г., с огромным трудом преодолев сопротивление школьного инспектора ЮЗК графа Тадеуша Чацкого. В 1830-х и особенно в 1860-х гг. «полонизм» в учебных заведениях ЗК был ликвидирован. В самой Польше польский язык был официально изгнан из государственных учреждений и учебных заведений. Однако эффективной русификаторской системы образования взамен создать не удалось.
Борьба с польским национальным проектом в рамках сословного строя оказалась невероятно сложной. Она, по сути, равнялась борьбе с дворянской корпорацией ЗК, а следовательно, подразумевала опору на местное крестьянство и радикальную демократизацию внутренней политики, что объективно подрывало сам социальный фундамент империи. Поэтому русификаторский пыл бюрократов-националистов, вроде братьев Н.А. и Д. А. Милютиных, постоянно сталкивался с компромиссной линией в отношении польской аристократии, которую проводил, например, министр внутренних дел П. А. Валуев в 1861–1868 гг. (резко возражавший против «страсти к оплебеянию России» «тех русофилов, которые хотят под предлогом обрусения посадить мужика в барские хоромы, в виде представителя русской народности») и которая была гораздо ближе сознанию большинства российских самодержцев. Д. А. Милютин сетовал, что до 1863 г. «правительство наше не только не принимало мер для противодействия польской работы в Западном крае, но даже помогало ей в некоторых отношениях, вследствие ложной системы покровительства польской аристократии, составляющей будто бы консервативный элемент в крае, опору самодержавия! Система эта заставляла местные власти оказывать польским помещикам поддержку против крестьян и часто принимать очень крутые меры в случаях вопиющей несправедливости и притеснений со стороны первых. Чрез это угнетенное, забитое крестьянское население, разумеется, отдавалось вполне в руки польских панов и дворовой их челяди».
Самодержавие воспользовалось антипольской / антишляхетской политикой «русского дела» М. Н. Муравьева – К. П. Кауфмана 1863–1867 гг. в Северо-Западном крае в качестве «радикального лекарства» против слишком уж поднявшего голову «полонизма», но после того как ситуация стабилизировалась, уже «с конца 60-х гг. задача сохранения социальной иерархии старого порядка получает в политике властей решительное преобладание над попытками опереться на низшие слои против более или менее непокорных элит империи» и «давление на крупных польских землевладельцев в Западном крае было смягчено» (А. И. Миллер). По той же самой причине провалилась и попытка вбить клин между шляхтой и крестьянством в самой Польше, наделив последнее землей по образцу реформы 1861 г. Инициаторами этой попытки – Н. А. Милютиным и А. Ф. Гильфердингом, кроме того, планировалось пересоздание самой польской национальной идентичности путем решительного ослабления шляхты и костела и выдвижения в качестве ведущей социальной силы крестьянства. Разрабатывались и культурные преобразования – прежде всего проект школьной реформы, предусматривавшей переход в польских начальных школах на кириллицу. Были даже созданы соответствующие учебники. Но в 1770-х гг. все эти эксперименты были свернуты – радикальная «дешляхтизация» Польши не входила в планы имперского Центра. В результате крестьянская реформа в Польше парадоксальным образом послужила не русским, а польским интересам. По признанию известного польского националиста Романа Дмовского, она «стала благодеянием для края», ибо «создала здоровый и многочисленный крестьянский слой на крепкой экономической основе, предназначенный служить элементом равновесия общественных отношений в крае».
К началу XX в. польский вопрос был далек от разрешения. Конечно, поляки уже не могли подняться на вооруженные восстания, но, с другой стороны, интеграция Привислинского края в империю продолжала оставаться головной болью правительства. Даже проблема ЗК считалась весьма острой: видный киевский публицист Д. В. Скрынченко в 1907 г. печатал статьи с говорящими названиями: «Как ополячивается наш белорус» и «Обрусение или полонизация».
Репрессии против польских националистов привели к созданию пантеона национальных героев – тайному внутри империи, явному – за ее пределами, где обильная польская эмиграция, в составе которой были те же Лелевель, Мицкевич, Словацкий, ковала национальный миф о Польше – Христе европейских народов, терпящей крестные муки во имя их спасения от антихристианской Московии. Провал восстаний показал, что без пересмотра традиционной польской концепции нации, под которой подразумевались только шляхта, костел и горожане, без включения в нее «сельского люда» национальное движение не имеет перспективы. После 1863 г. польская интеллигенция проделала огромную работу по демократизации национальной идеологии, без чего вряд ли стало бы возможно в дальнейшем возрождение независимой Польши. К концу XIX в. существовали уже две политические польские партии – Польская социалистическая и Национально-демократическая, – лидеры которых Юзеф Пилсудский и Роман Дмовский вскоре сделаются ключевыми фигурами польского национализма.
Думаю, если бы не мятежи, самодержавие и дальше бы продолжало закрывать глаза на развитие польского национального проекта внутри империи. Показательно, что сидевших тихо финнов никто не трогал до 1890-х гг., когда в их отношении был все-таки применен ряд безнадежно запоздалых и непоследовательно проведенных русификаторских мер. К тому времени Финляндия стала уже вполне сформировавшимся, при режиме полного благоприятствования со стороны имперских властей, национальным государством, не только со всеми институтами такового, но даже и со своим национальным эпосом Калевала, собранным и изданным в 1835 г. подданным Российской империи и почетным академиком (с 1876 г.) Императорской академии наук Элиасом Леннротом. По словам Вл. И. Гурко, «русская политика по отношению к Финляндии была политикой булавочных уколов, раздражавших, но отнюдь не обессиливавших противника и даже придававших ему большую силу путем его озлобления, с одной стороны, а с другой – посредством внушения ему уверенности, что в сущности бояться ему нечего, что все сводится к пустым угрозам и бутафорской шумихе». Эффект русификации рубежа XIX–XX вв. был (и не мог не быть) только сугубо отрицательным – убийство в 1904 г. усердствовавшего в ней генерал-губернатора Н. И. Бобрикова и подъем финского национального движения убедительно свидетельствовали об этом. Империя получила «под столицей враждебно настроенную к нам, полную сепаратных стремлений местность, населенную хотя и немногочисленной, но упорной народностью» (А. Н. Куропаткин).
От «украинофильства» к «украинству»
Особый интерес представляет украинская проблема. С одной стороны, малороссы были и этнически, и религиозно, и по общим историческим корням наиболее близким к великороссам народом империи; представители их элиты – Разумовские, Кочубеи, Безбородко, Трощинские, Завадовские, Вронченко – делали блестящие карьеры; Гоголь стал одним из самых почитаемых классиков русской литературы. М. А. Дмитриев вспоминал, что благородный пансион при Московском университете накануне 1812 г. «был наполнен малороссиянами». По свидетельству Н. И. Пирогова, в 1830-х гг. в петербургской Медико-хирургической академии украинский «непотизм дошел до таких размеров, что в профессоры начали избираться исключительно почти малороссы», и для противостояния малоросскому «засилью» немногочисленные великороссы и немцы вынуждены были объединиться. «В армии нашей число унтер-офицеров из „хохлов“ всегда, пропорционально, более числа представителей других населяющих Россию племен» (К. А. Скальковский в конце XIX в.).
С другой стороны – как уже говорилось в предыдущей главе – малороссы вошли в Россию с набором гарантированных прав. Ликвидированы последние были только при Екатерине II, и украинское шляхетство, хотя и оказалось неспособным вступить за их сохранение в открытую борьбу, горестно оплакивало утрату своей родиной автономии, а некоторые его представители готовы были на союз с врагами Российской империи для восстановления прежних вольностей. Так, знаменитый поэт В. В. Капнист – человек вполне интегрированный в имперскую элиту, закончивший карьеру в ранге государственного советника, член Российской академии, собеседник Екатерины II, близкий друг Г. Р. Державина – в 1791 г. в разгар войны России с Турцией и Швецией отправился с тайным визитом в Берлин к прусскому министру графу Херцбергу, дабы выяснить, не окажет ли Пруссия помощь Украине в деле ее освобождения от «тирании русского правительства» в случае антироссийского восстания казаков. В 1822 г. М. П. Погодин после разговора со шляхтичем Шираем записал в дневнике: «Малороссы Мазепу любят».
Большинство элиты бывшей Гетманщины разделяло концепцию, изложенную в анонимной «Истории русов», вышедшей из кругов, близких к казацкой старшине, в конце XVIII – начале XIX в. (первое издание – 1846 г.) и противопоставлявшей русов (малороссов) и московитов как два разных народа. Это сочинение оказалось «одним из главных текстов украинского национализма»: его безвестный «автор говорит уже языком романтического национализма, только „нация“, о которой идет речь, это двоящийся феномен: „нация“ в смысле политического представительства („козацкая нация“, куда не входят те же крестьяне) – и „нация“, расширившаяся до всего „народа“» (А. А. Тесля).
В 1830—1840-х гг. предания казацкой старины подхватила молодая поросль националистически настроенных малороссийских интеллектуалов, создавших в 1846 г. первое украинское тайное политическое объединение – Славянское общество святых Кирилла и Мефодия (Кирилло-Мефодиевское братство), куда входили такие знаменитые впоследствии люди, как поэт Т. Г. Шевченко, историк Н. И. Костомаров, этнограф и литературовед П. И. Кулиш, ученый-просветитель Н. И. Гулак. Кирилло-мефодиевцы мечтали о создании демократической федерации славянских народов, где каждый из них имел бы собственную республику, в том числе и украинцы («южнороссы»), отделяемые от «северно-русского племени» (великороссы и белорусы). Общество очень скоро было раскрыто Третьим отделением, его участники арестованы и подверглись наказаниям различной тяжести. Более других пострадал Шевченко, которого за сочинение «предерзостных» и «возмутительных» стихов отправили служить рядовым солдатом в далекий Оренбургский край, и, как справедливо полагает С. С. Беляков, дело было не только в оскорбительных для августейшей семьи пассажах из поэмы «Сон». В Третьем отделении опасались, что с его стихами, уже тогда чрезвычайно популярными среди украинцев, «в Малороссии могли посеяться и впоследствии укорениться мысли о мнимом блаженстве времен гетманщины, о счастии возвратить эти времена и о возможности Украйне существовать в виде отдельного государства». И опасения эти были не вполне беспочвенны, по крайней мере в отношении образованных слоев украинского общества. В жандармском меморандуме о настроениях киевского студенчества в 1847 г. (то есть в разгар кирилло-мефодиевского дела) сообщалось, что «малороссияне… желают прежней гетманщины, если возможно, в независимости от прочих славянских племен».
Кирилло-мефодиевцы в дальнейшем сыграли выдающуюся роль в развитии украинского национального самосознания. Костомаров (кстати, украинец только по матери) разработал концепцию «двух русских народностей» – «великорусской и малорусской, или южнорусской», главное различие между которыми, по его мнению, в том, «что племя южнорусское имело отличительным своим характером перевес личной свободы, великорусское – перевес общности». Кулиш разработал «кулишовку» – особый украинский фонетический алфавит. Оба они в 1861–1862 гг. издавали в Петербурге первый легальный украинофильский журнал «Основа» (именно там была обнародована костомаровская идея о «двух русских народностях»). Ну, а о значении Шевченко для украинского национализма долго распространяться не приходится – без его поэзии последнего бы попросту не было.
Украинофильство к концу XIX в. становится распространенным явлением среди малороссийской интеллигенции. Это чутко уловил А. П. Чехов. В письме из Сум А. С. Суворину от 30 мая 1888 г. он так описал одну из дочерей помещиков Линтваревых, в доме которых он в то время проживал: «Третья дщерь, кончившая курс в Бестужевке, – молодая девица мужского телосложения, сильная, костистая, как лещ, мускулистая, загорелая, горластая… Страстная хохломанка. Построила у себя в усадьбе на свой счет школу и учит хохлят басням Крылова в малороссийском переводе. Ездит на могилу Шевченко, как турок в Мекку». Более того, политически довольно индифферентный писатель в опубликованной в 1888 г. в журнале «Северный вестник» (№ 11) повести «Именины» счел необходимым ввести такого эпизодического персонажа: «…бородатый, серьезный, всегда нахмуренный; он мало говорит, никогда не улыбается, а все думает, думает, думает… Он одет в рубаху с шитьем, какое носил гетман Полуботок, и мечтает об освобождении Малороссии от русского ига; кто равнодушен к его шитью и мечтам, того он третирует как рутинера и пошляка». В письме к редактору отдела беллетристики журнала А. Н. Плещееву Чехов пояснял: «Я… имел в виду тех глубокомысленных идиотов, которые бранят Гоголя за то, что он писал не по-хохлацки…» (в последующих изданиях повести, правда, «украинофил» исчезает). Впрочем, украинофильству противостояла иная, тоже весьма влиятельная, интегристская традиция малороссийской мысли. Достаточно вспомнить, что формула единой и неделимой России, первоначально украшавшая памятник Богдану Хмельницкому в Киеве, принадлежит полтавскому шляхтичу с казачьими корнями М. В. Юзефовичу, инициатору разгрома Кирилло-Мефодиевского братства и запретов литературы на украинской «мове».
На первых порах украинский национализм не имел сепаратистского посыла, пределом его мечтаний была областная автономия. Не играла в нем первую скрипку и «москвофобия» (хотя в стихах Шевченко она не редкость), куда сильнее звучал антипольский пафос, что было продиктовано польским культурным доминированием на Украине, о котором говорилось выше: на этом этапе именно поляки были врагом номер один, тот же Кулиш активно сотрудничал с имперской администрацией в период борьбы с мятежом 1863 г. В австрийской Галиции и вовсе существовало мощное движение москвофилов. Но в результате жестких ограничений употребления украинского языка в печати на территории России именно Галиция, где ему был предоставлен легальный статус и в литературе, и в школе, стала новым центром украин ского национализма. В 1860-х гг. туда часто приезжал Кулиш, в начале 1870-х там некоторое время жил и работал М. П. Драгоманов, в 1894-м во Львов перебрался крупнейший украинский историк М. С. Грушевский.
К концу XIX в. оформляется концепция Галиции как «украинского Пьемонта», в идеологии «украинства» усиливается русофобская составляющая, в частности, отрицается единство великороссов и малороссов в киевский период, трактуемый теперь как начало собственно украинской национальной истории. Украинский национализм становится политической силой, представленной в Галицком сейме, все более решительно побеждая москвофилов. Если в результате выборов 1901 г. в сейме оказалось примерно равное число представителей от обоих течений (7 украинцев против 6 москвофилов), то в дальнейшем баланс резко меняется в пользу украинцев: 19 против 9 в 1908 г. и 33 против 1 в 1913 г.
Следует отметить, что, хотя украинские националисты и мечтали о независимой Украине, в реальной политике до Первой мировой войны вопрос так не ставился: «…ни одна из украинских националистических групп не считала, что в случае распада империй Украина окажется достаточно сильной, чтобы противостоять новообразованному Польскому государству и Москве…» (А. А. Тесля). Речь шла лишь о получении автономии в рамках федерации.
Говорить о широком проникновении в «народные массы» идей украинского национализма до 1917 г. затруднительно, они по большей части оставались уделом интеллигенции. Украинофил Е. Чикаленко иронически вспоминал, что, если бы поезд, в котором в 1903 г. ехали из Киева в Полтаву делегаты на праздник, посвященный открытию памятника классику малороссийской словесности И. П. Котляревскому, потерпел крушение, украинское национальное движение остановилось бы на многие годы, если не десятилетия, ибо практически все его активисты помещались в двух вагонах этого поезда. Но с другой стороны, самодержавие удивительно мало предприняло для того, чтобы сделать невозможным торжество мазепинцев (как называли украинофилов в консервативной печати). Обрусение миллионов украинских крестьян было в принципе выполнимым делом (и крайне насущным, в том числе и для крепости империи, ибо только вместе с ними русские составляли в ней уверенное большинство; по переписи 1897 г. великороссов числилось 44 %, малороссов – 18 %). Но для этого нужно было, как минимум, наладить эффективную систему начального образования на русском языке, чего того так и не удалось сделать, ибо, как уже говорилось выше, финансирование начальной школы осуществлялось из рук вон плохо.
Запреты на использование «мовы» в печати (циркуляр П. А. Валуева 1863 г., Эмский указ 1876 г.) при отсутствии позитивной русификаторской программы принесли больше вреда, чем пользы: «Если бы не было Эмского указа… то не было бы для украинцев надобности в создании австрийской „ирреденты“, средоточием украинского культурного движения был бы Киев, а не Львов» (Г. В. Вернадский). Провал этих мер к началу XX в. стал очевиден. В феврале 1905 г. Императорская Академия наук признала украинский язык особым литературным языком, отличным от русского. Экспертизу готовили светила русской науки – либеральные филологи Ф. Е. Корш, А. А. Шахматов, Ф. Ф. Фортунатов, С. Ф. Ольденбург, совместно с деятелями украинского национального движения – Ф. К. Волковым, М. А. Славинским, О. О. Руссовым (последний – крайне любопытный пример выходца из русской семьи, добровольно и сознательно ставшего украинцем). Тем самым де-факто Эмский указ был дезавуирован, а особая украинская культура – важнейшая основа украинского национализма – научно санкционирована. С 1906 г. украинский язык был разрешен к преподаванию в школах.
Мощным инструментом ассимиляции украинцев могла бы стать переселенческая политика, тем более что среди украинских крестьян стремление переехать на свободные земли в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке было широко распространено. Но даже после отмены крепостного права правительство не только не поощряло это стремление, а, напротив, препятствовало ему. Скажем, в 1879 г. губернатор Западного края разослал специальный циркуляр, предписывавший не допускать самовольных переселений. И хотя летом 1881 г. правительство приняло «Временные правила о переселении крестьян на свободные земли», документ этот не был опуб ликован, и крестьянам о нем ничего не сообщили, дабы не спровоцировать массового переселенческого движения. «…К массовой колонизации с запада на восток империи в правительственных кругах относились непоследовательно и с большой осторожностью. Помимо нежелания помещиков лишиться дешевого крестьянского труда, существовали и сдерживающие политические факторы. Украинцы и белорусы были нужны на западе империи для усиления там „русского начала“, что особенно стало ясно после польского восстания 1863 г.» (А. В. Ремнев). Таким образом, и здесь Польша сыграла роль тяжкой и вредной обузы.
Ситуация принципиально изменилась только при Столыпине. Характерные цифры: в Северном Казахстане в 1858 г. малороссов не наблюдалось вовсе, к концу века их там жило уже 100 тыс., а к 1917 г. – 789 тыс., причем с каждым новым поколением они все более русифицировались. В 1909 г. в Амурской области малороссы составляли основное ядро ее населения – 40,6 %, в Приморской области их было еще больше – не менее 75 %. Они быстро переходили на русский язык, а к 1930-м гг. в большинстве случаев сменили и свое этническое самосознание; в конце прошлого века русскими уже считали себя 86,8 % от числа жителей Приморья (в основном это потомки обрусевших малороссов и белорусов), украинцами – 8,2 %, белорусами – 0,9 %. Но эти локальные успехи кардинально решить украинский вопрос уже не могли, время было безнадежно упущено. И хотя «украинство» в собственно Надднепрянской Украине не развилось в массовое политическое движение, усилиями его активистов образование украинской нации «было подготовлено так хорошо, что после февральской революции [1917 г.] там смогла состояться широкая национальная мобилизация» (А. Каппелер).
«Национальные пробуждения»
Упущены были и возможности русификации прибалтийского крестьянства (которая, конечно, представляется куда более сомнительным делом, чем украинский случай, учитывая высочайший уровень грамотности среди латышей и эстонцев и наличие уже к 1800 г. широкой сети школ на родных языках этих народов), находившегося с немецким дворянством в хроническом этносоциальном конфликте. Сословный принцип империи и особая роль остзейских баронов, о которой подробно говорилось выше, стали и здесь непреодолимым препятствием. Показателен такой эпизод. В 1841 г. около 50 тыс. латышских и эстонских крестьян изъявили желание перейти из лютеранства в православие, ибо среди них прошел слух, что в таком случае им разрешат переселиться в Ейский край, где они смогут получить землю (земля в Прибалтике была собственностью дворян). Однако Святейший синод, по воле Николая I, запретил этот переход. Епископ Рижский Иринарх, подававший просителям робкие надежды, был снят с должности и «вывезен из Риги почти как преступник» (Н. Лейсман). В 1845 г. разрешение на переход в православие было все-таки дано, и до 1848 г. включительно веру сменили 60 тыс. латышей. Но, естественно, ни в какой Ейский край их не пустили; социальное положение новообращенных осталось прежним. К 1849 г. переходы в православие практически прекратились, а многие прозелиты вернулись в лютеранство, дабы не осложнять отношения с помещиками. А во второй половине столетия в городах уже активно развиваются латышский и эстонский национализм.
В 1878 г. тираж латышских газет составил 40 тыс. экземпляров (ср. с тиражами крупнейших русских газет: «Голос» – 17 тыс., «Московские ведомости» – 12 тыс.). В 1880-х гг. латышские националисты создали карту Латвии – единой территории, заселенной латышами, – перекраивавшую границы Эстляндии, Курляндии и Лифляндии, проведенные в сословных интересах немецкого дворянства. Десять тысяч подписей латышей стояли под соответствующей петицией, категорически отклоненной имперским правительством. В 1887 г. существовала 231 латышская национально-культурная организация. В 1888 г. был издан латышский национальный эпос «Лачплесис». Путем проведения массовых песенных фестивалей в национальное движение вовлекался и сельский люд. В 1862 г. публикуется эстонский национальный эпос «Калевипоэг», в 1869-м – эстонцы провели первый фестиваль песни, в 1871 г. возникло Общество эстонских литераторов, занимавшееся пропагандой эстонского языка и фольклора, в 1891-м – стала выходить первая ежедневная газета на эстонском языке. «Национальное пробуждение» захватило и литовцев – современный государственный гимн Литвы «Национальная песнь» был опубликован и начал исполняться уже в конце 1890-х гг. Борьба с прибалтийскими национальными движениями с помощью цензурных запретов оказалась совершенно неэффективной.
В 1860—1870-х гг. оформляется грузинское национальное движение. Будущая правящая партия (недолго)независимой Армении Дашнакцутюн была создана в Тифлисе в 1890 г. Национальная интеллигенция стала формироваться у белорусов, татар, чувашей, черемисов, осетин, бурят, якутов… Причем в этом процессе вольно или невольно поучаствовали власти империи.
Скажем, при покровительстве обер-прокурора Святейшего синода К. П. Победоносцева знаменитый православный миссионер, человек вполне правых воззрений Н. И. Ильминский в качестве главного средства распространения православия среди нерусских народов Поволжья создал целую систему инородческих (татарских, чувашских, черемисских, вотяцких и т. д.) школ, где обучение детей происходило на их родных языках и обязательно учителями-единоплеменниками. Поскольку многие из этих народов не имели письменности, для них изобретали письменный язык, соответствующий разговорному. И это при том, что действовало официальное распоряжение Министерства народного просвещения (1864) о преподавании во всех учебных заведениях империи только на русском языке. На инородческие языки переводилось и богослужение, в 1883 г. был издан указ Синода, который рекомендовал вести службу на местных языках во всех приходах, существенную долю населения которых составляли крещеные инородцы. Священников-миссионеров также старались массово рукополагать из инородцев, им даже необязательно было заканчивать семинарию.
Поразительно, но при этом Ильминский был однозначным противником перевода Библии и литургии на современный русский язык. Велась и активная издательская деятельность. Казанская учительская семинария, центральное учебное заведение в системе Ильминского, с 1875 по 1892 г. выпустила 150 книг на инородческих языках – татарском, чувашском, черемисском, вотяцком, киргизском (казахском), тунгусском, самоедском… Совокупный тираж этих книг составлял более полумиллиона экземпляров. Только татарский букварь Ильминского переиздавался 17 раз общим тиражом 48 тыс. копий. Эта система, несмотря на резкую критику со стороны оппонентов, просуществовала до конца императорской России.
Разумеется, Ильминский думал, что его деятельность будет способствовать русификации инородцев, абсолютно не понимая (как и его покровитель Победоносцев) специфики нациостроительства в эпоху модерна, полагая, что главный фактор национальной идентичности – религия. Но то, что хорошо работало в Московском царстве, во второй половине XIX в. было уже архаикой, которая, попадая в модерный контекст, давала совсем другие результаты. Ильминский и его последователи, по сути, провоцировали у просвещаемых ими народов «национальное пробуждение», создавая национальные письменные языки и кадры для будущих национальных интеллигенций.
«Возникновение целых групп кряшенских, чувашских, черемисских интеллектуалов было беспрецедентным явлением. До того как система Ильминского воспитала пару поколений учителей-инородцев, представители этих этнических групп могли получить образование только в русских начальных школах и с обязательным изучением русского языка. Для того чтобы избежать остракизма как со стороны своих собственных народов, так и со стороны русских, инородцам, получившим такое образование, приходилось отождествлять себя с русскими. В рамках же системы Ильминского, уже имея собственный письменный язык, а также играя особую социальную роль в своих родных сообществах (учителя и священнослужители), образованные инородцы начали склоняться (порой даже вынужденно) к поддержанию собственной, нерусской идентичности», – пишет американский историк Роберт Джераси.
Еврейский вопрос
Совершенно особый, неповторимый сюжет – еврейский. В большинстве своем ставшие российскими подданными после присоединения к России Западного края, а позднее Царства Польского, сыны Израиля, верно следуя ветхозаветному правилу, стремительно плодились и размножались, демонстрируя «в течение всего XIX века… более высокий естественный прирост населения, чем подавляющее большинство других этнорелигиозных групп Российской империи, в результате чего их доля в населении империи возросла с 1,5 % в 1800 году до 4,8 % в 1880 году» (А. И. Миллер). Таким образом, Россия стала страной, где проживало более половины мирового еврейства. Сосредоточием последней стали города Запада и Юга, где доля еврейского населения была очень высока, например, в Минске в 1897 г. – более 52 %, в Кишиневе к 1900 г. – около 45 %.
Правительственная политика по отношению к евреям до 1880—1890-х гг. вовсе не была сплошь запретительной, напротив, практически весь предшествующий XIX в. власть с усердием, достойным лучшего применения, старалась «слить этот народ со всем населением России» (А. Д. Градовский) путем распространения среди него просвещения и «по лезных занятий» (чего стоит закончившаяся бесславным провалом многодесятилетняя эпопея привития этому почти сплошь городскому населению любви к земледельческому труду, ярко описанная А. И. Солженицыным в первом томе его книги «Двести лет вместе»!), а в период Великих реформ «подданные иудейского исповедания» получили немало существенных льгот. Черта оседлости (Юго-Запад империи), за пределами которой евреям запрещалось жить (исключая выкрестов, купцов первой гильдии и лиц с высшим образованием), вовсе не была непроницаемой, о чем красноречиво свидетельствует статистика роста еврейской общины Петербурга: 1855 г. – менее 500 человек, 1910-й – почти 35 тыс.
Еще более важен качественный рост еврейского элемента, который с 1860-х гг. захватывал все более и более серьезные позиции в торгово-промышленном классе и интеллигенции. В середине XIX в. евреи бесспорно преобладали среди купцов черты оседлости. Даже в Петербурге в 1881 г. они умудрились составить 43 % маклеров и 42 % ростовщиков. Евреи фактически монополизировали хлебный и лесной экспорт и до введения государственной монополии на винокурение и питейную торговлю 1896 г. играли важнейшую роль в этом чрезвычайно прибыльном бизнесе. В середине 1880-х еврейское происхождение имели 18,4 % купцов первых двух гильдий по стране в целом, а в начале XX в. – 35 % российского торгового класса. Наплыв еврейской молодежи (получавшей неплохое начальное образование в еврейских религиозных школах, щедро финансируемых государством – даже в начале XX в. более чем на 52 %) в средние и высшие учебные заведения был поистине наводнением: в 1880 г. евреи занимали места 12 % всех учащихся гимназий (в черте оседлости – более трети), а к 1886 г. – 14,5 % всех студентов (в Одесском университете каждый третий студент был евреем). Соответственно рос их процент среди людей «интеллигентных профессий», так, в 1888 г. по Петербургскому судебному округу евреи составляли 21 % всех присяжных поверенных и 39 % помощников присяжных поверенных.
Обладая повсеместно отмечаемой современниками крепкой этнической спайкой, основой которой было до 1844 г. официально признаваемое общинное (кагальное) самоуправление, евреи казались неким несущим в себе угрозу «государством в государстве» – и правительству, и значительной части образованного общества, и малочисленному и слабому русскому «среднему классу», видевшему в них опасных конкурентов, и социальным низам, особенно в черте оседлости, где они на каждом шагу встречали еврея в роли ростовщика или корчмаря. И нельзя сказать, чтобы эти страхи были лишены основания – совершенно очевидно, что евреи претендовали на доминирование в тогдашнем российском бизнес-сообществе («место русского купца все более и более занимается евреем» – Вл. И. Гурко, 1902 г.) и уже делали нешуточные заявки на аналогичное доминирование в культурной жизни (Чехов с явным раздражением записал в дневнике 1897 г.: «Такие писатели, как Н. С. Лесков и С. В. Максимов, не могут иметь у нашей критики успеха, так как наши критики почти все – евреи, не знающие, чуждые русской коренной жизни, ее духа, ее форм, ее юмора, совершенно непонятного для них, и видящие в русском человеке ни больше ни меньше, как скучного инородца. У петербургской публики, в большинстве руководимой этими критиками, никогда не имел успеха Островский; и Гоголь уже не смешит ее»). При этом степень их реальной русификации была под большим вопросом.
Уже с начала 1860-х русская националистическая публицистика стала бить тревогу по поводу еврейского вопроса, а с рубежа 1870—1880-х его обсуждение стало приобретать характер мании преследования. В 1880 г. «Новое время» опубликовало «письмо в редакцию» под показательным для такого настроения заголовком «Жид идет». Сам издатель этой весьма популярной газеты А. С. Суворин также неоднократно обращался к данной теме, предупреждая, что для русских «ничего не будет завидного в том, что вместо немцев явится культуртрегером ловкий и даровитый еврей, получивший все права гражданства и наполнивший высшие учебные заведения…».
«Евреи – это государство, хотя и без государственной организации, рассыпавшееся по лицу всего мира; это – нация, но только лишенная государственной формы, лишенная своей территории, даже своего родного языка (древний еврейский язык большей частью достояние ученых), притом разметавшаяся по чужим краям, по чужим государствам и народам, но тем не менее проникнутая национальным самосознанием, сохраняющая единство исторических национальных воспоминаний и чаяний… Высшее образование в России создает по отношению к массе простого народа особую среду, которую печать наша прозвала „интеллигенцией“, „культурным классом“ и за которой признает право народного представительства ео ipso, даже без выборов и полномочий. Для простого же народа все они – „господа“… Таким образом, вскоре сядут „в господах“ над нашим русским народом и евреи – не просто, как теперь, торгаши, но уже, в самом деле, как умственная, „культурная“, „общественная“ и уж, конечно, отрицательная, а не положительная сила. При нашей же общественной податливости, при известной трусости прослыть „ретроградом“ можно ожидать, что большинство наших мнимых либералов с либеральной предупредительностью обрадуется такому проявлению прогресса в нашем отечестве и подобно старинному возгласу изысканной вежливости: place aux dames (место дамам!) воскликнет: place aux Juifs! (место евреям!)» – писал в начале 1880-х гг. И. С. Аксаков.
Несколько ранее, в 1877 г. на страницах своего «Дневника писателя» Ф. М. Достоевский рисовал такую мрачную антиутопию: «…мне иногда входила в голову фантазия: ну что, если б это не евреев было в России три миллиона, а русских; а евреев было бы 80 миллионов – ну, во что обратились бы у них русские и как бы они их третировали? Дали бы они им сравняться с собою в правах? Дали бы им молиться среди них свободно? Не обратили ли бы прямо в рабов? Хуже того: не содрали ли бы кожу совсем? Не избили бы дотла, до окончательного истребления, как делывали они с чужими народностями в старину, в древнюю свою историю?» Прокатившаяся в начале 1880-х погромная волна в черте оседлости вызвала если не оправдание, то понимание как «борьба с эксплуататорами» не только в правых изданиях, но и в революционном «Вестнике „Народной воли“». Даже выступавший за еврейское равноправие Лесков в частных беседах признавался: «…сам боюсь евреев и избегаю их. Я за равноправие, но не за евреев».
Н. П. Гиляров-Платонов показывал в статьях начала 1880-х гг., что сила еврейства обусловлена социально-экономическими особенностями устройства Российской империи, и прежде всего ее юго-западных областей: «Наплыв евреев есть указание на слабость экономических сил, на опасность разложения: хирургические операции бывают необходимы, но еще необходимее терапевтические, в особенности гигиенические и диетические средства… к благополучному решению могут вести не столько ограничительные меры против евреев (а тем менее поощрительные им), сколько покровительственные и поощрительные прочему населению».
В 1880-х гг. впечатляющий рост еврейского влияния в хозяйственной и образовательных сферах наконец напугал самодержавие своей неподконтрольностью и вызвал ряд ограничений по отношению к нему. В 1887 г. была принята процентная норма для евреев в средних и высших учебных заведениях: 10 % в черте оседлости, 5 % – вне черты, 3 % – в столицах; в 1891 г. из Москвы выселили тысячи евреев и т. д. (Тем не менее расхожий миф об участии властей в организации погромов современными историками не подтверждается.) Но все это не решало проблему по существу, а только вызывало раздражение среди еврейской молодежи и толкало ее в революцию: если в 1871–1873 гг. доля евреев, привлеченных к дознаниям по политическим делам, составляла от 4 до 5 %, что соответствовало их доле в населении страны, то к концу 1880-х таковых уже было от 35 до 40 %. Реальный заслон «еврейскому нашествию» могли поставить только, говоря словами Гилярова – Платонова, «покровительственные и поощрительные» меры по созданию на основе русского крестьянства массового слоя грамотных крестьян-собственников, но до столыпинской реформы никаких шагов в этом направлении предпринято не было.
Фасадная русификации
Крайне противоречивая и непоследовательная национальная политика самодержавия невольно вовлекла в процесс нациестроительства значительную часть нерусских народов России и/или сделала их питательной почвой для политической оппозиции. Романовы, сами того не желая, заложили мину под собственную империю. К ее русификации они шли с явной неохотой. «Народность» Николая I (по справедливому замечанию В. М. Живова, «самый неопределенный» элемент пресловутой уваровской триады) была столь же декоративна, как элементы древнерусского зодчества на классицистском фасаде храма Христа Спасителя. И лишь покровительство создателю русской национальной оперы М. И. Глинке можно поставить Николаю Павловичу в актив.
Несмотря на то что Великие реформы объективно вели к формированию институтов национального государства, на имперской идеологии это мало отразилось. Даже во время польского мятежа 1863 г., когда сама обстановка, казалось бы, диктовала национализацию официоза, Александр II был крайне осторожен в выражениях. В правке императором собственной речи, произнесенной 17 апреля в Зимнем дворце перед депутатами от разных сословий и обществ, накануне ее публикации, четко видно старательное дистанцирование от националистического дискурса. «Так, если в окончательной редакции мы читаем слова: „посягательство врагов наших на древнее русское достояние“, то первоначально рука царя вывела нечто существенно иное: „посягательство поляков на древнее русское достояние“ – и, скорее всего, именно эту фразу ранее услышали депутаты. В другом месте Александр вычеркнул националистически звучащий оборот, которым начиналась фраза о его гордости единством патриотических чувств народа: „Я как русский…“ Говоря об угрозе войны с Францией и Англией, Александр выражал надежду на то, что „с Божиею помощью мы сумеем отстоять землю русскую“, но в опубликованном тексте вместо двух последних слов читается „пределы Империи“» (М. Д. Долбилов).
Национализм Александра III, ставший в 1880—1890-х гг. государственной идеологией, дал очень мало практических результатов. Правление этого императора было слишком коротким, а меры, им предпринятые, – слишком паллиативными. Главным образом они выразились, за исключением торжества «русского стиля» в архитектуре (особенно в церковной) и оживления переселенческого движения, не в усилении русского доминирования, а в разного рода ограничениях по отношению к тем или иным «инородцам», скорее озлобивших последних, чем остановивших среди них сепаратные тенденции. Русификация Остзейского края, проведенная в те годы, была весьма поверхностной. Да, русский язык окончательно утверждался в качестве языка переписки правительственных и местных сословных учреждений, а также последних между собой и языка преподавания в Дерптском (с 1893 г. – Юрьевском) университете; сословные полицейские учреждения заменялись государственными; из ведения «рыцарства» изымались народные школы и учительские семинарии и переходили в подчинение министерства народного просвещения. Тем не менее до фактической ликвидации особого статуса немецкого дворянства было очень далеко: дворянские организации сохранили свою автономию, они продолжали руководить земским делом и лютеранской церковью; в крае так и не был введен суд присяжных, сохранилась подвластная рыцарству волостная и мызная полиция. Пользуясь связями в Петербурге, бароны стойко продолжали отстаивать свои интересы.
Николай II, в отличие от своего отца, был гораздо более благожелательно настроен по отношению к остзейцам, и в период с 1894 по 1905 г. «в целом… правительство отошло от политики унификации Прибалтийских губерний» (Н. С. Андреева). Следует также отметить, что во время активной фазы «дегерманизации» Остзейского края ее проводники в качестве союзников использовали эстонское и латышское национальные движения и потому активно им покровительствовали (особенно показательна деятельность эстляндского губернатора в 1885–1894 гг. С. В. Шаховского). Это дало повод Б. Э. Нольде не без некоторого преувеличения (но и не без основания) написать, что «через Александра III издали просвечивают… будущие республики Латвия и Эстония».
Русским в правление «царя-миротворца» в целом стало только хуже. Экономическая политика министра финансов И. А. Вышнеградского, а затем и сменившего его С. Ю. Витте разоряла Центральную Россию. Новая система хлебных тарифов, введенная в 1889 г., создавала ситуацию, когда стоимость провоза товаров по железным дорогам была тем меньше (разумеется, относительно, а не абсолютно), чем больше было расстояние. В результате, перефразируя Ключевского, окраины пухли, а центр хирел. «По головам голодавшего русского центра, – писал публицист и рязанский помещик И. И. Колышко, – неслись к Риге, Либаве, Одессе поезда с сибирским маслом, яйцами, птицей, мясом, а великоросс, провожая их, только облизывался в заботе, как и куда выпустить куренка. Русским сахаром откармливала Англия своих свиней, на вывоз сахара в Персию, Турцию, на Балканы давались вывозные премии, а великоросс пил чай вприглядку. В Берлине в дни привоза русского мороженого мяса и птицы немцы обжирались им до отвалу, а великоросс ел мясо лишь по двунадесятым праздникам».
Жесткие фискальные меры по взиманию с крестьян недоимок по уже отмененной подушной подати спровоцировали страшный голод в 97 губерниях и областях, который вкупе с холерой унес более полумиллиона людских жизней. Финансовые достижения системы Вышнеградского («не доедим, но вывезем») пошли прахом: перевыручки по бюджету, достигшие в 1888–1891 гг. более 209 млн руб., были перечеркнуты потраченными в 1891–1892 гг. на помощь голодающим более чем 162 млн руб. Впечатляющий промышленный подъем конца XIX в., достигнутый стараниями Витте, имел обратной стороной «неимоверное падение цен на сельскохозяйственные продукты, в особенности на зерно, вызвавшее жестокий сельскохозяйственный кризис», бедственный «для всего земледельческого населения России, то есть 80 % русского народа» (Вл. И. Гурко). «Мы привыкли брать у деревни, давать – не умеем», – писал в 1894 г. В. Г. Короленко.
К социально-экономической политике 1880—1890-х гг. современники неоднократно применяли эпитет «социалистическая» (кстати, именно в это время К. Н. Леонтьев активно пропагандирует свой проект «социалистической монархии»). При всей условности такого словоупотребления некоторые основания для него имелись (хотя, наверное, правильнее было бы говорить о госкапитализме). Так, характеризуя министра государственных имуществ М. Н. Островского (родного брата драматурга), А. Н. Куломзин писал, что тот, поработав в государственном контроле в период массовых хищений, был уверен, что «каждый предприниматель есть непременно плут и хищник», а казенное хозяйство следует держать в руках «размножением отчетности и всяких формальностей». Идеалом для него было государство в качестве «верховного распорядителя земельного фонда», которое раздавало бы эту землю частным лицам во временное владение. Витте в 1895 г. убеждал Николая II в том, что, если «в Англии класс чиновников должен только направлять частную деятельность», то в России «он должен принимать непосредственное участие во многих отраслях общественно-хозяйственной деятельности».
Любопытную запись читаем в дневнике А. А. Половцова от 19 ноября 1894 г. В разговоре с председателем Департамента государственной экономии Государственного совета Д. М. Сольским он критиковал финансовую политику Витте, ибо «столь широко проводимые им принципы безграничного вмешательства правительственных чиновников в мелочи частной промышленной деятельности и всякого рода предприимчивости убивают эту предприимчивость, делают невозможным сильное развитие труда, а с ним вместе и подъем экономического благосостояния. …Та ужасная чиновничья опека, под которой мы живем, есть не что иное, как государственный социализм, приносящий нередко плоды еще более горькие, чем социализм отдельных граждан». На что Сольский ответил: «Это правда, но социализм делает повсюду такие быстрые шаги вперед, что нам остается лишь подчиниться этому движению».
«Искусственность экономического развития в 1890-е годы заключалась прежде всего в необычайном попрании народной самодеятельности. Все нити народного хозяйства сходились в кабинет министра финансов: без его соизволения и даже указания ничего нельзя было предпринять. Власть и вмешательство чиновников становились в экономической жизни страны все более невыносимыми», – вспоминал позднее один из руководителей Совета съездов представителей промышленности и торговли В. В. Жуковский.
Но вернемся к теме национализации нерусских народов. Несомненно, последняя была смертельной угрозой для империи Романовых, и то, что они ее проморгали, не свидетельствует об избытке у них государственной мудрости. Но сама этническая пестрота и разнопородность их державы противилась русификации, о чем с замечательной точностью записал в дневнике 1911 г. В. О. Ключевский: «Противоречие в этнографическом составе Русск[ого] государства на западных европейских и восточных азиатских окраинах: там захвачены области и народности с культурой гораздо выше нашей, здесь – гораздо ниже; там мы не умеем сладить с покоренными, потому что не можем подняться до их уровня, здесь не хотим ладить с ними, потому что презираем их и не умеем поднять их до своего уровня. Там и здесь неровни нам и потому наши враги».
Кроме того, возможна ли была вообще русификация империи, для которой «русское неравноправие составляло фундаментальную предпосылку существования и развития» (Т. Д. Соловей, В. Д. Соловей)? Или поставим вопрос по-другому: а имелись ли достаточные ресурсы для слияния нерусских народов «с господствующей народностью посредством водворения среди них языка, гражданской цивилизации и учреждений господствующего племени» (М. И. Венюков)? Или даже так: а сложился ли, собственно говоря, субъект русификации – русская нация? К сожалению, ответить на последний вопрос утвердительно невозможно.
Дворянство
У русских так и не сложилось ядро всякой нации – социально-политическая элита, обладающая политическими правами. Имперское дворянство в целом было не слишком многочисленным, число потомственных дворян с конца XVIII до конца XIX в. колебалось в пределах одного процента населения (для сравнения, в конце XVIII в. во Франции дворянство составляло 1,5 %, в Испании – более 5 %, в Венгрии – более 6 %, в Польше – более 8 %), собственно же русских дворян было раза в два меньше: по переписи населения 1897 г. русский язык назвали родным около 53 % потомственных дворян. Дворяне только в 1785 г. получили гражданские права: право частной собственности на свои земли и крепостных, освобождение от обязательной службы и телесных наказаний, сословное самоуправление, юридические гарантии (дворянин без суда не мог быть лишен дворянского достоинства, чести и жизни) и т. д. Но даже на губернском уровне возможности дворянской корпорации в управлении страной были крайне ограничены – административная, полицейская, судебная власть, сбор налогов находились в руках губернаторов. Дворянское самоуправление было встроено в административную систему империи, являя собой, в сущности, «ответвление бюрократического аппарата» (И. А. Христофоров): служившие по выборам приносили присягу, подлежали наградам, подобно государственным чиновникам, и имели равную с ними ответственность, носили соответствующие мундиры. Эта служба, обремененная множеством обязанностей, не давала «ни независимости, ни статуса» (Д. Ливен), понятно, почему она не пользовалась популярностью. Поразительно, но управляющий делами Комитета министров в 1883–1902 гг. А. Н. Куломзин в молодости составил себе представление о том, что такое работа в выборном учреждении не в родной Костромской губернии, а в Англии, где он в 1850-х гг. служил в качестве мирового судьи.
Дворянским собраниям запрещалось возбуждение законодательной инициативы – «делать положения противные законам или требования в нарушении узаконений», за нарушение этого запрета устанавливался штраф со всех присутствующих в собрании и подписавших документы, содержащие соответствующие предложения, в 500 руб. и сверх того с губернского предводителя – 200 руб. В 1862 г., в разгар Великих реформ, тринадцать мирских посредников, избранных Тверским губернским собранием, угодили на пять месяцев в Петропавловку за требование созыва общероссийского «собрания выборных от всего народа без различий сословий». Полномочия земских учреждений, возникших в 1864 г. и в которых представители благородного сословия явно доминировали (гласные губернских земских собраний на 87 % состояли из потомственных дворян), также не имели и намека на политические притязания. Институтов дворянского представительства на общеимперском уровне не существовало вовсе. Земские структуры выше губернского уровня не поднимались, даже совещания между губернскими земствами были официально запрещены. Историки подсчитали, что в 1874–1879 гг. процент отклоненных Комитетом министров земских ходатайств колеблется от 72 до 95, причем большинство этих отказов никак не мотивировалось. Самодержавие видело роль дворян в местной жизни в качестве «ста тысяч полицейских» (Николай I), «добровольных чиновников на местах для наблюдения за остальными элементами общества» (Д. Н. Шипов).
Автономность дворянства от государства была достаточно относительной – дворянское большинство по бедности или из честолюбия не могло себе позволить пренебрегать государственной службой. П. А. Вяземский отметил в записных книжках 1820-х гг.: «Наши предводители [дворянства] будут всегда рабами правительства, а не защитниками дворянских прав, пока не отменят пагубного обыкновения награждать их крестами и чинами. …Где же у нас дворянство неслужащее, и в независимости ли можно упрекать нас». Сам автор этих слов вполне подтвердил их справедливость на собственном примере, вынужденный служить по Министерству финансов при Николае I, режим которого был ему глубоко антипатичен. «…В начале 1860-х гг. в Европейской России большинство и даже, пожалуй, три четверти взрослых дворян и примерно столько же дворян-землевладельцев в тот или иной период своей жизни отдали дань государственной службе» и даже «к концу столетия… 40 % дворян и примерно 50 % дворян-землевладельцев связывали себя с государственной службой» (С. Беккер).
Таким образом, русское дворянство в целом сохраняло свой традиционно служилый характер и ему было да леко по уровню привилегий до большинства европейских благородных сословий, что остро осознавалось наиболее амбициозными его представителями. Денис Давыдов приводит в своих мемуарах такой любопытный эпизод: «В 1815 году [А.П.] Ермолов, находясь близ государя [Александра Павловича] и цесаревича [Константина Павловича] на смотру английских войск… обратил внимание государя и великого князя на одного английского офицера, одетого и маршировавшего с крайнею небрежностью. На ответ государя: „Что с ним делать? Ведь он лорд“, – Ермолов отвечал: „Почему же мы не лорды?“»
С другой стороны, государство отдало дворянству в почти бесконтрольное управление крепостных крестьян – огромную часть населения империи (в 1740-х гг. – более 63 %, перед отменой крепостного права – более 34 %), но с точки зрения роста политического влияния благородного сословия это был поистине данайский дар. Сохранением крепостного права самодержавие «откупалось от политической реформы» (П. Б. Струве). Впрочем, как мы помним, этот откуп начал практиковаться еще при Алексее Михайловиче. Дворянское большинство такой расклад вполне устраивал, и реформаторы, выходившие из его среды, никогда не получали массовой поддержки. В начале XIX столетия эту ситуацию с гениальной простотой описал М. М. Сперанский: «…вместо всех пышных разделений свободного народа русского на свободнейшие классы дворянства, купечества и проч. я нахожу в России два состояния: рабы государевы и рабы помещичьи. Первые называются свободными только в отношении ко вторым, действительно же свободных людей в России нет, кроме нищих и философов… То, что довершает в России умерщвлять всякую силу в народе, есть то отношение, в коем сии два рода рабов поставлены между собою. Пользы дворянства состоят в том, чтоб крестьяне были в неограниченной их власти; пользы крестьян состоят в том, чтоб дворянство было в такой же зависимости от престола; первые, не имея никакого политического бытия, всю жизненную свободу должны основать на доходах, на земле, на обработании ее и, следовательно, по введенному у нас обычаю, на укреплении крестьян; вторые, в рабстве их стесняющем, взирают на престол как на единое противодействие, власть помещиков умерить могущее. Таким образом, Россия, разделенная в видах разных состояний, истощает силы свои взаимно борьбой их и оставляет на стороне правительства всю неограниченность действия. Государство, сим образом составленное, какую бы, впрочем, ни имело оно внешнюю конституцию, что бы ни утверждали грамоты дворянства и городовые положения, и хоть бы не только два Сената, но и столько же законодательных парламентов оно имело, государство сие есть деспотическое…»
По формулировке Г. В. Вернадского: «Против политических требований дворянства правительство всегда выдвигало крестьянский вопрос. Боязнь отмены крепостного права и потери, таким образом, социальной почвы под ногами заставляла дворянство, в его целом, постоянно склоняться перед императорской властью». Нередко можно услышать аргумент, что народолюбивые императоры именно потому не давали конституцию, что в гипотетический парламент набились бы богатые помещики и не дали отменить крепостное право. Но чего тогда боялись русские монархи после того, как эта отмена состоялась?
Не менее тяжелым для русского нациестроительства последствием крепостного права был создаваемый им кричащий социокультурный антагонизм между благородным и «подлым» сословиями. И дело не только в тех или иных проявлениях помещичьей жестокости. Пресловутая Салтычиха, садистски замучившая до смерти 39 человек, конечно, принадлежала к исключениям, но в целом злоупотребления помещиками своей властью были обыденным явлением. Скажем, по подсчетам американского историка С. Хока, за два года – 1826-й и 1827-й – 79 % мужчин в одном тамбовском имении Гагариных подверглись порке хотя бы один раз, а 24 % – дважды, что сопоставимо с количеством порок на плантациях американского Юга. Ярославский крепостной С. Д. Пурлевский описывает в своих воспоминаниях тягостную сцену массовой порки крестьян, возмутившихся в 1829 г. произволом управителя-немца: была «поставлена по всем деревням военная экзекуция… Целый батальон поселился у крестьян, властно распоряжаясь их хозяйством. Потом, помню, в июне месяце, в ближайшую к нашему селу деревню согнали всех окрестных жителей и оцепили. Я сам был свидетелем. Сделали круг посторонних зрителей, посредине начальство, поодаль – два палача. И более ста человек, кто помоложе, наказаны плетьми. Все, осенив себя крестным знамением, безропотно терпели истязание. Крепкого сложения люди, охраняя слабых, сами выступали вперед. Бабы жалобно кричали, дети плакали. Не имею способности передать виденное… Само начальство (кроме одного только исправника) отворачивалось и смотрело вниз».
Дело также не только в невыносимо тяжелых барщине (помещики, забиравшие на барщину три дня, считались «умеренными») и оброке (в среднем в три раза большем, чем у государственных крестьян). Самое страшное – «овеществление» крепостных совершенно аналогичное «овеществлению» рабов в классических рабовладельческих обществах (ведь и там далеко не все рабовладельцы были бесчеловечными истязателями). Крепостные (вместе со своим имуществом) фактически являлись частной собственностью помещиков, «составной частью сельскохозяйственного помещичьего инвентаря» (В. О. Ключевский), которую можно было продать, подарить, обменять, проиграть в карты – с землей и без земли, семьями и «поштучно», «как скотов, чего во всем свете не водится», по выражению Петра I; крепостными платили долги, давали взятки, платили врачам за лечение, их крали… Объявления о продаже крепостных, открыто печатавшиеся в отечественных газетах конца XVIII столетия, производят сильнейшее впечатление именно своим спокойным, обыденным (а иногда добродушно-юмористическим) тоном: «Некто, отъезжая из С.-Петербурга, продает 11 лет девочку и 15 лет парикмахера, за которого дают 275 р., да сверх того столы, 4 кровати, стулья, перины, подушки, платяной шкаф, сундуки, киота для образов и прочий домашний скарб»; «Продается лет 30 девка и молодая гнедая лошадь. Их видеть можно у Пантелеймона против мясных рядов в Меншуткином доме, у губернского секретаря Иевлева»; «Продается девка 16 лет и поезженная карета»; «Продается каменный дом с мебелью, пожилых лет мужчина и женщина и молодых лет холмогорская корова»; «Продается портной, зеленый забавный попугай и пара пистолетов»… «В ту пору, – вспоминал С. Д. Пурлевский, – людей сбывали без дальних затей, как рабочий скот. Нужны помещику деньги – несколько человек крестьян на базар. Покупать мог всякий свободный, формальных крепостных записей не было, требовалось только письменное свидетельство помещика. И целую вотчину тоже можно было поворотить на базар. На это водились люди вроде маклеров (они же занимались ябедами в судах, водя знакомство с богатыми)».
В конце XVIII в. «крепостные рынки» открыто действовали даже в Петербурге. В начале XIX в., при либеральном Александре I скованные помещичьи люди для продажи их в розницу открыто свозились на Урюпинскую ярмарку в Рязанской губернии, «на которой парней и девушек покупали преимущественно армяне для сбыта в Турцию» (М. И. Пыляев). На Макарьевской ярмарке крепостных перепродавали в рабство кочевникам-азиатам. Ф. Ф. Вигель, бывший в 1826–1828 гг. керченским градоначальником, вспоминает, как местные греки, не имевшие права владеть крепостными, тем не менее покупали их на тамошней ярмарке через подставных лиц. А чего стоит практика сбыта русскими офицерами, служившими в Финляндии, своих «рабов» местным жителям, на что в 1827 г. был даже наложен высочайший запрет! Гуманный просветитель Н. И. Новиков, когда у него возникла нужда в деньгах, продал крепостного, ранее добровольно разделявшего с ним заключение в Шлиссельбурге. Жаловаться на произвол своих господ рабам было практически некуда. При Екатерине II подобные жалобы рассматривались как тяжкие уголовные преступления, подлежащие битью кнутом, преданию суду и ссылкой в бессрочную каторгу с зачетом помещику в рекруты. Запрещалось принимать от крепостных доносы на их владельцев и всю дореформенную часть XIX столетия.
Когда одна часть этноса в буквальном смысле слова торгует другой, они (эти части) никак не могут образовать единой нации. Нет ничего удивительного, что в сознании даже наиболее просвещенных представителей дворянства (исключения единичны) по отношению к крестьянам (а отчасти и к другим сословиям) по крайней мере до войны 1812 г. царил самый настоящий социальный расизм. Е. Н. Марасинова, проанализировав огромный массив частной переписки дворянской элиты последней трети XVIII в., пришла к выводу, что «по отношению к крестьянству у авторов писем преобладал взгляд помещиков-душевладельцев, которые видели в зависимом сословии в первую очередь рабочую силу, источник доходов… живую собственность… объект руководства и эксплуатации… Авторы писем не видели в зависимом населении ни народа, ни сословия, ни класса, а различали лишь особую группу иного, худшего социального качества. „Народом“, „публикой“, „российскими гражданами“, то есть единственно полноценной частью общества, было дворянство, а крестьянское сословие представлялось… „простым, низким народом“, „чернью“… Крестьянину, олицетворявшему „низкую чернь“, была свойственна грубость поведения, примитивность языка, ограниченность чувств, интеллектуальная ущербность».
«Во всех своих сношениях с простым народом высший класс видел в нем не цель, а средство, и только одно средство, рабочую силу и ничего более. Все, что могло образовать его, развить в нем человечность, отстранялось сначала по невежеству, потом по системе, в основание которой полагали ту несправедливую и антисоциальную мысль, что дикарем управлять легче», – писал уже в 1841 г. в своей замечательной записке «О крепостном состоянии в России» А. П. Заблоцкий-Десятовский.
Особенно обильно антикрестьянские эскапады произносились представителями благородного сословия при обсуждении возможности отмены крепостного права. Аргументация против была весьма разнообразна, но суть всегда сводилась к одному: крестьянам свободу давать никак нельзя. Потому ли, что «российский народ сравнения не имеет в качествах с европейскими» (мнение керенского дворянства в Уложенной комиссии 1767 г.), еще бы, «ведь русский крестьянин не любит хлебопашества (!) и пренебрегает своим состоянием, не видя в нем для себя пользы» (Ф. В. Ростопчин); или потому, что «уславливаться рабу с господином в цене и свободе почти невозможно», да и кто, кроме помещиков, «которые суть наилучшие блюстители или полицмейстеры за благочинием и устройством поселян в их селениях», сможет удержать «поселян» «от разброду» (Г. Р. Державин); кроме того, «земледельцы наши прусской вольности не снесут, германская не сделает их состояния лучшим, с французскою помрут они с голоду, а английская низвергнет их в бездну» (отстаивает русскую самобытность знаменитый историк И. Н. Болтин); ну, и, наконец, без крепостных «у иного помещика некому было бы и студено искрошить, а не только сделать какой фрикасей» (из записки безымянного автора в Вольное экономическое общество).
Замечательно, что «мужикам» запрещалось иметь общие фамилии с дворянами, в 1766 г. было принято официальное постановление о том, что рекрутов, носящих дворянские фамилии, «писать отчествами». «Генерал-майор Чорбай, шеф гусарского полка при Павле I, так ревностно преследовал дворянские фамилии своих солдат, что их всех почти назвал Петровыми, Ивановыми, Семеновыми и т. д., отчего даже произошли большие затруднения для военной коллегии» (А. В. Романович-Славатинский). Дворяне всячески стремились отгородиться от «черни», в частности, Московский университет долгое время не считался среди них престижным учебным заведением, ибо был открыт для представителей всех сословий. Ему предпочитали закрытые дворянские училища и пансионы. Социальное неравенство могло проникать даже через стены святых обителей: известны монастыри, где постригались только благородные.
О культурной отгороженности дворянства от «народа» в XVIII в. нимало не печалились. «Юности честное зерцало», напротив, поучало, что «младые шляхетские отроки должны всегда между собой говорить иностранными языками, дабы можно было их от других незнающих болванов распознать, дабы можно было им говорить так, чтобы слуги их не понимали». «Шляхетские отроки» это наставление подхватили с таким энтузиазмом, что даже накануне войны 1812 г. «высшее общество… говорило по-русски более самоучкою и знало его понаслышке» (Н. Ф. Дубровин), за исключением наиболее экспрессивной части «великого и могучего», которая использовалась для общения с подлым народом. А. М. Тургенев, по его словам, «знал толпу князей Трубецких, Долгоруких, Голицыных, Оболенских, Несвицких, Щербатовых, Хованских, Волконских, Мещерских, – да всех не упомнишь и не сочтешь, – которые не могли написать на русском языке двух строчек, но все умели красноречиво говорить по-русски» непечатные слова. Даже в конце 1830-х гг. в семействе князя М. Н. Голицына, по воспоминаниям служившего там в юности учителем его детей С. М. Соловьева, «все, кроме прислуги, говорят… по-французски, и молодых французиков, то есть княжат, я обязан учить чуждому для них, а для меня родному языку – русскому, который они изучают как мертвый язык… я был в доме единственный русский не лакей, говоривший не иначе как по-русски, и потому гувернантка-француженка, разливавшая чай, не иначе обращалась ко мне как „m-r Russe!“».
«Простонародное» отождествлялось с «допетровским», «неевропейским», «нецивилизованным». Такой истинно просвещенный человек, как А. Т. Болотов, впервые побывав в 1792 г. на деревенском празднике, так передает свои впечатления: «На что смотрели и сами мы, как на невиданное никогда зрелище, с особливым любопытством, и не могли странности обычаев их, принужденности в обрядах и глупым их этикетам и угощеням довольно надивиться… И глупые обряды их при том ажно нам прискучили и надоели». Н. М. Карамзин, опубликовавший уже «Бедную Лизу», в одном из писем 1793 г., иронизируя над «дебелым мужиком, который чешется неблагопристойным образом или утирает рукавом мокрые усы свои, говоря, ай парень! что за квас!», констатирует: «Надобно признаться, что тут нет ничего интересного для души нашей». Культурный отрыв «благородных» от «подлых» и усиление социального неравенства шли рука об руку, взаимно дополняя и усиливая друг друга. И даже распространение идей французского просветительства не слишком смягчало нравы: «Вольномыслящий тульский космополит с увлечением читал и перечитывал страницы о правах человека рядом с русскою крепостною девичьей и, оставаясь гуманистом в душе, шел в конюшню расправляться с досадившим ему холопом» (Ключевский).
Лишь в следующем столетии в этой ситуации стали видеть трагедию. Вот, скажем, принадлежащая перу А. С. Грибоедова «Загородная прогулка» (1826). Лирический герой слушает русские песни в исполнении крестьян и крестьянок и предается грустным размышлениям: «Каким черным волшебством сделались мы чужие между своими! Финны и тунгусы скорее приемлются в наше собратство, становятся выше нас, делаются нам образцами, а народ единокровный, наш народ разрознен с нами, и навеки! Если бы каким-нибудь случаем сюда занесен был иностранец, который бы не знал русской истории за целое столетие, он, конечно бы, заключил из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племен, которые не успели еще перемешаться обычаями и нравами». «Дворянство сделалось как бы другим народом, удалилось на огромное расстояние от крестьянина; утратило всякую моральную связь с ним…» – подтверждал в 1841 г. грибоедовский диагноз А. П. Заблоцкий-Десятовский. «Отличаясь от народа привилегиями, образом жизни, костюмом и наречием, русское дворянство уподобилось племени завоевателей, которое силой навязало себя нации, большей части которой чужды их привычки, устремления, интересы», – писал в 1847 г. Н. И. Тургенев.
Ничего удивительного нет в том, что «подлые» тоже не считали «благородных» своими. Крестьяне не оставили на сей счет письменных источников, ибо в большинстве своем были неграмотными, но убедительнее любых слов это доказывает жестокая и кровавая резня («прекровожаждущий на благородных рыск», по выражению Г. Р. Державина), устроенная «господам» «рабами» во время пугачевского восстания, когда было убито в общей сложности около 1600 помещиков, включая их жен и детей, и около тысячи офицеров и чиновников. Настоящая паника царила среди дворян во время войн с Наполеоном, боялись, что он объявит об отмене крепостного права и пугачевщина повторится. Французский император действительно размышлял над возможностью освобождения крепостных в России, но так и не решился на это. Но даже слухи о том, что «француз хочет сделать всех вольными», вызвали весьма значительные народные волнения. Накануне отмены крепостного права, по сведениям М. П. Погодина, крестьяне ежегодно убивали около тридцати помещиков.
Тот же Погодин в письме Н. В. Гоголю от 6 мая 1847 г. рассказывает потрясающую историю одного из таких убийств: «В Калужской губернии один [помещик] (Хитров) блудил в продолжение 25 лет со всеми бабами, девками – матерями, дочерьми, сестрами (а был женат и имел семейство). Наконец какая-то вышла из терпения. Придя на работу, она говорит прочим: „Мне мочи нет, барин все пристает ко мне. Долго ль нам мучиться? Управимся с ним“. Те обещались. Всех было 9, большею частию молодые, 20, 25, 30 лет. Приезжает барин, привязал лошадь к дереву, подошел к женщине и хлыстнул ее хлыстом. Та бросилась на него, прочие к ней на помощь, повалили барина, засыпали рот землею и схватились за яйца, раздавили их, другие принялись пальцами выковыривать глаза и так задушили его. Потом начали ложиться на мертвого и производить над ним образ действия: как ты лазил по нас! Два старика стояли одаль и не вступались. Когда бабы насытили свою ярость, они подошли, повертели труп: умер, надо вас выручать! Привязали труп к лошади, ударили и пустили по полю. Семейство узнало, но не рассудило донести суду, потому что лишилось бы десяти тягол (оно было небогато), и скрыло. Лакей, рассердясь на барыню, прислал чрез месяц безыменное письмо к губернатору, и началось следствие. Девять молодых баб осуждены на плети и каторгу, должны оставить мужей и детей. Как скудна твоя книга [„Выбранные места из переписки с друзьями“] пред русскими вопросами!» Такая вот крепостная эротика…
В XIX в., несмотря на постепенную эволюцию дворянского дискурса от социального расизма к сентиментальному «народничеству», на практике, с точки зрения преодоления дворяно-крестьянского социокультурного раскола, изменилось немногое. Дворянство в своей массе оставалось главным тормозом отмены крепостного права, без чего никакое создание единой нации было невозможно. Но даже если взять лучших его представителей из интеллектуальной элиты, проливавших слезы над крестьянскими страданиями, – кто из них воспользовался указом о вольных хлебопашцах 1803 г.? Из значительных фигур на память приходит только простодушный пьяница Н. П. Огарев, даже его ближайший друг и соратник А. И. Герцен, символ русского свободолюбия, на это не решился. Ни декабристы, ни Пушкин, ни славянофилы, ни западники не торопились подкреплять свое народолюбие личным примером. Объяснения этого факта могут быть разными, но самое честное, вероятно, принадлежит М. М. Сперанскому, написавшему в частном письме, что он боится потерять 30 тыс. годового дохода. Когда же дело дошло до государственной реформы, помещики постарались провести ее с минимальными потерями (или даже с выгодой) для себя. В Центральном районе крестьяне потеряли 20 % земли, а на Черноземье – 16 %. Освобожденные «поселяне» изначально были поставлены в условия катастрофического малоземелья.
После реформы дворянство и крестьянство продолжали жить в разных, почти не сообщающихся социокультурных мирах, законсервированных путем создания крестьянского общинного управления с особым правовым и культурным полем. Продолжая оставаться важнейшей частью имперской элиты, дворянство, к сожалению, не показывало пример социально ответственного поведения. Достаточно посмотреть, как происходила раскладка налогового бремени: «В 1897 г. дворяне в среднем платили с десятины своих земель 20 коп. налогов; нищее крестьянство платило с десятины 63 коп. налогов и 72 коп. выкупных платежей, всего 1 руб. 35 коп. – в семь раз больше, чем дворяне» (С. А. Нефедов). При этом помещики через Дворянский банк получали ссуды в 7–8 раз больше, чем заемщики Крестьянского банка. Кроме того, «низкий уровень грамотности углублял культурную пропасть между элитой и массами: он являлся дополнительной причиной, по которой в 1914 году русское общество было сильнее разделено и меньше походило на нацию, чем в 1550-м» (Д. Ливен).
Ф. А. Степун, уже в эмиграции, превосходно сформулировал суть дворянского взгляда на крестьян: они ему виделись скорее «каким-то природно-народным пейзажем, чем естественным расширением человеческой семьи (о своих крестьянах наши помещики-эмигранты чаще всего вспоминают с совершенно такой же нежностью, как о березках у балкона и стуке молотилки за прудом)…». Все славянофильско-народнические сказки о крестьянине как о смиренном, многотерпеливом страдальце с просветленным взором есть не более чем завуалированное идеологическое обоснование дворянского доминирования. Американская славистка К. Б. Фоейр остроумно показала «объектное» отношение дворян к крестьянам на примере «Войны и мира»: «…для Толстого народ (в смысле простонародья) в русском обществе играл лишь второстепенную роль; простолюдины были объектами, а не субъектами, материалом, а не творцами… Стоит, например, перечислить основных героев „Войны и мира“, а затем второстепенных и третьестепенных персонажей, чтобы убедиться в том, что при этом мы все еще не выйдем за пределы дворянского круга. Платона Каратаева можно назвать исключением, но он скорее ходячая идея, чем живой персонаж, он служит лишь поводом для озарения Пьера. Каратаев играет в романе по отношению к Пьеру роль, в чем-то аналогичную той роли, что играет для князя Андрея внезапно зазеленевший дуб. В романе крестьяне играют лишь второстепенные роли, и это вполне адекватно политическому мировоззрению Толстого. Они похожи на природные силы – неразумные и бессознательные. Именно поэтому Толстой объединяет их с помещиками – дело не в том, что он интересуется желаниями крестьян или ценит их мнения: для Толстого прав тот, кто находится в гармонии с природой». (Разумеется, эти оценки не распространяются на позднее творчество Льва Николаевича.)
Очень немногие могли почувствовать истинное положение дел. С. Е. Трубецкой вспоминает, как его тетка, мать будущего евразийца Н. С. Трубецкого, как-то раз сказала ему и сыну: «Знайте, что мужик – наш враг! Запомните это!» 1905 и 1917 г. с избытком доказали правоту этой проницательной дамы.
Своими исключительными привилегиями и европеизированной культурой дворянство было отгорожено не только от крестьянства, но и от других сословий, которые потенциально могли бы составить с ним «нациестроительную» коалицию, – духовенством и горожанами. А ведь даже в Польше, где разрыв между шляхтой и «хлопами» был не менее велик, такая коалиция сложилась.
Духовенство
Русское православное духовенство (1,9 % населения империи в 1719 г., 0,5 % – в 1897-м), хотя и имевшее ряд льгот (освобождение от подушной подати и рекрутской повинности), вряд ли можно считать в полном смысле слова привилегированным сословием (за исключением, разумеется, его архиерейской верхушки и столичных протоиереев). По крайней мере, в XVIII в. положение его иначе как униженным не назовешь. Особенно круто пришлось «духовным» при Анне Ивановне, когда их обложили массой повинностей и за малейшие проступки подвергали телесным наказаниям (что прекратилось только в 1801 г.) и тюремному заключению. В 1736 г. Тайная канцелярия даже пожаловалась, что ее казематы «слишком уже наполнены священнослужителями, присланными из разных епархий за неслужение молебнов (как правило, в разного рода „царские дни“. – С. С.), и что по чрезмерному накоплению дел об этом неслужении у нее даже в секретных делах стала чиниться остановка» (П. В. Знаменский). Особенно много людей пострадало по делам о непринесении присяги (императрица приказала духовенству подтвердить присягу ей на верность, от чего многие уклонились, часто просто из-за незнания о таком распоряжении), по которым было привлечено не менее 5000 духовных лиц. Во время несчастной войны с Турцией государство в военно-фискальных интересах стало ограничивать численность церковников, пользующихся привилегиями, взваливая на всех, не состоявших на штатных должностях (сыновья священнослужителей, притч), как налоговое бремя, так и рекрутчину. Тогда случались сюжеты, достойные Салтыкова-Щедрина.
Предоставим слово одному из лучших русских церковных историков П. В. Знаменскому: «В начале 1738 г. … беда дошла… и до таких церковников, которых доселе оставляли в покое по их молодости или старости и дряхлости, как негодных в солдаты. Из костромской провинции писали в кабинет [министров], что в военную службу там взяли 122 человека духовных детей и монастырских служителей, но между ними оказалось несколько малорослых, слабых, больных и одноглазых. Кабинет… распорядился малорослых отослать на старые места, с росписями явиться к следующему набору, когда подрастут, а остальных обязать поставить за себя рекрутов, а если не могут, записать в тех городах, где живут, в рассыльщики. Через полтора месяца это распоряжение было заменено другим, еще более суровым. Из пензенской провинции тоже пришло донесение, что к разбору явилось много церковников старых и дряхлых. На этот раз кабинет распорядился, чтобы они, поставив на себя рекрутов или заплатив деньгами 200 рублей, записывались в цехи, хотя здесь в таких людях, разумеется, не было ни малейшей нужды; а ежели они учинить того не похотят, то посланы будут на поселение в Сибирь, а в праздности им жить позволено быть не может, ибо, нравоучительно замечает указ, по святому писанию праздность всему злу корень… Указами 1 июля и 2 декабря 1738 г. велено было взять в солдаты всех годных к службе церковного причта людей, которые не были у присяг, хотя бы они состояли и в действительной службе и имели более 40 лет от роду, а на места их определить других: „ибо, – рассуждал кабинет в своем сообщении Св. синоду, – было бы весьма предосудительно таких людей к церквам определять, которые в верности ее имп. величеству присяги не учинили и подлежат жесточайшего истязания, от которого ее имп. в-во из высочайшей своей милости освободить и вместо того в военную службу, где бы они такую вину заслужить могли, определить повелела“. Без истязания, однако, все-таки дело не обошлось; пред определением в службу их велено бить плетьми. От истязания плетьми избавлялись только малолетние, имевшие не более 12 лет, но за них в этом случае отвечали их отцы, будучи обязаны платить за них 50 рублей штрафа, а в случае несостоятельности сами ложиться под плети. Многие священники, сами не бывшие у присяги, были лишаемы сана и по наказании плетьми или взятии 50-рублевого штрафа отсылаемы в подушный оклад. Напуганные разборами и плетьми, некоторые из них стали подписываться под присяжными листами задними числами; таких тоже велено бить плетьми – и отдавать в солдаты, а негодных записывать в оклад… Результаты этого систематического гонения на духовенство обнаружились вскоре же после первых разборов. В самом начале 1739 г. ее имп. величеству стало известно, что множество церквей стоит без причтов; но в простоте души императрица и не подумала, что причиной этого запустения церквей, очень ее огорчившего, была мудрость ее государственных деятелей, писавших в указах такие прекрасные рассуждения об очищении духовного чина от недостойных людей, о просвещении его ко благу св. Церкви и народа и т. п., и свалила всю вину на архиереев, которые, вместо выбывавших священнослужителей, должны были бы тотчас же озаботиться поставлением на их места новых достойных духовных лиц, „всячески обученных и наставленных христианскому закону и страху Божию“».
Мудрено ли, что церковники в XVIII столетии охотно примыкали к народным бунтам? Когда во время пугачевщины Синод издал указ о запрещении в служении священников, примкнувших с самозванцу, то в Пензе пришлось закрыть вообще все церкви. В 1796–1797 гг. духовенство приняло деятельное участие в крестьянских восстаниях, охва тивших более десяти губерний. «В Псковской губернии несколько священников явились предводителями крестьян в вооруженном восстании на помещиков. В одном селе Холмского уезда крестьяне собрались в церкви, а священнослужители в полном облачении вышли из алтаря и пред крестом и Евангелием совершили для них присягу в единодушном стоянии до смерти. В Медынском уезде Калужской губернии главными виновниками поголовного восстания крестьян оказались трое священников, которые разглашали слухи о явившемся якобы манифесте насчет свободы крестьян. В Великолуцком уезде… священник „простер до такой степени свое неистовство, что изъявил неуважение к особе государя под предлогом, что он еще не коронован“» (П. В. Знаменский).
С начала XIX в. положение духовенства более-менее пришло в норму, во всяком случае, экстрима, подобного аннинскому, в его отношении не допускалось. Но оно продолжало быть совершенно зависимым от государства, презираемым как дворянством, так и крестьянством, в массе своей чрезвычайно бедным и социально почти герметически замкнутым сословием. Скажем, обязанности священников доносить о криминальных признаниях на исповеди так и не были отменены. Проповедническая их деятельность находилась под жестким контролем Синода, который в 1821 г. принял специальный указ, обязывающий батюшек показывать конспект проповеди вышестоящему начальству (столкновения священников, искренне хотевших донести живое духовное слово до своей паствы, с начальством, как церковным, так и светским, ярко изображены в «Соборянах» Н. С. Лескова). Клирики, по сути, являлись государственными служащими, удостаивались разного рода наград (с 1795 г.), а после 1830 г. стали получать жалованье, но при этом весьма скудное, да и платимое далеко не всем (о чем подробнее ниже).
С конца XVIII в., когда были отменены приходские выборы священников, окончательно определилась наследственность духовенства, практически не разбавляемого представителями других сословий. Весь XVIII в. закон фактически запрещал дворянам принимать духовный сан, да и сами дворяне не слишком стремились к нему – слишком низок был его социальный статус. Людям податных сословий такой переход был формально закрыт и большую часть следующего столетия. Лишь в 1869 г. появился закон, разрешавший любому гражданину занимать церковные должности, принципиально, однако, не изменивший устоявшийся порядок вещей, а скорее способствовавший бегству молодых поповичей из рядов своего сословия. В. В. Розанов в одной из своих статей 1904 г. приводил такие удручающие факты о положении в Нижегородской семинарии: из 60 человек, закончивших ее в 1901 г., только шестнадцать согласились стать священниками; все перворазрядники и второразрядники заявили, что уходят в университет, академии и в институты. Консерватор славянофильского толка генерал А. А. Киреев в том же 1904 г. в дневнике так прокомментировал заявление Победоносцева, что никто не хочет служить на духовном поприще: «Да из-за чего я пойду в священники? Или из-за выгоды, но выгоды ведь нет никакой, или по призванию, с целью проповедовать слово Божие, но для этого нужна свобода, а свободы-то и нет!»
Что касается материального обеспечения, то, по подсчетам Б. Н. Миронова, в XVIII в. даже младшие чиновники и офицеры имели доход в 4–5 раз, а в первой половине XIX в. – в 1,5–2 раза больше, чем основная масса церковников. В 1900 г. лишь в 24 625 из 49 082 (то есть в половине) храмов, принадлежавших православной российской церкви, причты получали государственное жалованье. «К тому же и сумма этого жалованья была минимальна: средний оклад священника равнялся 300 рублям, диакона – 150 и псаломщика – 100 рублям в год (притом что бюджет среднего семейства сельского батюшки составлял рублей 600–700 в год). В отчете обер-прокурора Святейшего синода за 1900 г. указано, что источниками материального обеспечения духовенства служат добровольные даяния прихожан за требоисправления, сборы хлеба с деревенских прихожан, церковная земля и уже на последнем месте – жалованье от казны» (С. Л. Фирсов). Проблема эта так и не была решена до самого конца императорского периода, в синодских документах 1916 г. прогнозировалось обеспечить все причты «средне-нормальными окладами» к 1935 г.! Упомянутые же выше (далеко не всегда) «добровольные даяния» также не слишком благоденствующих прихожан-крестьян не столько обогащали клир, сколько вызывали у первых стойкую ненависть и презрение ко второму. Священник А. И. Розанов в 1882 г. так описывал эту прискорбную ситуацию: «Чтобы удовлетворить своим самым необходимым потребностям жизни, мы должны, как нищие, таскаться по дворам и выпрашивать лотки хлеба и вымогать плату за требоисправления, – непременно; со стороны же крестьян неизбежно отстаивание всеми силами трудовой своей копейки. Обоюдное неудовольствие есть прямое следствие такого положения…»
Известны случаи судебных тяжб между крестьянскими общинами и приходскими батюшками. Так, в течение почти пяти лет, с 1821 по 1826 г., жители села Петровское судились со священником Алексеем Поликарповым, назначавшим, по показаниям прихожан, слишком большую цену за совершение обрядов, причем крестьяне выиграли дело – священника сменили. Удивительно ли, что «нет пословицы, которая что-нибудь хорошее сказала о духовенстве» (Б. Н. Миронов)? «Влияние духовенства на помещичьих крестьян вообще слабо; едва ли не слабее, нежели между государственными крестьянами», – констатировал в 1841 г. А. П. Заблоцкий-Десятовский. «…Духовенство, гнетомое бедностью, еле содержит катехизис, – до развития ли ему христианских идеалов и освящения ими себя и других?» – с горечью записал в дневнике в июле 1904 г. архиепископ Японский Николай (Касаткин).
Следует также заметить, что далеко не все русские являлись действительными прихожанами РПЦ; старообрядцев и разного рода сектантов (явных или тайных) всего, по данным И. И. Каблица, в 1880 г. насчитывалось около 13–14 млн (приблизительно четвертая часть всех русских), а по данным П. Н. Милюкова, к 1917 г. – около 25 млн. Степень религиозного воздействия православного духовенства на свою паству не стоит преувеличивать и по другим причинам. Во-первых, по сравнению с последней первое было очень немногочисленным – в конце XIX – начале XX в. один батюшка приходился приблизительно на две тысячи верующих (для сравнения, на католическом Западе тогда же один священник «обслуживал» 690 человек).
Во-вторых, неграмотное крестьянство толком не знало Писания, которое и перевели-то на русский язык полностью лишь в 1876 г., годом позже, чем Марксов «Капитал». Церковнославянский же крестьяне, судя по внушающему доверие рассказу Ю. Ф. Самарина в письме И. С. Аксакову от 23 октября 1872 г., практически не понимали и содержание службы для них было окутано тайной: «…по мере того, как я подвигался в толковании литургии крестьянам, меня более и более поражает полное отсутствие всякой сознательности в их отношении к церкви. Духовенство у нас священнодействует и совершает таинства, но оно не поучает… Писание для безграмотного люда не существует; остается богослужение. Но оказывается, что крестьяне… не понимают в нем ни полслова; мало того, они так глубоко убеждены, что богослужебный язык им не по силам, что даже не стараются понять его. Из тридцати человек, очень усердных к церкви и вовсе не глупых крестьян, ни один не знал, что значит паки, чаю, вечеря, вопием и т. д. Выходит, что все, что в церкви читается и поется, действует на них, как колокольный звон; но как слово церкви не доходит до них ни с какой стороны, а стоит в душе каждого, как в Афинах неизвестно когда и кем поставленный алтарь неведомому богу… Нечего себя обманывать: для простых людей наш славянский – почти то же, что латинский…»
«В простонародии нашем есть только расположение к религиозности, но нет почти никаких религиозных понятий… вся религия его сосредоточивается в формах наружных; существенное значение богослужения и религиозных обрядов нисколько не доступно его необразованному уму; он увлекается только сценическою стороною религии – потребностию зрелища», – отмечал тридцатью годами раньше А. П. Заблоцкий-Десятовский. Как видим, за прошедшее время мало что изменилось.
Впрочем, что говорить о крестьянах, когда сын отличавшегося искренней и усердной религиозностью чиновника великий хирург Н. И. Пирогов вспоминал, что в детстве «знал наизусть много молитв и псалмов, нимало не заботясь о содержании заученного… в школе от самого законоучителя я не узнал настолько, чтобы понять вполне смысл литургии, молитв и т. п.». Евангелие же «не читали ни дома, ни в школе». В результате христианское вероучение юношей «забылось и, как старый хлам, сдано было… в архив памяти». И лишь на пороге сорокалетия духовные поиски Пирогова привели его к сознательному чтению Нового Завета.
По жесткой оценке В. О. Ключевского (1907), в России «великая истина Христа разменялась на обрядовые мелочи или на худож[ественные] пустяки. На народ Ц[ерковь] действовала искусством обрядов, правилами, пленяла воображение и чувство или связывала волю, но не давала пищи уму, не будила мысли. Она водворяла богослужебное мастерство вместо богословия, ставила церк[овный] устав вместо Катехизиса; не богословие, а обрядословие».
Не пользовались церковники доброй славой и влиянием и среди образованных слоев общества, давно отошедших от православного уклада и живших ценностями секулярной европеизированной культуры. «Русское духовенство, – писал в официальной записке 1866 г. киевский генерал-губернатор А. П. Безак, – не только изменено в ветхозаветное левитство, но даже более того, – оно приведено в такое положение в отношении к прочим сословиям, в какое поставлен был народ израильский в отношении к язычникам и самарянам… Вследствие сословной отчужденности духовенства общество наконец стало относиться даже враждебно к лицам духовного звания, переходившим на службу гражданскую или учебно-гражданскую, подобно тому как оно несимпатично смотрит на допущение евреев в государственную службу. Отсюда возникло странное явление в христианском обществе, именно, что дети пастырей христианской Церкви, переходя в другие роды общественной службы, вынуждены скрывать от общества свое происхождение, стыдиться звания своих отцов, как будто дети каких-либо преступников: явление небывалое прежде у нас и невозможное в протестантском обществе».
А вот свидетельство историка С. М. Соловьева, поповича по происхождению: «Прежде [до петровских реформ] священник имел духовное преимущество по грамотности своей, теперь он потерял это преимущество; правда, он приобрел школьную ученость, но с своею одностороннею семинарскою ученостью, с своею латынью он оставался мужиком пред своим прихожанином [дворянского звания], который приобрел лоск образования, для которого сфера всякого рода интересов, духовных и материальных, расширилась, тогда как для священника она расшириться не могла. Священник по-прежнему оставался обремененным семейством, подавленным мелкими нуждами, во всем зависящим от своих прихожан, нищим, в известные дни протягивающим руку под прикрытием креста и требника. Выросший в бедности, в черноте, в избе сельского дьячка, он приходил в семинарию, где та же бедность, грубость, чернота, с латынью и диспутами; выходя из семинарии, он женился по необходимости, а жена, воспитанная точно так же, как он, не могла сообщить ему ничего лучшего; являлся он в порядочный дом, оставляя после себя грязные следы, дурной запах: бедность одежды, даже неряшество, которые бы легко сносили, даже уважали в каком-нибудь пустыннике, одетом бедно и неряшливо из презрения к миру, ко всякой внешности, эти бедность и неряшество не хотели сносить в священнике, ибо он терпел бедность, одевался неряшливо вовсе не по нравственным побуждениям; начинал он говорить – слышали какой-то странный, вычурный, фразистый язык, к которому он привык в семинарии и неприличие которого в обществе понять не мог; священника не стали призывать в гости для беседы в порядочные дома: с ним сидеть нельзя, от него пахнет, с ним говорить нельзя – он говорит по-семинарски. И священник одичал: стал бояться порядочных домов, порядочно одетых людей; прибежит с крестом и дожидается в передней, пока доложат; потом войдет в первую после передней комнату, пропоет, схватит деньги и бежит, а лакеи уже несут курение, несут тряпки: он оставил дурной запах, он наследил, потому что ходит без калош; лакеи смеются, барские дети смеются, а барин с барыней серьезно рассуждают, что какие-де наши попы свиньи, как-де они унижают религию!» Совершенно в духе этого пассажа обрисован быт приходского священника в известном рассказе Чехова «Кошмар» (1886).
Внутри самого духовенства существовал резкий антагонизм между его белой (приходской) частью и черной (монашествующей), последняя, хоть и составляла всего 10 % сословия, но в его руках находилось, по сути, все руководство церковной жизнью, ибо епископом мог стать только монах. Структура церковного управления была выстроена по образцу государственного. Архиереи, которые не только не отваживались перечить светской власти, но напротив, говоря словами Ю. Самарина, «щеголявшие в своих кандалах», находились в полном подчинении у обер-прокурора, который перемещал их по своему усмотрению с места на место, чтобы они не смогли где-либо «пустить корни» и сделаться недостаточно управляемыми. Только в 1892 г. произошло тридцать переводов епископов с одной кафедры на другую, причем порой срок очередного служения составлял не более двух недель. Зато уж в своих – пусть и кратковременных – владениях «князья церкви» показывали себя настоящими маленькими самодержцами, заставлявшими трепетать весь подчиненный им клир. «Известно, что такое русские генералы, но генералы в рясе еще хуже, потому что светские генералы все еще имеют более широкое образование, все еще боятся какого-то общественного мнения, все еще находят ограничение в разных связях и отношениях общественных, тогда как архиерей – совершенный деспот в своем замкнутом кругу, где для своего произвола не встречает ни малейшего ограничения, откуда не раздается никакой голос, вопиющий о справедливости, о защите – так все подвалено и забито неимоверным деспотизмом» (С. М. Соловьев). Современная исследовательница Т. Г. Леонтьева вполне подтверждает это наблюдение: «Власть епископа… [была] если не абсолютной, то бесконтрольной».
Конечно, при таком положении дел духовенство было не способно стать общественным и идейным центром русского нациестроительства.
Средний класс
Еще менее таким центром могло быть так называемое «городское сословие» (3,9 % населения империи в 1719 г., 11,3 % – в 1897-м). Идея Екатерины II создать в его лице некий «средний род людей» по западноевропейским образцам выразилась на практике в существовании под одним именем двух различных социальных групп – привилегированной / полупривилегированной (почетные граждане и купцы) и непривилегированной (мещане и ремесленники). Единственное, что у них было общего, – юридические гарантии права собственности. Внутри первой группы также существовали принципиальные различия: только почетные граждане (0,2 % всего «городского сословия» в 1840 г., 3 % – в 1897-м) были освобождены от подушной подати, рекрутской повинности и телесных наказаний. Купцы первой и второй гильдий имели право от указанных повинностей откупиться, в отличие от купцов третьей гильдии, подвергавшихся к тому же телесным наказаниям. Купеческое звание не передавалось по наследству, его нужно было подтверждать наличием капитала, для каждой гильдии разного. Мещане и ремесленники до 1860—1870-х гг. принадлежали, наряду с крестьянами, к податным слоям насе ления, были членами податной городской общины и без увольнительного свидетельства, подписанного большинством последней и городским головой, не имели права перейти в город другой губернии; телесные наказания для них окончательно отменили только в 1904 г.
Разумеется, «средний род людей» из такого противоречивого социального образования сформировать невозможно. Ю. Самарин констатировал в 1846 г.: «Среднее сословие существует в смысле правительственном, но не в смысле общественном». Прошло 35 лет, миновала эпоха Великих реформ, но чуткий современник Н. И. Пирогов в марте 1881 г. сделал близкий по смыслу вывод: в России «есть особи третьего сословия, но самого сословия нема!». Низкий статус «городского сословия» приводил к его профессиональной деградации и к бегству из него наиболее способной молодежи. Князь М. М. Щербатов сетовал во времена Екатерины II: «Купцы, поставя себе теперь в предмет разбогатеть для того, чтобы дворянство или чин офицерский приобрести, торговое свое состояние мимоходящим почитают, ни стараются ни сами в опасные торги вступать, ни детей своих торгу изучать, но кидаются только в откупы и подряды, обкрадывая елико можно казну, а не производя никакого чюжестранного торгу». «…Молодые образованные люди из купечества получают отвращение от состояния отцов своих, – вторил ему адмирал Н. С. Мордвинов. – Они спешат выйти из оного, сделавшись студентами или вступая в службу, дабы приобретением… чинов обеспечить себя в будущности от тех неприятностей и самого унижения, в каком оставшись купцами, легко могут быть, если случайно и невинно лишатся своего капитала». «…Великий двигатель национального процветания, а именно капиталы, накопленные целыми поколениями торговцев, в России совершенно отсутствует; купцы там, кажется, имеют только одну цель – собрать побольше денег, чтобы при первой же возможности бросить свое занятие», – печалился Н. И. Тургенев.
«…Дай бог, чтоб у нас была буржуазия!» – восклицал в одном из писем 1847 г. литератор В. П. Боткин (сам родом из купцов), прекрасно понимавший ту гигантскую роль, которую этот класс сыграл в экономическом и политическом прогрессе Запада, и то, сколь мало соответствовало ему «городское сословие» империи. Ибо в последней не было элементарных условий для нормального развития капитализма – свободного рынка рабочей силы (из-за закрепощенности – государством или помещиками – основной массы населения), обширного внутреннего рынка сбыта товаров (из-за низкой покупательной способности того же самого подавляющего большинства населения – крестьян) и развитой системы кредитования (в дореформенный период вообще отсутствовали частные банки – имелись только казенные, в основе деятельности которых лежала внеэкономическая логика). Верхушка «городского сословия» количественно была очень невелика. В 1851 г. общее число купцов равнялось 180 359 душам (притом что также весьма немногочисленное духовенство насчитывало тогда 277 659 душ), в 1897 г. их стало не многим больше – 281,2 тыс. (0,2 % населения).
Правда, после отмены сословного принципа в занятиях торговлей и промышленности могли подвизаться не только купцы (к 1900 г. среди единоличных владельцев торгово-промышленных предприятий к последним принадлежало только 26,9 %), но даже с учетом этого буржуазия в европейском смысле слова составляла внутри «городского сословия» незначительное меньшинство, далеко не достигающее и одного процента населения. Годовой доход в 1000 руб. обеспечивал только самый скромный достаток; в 1904 г. в империи имелось всего 404,7 тыс. человек, чей доход превышал указанную цифру – 0,3 % ее населения, – а ведь среди этих немногих счастливцев были не только «буржуа», но и верхушка дворянства и духовенства, а также лица, получающие доходы от «личного труда» – около 37 % данной группы – офицеры, чиновники, разного рода служащие, врачи, адвокаты, литераторы и другие «лица свободных профессий».
Что же касается внутренней дифференциации внутри этой группы, то Вл. И. Гурко в 1909 г. дает такие цифры: «…лиц, получающих от 1000 до 2000 руб. дохода в год, насчитывается у нас 220 489; от 2000 до 5000 руб. – 120 931, от 5 до 10 тысяч – 37 101 и, наконец, свыше 10 тысяч руб. – 26 182 лица. При современной дороговизне жизни, конечно, только последнюю категорию капиталистов можно отнести к классу людей вполне зажиточных, а означает это то, что в России ныне на каждые 100 тыс. жителей имеются всего лишь 17 богатых людей. Что же касается числа лиц, владеющих действительно крупным доходным имуществом, то оно прямо-таки жалкое. Во всей России имеется лишь 703 человека, получающих более 50 тыс. руб. дохода от земельных владений, и лишь 331 лицо, владеющее денежными капиталами, приносящими не менее той же суммы дохода». Для сравнения: в Англии уже в 1851 г. более 8 % населения принадлежало к предпринимательскому сообществу, немецкая буржуазия в начале XX в. насчитывала, по разным оценкам, от 5 до 15 %. Тот же Гурко приводит данные по одной только Пруссии, где количество лиц, владеющих свыше 1000 руб. дохода, превышало соответствующий российский показатель в девять раз!
К тому же в России в силу неустойчивости купеческого статуса и экономической политики Петра I не сложились многовековые бизнес-династии вроде Сименсов или Круппов, берущих свой исток аж в XVI – начале XVII в. Характерно, что лидеры русской буржуазии начала XX столетия – Прохоровы, Морозовы, Гучковы, Рябушинские и т. д. – почти сплошь ведут свою «классовую» родословную только с начала XIX в., и предками их были вовсе не горожане, а выкупившиеся на волю «капиталистые» крепостные крестьяне и, кстати, старообрядцы, передавшие своим потомкам не только навыки успешной трудовой этики, но и вкус к культуре. Но, конечно, их «старомосковские» культурные ценности, не соответствующие мейнстриму дворянской вестернизированной культуры, по своему влиянию на окружающее общество несравнимы, скажем, с влиянием ценностей немецкого бюргерского Просвещения. Городское самоуправление, в котором заправляло купечество, находилось под контролем администрации. Во многом связанные с государственными подрядами, купцы держались далеко от политических интересов, только в начале XX в. ситуация стала меняться, так что прав М. М. Пришвин, говоривший о «короткой и не расцветшей жизни русской буржуазии».
Большой проблемой для русской буржуазии была мощная конкуренция со стороны «инородческого» и иностранного капитала. О еврейской экономической экспансии уже говорилось выше. Доля иностранных капиталовложений перед Первой мировой войной составляла 47 % всего акционерного капитала (лидировали французы, за ними шли по убывающей – англичане, немцы, бельгийцы и американцы). У Гурко на сей счет звучат прямо-таки алармистские нотки: «…наша промышленность и торговля с каждым днем все больше переходит в руки инородцев и иностранцев… такие исконно русские торговые центры, как Москва, Харьков и даже Нижний Новгород, утратили свой русский характер… иноземные элементы получили в них преобладающую силу… Жизненный нерв страны – вся ее хозяйственная деятельность – захвачен элементами пришлыми, чужеземными, вследствие чего к этим элементам понемногу переходит и фактическое господство в стране… за русским народом до сих пор, да и то лишь до известной степени, остался ярлык власти, сущность же ее почти всецело сосредоточена в руках инородцев и иноземцев…» Прямым следствием сильного влияния зарубежного капитала было и преобладание иностранных специалистов в самых различных сферах промышленности, в то время как русские инженеры периодически страдали от безработицы даже в начале XX столетия.
В заключение этого раздела следует упомянуть и о казачестве, но лишь в связи с тем, что после разгрома пугачевщины и ликвидации Запорожской Сечи (1775) оно окончательно утратило претензии на политическую субъектность (несмотря на создание новых казачьих войск – Забайкальского, Амурского, Семиреченского и др.) и сделалось просто одним из служилых сословий (хотя и очень своеобразным).
Крестьянство
Но если даже привилегированные и полупривилегированные сословия в качестве субъектов русского нациестроительства выглядят более чем сомнительно, то что уж говорить о вовсе не привилегированном подавляющем большинстве – крестьянстве, в 1762 г. составлявшем почти 92 % подданных империи, в 1897-м – почти 86 % и даже в 1913-м – более 80 %. Оно в своем наличном положении не очень-то годилось и в объекты нацбилдинга, ибо было лишено не только политических, но и основных гражданских прав. Выше уже говорилось о реально рабском статусе крепостных крестьян, но в определенном смысле положение другой значительной категории «сельских обывателей» – государственных крестьян мало чем отличалось: и первые, и вторые не имели «свободы передвижения и социальной мобильности, права выбора занятий», были прикреплены «наследственно к своему социальному статусу, месту жительства, общине и владельцу. Это дает основание объединить все разряды крестьян, существовавшие до 1860-х гг., в одно сословие закрепощенных сельских обывателей» (Б. Н. Миронов).
Добавим – и те и другие не обладали правом частной собственности на обрабатываемые ими земли, разница лишь в том, что земля крепостных принадлежала помещикам, а земля «государственных» – государству. Связано это было с тем, что, вне зависимости от принадлежности к разряду, все крестьяне несли на себе главный государственный налог – подушную подать, которая только формально раскладывалась по «душам мужеска пола», фактически же по крестьянским хозяйствам – тяглам. И помещики, и правительство были заинтересованы в поддержании некоего среднего уровня материальной состоятельности всех тягол и потому препятствовали разорению слабых хозяйств, что, с одной стороны, привело к запрету крестьянам свободно распоряжаться своей землей (купля-продажа, аренда), с другой – препятствовало естественному процессу имущественного расслоения внутри деревни. Теоретически правящая элита империи понимала важность частной собственности. В «Наказе» Екатерины II говорится: «Не может земледельчество процветать тут, где никто не имеет ничего собственного», ибо «всякий человек имеет более попечения о своем собственном и никакого не прилагает старания о том, в чем опасаться может, что другой у него отымет». Но на практике мы почти не видим никаких шагов в этом направлении, скорее – в обратном.
В. А. Александров на основе тщательного анализа помещичьих инструкций приказчикам убедительно показал, что абсолютно все дворяне-землевладельцы – будь они фанатиками полицейского управления имением, как дед знаменитого славянофила В. Н. Самарин, или поощряющими покровителями крестьянского предпринимательства, как известный историк и публицист М. М. Щербатов, предпочитали ли они барщинное хозяйство или оброчное – стремились к нивелировке имущественного положения своих крепостных. Были даже новаторы, упразднявшие индивидуальное землепользование вовсе. Так, по воспоминаниям И. Я. Вилькинса, его дед, помещик Рязанской губернии, в конце XVIII в. во всех своих деревнях разделил крестьянские земли на хозяйства, каждое из которых должно было состоять из восьми работников. Помещик Н. Стремоухов в начале XIX в. радикальным образом избавил от наделов своих крестьян в имении под Сумами и разделил их на «дружины» по 25 тягол каждая, закрепив за ними определенные участки земли, обработка которых производилась по руководством господских надсмотрщиков, а урожай делился пополам между барином и крепостными. Какой-то помещичий социализм! Это, разумеется, крайности, но вполне разумный и гуманный В. Г. Орлов в начале XIX в., стараясь удержать малоимущих поселян от пауперизации, допускал сдачу крестьянских надельных земель в аренду только в случае «необходимой нужды» и предписывал окладчикам при перераспределении тяглового обложения снимать с «бедных и маломочных семей» за счет «прожиточных» «приличное число душ», не уменьшая их земельного надела. Тоже своего рода социализм, но не «казарменный», а, так сказать, «с человеческим лицом»…
Нижегородский крепостной из «прожиточных» Н. Н. Шипов вспоминал, как в начале 1820-х гг. распределялся оброк в его деревне: «Помещик назначал, сколько следовало оброчных денег со всей вотчины; нашей слободе приходилось платить 105 000 рублей асс. в год. У нас в слободе числилось до 1840 ревизских душ. Но не все одинаково были способны к платежу, например, крестьянин богатый, но ему приходилось платить за одну или две души; а другой бедный, и у него 5 или 6 ревизских душ; были престарелые и увечные, отданные в рекруты и беглые, которых налицо не состояло, но за которых следовало платить оброк. Помещик всего этого не хотел знать и требовал, чтобы назначенный им оброк был ему представлен сполна. Тогда делали раскладку оброка на богатых и зажиточных плательщиков. Таким образом выходило, что, например, мы с отцом платили помещику оброка свыше 5000 рублей асс. в год; а один крестьянин уплачивал до 10 000 рублей».
В 1730 г. крепостным государственным указом было запрещено приобретать на свое имя «недвижимое имение». Лишь в 1848 г. закон разрешил им покупать и продавать землю и другую недвижимость на свое имя, но только с согласия помещика, удостоверенного в присутственном месте; однако это не касалось ранее приобретенных земель, которыми помещик мог распоряжаться по своему усмотрению, например отдавать в залог, хотя бы они были куплены на крестьянские деньги. Говоря словами И. Н. Болтина, крепостные пользовались землей «не по закону, а по снисхождению своих господ».
Накануне отмены крепостного права Ю. Самарин иронически заметил, что, негодуя против европейского социализма, русское дворянство не видело очевидного – все сокрушительные доводы против первого «падали во всей силе и на крепостное право»: «He нам, единственным во всей Европе представителям этого права, поднимать камень на социалистов. Мы с ними стоим на одной доске, ибо всякий труд невольный есть труд, искусственно организованный. Вся разница в том, что социалисты надеялись связать его добровольным согласием масс, a мы довольствуемся их вынужденною покорностью».
Но ситуация с земельной собственностью у казенных крестьян была нисколько не лучше. В. И. Сергеевич, характеризуя Межевую инструкцию 1754 г., изумленно констатирует, что она «по отношению к крестьянскому землевладению представляет образчик чрезвычайно радикального законодательства, можно даже сказать это – древнейший опыт законодательства в чисто социалистическом направлении (курсив мой. – С. С.)…
1. Право личного распоряжения крестьянскими землями отменяется. Земли эти никому не могут быть продаваемы и закладываемы, ни крестьянам, ни посторонним людям. Они не могут быть отчуждаемы и по суду.
2. Право наследования в крестьянских землях отменяется. Все земли, с которых крестьяне положены в подушный оклад, после умерших владельцев, между наследниками не делятся; они записываются за селениями в качестве государственных. Это своего рода национализация земли.
3. То, что крестьяне вновь распахали, против показанного за ними по писцовым книгам, и продали, отбирается у покупателей безденежно и поступает к селениям в государственные земли.
4. Все продажи земель крестьянских, прежде сделанные людям, неположенными в… оклад, отбираются у покупателей безденежно и тоже поступают к селениям в государственные [земли]».
В Межевой инструкции 1766 г., то есть принятой в правление венценосной радетельницы за частную собственность Екатерины Алексеевны, и в законодательных актах ее либерального внука 1820 и 1825 гг. формулировки не намного слабее. «Земли и угодья, принадлежащие каждому селению, вне зависимости от того, были ли они приобретены по прежним „дачам и крепостям“ или отведены от казны, считаются общественным имуществом, предоставлены мирскому обществу с платежом установленного оброка „без ограничения времени и срока“. Общество распоряжалось землей, распределяло ее участки по семействам. Продажа, заклад и другая какая-либо „уступка“ земли запрещались. Участки, оставшиеся после умерших поселян, не могли делиться между наследниками, сохраняясь всегда при тех селениях, к которым они примежеваны. Ограничения на распоряжение казенной землей касалось не только всего общества, но и отдельных поселян. Им запрещалось продавать земельные участки как посторонним лицам, так и в своей среде, указывалось, что, поскольку земли эти государственные, чтобы они „впредь названных земель собственными своими не называли“. Земли, с которых платился оброк, так же как и дома сельских обывателей, построенные из казенного леса, не могли обременяться долгами и отдаваться за иски в другие руки» (Н. А. Иванова, В. П. Желтова). Обе упомянутые Межевые инструкции запрещали государственным крестьянам приобретать землю в собственность даже за пределами их общин, лишь в 1801 г. они получили право покупать незаселенные земли, которые можно было продавать, дарить, закладывать и т. д. В период реформы казенной деревни 1838–1841 гг. под руководством П. Д. Киселева в официальных документах особо указывалось, что не следует укоренять у крестьян собственнические тенденции. Имеются свидетельства, как в конце XVIII в. общинные порядки насильственно насаждались в Олонецкой губернии, где еще сохранялось традиционное для Русского Севера частное землевладение, а в 1840-х гг. – в Екатеринославской губернии, где преобладало хуторское хозяйство, здесь «крестьянам прямо предписывалось из хуторов селиться в большие села, а если они не исполняли приказания, то на хуторах осенью ломали печи» (Б. Н. Чичерин).
Управление обеими основными категориями крестьян было также схоже – в одном случае помещики, в другом – государство использовали общинные структуры для раскладки подушной подати и рекрутской повинности по тяглам, за выполнение которых община отвечала круговой порукой. Участь крепостных была здесь, конечно, гораздо прискорбнее – как уже говорилось, иные «дикие помещики» и вовсе упраздняли общинное правление и устанавливали прямое полицейское правление (так, у упомянутого выше В. Н. Самарина некоторые наиболее ретивые исполнители его повелений ходили вечерами по крестьянским избам и гасили там огонь). Но в целом отличия были скорее количественные, а не качественные. В крепостной деревне помещик отдавал управление в руки приказчика, который, в свою очередь, опирался на небольшой круг избранных стариков-домовладельцев, в руках которых находился мирской сход, предоставляя в их распоряжение почти неограниченную власть над односельчанами, – еще одна разновидность самодержавия, пронизавшего, как видим, Русь с самого верха до самого низа. В казенных селениях роль приказчиков играло волостное правление.
Реформа 1861 г., казалось бы, должна была принципиально изменить крестьянский быт. Более того, она мыслилась ее идеологами как важнейший этап русского нациестроительства. Славянофил В. А. Черкасский писал: «Крестьянское дело не только удовлетворило первые, законные ожидания крестьянского сословия; оно вновь сплотило в одно твердое органическое тело раздробленные было элементы народной жизни, оно впервые уяснило обществу основные начала народного самосознания…» Но в реальности вышло нечто совсем иное – вместо создания слоя свободных земледельцев-собственников, что первоначально декларировалось в качестве цели реформы, на первый план вышла задача обеспечения «прочной крестьянской оседлости». Во-первых, это было связано с особенностями проведения реформы: бывшие крепостные долго оставались «временнообязанными» по отношению к бывшим господам и десятилетиями выплачивали государству выкуп за свое освобождение – поэтому удобнее было их держать на привязи. Во-вторых, в обществе (как справа, так и слева) и в правительстве все большую популярность приобретала идея, что русская крестьянская община с ее отсутствием частной собственности – не просто испытанное и надежное средство социального контроля над не способными за себя отвечать «детьми»-крестьянами, но и залог особого пути России, благодаря которому ее счастливо минуют ужасы западного капитализма и она сделается светочем прогресса для человечества. Восприятие аграрного вопроса становилось все более мифологизированным и далеким от эмпирической действительности.
Между тем «реальность показала бы, что Россия вовсе не демонстрирует всему миру перспективы коллективизма и решения на его почве всех социальных проблем, а является по уровню и характеру развития сельского хозяйства типичной отсталой и периферийной страной; что ей предстоит пройти еще очень длинный путь, чтобы встать вровень с немецкой или британской агрикультурой; что интенсификация сельского хозяйства, естественно, чревата разрушением традиционных форм и норм (которые к тому времени были осознаны как „исторические“ и „национальные“)…» (И. А. Христофоров).
Подлинные знатоки сельской жизни единодушно указывали на рост частнособственнических настроений у наиболее трудолюбивых крестьян. «Купить свой клок земли – любимая мечта нашего простолюдина, нередко в явный ущерб его благосостоянию… любовь к собственной земле может у нас по справедливости назваться народной, но это не значит, чтобы она соединялась с любовью к общинной форме владения или жизни… Вся современная жизнь крестьянина от колыбели до могилы есть постоянное стремление выскочить не только из общинного владения, но даже из семейного, чему ежедневные разделы с отрыванием сеней от избы и переломом пилы между двумя братьями служат красноречивым доказательством… Народ ненавидит общинное владение и барахтается с ним потому, что его из него не выпускают», – писал в начале 1880-х гг. А. А. Фет – не только великий лирический поэт, но и весьма успешный хозяин имения, десятилетиями живший на земле, активный пропагандист развития капитализма в деревне. Скорее с сожалением о том же свидетельствуют убежденные народники, но притом честные наблюдатели. «…Крестьяне в вопросе о собственности самые крайние собственники… ни один крестьянин не поступится ни одной своей копейкой, ни одним клочком сена… Каждый мужик при случае кулак, эксплуататор…» (А. Н. Энгельгардт). «Хочу выписаться из общества… только не знаю как…» – говорит «справный мужик» Иван Ермолаевич, главный герой цикла очерков Г. И. Успенского «Крестьянин и крестьянский труд», недовольный общинными переделами земли.
На рубеже 1870—1880-х гг. в русской мысли царило подлинное «общинобесие», дело доходило до того, что известнейший либерал (!) К. К. Арсеньев мог в 1881 г. публично заявить, что «еще не настало время» предоставлять крестьянам право выхода из общины. Наконец этот дискурс стал, по сути, государственным официозом. Если в дореформенное время П. Д. Киселев прагматически выражал опасения, что распад общины повлечет за собой появление «обширного класса бобылей, который допустить не следует в видах политических», то в 1880-х гг. в правительственных актах как само собой разумеющийся факт признавалось, что «понятие о личной собственности совершенно чуждо условиям быта коренного сельского населения», а «общинное владение… представляет такие особенности, которые не имеют ничего общего с теми формами земельной собственности и условиями ее приобретения, какие установлены общими гражданскими законами». К. П. Победоносцев своим авторитетом в прошлом профессора-юриста подтверждал: «Свободное распространение собственности возможно только в условиях Западной Европы», в России же вследствие этого «может истощиться сословие крестьянское, составляющее главную охранительную силу в государстве». Таким образом, говоря словами того же Фета, «могильный призрак крепостного общинного владения» был провозглашен основополагающей «бытовой чертой нашей народности».
Некоторые проницательные современники в начале XX в. с тревогой писали, что «в народе зреют опасные зачатки разрушительного социализма, так как условия и порядки общинного быта дают понятие только о собственности общей, а не индивидуальной» (А. П. Никольский). Нужно было дождаться революции 1905 г., чтобы признать: «Весь наш 40-летний строй, воздвигнутый на принципе общинного владения кресть ян, был роковой ошибкой, и теперь необходимо его изменить» (из выступления на съезде дворянского Всероссийского союза землевладельцев в ноябре 1905 г.).
«Преступление старого режима, – писал в 1921 г. В. А. Маклаков, – было то, что он запер крестьян в рамки замкнутого и обособленного юридически сословия. …Земельная собственность крестьян, которая при других условиях сделала бы его буржуем, благодаря специальным крестьянским законам дала ему пролетарскую психологию, обособила его в особый социальный класс, который был противопоставлен всем остальным, и прежде всего тем, кто объективно имел с ним интерес, то есть частному землевладельцу. …Отсюда экономически нелепое требование крестьян, чтобы все помещичьи земли перешли к ним…» «Если бы последние четыре императора, особенно последние два, не попытались укрепить – вопреки ходу истории – остатки крепостничества (…) в быту… Россия была бы либеральной, демократической державой-империей», – отметил в дневнике 1939 г. В. И. Вернадский.
В результате правительственных мер 1880—1890-х гг. община была наглухо законсервирована, а крестьяне – как бывшие крепостные, так и казенные – продолжали оставаться какой-то неполноправной кастой «лиц, прикрепленных к земле и другим людям, не имеющих личной собственности» (А. А. Бобринский) и опекавшейся местным дворянством в лице «земских начальников». Сельские обыватели продолжали подвергаться телесным наказаниям до 1904 г. Выйти из своего общества крестьянин имел право только при выполнении множества условий: отказа от своего надела, выплаты по нему всех недоимок, согласии родителей, согласии мирского схода и т. д. Самовольная отлучка из дома по-прежнему рассматривалась как побег и влекла за собой административную кару. Передвигаться по стране крестьяне, как и городские низы, могли лишь при наличии временных паспортных документов (на разные сроки – от трех месяцев до пяти лет), выдаваемых волостными старшинами по согласию схода, притом что другие сословия не были ограничены в выборе постоянного места жительства и имели бессрочные паспортные книжки. Удостоверения эти могли быть отобраны по требованию полиции или главы семейства, к которому принадлежал отлучившийся. Раскладка налогового бремени продолжала производиться уравнительно, а его выплата – по принципу круговой поруки. Отчуждение общинной земли в какой-либо форме стало практически не возможно. Выдел участка отдельному домохозяину мог произойти только по согласию схода. В 1905 г. в частной собственности крестьян находилось менее 13 % земли, которой они владели.
В Европейской России сельские обыватели существовали в условиях страшного малоземелья и людской скученности: средняя величина надела там уменьшилась с 4,8 десятины на ревизскую душу в 1860 г. до 2,6 десятины на наличную душу в 1900 г., а в некоторых губерниях (Тульской, Орловской, Рязанской, Курской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Волынской, Подольской) был и меньше двух («нищенский, кошачий надел», говоря словами Энгельгардта), и это притом, что, по данным официальной статистики, один работник мог обработать 14,5 десятины, а у прибалтийских крестьян средний надел составлял почти 37 десятин, у башкирских – 28 десятин! Отсюда – удручающая бедность. В начале XX в. в половине губерний Европейской России доходы крестьянских хозяйств не покрывали текущих расходов или в лучшем случае не превышали их: например, в Новгородской губернии средний доход – 255 руб., средний расход – 271 руб., во Владимирской соответственно – 217 и 230, в Ярославской – 395 и 400, в Калужской – 398 и 416, во всех малороссийских губерниях – 432 и 435. На прокорм семьи и домашней скотины ежегодно требовалось не менее 25,5 пуда зерна на человека, а средние душевые сборы продовольственного и кормового зерна колебались от 16,7 до 18 пудов. О каком товарном хозяйстве здесь могла быть речь! Градация крестьянских хозяйств весьма показательна: более 80 % – беднейшие, 13 % – «середняки» и только 5 % – зажиточные и богатые.
Понятно, что крестьяне с завистью смотрели на обширные угодья бывших господ. Они, правда, не догадывались, что чаемый ими «черный передел» не может решить их проблем, ибо пригодной для пашни земли в России при ее бескрайних просторах было не так уж много (250 млн десятин) и если бы ее «разделить на 100 миллионов нашего сельского населения, то на душу пришлось бы всего 21/2 десятин» (Н. Г. Гарин-Михайловский). В начале XX в. специальная правительственная комиссия пришла к выводу, что в центральных губерниях только 21 % из числа всех работников нужны в сельском хозяйстве, а остальные 79 % (примерно 23 млн человек!) – «лишние» рабочие руки. Проблему могло бы смягчить массовое переселенческое движение на окраины, но для этого требовалось кардинально изменить юридический статус земледельческого сословия.
О дискриминации русской деревни хорошо написал в 1901 г. консервативный публицист С. Н. Сыромятников, сравнивая ее быт и быт образованного общества: «Мы считаем необходимым условием своего быта свободу передвижения, но не разрешаем ее мужикам. Мы считаем, что каждый человек может экономически развиваться только на праве личной собственности, а для мужиков мы признаем необходимой собственность общинную. Мы находим для себя невозможным отвечать за действия третьих лиц, нам не подчиненных, а для мужиков устраиваем круговую поруку. Мы требуем, чтобы нас судили образованные судьи, а мужиков поручаем суду безграмотного старшины, полупьяного писаря и находящихся под их давлением выборных судей. Мы считаем, что телесное наказание позорит человека, и запрещаем применять его даже к детям; мы избавляем от него инородцев, но разрешаем крестьянским судам сечь взрослых и свободных граждан. В нашей армии, когда мы хотим пристыдить новобранца, мы браним его „мужиком“, и считаем звание крестьянина позорным, при наличности 85 процентов земледельческого населения в России… Мы тратим деньги, добываемые земледельцами, на воспособление промышленности и почти ничего не тратим на улучшение земледелия. И мы сетуем, что мужики, приобретя какой-нибудь достаток, бегут из деревень в города, из крестьян в мещане и купцы».
«Государство, по преимуществу, крестьянское, Россия эту-то крестьянскую силу… низводила на степень вьючного животного», – отмечал в 1895 г. историк Е. Ф. Шмурло. А ведь, «кажется, так логична… свобода и равноправие труда, в силу которых следует признать за крестьянами такое же право выбирать себе любой вид труда, каким пользуется и пишущий эти строки… В этом только залог успеха, залог прогресса. Все остальное – застой, где нет места живой душе, где тина и горькое непросыпное пьянство все того же раба, с той только разницей, что цепь прикована уже не к барину, а к земле» (Гарин-Михайловский).
При таком уровне правоспособности, да еще с учетом плачевно низкого уровня грамотности, русское крестьянство не могло быть хоть сколько-нибудь эффективным агентом русификации. Неудивительно, что порой происходило нечто противоположное – «обынародчивание», в том числе даже «объякучивание» русских (крестьяне, жившие по соседству с якутами, перенимали их обычаи, начинали практиковать сыроедение и даже переходили в шаманизм). По этому поводу русская публицистика второй половины XIX в. била настоящую тревогу. Например, историк литературы и этнограф А. Н. Пыпин полагал, что главной причиной «обынародчивания» «являются сами русские, чье низкое культурное развитие не позволило передать крепкие задатки культуры так же, как это делали немецкие, французские и английские переселенцы». Между прочим, наиболее стойкими в своей русскости оказались старообрядцы, что отмечали исследователи Дальнего Востока конца XIX – начала XX в. По словам В. К. Арсеньева, они и там сохранили «облик чистых великороссов». «Эта часть русского населения выделяется тем, что вышла совершенно чисто из горнила монголо-бурятского влияния, сохранив в полной неприкосновенности и чистоте все свои этнические особенности, религиозные верования, древнерусский патриархальный образ жизни и любовь исключительно к земледельческому труду», – писал М. В. Грулев.
Русское крестьянство не являлось реальной общественной силой, несмотря на свою многомиллионность. Поэтому, как ни парадоксально, русские – количественно самый большой народ империи – на уровне социально-политической субъектности были народом маленьким и слабым. В подготовительных материалах Ф. М. Достоевского к «Дневнику писателя» (1881) находим такую запись: «Над Россией корпорации. Немцы, поляки, жиды – корпорация, и себе помогают. В одной Руси нет корпорации, она одна разделена. Да сверх этих корпораций еще и важнейшая: прежняя административная рутина… Все права русского человека – отрицательные». В XVIII в. «один администратор… принявши в расчет неравенство между свободными и несвободными людьми, рассчитал, что… Русское государство… почти в 45 раз меньше Франции» (В. О. Ключевский). Увы, к началу XX столетия положение дел не слишком изменилось.
Интеллигенция
В 1874 г. вышла в свет книга «Русское общество в настоящем и будущем (Чем нам быть?)» замечательного русского военного и политического писателя, родного дяди С. Ю. Витте и Е. П. Блаватской генерала Ростислава Андреевича Фадеева, в которой он остро поставил вопрос об отсутствии в России политической русской нации. Сам термин автором не употреблялся, но речь шла именно об этом. Нормальное, эволюционное развитие империи, писал Фадеев, возможно, только если его двигателем является само общество: «Связное и сознательное общество составляет… жизненную потребность наступившей эпохи [Великих реформ]… Без общества мы можем прозябать, но жить не можем». Но «мы покуда, – с грустью констатирует генерал, – только государство, а не общество». Более того, в русском социуме практически отсутствуют «дрожжи» для формирования общества – самостоятельные и влиятельные «средние» социальные группы: «Русская жизнь сложила лишь два пласта людей – привилегированный и непривилегированный… В каждом из этих пластов… есть свои верхи и свои низы, своя аристократия и демократия; но в середине между ними нет ничего и не мелькает даже зародыша чего-нибудь для будущего…»
В связи с отсутствием социальных «дрожжей» («самодействующих общественных сил») общественная жизнь неизбежно парализуется: «Недостаток гражданской доблести, вялость в исполнении своих обязанностей и равнодушие к общему делу, в которых мы постоянно себя упрекаем, происходят, в сущности, от бессвязности между людьми. Немудрено быть гражданином там, где человек видит перед собою возможность осуществить всякое хорошее намерение; но нужна непомерная, чрезвычайно редкая энергия, чтобы тратить силы при малой надежде на успех. Это чувство одиночества, действующее очень долго, повлияло, конечно, и на склад русского человека, сделало его относительно равнодушным к общественному делу, лишило веры в себя… Государство, населенное восьмьюдесятью миллионами бессвязных единиц, представляет для общественной деятельности не более силы, чем сколько ее заключается в каждой отдельной единице… В таком состоянии, при отсутствии общественной организации, ни умственная, ни деятельная жизнь России не сложится не только в пятнадцать, но и в полтораста лет; сухой песок никогда не срастется сам собой в камень». В результате, иронизирует Ростислав Андреевич, «нам приходится… возложить упование только на сокровенную внутреннюю мощь русского народа, то есть на общее место, лишенное всякого значения в действительной жизни».
«Россия представляет единственный в истории пример государства», в котором существует только одна реальная общественная сила – «верховная власть». Но если это положение дел не менять, то русские останутся «навеки народом, способным жить только под строгим полицейским управлением», а «наша будущность ограничится одной постоянной перекройкой административных учреждений». Далее Фадеев делает поразительно точное предсказание: «Наш упадок совершится постепенно, не вдруг, но совершится непременно. Кто тогда будет прав? Решаемся выговорить вслух: одна из двух сил – или русская полиция, или наши цюрихские беглые с их будущими последователями (то есть революционеры, одним из прибежищ которых был Цюрих. – С. С.). Судьба России, лишенной связного общества, будет со временем поставлена на карту между этими двумя партнерами». Видимо, этот кошмар часто и всерьез преследовал генерала, ибо немногим ранее написания цитированной книги он подал в высшие инстанции докладную записку, в которой утверждал, что в случае серьезного военного поражения самодержавие обречено на гибель, ибо «в России существуют сословия по закону, но не существует никакого разряда людей… достаточно связного и единомысленного, чтобы сказать мы; стало быть, и русское правительство, в противоположность с европейскими, не имеет за собой никаких внутренних союзников».
«Цюрихские беглые» были количественно ничтожны, но у них была тоже не слишком изрядная, но важная в качественном отношении опора – социальная группа, не учтенная в законодательстве Российской империи, однако вполне реальная – интеллигенция. Она оформилась в начале 1860-х гг. из деклассированных элементов различных сословий (тон задавали секуляризированные поповичи – все помнят таких интеллигентских лидеров, как Н. Г. Чернышевский или Н. А. Добролюбов), профессионально занятых производством и распространением общественно-политических идей и гуманитарных знаний. Интеллигенция стала незапланированным и нежеланным последствием правительственной образовательной политики, зародившись из-за некоторого перепроизводства образованных людей, случайный излишек которых не смогли поглотить духовенство, офицерство и чиновничество. Возникшая в период Великих реформ относительная свобода издательской деятельности создала для новорожденного слоя материальную базу, ведь «журнализм стал выгодным коммерческим предприятием» (А. А. Фет), – литературные гонорары. В пореформенной России «свободная пресса», несмотря на все усилия властей, стремительно преумножалась. В 1859 г. на русском языке выходило 55 литературно-политических периодических изданий, в 1882-м – 154, в 1900-м – 212, в 1915-м – 697 (128 журналов и 569 газет). Петербургская перепись 1869 г. учла 302 писателя, журналиста, переводчика и издателя. В Московской переписи 1882 г. литераторов, корреспондентов, редакторов, переводчиков и прочих было зарегистрировано 220. По переписи 1897 г. ученых и литераторов насчитано 3296. За десять лет (1896–1905) общее число авторов только изданий либерально-демократического толка составило 2500 человек. К 1917 г. количество литераторов видимо превышало 10 000.
Именно автономные, как от государства, так и от старых сословий, литераторы и стали интеллектуальным ядром интеллигенции, именно в этой среде рождались и конкретизировались все новые идеологические конструкции, именно оттуда исходили идейные импульсы, охватывающие затем все образованное общество. Вокруг этого ядра группировались другие категории людей умственного труда – университетские преподаватели и работники земских учреждений (к 1912 г. там трудилось около 150 тысяч учителей, врачей, инженеров, агрономов и статистиков). Русские литераторы во второй половине XIX – начале XX в. при отсутствии легальной политической жизни являли собой нечто вроде аналога французских просветителей накануне Великой революции, во всяком случае в изображении А. де Токвиля: «Каждая общественная страсть обращалась… в философию; политическая жизнь была насильственно вытеснена в литературу, и писатели, взяв на себя руководство общественным мнением, в какой-то момент оказались на том месте, которое в свободных странах обычно занимают партийные вожди». Не стала интеллигенция и «буржуазной», ибо буржуазия в пореформенной России, как уже говорилось выше, только формировалась. Социальное «свободное парение» русской интеллигенции добавляло ее идейным поискам еще больше радикализма – большинство «мыслящего пролетариата» (Д. И. Писарев) тяготело даже не к классическому либерализму, а к разным вариантам социализма.
Кричащий разрыв между высоким уровнем образования и низким социальным статусом вызывал негатив по отношению к наличному обществу и государству. Неудивительно, что определяющим идеологическим и нравственно-психологическим интеллигентским трендом стало – в разных вариациях – резкое и практически тотальное неприятие правящего режима и всех его действий, по сути, холодная (а иногда и «горячая») война против него. «…История нашей интеллигенции есть история „отщепенства“ – история борьбы и раздора. В этой борьбе, идущей из поколения в поколение, тянущейся через целые века, интеллигенция занимала постоянно ненормальное положение, ибо она принципиально устранена была от участия и от ответственности в ходе общественных дел в родной стране. При этом условии ненормальность превратилась в обычай и сама создала известные навыки, известную традицию интеллигентской коллективной мысли. У интеллигенции появились… черты… ненормальные и отрицательные: излишняя отвлеченность доктрины, непримиримый радикализм тактики, сектантская нетерпимость к противникам и аскетическая цензура собственных нравов. Можно сказать, что у интеллигенции сложился свой собственный патриотизм – государства в государстве, особого лагеря, окруженного врагами», – самокритично признавался в 1910 г. один из интеллигентских лидеров П. Н. Милюков. З. Н. Гиппиус в дневнике 1914 г. замечательно сформулировала типичное интеллигентское отношение к патриотизму: «Любить Россию, если действительно, – то нельзя, как Англию любит англичанин… Что такое отечество? Народ или государство? Все вме сте. Но, если я ненавижу государство российское? Если оно – против моего народа на моей земле?»
Проблемы хозяйственного и культурного развития страны также интересовали интеллигенцию лишь сквозь оппозиционную призму: «Политическая борьба все поглотила, все оценивалось с этой точки зрения», – вспоминал уже в эмиграции В. А. Маклаков.
Этой «военной» психологией объясняется тот зашкаливающий уровень нетерпимости к инакомыслящим, который отмечали многие современники в интеллигентской среде. Там подвергались остракизму не только интеллектуалы, недвусмысленно поставившие свои знания и способности на службу самодержавию, но и всякий, кто в указанном тренде хотя бы усомнился или попытался критически отнестись к тем или иным догматам освободительного движения. «Если ты не с нами, так ты подлец!» – такую довольно точную формулу «либерального деспотизма» вывели его оппоненты. Поскольку интеллигенция в то время концентрировалась прежде всего в «литераторской» среде, то в качестве главного средства наказания еретиков применялся литературный бойкот. Большинство периодики находилось в частных руках, идеологически она была в подавляющем большинстве либо либеральной, либо социалистической. (Например, Главное управление по делам печати в 1907 г. из примерно 220 петербургских периодических изданий, имеющих политическую окраску, только 41 определило как «консервативно-патриотические и монархические, то есть менее чем пятую часть.) Поэтому проштрафившийся интеллигент, говоря языком той эпохи, «исключался из литературы», становился «литературным изгнанником» (В. В. Розанов). Единственным прибежищем для таких аутсайдеров оставались консервативные издания – немногочисленные, непрестижные, платившие мизерные гонорары, а то и вовсе не платившие (за редким исключением, вроде катковских «Московских ведомостей» и «Русского вестника», а позднее еще суворинского «Нового времени»). То есть отступники были обречены не только на общественное порицание, но и на крайне скудное существование.
Среди пострадавших от «литературного террора» мы видим множество известных литераторов, в том числе и таких ныне признанных классиков, как А. Ф. Писемский и Н. С. Лесков. Последний рассказывал в частном письме: «В одном знакомом доме [Н.А.] Некрасов сказал: „Да разве мы не ценим Л[еско]ва? Мы ему только ходу не даем“…» Пожалуй, только Ф. М. Достоевскому, благодаря огромной читательской популярности, славе певца «униженных и оскорбленных», антибуржуазному пафосу и каторжному прошлому, простили «измену убеждениям юности», сотрудничество в «Русском вестнике» и дружбу с К. П. Победоносцевым. Но и автор «Преступления и наказания» побаивался «либеральной жандармерии». А. С. Суворин в своем дневнике приводит такой характерный разговор с писателем, незадолго до его смерти:
«– Представьте себе, – говорил он, – что мы с вами стоим у окон магазина Дациаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждет и все оглядывается. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: „Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину“… Как бы мы с вами поступили? Пошли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились ли к полиции, к городовому, чтоб он арестовал этих людей? Вы пошли бы?
– Нет, не пошел бы.
– И я бы не пошел. Почему? Ведь это ужас. Это преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить… Я перебрал все причины, которые заставляли бы меня это сделать. Причины основательные, солидные, и затем обдумывал причины, которые мне не позволили бы это сделать. Эти причины прямо ничтожные. Просто боязнь прослыть доносчиком… Напечатают: Достоевский указал на преступников… Мне бы либералы не простили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаяния. Разве это нормально?.. Я бы написал об этом. Я бы мог сказать много хорошего и полезного и для общества, и для правительства, а этого нельзя».
Кстати, и сам Суворин, материально совершенно независимый человек, один из самых успешных русских издателей, явно занервничал, когда в 1899 г. Суд чести при Союзе взаимопомощи русских писателей (где первую скрипку играли литераторы-прогрессисты), рассматривавший случаи нарушения некой неписаной писательской этики, вынес осуждение его «литературным приемам», в связи с суворинскими статьями, направленными против организаторов студенческих волнений. Естественно, никаких юридических последствий такое осуждение не имело, но репутационные издержки от него были весьма неприятны. В определенном смысле неофициальная интеллигентская «цензура» была не менее свирепой, чем правительственная, являясь, по сути, зеркальным отражением последней, так же как вообще интеллигентская нетерпимость «зеркалит» самодержавный произвол. Более того, это касается самой культуры интеллигентского мышления, пронизанного безответственным утопизмом, о чем остроумно написал в дневнике В. О. Ключевский: «Русский мыслящий человек мыслит, как русский царь правит; последний при каждом столкновении с неприятным законом говорит: „Я выше закона“, и отвергает старый закон, не улаживая столкновения. Русский мыслящий человек при встрече с вопросом, не поддающимся его привычным воззрениям, но возбуждаемый логикой, здравым смыслом, говорит: „Я выше логики“ и отвергает самый вопрос, не разрешая его. Произволу власти соответствует произвол мысли». М. О. Гершензон в сборнике «Вехи» (1909) отмечал в качестве типической интеллигентской черты «необузданную склонность к деспотизму и совершенное отсутствие уважения к чужой личности».
С. М. Соловьев охарактеризовал «шумливых и невежественных либералов» как «язву нашего зеленого общества, убивающую в нем всякое правильное движение к свободе». В. И. Вернадский в 1924 г., исходя из исторического опыта России начала XX в., дал такую оценку социалистическому мейнстриму русской интеллигентской традиции: «Для меня ясным стал глубоко враждебный свободе и морали характер социалистических устремлений русского общества. В этом отношении русские социалисты – ответвление тех же полицейских – по существу глубоко реакционных и аморальных идеалов, какие, например, выражаются в формуле Уварова. Жандармский и насильственный дух – неуважение к человеческой личности – царит и там и здесь…»
Указанной «военной» психологией объясняется и то, что интеллигенция в подавляющем большинстве стала видеть естественных союзников в своем противостоянии самодержавию в нерусских народах империи, борющихся за свои права, и потому отрицательно относилась к теории и практике русификации империи, к идее русского доминирования как таковой, проповедуя и практикуя последовательный интернационализм. Причем это касалось не только политических агитаторов, но и солидных ученых, инфицированных интеллигентскими ходячими идеями. Скажем, известный филолог (польского происхождения) И. А. Бодуэн де Куртенэ считал, что «государство должно финансировать возможность (трактуемую как право) для любой группы людей или даже для одного человека создать школу, в которой обучение будет вестись на выбранном ими/им языке». Естественно, Бодуэн был страстным борцом против национализма (надо отдать должное его принципиальности, и против польского тоже). Видимо, именно он добавил в так называемое «третье», «исправленное и значительно дополненное» издание Словаря В. И. Даля под его редакцией (1903) такое определение национализма: «Шовинизм, узкий патриотизм, основанный на стремлении к исключительному господству собственного народа с унижением и даже истреблением всех остальных». До сих пор многие злонамеренные или необразованные люди радостно размахивают этой цитатой, приписывая ее самом Далю (на самом деле, несмотря на свое датское происхождение, истинно русскому националисту).
Французская исследовательница Жюльет Кадио недавно интересно проанализировала интернационалистскую тенденцию в русской этнографии начала прошлого столетия. Если раньше, «в этнографической традиции, восходившей к дебатам 1850-х годов, преобладало течение, призывавшее изучать прежде всего русское население центральных губерний», то теперь «внимание молодого поколения этнографов обратилось к другим регионам и более „экзотическим“ народностям, часть из которых в момент революции 1905 года недвусмысленно заявила о своем желании участвовать в политической жизни страны». Тенденция эта связана с именами Л. Я. Штернберга, В. Г. Тана-Богораза, В. И. Иохельсона, придерживавшихся народнических взглядов. Этнографы эти не только изучали «экзотические» народности, но и всячески поощряли их «пробуждение». Так, Штернберг в своих работах «защищал национальные движения, понимаемые им не только как реакция на притеснения со стороны царского режима, но и как проявление пробуждающегося политического сознания инородцев… он оправдывал национальные волнения и выступления за политическое объединение восточных окраин империи». Лев Яковлевич утверждал, что многие нацменьшинства превосходят простых русских в нравственном, духовном и интеллектуальном отношении, более того, обнаружил элементы коммунистических отношений в жизни малых народов Севера России, что, естественно, в его собственных глазах и в глазах просоциалистического большинства русской интеллигенции очень высоко поднимало их статус (напомню, что до этого первоячейку социализма народники видели только в русской крестьянской общине). В дальнейшем при советской власти это открытие много дало указанным народам как в статусном, так и материальном отношении.
Еще больше материла в этом смысле дает работа Веры Тольц, посвященная «новой школе востоковедения», основанной В. Р. Розеном, в которую автор включает таких известных ученых, как В. В. Бартольд, Н. Я. Марр, С. Ф. Ольденбург и Ф. Ф. Щербатской. Эти ученые не на шутку увлеклись объектами своих исследований и приняли самое непосредственное участие в конструировании национальных идентичностей нерусских народов империи. При этом они были убежденными сторонниками сохранения последней, но почему-то думали, что «прочная идентификация со своей этнической группой и культурой… укрепит, а не ослабит связь национальных меньшинств с имперским государством». Востоковеды школы Розена всячески пытались «поднять» объекты своих исследований, приписывая их культурам невероятные достоинства. Из всего этого логически вытекал простой вывод – таким развитым народам никакая русификация не нужна, они и сами, на основе своих традиций, могут достичь высот европейской цивилизации. Естественно, эта идея очень порадовала начавшую формироваться тогда инородческую интеллигенцию, которая находилась в тесном контакте с либеральными востоковедами, участвуя в их полевых исследованиях. Более того, «переписка между представителями нацменьшинств и имперскими учеными свидетельствует о том, что аргументы и доказательства в пользу нравственного и духовного превосходства этнических меньшинств над русскими переселенцами и о вредном влиянии поселенцев на „инородцев“ были позаимствованы имперскими учеными у своих коллег-„инородцев“. Последние стали развивать эту идею уже в первых своих отчетах о полевых работах, посылаемых их покровителям в Санкт-Петербург… Они настаивали на том, что рост преступности и пьянства был результатом воздействия на бурят „испорченного“ „русского элемента“, а также правительственной реформы родового строя бурят». То есть де-факто петербургские интеллектуалы сделались проводниками интересов своих бурятских подопечных.
Идеологическая денационализированность русской интеллигенции открывала дорогу сильному влиянию в ней «инородческих» групп, прежде всего еврейства, которое в конце XIX – начале XX в. активно вливалось «в русскую интеллигенцию, усиливая ее денационализированную природу и энергию революционного напора… Освобожденное духовно с 80-х годов из черты осед лости силой европейского „просвещения“, оказав шись на грани иудаистической и христианской куль туры, еврейство… максимально беспочвенно, интерна ционально по сознанию и необычайно активно, под давлением тысячелетнего пресса. Для него русская революция есть дело всеобщего освобождения. Его ненависть к царской и православной России не смяг чается никакими бытовыми традициями. Еврейство сразу же занимает в русской революции руководя щее место. Идейно оно не вносит в нее ничего, хотя естественно тяготеет к интернационально-еврейскому марксизму. При оценке русской революции его можно было бы сбросить со счетов, но на моральный облик русского революционера оно наложило резкий и тем ный отпечаток» (Г. П. Федотов).
Интеллигентская идеология стала политическим фактором уже с 1760-х гг., когда начали возникать нелегальные антиправительственные организации, самая значительная из которых «Народная воля» в конце 1770-х устроила настоящую охоту на Александра II, в конце концов окончившуюся трагической гибелью императора. Тот слой, который в большинстве европейских стран вырабатывал националистический дискурс и нес его «в народ», в случае России сосредоточился почти исключительно на требованиях социальной справедливости, надеясь найти отклик своим радикально эгалитаристским лозунгам в крестьянской общинной архаике, воспринимаемой интеллигентами как зародыш русского социализма. Первая попытка оказалась провальной – крестьяне вязали агитаторов и сдавали их полиции, но пройдет немногим более двух десятилетий, и вроде бы абсолютно беспочвенные «цюрихские беглые» обретут под ногами твердую почву.
Глава 5. Русский национализм и его враги
Рождение русского национализма
Итак, как явствует из предыдущей главы, русская нация в Российской империи до начала XX столетия не сформировалась. Но русский национализм там несомненно существовал. Правда, по преимуществу не в качестве социально-политической практики, а в качестве соответствующего дискурса. Общественным слоем, этот дискурс порождавшим и аккумулирующим, было, разумеется, дворянство – самое правоспособное и образованное сословие империи (во второй половине XVIII – первой половине XIX в. доля потомственных дворян среди литераторов составляла приблизительно 70 %, что почти равно их же доле в офицерском корпусе). «Дворянство… единственное сословие в России, которое имеет какое-нибудь сознание своих прав… А это, в соединении с образованием, делает дворянство единственным возможным политическим деятелем в России» (Б. Н. Чичерин). Однако при этом дворянство не имело политических прав. Собственно перипетии борьбы русского дворянства за последние и породили русский национализм.
Уже в конституционных проектах Паниных – Фонвизина дворянство наделяется статусом «нации», именно оно и его политические права имеются в виду в следующем пассаже: «…всякая власть, не ознаменованная божественными качествами правоты и кротости, но производящая обиды, насильства, тиранства, есть власть не от Бога, но от людей, коих несчастия времян попустили, уступая силе, унизить человеческое свое достоинство. В таком гибельном положении нация (здесь и далее в этой цитате курсив мой. – С. С.) будет находить средства разорвать свои оковы тем же правом, каким на нее наложены, весьма умно делает, если разрывает… не было еще в свете нации, которая насильно принудила бы кого стать ее государем; и если она без государя существовать может, а без нее государь не может, то очевидно, что первобытная власть была в ее руках и что при установлении государя не о том дело было, чем он нацию пожалует, а какою властию она его облекает». Чуть ниже дворянство недвусмысленно трактуется как «состояние», «долженствующее оборонять Отечество купно с государем и корпусом своим представлять нацию». То есть нация понимается здесь еще в сословно-средневековом смысле слова как «малая нация» господ, не включающая в себя другие сословия, в особенности крестьянство.
Но время шло, интеллектуальный климат в Европе стремительно менялся. Той части русского дворянства, которая хотела «властно влиять на судьбы русского народа и Русского государства» (А. А. Корнилов) не в пределах, указанных самодержавием, а по своему собственному усмотрению, была необходима новая формула своей политической легитимности. Идея нации как демократически организованного суверенного народа, основополагающая для французской просветительской культуры, которой духовно питалось русское дворянство, пришлась как нельзя кстати. Первостепенным было влияние Руссо, причем не только на либералов, но и на консерваторов. Впрочем, французский контекст имел и политическое измерение: революция, провозгласившая «третье сословие» единственной подлинной нацией, а аристократию – чужеродным наростом на ее теле, заслуживающим хирургического удаления, явилась грозным аргументом против высокомерия «благородных» по отношению к «подлым», да и память о «маркизе Пугачеве» была еще свежа. Наконец, важнейшим катализатором, так сказать, повивальной бабкой русского национализма явились войны с наполеоновской Францией, в первую очередь, конечно, «гроза двенадцатого года».
«Нашествие двунадесять языков» породило русский национализм как полноценную политическую идеологию не только (и не столько) потому, что русские покрыли себя тогда неувядаемой воинской славой, что Россия одержала победу над несокрушимой доселе «великой армией», что после этой победы она стала одним из бесспорных лидеров концерта европейских держав… Все это так, однако куда важнее другое: в 1812 г. произошло не только теоретическое, но и практическое открытие русской дворянской элитой категории нации как сообщества всех русских людей вне зависимости от сословной принадлежности. Разумеется, формально никто не отрицал, что крестьяне – тоже русские люди, но социокультурная пропасть между «благородными» и «подлыми» была столь глубокой, что первые видеть в последних сограждан, а не объект эксплуатации (или, напротив, жалости) органически не могли.
И до 1812 года императорская Россия вела немало славных и даже блистательных войн, но не одна из них не была национальной в точном смысле слова, то есть общенародной. Ни разу неприятель не вторгался в само сердце империи, ни разу не топтал собственно великорусскую землю и уж тем более не овладевал ее древней столицей, с которой были связаны не только исторические традиции и предания, но и практические интересы влиятельнейших дворянских семейств. 1812 год стал подлинным катарсическим переживанием для русских дворян, которые впервые ощутили своих противников на войне как экзистенциальных врагов, причем это были французы – прежние кумиры, теперь покушавшиеся на самое важное в жизни каждого русского дворянина. Это прекрасно схвачено у Толстого в известных словах Андрея Болконского в разговоре с Пьером перед Бородинской битвой: «Французы разорили мой дом и идут разорить Москву, и оскорбили и оскорбляют меня всякую секунду. Они враги мои, они преступники все по моим понятиям». А вот фрагменты из подлинных писем поэта К. Н. Батюшкова, бывшего до той поры восторженным «галломаном»: «Москвы нет! Потери невозвратные! Гибель друзей, святыня, мирное убежище наук, все осквернено шайкою варваров!.. Мщения, мщения! Варвары, Вандалы! И этот народ извергов осмелился говорить о свободе, о философии, о человеколюбии! И мы до того были ослеплены, что подражали им как обезьяны!.. Зла много, потеря частных людей несчетна, целые семейства разорены, но все еще не потеряно: у нас есть миллионы людей и железо. Никто не желает мира. Все желают войны, истребления врагов».
Кроме того, ранее единственным военным актором были одни «благородные», «подлый народ» выступал лишь как безгласный поставщик пушечного мяса, теперь же у него появился шанс выступить в качестве самостоятельного исторического субъекта, – от его позиции, по сути, зависело все. С этим связана другая гамма дворянских эмоций: изначальный страх перед возможной «пугачевской» реакцией крепостных на гипотетическую отмену Наполеоном крепостного права, сменившийся затем восхищением «дубиной народной войны». Это переживание приводило к вполне практическим выводам: нация – это не только «благородные», это прежде всего «подлые», с которыми надо искать взаимопонимание, как в социальной, так и в культурной сферах. Знаменитый партизан Денис Давыдов, озадаченный тем, что крестьяне нападают на бойцов его отряда, стал разбираться в этой ситуации и выяснил, что первые принимают вторых за французов – форма-то почти одинаковая, да и говорят не по-«нашенски». Тогда он принял такое воистину культурно-политическое решение: «…я на опыте узнал, что в Народной войне должно не только говорить языком черни, но приноравливаться к ней и в обычаях и в одежде. Я надел мужичий кафтан, стал отпускать бороду, вместо ордена св. Анны повесил образ св. Николая и заговорил с ними языком народным».
Именно в период Наполеоновских войн сформировались обе версии дворянского национализма – консервативная и либеральная.
Строго говоря, программа консерваторов была намечена Н. М. Карамзиным еще в публицистике «Вестника Европы» 1802–1803 гг. Автор «Бедной Лизы», бывший в молодости дворянским конституционалистом и участником аристократической оппозиции политике Екатерины II, под влиянием ужасов Французской революции перешел на позиции осторожного и трезвого реализма, полагающего, что без самодержавия дворянству грозят страшные потрясения. Но, с другой стороны, и монархия должна уважать неотъемлемые права «благородного сословия». Первые консервативные декларации будущего историографа явились непосредственной реакцией на реформаторские планы Александра I, предполагавшие в том числе и «уничтожение рабства». Подчеркивая, что «дворянство есть душа и образ всего народа», Николай Михайлович тем не менее включает в нацию и другие сословия, рисуя идиллию полного общественного согласия: и дворяне, и крестьяне – члены единого национального организма, выполняющие разные функции, причем одна из важнейших функций дворянства – быть опекуном и покровителем крестьянства. Но с 1803 г. Карамзин «постригается в историки», и его публицистическая деятельность приостанавливается, важнейший манифест русского консерватизма – «Записка о древней и новой России» (1811) создавалась для личного предоставления ее императору и была известна крайне ограниченному кругу лиц, а потому, по сути, не участвовала в генезисе консервативного национализма. Решающую роль в этом генезисе сыграла гораздо менее интеллектуально изощренная публицистика А. С. Шишкова, С. Н. Глинки и Ф. В. Ростопчина.
Несмотря на весь свой социальный консерватизм, Шишков и Ростопчин парадоксальным образом оказались своеобразными «народниками», пытаясь в своих текстах, предназначенных для агитационных целей, воспроизвести стихию простонародной речи. Литературный противник архаиста Шишкова «карамзинист» П. А. Вяземский позднее был вынужден признать: «Я помню, что во время оно мы смеялись над нелепостями его манифестов (написанными Александром Семеновичем в 1812 г. от имени императора в качестве государственного секретаря. – С. С.) и ужасались их государственной неблагопристойности, но между тем большинство, народ, Россия, читали их с восторгом и умилением…» Пресловутые ростопчинские «афишки» и вовсе стали, вероятно, первым опытом политического диалога «благородных» с «подлыми». Герой одной из них, «московский мещанин, бывший в ратниках, Карнишка Чихирин, выпив лишний крючок на тычке», дает такую формулу единой нации: «все молодцы: одному Богу веруют, одному царю служат, одним крестом молятся, все братья родные (здесь и в последующих цитатах из Ростопчина курсив мой. – С. С.)». Некоторые афишки напрямую обращены к «крестьянам Московской губернии» и призывают их к вооруженной борьбе с оккупантами в типичном для консервативного национализма духе: «Почитайте начальников и помещиков; они ваши защитники, помощники, готовы вас одеть, обуть, кормить и поить. Истребим достальную силу неприятельскую, погребем их на Святой Руси, станем бить, где ни встренутся. Уж мало их и осталось, а нас сорок миллионов людей, слетаются со всех сторон, как стада орлиные»; царь – «отец, мы дети его, а злодей француз – некрещеный враг».
Но, пожалуй, радикальнее всего дворянский взгляд на нацию пересмотрел Глинка, по мнению которого, «большая часть помещиков и богатых людей» из-за оторванности от русских традиций и пристрастия ко всему иностранному образовала в России «область иноплеменную». Хранителями же народных устоев у него выступают социальные низы, в первую очередь добродетельные «поселяне». В своих «Записках» Глинка рассказывает, что решительный перелом в его мировоззрении, под влиянием которого он затем стал издавать патриотический журнал «Русский вестник», произошел под влиянием общения с простыми русскими солдатами в 1807 г.: «Что же почувствовал я, видя порыв души богатырей русских? Они подарили меня сокровищем обновления мысли. Мне стыдно стало, что доселе, кружась в каком-то неведомом мире, не знал я ни духа, ни коренного образа мыслей русского народа». Все эти рассуждения явно предвосхищают славянофильство.
Не столь заметным в начале XIX в. было либеральное направление дворянского национализма. В отличие от консерваторов – попечителей народа, либералы позиционировали себя как его освободители. Вероятно, самый видный идеолог этого направления А. С. Кайсаров в 1806 г. защитил и опубликовал на немецком языке в Геттингене докторскую диссертацию «Об освобождении крепостных в России», в которой понимание того, что такое нация, пересматривалось еще кардинальней, чем у Глинки: «Уже давно дворяне считают, что в них заключается высшая сила и крепость нации, но последние 20 лет приносят обильные доказательства, что она заключена во всем народе в целом (курсив мой. – С. С.), что им [дворянам] не следует приписывать почти никакого значения и что они зависят от простого народа. В составе нации гораздо больше следует ценить того, кто приносит какую-либо пользу государству, чем того, кто как трутень занят тем, что растрачивает плоды чужого труда. Кто же не понимает, что первое место в народе стоит отвести крестьянину? Ибо он, сам ни в ком не нуждаясь, снабжает всех средствами к жизни». Русские дворяне, по Кайсарову, ущербны и этнически (они потомки «татар, немцев и поляков»), и морально, и физически (их здоровье подорвано излишествами и развратом). Крестьяне же отличаются «чистотою нравов» и «телом, не изнеженным роскошью». Вообще же, Андрей Сергеевич представлял собой прообраз большинства последующих русских националистов: боролся против немецкого засилья в Прибалтике, увлекался русской стариной, ратовал за славянское единство… Во время Отечественной войны Кайсаров составлял листовки для народа при штабах Барклая-де-Толли и Кутузова, в одной из которых крестьяне именуются не иначе как «почтенные граждане». Погиб в бою с французами, будучи офицером партизанского отряда.
Таким образом, в обеих версиях дворянского национализма – консервативной и либеральной – понятие нации приобрело новый смысл, оно включало теперь в себя все сословия. Более того, не только либералы, но и некоторые консерваторы признали основой нации самый многочисленный и самый униженный слой русского общества – крестьянство. Другое дело, что этот словесный «демократизм» не подвигал консерваторов – даже теоретически – ни на какие социальные изменения, меж тем как либералы предлагали приступить к отмене крепостного права, как к необходимой предпосылке русского нациестроительства. Очень скоро из этой среды вышел действительно серьезный политический проект, способный изменить ход русской истории. Я имею в виду движение декабристов.
Дело исключительно патриотической политики
К сожалению, тот совершенно очевидный факт, что декабристы были первыми последовательными русскими националистами, приходится снова и снова доказывать (автор этих строк занимается этим уже более пяти лет). Историческое невежество нашего общества поразительно. Случай декабристов прекрасно его демонстрирует. Так и не опомнившиеся от советской пропаганды, внушавшей, что Пестель и Муравьевы – прямые предшественники Ленина, наши люди повернули ее слева направо – и теперь обвиняют героев 14 декабря почти в том же, за что раньше ими же восхищались. Причем как прежнее восхищение, так и нынешнее обличение ничего общего не имеют с исторической реальностью.
Ах, декабристы – масоны, агенты международного заговора против России! Ослепленные масономанией ничего не хотят слушать о том, что русское масонство начала XIX в. было, по сути, просто элитарным дворянским клубом, куда входили даже императоры, с определенно консервативной идеологией. Декабристы, состоявшие в масонских ложах, пытались использовать их в качестве политического инструмента, но неудачно. Нет никаких свидетельств о контактах декабристских обществ с зарубежными масонскими центрами, хотя следствие по делу 14 декабря проводилось весьма тщательно.
Ах, декабристы – безбожники, враги православия! Нужды нет, что современная исследовательница В. М. Бокова не смогла отыскать среди них практически ни одного атеиста, что такие члены Тайного общества, как Ф. Н. Глинка, А. Н. Муравьев, С.И. и М. И. Муравьевы-Апостолы, Е. П. Оболенский, М. А. Фонвизин, В. И. Штейнгейль и многие другие, отличались именно пламенной религиозностью, что в «Русской правде» Пестеля православие объявлено государственной религией нового Российского государства!
Ах, декабристы – бессовестные убийцы, собирались покуситься на жизнь монарха! Невольно вспоминается эпизод, когда один из членов Верховного суда, участник заговора против Павла I, стал укорять Н. А. Бестужева: как вы, молодой человек, посмели поднять руку на священную особу государя! – на что последовал остроумный ответ: «И это вы мне говорите?!» Отвратительные убийства Петра III, Ивана VI и Павла I почему-то не кажутся нашим нынешним апологетам монархии преступлением, зато цареубийственные намерения декабристов (кстати, далеко не всеми из них разделяемые) выставляются как невиданное на Руси дело.
Ах, декабристы планировали завести страшную, всепроникающую тайную полицию, чуть ли не ЧК или гестапо! На самом деле проект Пестеля об образовании «государственного приказа благочиния», найденный в его бумагах после ареста, не являлся частью программных документов декабристов и был лишь его личной точкой зрения. Да и то неясно, как сам автор его оценивал накануне восстания, ибо проект сей явно относится к более раннему периоду, когда Павел Иванович еще не перешел на республиканские позиции, а был сторонником монархии (в тексте недвусмысленно говорится, что «Вышнее Благочиние охраняет Правительство, Государя и все Государственные Сословия»).
Ах, декабристы боролись с самодержавием, а стало быть, с Россией! Нет, знаете ли, силлогизм «самодержавие = Россия» еще доказать нужно! Ибо нередко политика Романовых носила прямо антинациональный характер. Об этом много уже говорилось в этой книге. Не стоит быть рабом вредного предрассудка: дескать, борьба против любого правящего режима обязательно равняется национальной измене.
В декабристах как раз поражает столь нетипичный для российской политической оппозиции государственно-патриотический пафос. В сравнении с революционерами следующих поколений (не только с разночинцами, но и с дворянами Герценом и Бакуниным) мировоззрение декабристов выделяется отчетливой преемственностью с традиционной великодержавной идеологией, окончательно сформировавшейся в эпоху Екатерины II, когда дворяне сделались единственными гражданами Российской империи. Декабристы, подобно своим отцам, отнюдь не чувствовали себя «лишними людьми», «государственными отщепенцами», не ощущали отчуждения от имперского государства, считали его «своим», а дела государственной важности – своими личными делами. Но под влиянием Отечественной войны (более ста будущих декабристов – ее участники, из них шестьдесят пять сражались с французами на Бородинском поле) патриотизм «непоротого поколения» радикально трансформировался, обрел новое качество.
М. И. Муравьев-Апостол относил зарождение декабризма к одному из эпизодов 1812 г., когда находившиеся в Тарутинском лагере молодые офицеры лейб-гвардии Семеновского полка (среди коих – сам Матвей Иванович, его старший брат Сергей, И. Д. Якушкин) отреагировали на слухи о возможном заключении мира с Наполеоном следующим образом: «Мы дали друг другу слово… что, невзирая на заключение мира, мы будем продолжать истреблять врага всеми нам возможными средствами». Таким образом, будущие члены Тайного общества уже тогда были готовы пойти на прямое неповиновение верховной власти во имя интересов государства, истинными выразителями которых они себя ощущали. Служение Отечеству перестало быть для них синонимом служению монарху, их патриотизм – уже не династический, а националистический, патриотизм граждан, а не верноподданных.
Переход от «народной войны» против «тирании», навязываемой извне, к борьбе против «тирании», навязываемой изнутри, казался совершенно естественным: «Неужели русские, ознаменовавшие себя столь блистательными подвигами в войне истинно отечественной, русские, спасшие Европу из-под ига Наполеона, не свергнут собственного ярма и не отличат себя благородной ревностью, когда дело пойдет о спасении Отечества, счастливое преобразование коего зависит от любви нашей к свободе?» (М. П. Бестужев-Рюмин). Декабристская «революционность» непосредственно проистекала из их патриотизма: «Предлог составления тайных политических обществ есть любовь к Отечеству» (С. П. Трубецкой); восстание 14 декабря было «делом исключительно патриотической политики» (В. С. Толстой). Кроме того, сражаясь плечом к плечу со своими крепостными, впервые разделявшими патриотизм господ в полной мере, молодые дворяне наглядно поняли, что нация – это сообщество равноправных сограждан, объединенных одной культурой, а не общество сословного неравенства и культурной сегрегации. «Сочетание вольнолюбия и патриотизма является решающим для русской дворянской революционности 1810—1820-х годов, как и для западных национально-освободительных движений той же эпохи» (Л. Я. Гинзбург).
Патриотизм стал для декабристов своего рода гражданской религией. М. Ф. Орлов в частном письме женщине (княгине С. Г. Волконской) проповедует: «Прежде всего, каждый русский должен быть русским во всем. Во всем должна господствовать идея родины. Именно ей он должен посвятить свои усилия, свои успехи, свои надежды». К. Ф. Рылеев полагал для приема нового члена в Северное общество достаточным основанием то, что кандидат «пламенно любил Россию» и «для благ ее готов был на всякое самоотвержение». Патриотическая экзальтация в Тайном обществе доходила иногда до такой степени, что Ф. Ф. Вадковский на одном из собраний выразил готовность принести в жертву родную мать, если того потребует польза России. Конечно, это лишь фигура речи, но она очень характерна для декабристского дискурса. А вот пример уж явно не филологический, а экзистенциальный. П. И. Пестель в письме родителям незадолго до казни исповедально признавался: «Настоящая моя история заключается в двух словах: я страстно любил мое отечество, я желал его счастия с энтузиазмом», и – права современная исследовательница О. И. Киянская – «не верить этому признанию нет оснований».
Именно государственный, националистически окрашенный патриотизм был основным источником оппозиции декабристов курсу Александра I после 1814 г. Для самодержавия, будь оно действительно заинтересовано в социально-политической модернизации империи, было бы естественно опереться на либерально-националистическую дворянскую молодежь, боготворившую императора – победителя Наполеона, в противовес консервативным дворянским кругам, не желавшим прощаться с выгодами крепостного права (кроме всего прочего, внутридворянский раскол в тактическом плане укрепил бы прочность царской власти). Но Александр Павлович, видимо, понимал, что стратегически такая ставка чревата потенциальным ограничением его абсолютизма, ибо сама психология, сам этос «детей 12-го года» предполагал не безропотное подчинение воле монарха, а стремление к гражданской самодеятельности, и, в случае конфликта между интересами Отечества (как они их понимали) и интересами династии, выбор этих молодых людей был очевиден. Пришлось бы считаться с их мнениями и настроениями и, в конечном счете, в какой-то мере делиться властью. «Благословенный» же, по остроумному замечанию современника, готов был дать России сколько угодно свободы, при одном только условии – полной неограниченности своих прерогатив. Планы реформ, как известно, были свернуты. Характерно, кстати, отношение Александра к культу «народной войны». Как только русские войска вслед за остатками разбитой «великой армии» пересекли границы империи, государственный официоз отказывается от националистической риторики в духе Шишкова и Ростопчина, ее сменяет (вплоть до конца царствования) доктрина христианского универсализма, в которой победа над «двунадесятью языками» приписывалась уже не русскому народу, а Провидению, чьим орудием выступал, естественно, Божий Помазанник. Даже сама память об Отечественной войне, похоже, раздражала царя – он отказывался посещать торжества, посвященные ее событиям, хотя с удовольствием принимал приглашения на презентации, связанные с победами над Наполеоном в Европе. Ему, очевидно, неприятно было вспоминать о том времени, когда он полностью зависел от воли нации, а не она от его воли. Результат такой политики известен: разочарование либеральных дворянских националистов в еще недавно обожаемом властителе и радикализация тайных обществ.
Резкий протест «первенцев русской свободы» вызывала вдохновляемая и конструируемая императором легитимистская политика Священного союза – «подпорная, вспомогательная политика для восстановления государей», которая «была противна интересам России» и на деле подчиняла последние интересам Австрии («ничто меня столько не оскорбляло, как явное сие господство и влияние Венского кабинета над нашим» – слова А. В. Поджио), вообще преимущественное внимание Александра к общеевропейским делам в ущерб собственно российским, его частые и продолжительные отлучки из России. В среде декабристов господствовало убеждение, что Александр «ненавидит Россию». Возмущение деятельностью императора приняло предельно острый характер в связи с его польской политикой. Так называемый «московский заговор» 1817 г., когда среди членов Союза спасения впервые возникла идея цареубийства (А. Н. Муравьев предложил бросать жребий о том, кто должен его совершить, а И. Якушкин объявил, что «решился без всякого жребия принести себя в жертву»), был вызван слухом о том, что Александр «намеревается отторгнуть некоторые земли от России и присоединить к Польше» и даже, «ненавидя и презирая Россию, намерен перенести столицу свою в Варшаву». На фоне тех невероятных привилегий, которые Царство Польское получило благодаря явному расположению к нему императора, казалось вполне вероятным, что он «имел в самом деле намерение располагать достоянием России» – тем более что прецедент уже был – «прежде он отделил Выборгскую губернию в состав великого княжества Финляндского» (М. С. Лунин). Последний факт (и преимущества перед русскими «завоеванных финляндцев») тоже, кстати, вызывал активное обсуждение (и осуждение) в Тайном обществе.
С другой стороны, именно переговоры с Польским патриотическим обществом, на которых шла речь и о территориальных уступках полякам, вызвали тяжкое обвинение в приговоре Верховного уголовного суда лидеру Южного общества Пестелю («участвовал в умысле отторжения областей от империи»). Надо ли полагать, что позднее декабристы отказались от своего принципиального государственничества?
Нет ничего более нелепого, чем видеть в Пестеле некоего идеалиста-интеллигента, поборника польской свободы, каким позднее выступал Бакунин (и отчасти Герцен), логика Павла Ивановича – логика государственно-националистического прагматизма, применительно к данному вопросу хорошо сформулированная его ближайшим помощником М. Бестужевым-Рюминым: лучше «иметь благодарных союзников», чем «тайных врагов». В планируемом автором «Русской правды» русском национальном государстве поляки, с их многовековой традицией самостоятельной государственности, развитой национальной культурой и комплексом «полноценных» европейцев по отношению к русским «варварам», были бы лишним и крайне вредным элементом. Кроме того, в пестелевском проекте будущая независимая Польша контролируется Россией во всех отношениях, вплоть до формы правления и социального строя (порой этот проект кажется почти до деталей реализовавшимся пророчеством о практике взаимоотношений ПНР и СССР), что должно было свести к нулю весь возможный геополитический ущерб этого решения для русских интересов. Наконец, свидетельством того, что Пестель не собирался в польском вопросе поступаться российской великодержавностью, является то, что переговоры с Польским патриотическим обществом зашли в тупик именно по вине Павла Ивановича. Поляков оскорбил тон лидера Южного общества, о котором он так говорил на следствии: «Было за правило принято поставить себя к ним в таковое отношение, что мы в них ни малейше не нуждаемся, но что они в нас нужду имеют, что мы без них обойтиться можем, но они без нас успеть не могут».
Программные документы декабристов проникнуты заботой о территориальной целостности страны, о ее единстве и неделимости. В частности, именно этой заботой продиктована резкая полемика Пестеля против федерализма в «Русской правде». Федеративное государство потому, с его точки зрения, плохо, что уже в самом его устройстве содержится «семя разрушения». Но и «федералистская» «Конституция» Никиты Муравьева не менее великодержавна, чем «унитаристская» «Русская правда». «Державы», на которые делится будущий «Российский союз», не имеют права «заключить какой-либо союз, договор или трактаты не только с иностранными Государствами, но даже и с другою Державою Российского союза», «заключать мир или объявлять войну», «чеканить монету», «содержать в мирное время войско или вооруженных кораблей без позволения Верховнаго Народнаго веча» и т. д. Н. М. Дружинин справедливо отметил, что Муравьев, во-первых, «избегает назначать столицами крупные города, которые служили политическими центрами самостоятельных народностей: столицею Балтийской державы он делает не Ригу, а Великий Новгород, вместо Киева он назначает Харьков; Финляндия оказывается сосредоточенной вокруг Петербурга, Украина и Литва – разорванными на части, Кавказ – искусственно соединенным с южными губерниями», а во-вторых, его федерация состоит не из национальных автономий, а из «естественных хозяйственных комплексов», то есть он руководствуется «не идеей самоопределения национальностей, а задачей свободного экономического развития государства».
В области внешней политики декабристы после прихода к власти также собирались проводить последовательный великодержавный курс. Кардинально отказываясь от принципов Священного союза, они в противовес им выдвигали идею геополитического самодовления России, что нимало не отрицало внешнеполитической активности. Напротив, «для твердаго установления Государственной Безопасности» и приобретений разного рода геополитических и геоэкономических выгод Пестель планировал присоединить к России Молдавию, причерноморский Кавказ, казахские («киргиз-кайсацкие») степи в районе Аральского моря и «часть Монголии, так, чтобы все течение Амура… принадлежало России». «Далее же, – подчеркивает Пестель, – отнюдь пределов не распространять».
Своего государственного патриотизма декабристы не утратили даже в тюрьмах и ссылке, большинство из них могло бы повторить слова Лунина: «Заключенный в казематах, десять лет не переставал я размышлять о выгодах родины». Естественно, что Крымская война с новой силой всколыхнула их великодержавные чувства. Несмотря на крайне отрицательное отношение к николаевскому режиму того времени, они страстно переживали за ее исход. Некоторые (например, М. А. Назимов) безуспешно просились служить хотя бы в ополчение. С. Г. Волконский писал И. И. Пущину, что он «хоть сейчас готов к Севастополю, лишь бы взяли». С. П. Трубецкой сообщает Г. С. Батенькову (1855), что в Иркутске, где жили многие сосланные декабристы, «война и ожидание ее последствий всегда предметом разговоров, когда сходимся. Нетерпеливость выражается различным образом и каждый хотел бы изгнать неприятеля из Отечества по своему соображению… бывают самые сильные прения». Из тех материалов, которые мне удалось изучить, можно сделать вывод, что только один декабрист занимал в период Крымской войны четкую пораженческую позицию – А. Ф. Бриген. Но этот случай – классический пример того, что исключение лишь подтверждает правило.
Достаточно единодушно отреагировали оставшиеся в живых декабристы на польский мятеж 1863 г. А. Н. Муравьев всецело одобрял меры своего родного брата М. Н. Муравьева-Виленского, пресловутого «Вешателя» (между прочим, бывшего члена Союза спасения и Союза благоденствия, одного из главных авторов Зеленой книги последнего), по подавлению мятежа в Западном крае: «Брат Михаил действует славно, как истинно русский»; «распоряжения брата Михаила великолепны»; «брату Михаилу, по мнению моему, надобно поставить памятник, не за одно только усмирение юго-западной России, но за спасение Отечества. Подобными мерами, думаю, что восстановить можно бы и Царство Польское, то есть обратить его в русские губернии, с русскими правителями». Е. П. Оболенский предлагал в дальнейшем по отношению к полякам самые радикальные меры: «…если они не захотят слиться с нами в одну нераздельную семью, то мы должны поглотить их национальность и силою, и нашей численностью… Неужели они должны исчезнуть с лица земли русской, – по весьма простой причине, – мы не можем в мире жить с ними?.. Что же делать… самозащита есть одна из первых обязанностей всякого человека и гражданина».
Конечное падение иноземцев
Не менее, чем государственный патриотизм, характерна для декабристов и ксенофобия. На всех этапах развития движения, в подавляющем большинстве его программных документов обязательно присутствуют пункты, направленные против иностранцев вообще. Это прежде всего было вызвано предпочтением, которое оказывал последним Александр I в противовес русским дворянам, и их заметным присутствием на ключевых постах в государственном аппарате и армии. П. Г. Каховский, незадолго до казни, в письме Николаю I все еще осуждал «явное предпочтение, делаемое Правительством всем иностранцам без разбору… простительно надеяться, что у нас, конечно, нашлись бы русские заместить места государственные, которыми теперь обладают иностранцы. Очень натурально, что такое преобладание обижает честолюбие русских и народ теряет к Правительству доверенность».
Уже в проектах Ордена русских рыцарей, составленных М. А. Дмитриевым-Мамоновым, среди целей организации называются «лишение иноземцев всякого влияния на дела государственные» и «конечное падение, а, если возможно, смерть иноземцев, государственные посты занимающих». Союз спасения также настаивал на необходимости «отстранения иноземцев от влияния в государстве». Зеленая книга Союза благоденствия запрещает принимать в общество нехристиан и «иноземцев», если только те не оказали важной услуги России. Кроме того, одна из задач Союза состояла в том, чтобы «отвращать родителей от воспитания детей в чужих краях». Устав Южного общества требует «не принимать в общество никого кроме русских или тех, которые по обстоятельствам совершенно привязались к русской земле».
В «Русской правде» иностранцам запрещается «иметь в России какое бы то ни было Недвижимое Имущество», «пользоваться в России правами Политическими, предоставляемыми одним только Российским Гражданам», «вступать в Государственную Службу или какую-нибудь отрасль правления и продолжать оную, исключая Министерства Просвещения». В «Конституции» Н. Муравьева «иностранец, не родившийся в России», имеет право «просить себе гражданства Российскаго», лишь прожив в ней «7 лет сряду» и «отказавшись наперед клятвенно от правительства, под властью которого прежде находился». Быть избранным в местные законодательные органы страны он может только еще через 7 лет, а в центральные – через 9 лет. Иностранец же, не имеющий гражданства, «не может исполнять никакой общественной или военной должности в России, не имеет права служить рядовым в войске Российском и не может приобрести земель». Гражданство аннулируется навсегда в случае вступления «в подданство иностранного государства» и принятия «службы или должности в чужой земле без согласия своего правительства», наконец, даже «если гражданин без согласия Веча примет подарок, пенсию, знак отличия, титло или звание почетное, или приносящее прибыль от иностранного правления, Государя или народа». Кроме того, «никакое иностранное общество не может иметь в России подведомственных себе обществ или сотовариществ».
На фоне декабристской неприязни к иноземцам вообще ярко выделяется их почти повальная враждебность к немцам, точнее – к «русским немцам», немцам, находящимся на русской службе. Важно понять, что «немцеедство» декабристов не было этнофобией по кровному признаку, в противном случае невозможно объяснить присутствие в Тайном обществе Пестеля, Штейнгейля, братьев Кюхельбекеров и других этнических немцев (хотя, в общем, прав П. Н. Свистунов, указывая на «факт, что в списке членов его встречается так мало фамилий нерусских»). Дело также не в конфессиональных противоречиях: Пестель и Кюхельбекеры были лютеранами. Водораздел между «хорошими» и «плохими» немцами проводился по критериям политического и культурного национализма: стремится ли тот или иной человек «германского происхождения» к ассимиляции среди русских, к членству в (становящейся) русской нации или же он ориентируется на влиятельную в верхах корпорацию своих единоплеменников, четко отделяющую себя от стержневого этноса Российской империи и охотно служившую самодержавию. Таким образом, проблема «русских немцев» имела в данном случае по преимуществу социально-политический характер: поддерживая «деспотическую власть» (которая, в свою очередь, поддерживала их в ущерб русским дворянам), они являли собой очевидных (и объективных) врагов национального государства, к которому стремились декабристы.
Германофобия царила среди участников преддекабристской Священной артели. Показательно, что «пробным предложением» А. Н. Муравьева, с которого началась история Союза спасения, стало создание тайного общества «для противодействия немцам, находящимся на русской службе». Антинемецкие настроения сохранялись и на самых поздних этапах существования декабристских организаций. Д. И. Завалишин вспоминал, что незадолго до 14 декабря, при обсуждении «манифеста о перевороте», «были и такие», которые требовали в нем «выразиться резко и громко против немцев и даже требовать от них перемены фамилии на русскую. Замечательно, что из числа самых горячих защитников подобного мнения были именно обрусевшие немцы».
Другой объект декабристской ксенофобии – поляки, что легко объясняется остротой польского вопроса, о которой подробно говорилось выше. Лунин дрался на дуэли (за которую его исключили из гвардии) с поляком, оскорбительно отозвавшимся о России, и считал этот поединок единственным, где он был прав. При слиянии Южного общества и Общества соединенных славян «южане» потребовали (правда, безуспешно) от последних исключить из своего состава всех поляков. Полонофобия не исчезла у многих декабристов и в ссылке, где их товарищами по несчастью оказались повстанцы 1830 г. Конечно, общая участь сближала русских и поляков, но огонь «распри» продолжал тлеть. С. Волконский жаловался в письме И. Пущину (1855), что в доме С. Трубецкого «всегда нашествие сарматов, а у меня сердце больно к ним не лежит и боюсь взрыва моих убеждений. Пусть они высказывали явно свою вражду к нам, я бы сносил это, но из-за угла метать камнем – не снесу и не прощаю». «Влиянию, научению поляков здешних» Волконский приписывал сепаратистские настроения в Сибири («борьба сибиряков против начала русского»). И. Якушкин так описывал своих польских знакомых: «Преславные молодые люди, и я не знаю за ними никакого другого недостатка, как только то, что они поляки, но, к сожалению, недостаток этот немаловажный, и трудно им от него избавиться».
Завершением сюжетов о «немцеедстве» и полонофобии декабристов может служить обобщающая цитата из Волконского: «От остзейцев, от ляхов нет радушного прислужения русскому делу».
Другие этнонациональные фобии декабристов были более или менее локальны. Скажем, антисемитизм среди них не имел широкого распространения, ибо еврейский вопрос не приобрел еще в ту пору остроты, свойственной пореформенному времени. Пестель в «Русской правде» уделяет евреям некоторое место, отмечая в качестве их главной особенности то, что они «неимоверно тесную связь между собою неизменно сохраняют, никогда друг друга не выдают ни в каких случаях и обстоятельствах и всегда готовы ко всему тому, что собственно для их общества может быть выгодно или полезно», особенность эта вредная, ибо «дружная связь между ими то последствие имеет, что коль скоро они в какое-нибудь место допущены, то неминуемо сделаются монополистами и всех прочих вытеснят. Сие ясно видеть можем в тех губерниях где жительство свое они имеют. Вся торговля там в их руках и мало там крестьян, которые бы посредством долгов не в их власти состояли; отчего и раззоряют они ужасным образом край, где жительствуют». Таким образом, «Евреи составляют в Государстве, так сказать, свое особенное, совсем отдельное Государство и притом ныне в России пользуются большими правами нежели сами Християне. Хотя самих Евреев и нельзя винить ни в том, что они сохраняют столь тесную между собою связь, ниже в том, что пользуются столь большими правами коих даровало им прежнее Правительство, не менее того не может долее длиться таковой порядок вещей, утвердивший неприязненное отношение Евреев к Християнам и поставивший их в положение противное общественному порядку в Государстве».
Пестель предлагает два варианта решения еврейского вопроса (и оба, надо сказать, весьма туманные). «Первый состоит в совершенном изменении сего порядка… Паче же всего надлежит иметь целью устранение вреднаго для Християн влияния тесной связи, Евреями между собою содержимой ими противу Християн направляемой и от всех прочих граждан их совершенно отделяющей. Для сего может Временное Верьховное Правление ученейших рабинов и умнейших Евреев созвать, выслушать их представления и потом меропринятия распорядить, дабы вышеизьясненное зло прекращено было и таким порядком заменено, который бы соответствовал в полной мере общим Коренным правилам имеющим служить основанием политическому зданию Российскаго Государства. Ежели Россия не выгоняет Евреев, то тем более не должны они ставить себя в неприязненное отношение к Християнам. Российское Правительство хотя и оказывает всякому человеку защиту и Милость, но однако же прежде всего помышлять обязано о том, чтобы никто не мог противиться Государственному Порядку, частному и общественному Благоденствию. Второй Способ зависит от особенных обстоятельств и особеннаго хода Внешних Дел и состоит в содействии Евреям к Учреждению особеннаго отдельнаго Государства, в какой-либо части Малой Азии. Для сего нужно назначить Сборный пункт для Еврейскаго Народа и дать несколько войска им в подкрепление. Ежели все русские и Польские Евреи соберутся на одно место, то их будет свыше двух миллионов. Таковому числу Людей, ищущих отечество, не трудно будет преодолеть все Препоны, какия Турки могут им Противупоставить, и, пройдя всю Европейскую Турцию, перейти в Азиятскую и там, заняв достаточныя места и Земли, устроить особенное Еврейское Государство». Впрочем, добавляет Пестель, «сие исполинское предприятие требует особенных обстоятельств и истинно-генияльной предприимчивости, то и не может быть оно поставлено в непременную обязанность Временному Верьховному Правлению, и здесь упоминается только для того об нем, чтобы намеку представить на все то, что можно бы было сделать».
Н. Муравьев предлагал дать евреям гражданские права, но только в пределах черты оседлости, вопрос же о существовании последней должен был решаться общероссийским законодательным органом.
«Один народ»
И государственный патриотизм, и ксенофобия были вполне традиционны для русской политической мысли XVIII – начала XIX в. (достаточно вспомнить в первом случае Карамзина, а во втором – Ростопчина), своеобразие декабристского национализма, его стержень состояли в другом – в новой для России демократической концепции нации, понимаемой как совокупность равноправных граждан, охватывающая весь этнос, и как единственный источник суверенитета. Таким образом, отвергались и монархическая трактовка нации (как совокупности подданных самодержца, который и является источником суверенитета), и ее аристократический вариант (где под нацией понималась только социальная элита, в русских условиях – дворянство).
Пафос декабризма был направлен против самодержавного «обращения с нацией как с семейной собственностью» (Лунин). «Для русского больно не иметь нации и все заключить в одном государе», – писал Каховский перед казнью Николаю I. Оба главных программных документа декабризма утверждают демократическое понимание нации. «Конституция» Муравьева начинается с утверждения того, что «Русской народ, свободный и независимый, не есть и не может быть принадлежностью никакого лица и никакого семейства… Источник Верховной власти есть народ, которому принадлежит исключительное право делать основныя постановления для самого себя». В пестелевской «Русской правде» говорится: «Народ есть совокупность всех тех Людей, которые, принадлежа к одному и тому же государству, составляют гражданское общество, имеющее целью своего существования возможное благоденствие всех и каждаго… А по сему народ российский не есть принадлежность или собственность какаго либо лица или семейства. На против того правительство есть принадлежность народа, и оно учреждено для блага народнаго, а не народ существует для блага правительства». Оба главных декабристских проекта упраздняли надзаконное самодержавие: «Русская правда» провозглашала республику, «Конституция» – конституционную монархию.
В обоих документах гарантировались неотъемлемые гражданские и политические права – равенство всех перед законом, свобода слова, печати, вероисповедания, собраний, занятий, передвижения, наконец, избирательные права – страна получала парламент – народное вече, которому принадлежала высшая законодательная власть. Нация равноправных граждан должна была управлять сама собой посредством представительной демократии, через систему многоступенчатых выборов. На низовом уровне основой национальной солидарности становилось волостное самоуправление. Даже получить российское гражданство иностранец может только на волостном уровне.
Национальное единство невозможно без социальной и юридической однородности нации. Крепостное право, деля русских на господ и рабов, тем самым раскалывало нацию на враждебные классы, поэтому требование его отмены, ключевое для декабристов, имело не только социально-уравнительное и либерально-гуманитарное, но и национально-государственное значение. В декабристских проектах не только сами сословия, но и их названия заменяются «названием гражданина русскаго» (в «Конституции») или «Российского гражданина» (в «Русской правде»).
Нация декабристов – это, безусловно, гражданская нация. Но прежде всего – это русская гражданская нация, подразумевающая не только социально-юридическую ассимиляцию сословного деления к единому понятию русского (российского) гражданства, но и этническую ассимиляцию всех народов России к некоему единому стандарту русскости, русификацию. Русскость декабристами понимается не биологически (но и не конфессионально), а культурно-политически, ее главные составляющие – владение языком и следование законам. В «Конституции» говорится: «Через 20 лет по приведении в исполнение сего Устава Российской империи никто, не обучившийся русской грамоте, не может быть признан гражданином».
Более детально программа русификации разработана в «Русской правде», четко формулирующей цель национальной политики: «Все племяна должны слиты быть в один народ», «при всех мероприятиях временнаго верьховнаго правления в отношении к различным народам и племенам Россию населяющим безпрестанно должно непременную цель иметь в виду, чтобы составить из них всех только один народ и все различные оттенки в одну общую массу слить так, чтобы обитатели целаго пространства российскаго государства все были русские». В качестве средств для этого указываются: 1) «На целом пространстве Российскаго государства» должен господствовать «один только язык российский: Все сношения тем самим чрезвычайным образом облегчатся; Понятия и образ мыслей сделаются однородные; Люди, обьясняющиеся на одном и том же языке, теснейшую связь между собою возымеют и однообразные составлять будут один и тот же народ». 2) «Так как ныне существующее различие в названиях народов и племен, Россию населяющих, всегда составлять будет из жителей российскаго государства отдельныя друг от друга массы и никогда не допустит столь для блага отечества необходимаго совершеннаго в России единородства, то чтобы все сии различныя имена были уничтожены и везде в общее название русских во едино слиты». 3) «Чтобы одни и те же законы, один и тот же образ управления по всем частям России существовали, и тем самим в политическом и гражданском отношениях вся Россия на целом своем пространстве бы являла вид единородства, единообразия и единомыслия». В результате можно ожидать, что «все различные племена в России, обретающиеся к общей пользе, совершенно обрусеют и тем содействовать будут к возведению России на высшую степень благоденствия, величия и могущества».
Основа будущей нации – «коренной народ русский», куда Пестель включал великороссов, малороссов и белорусов. Что же касается «различных племен к Росии присоединенных», то их участь – отказаться от своих особенностей и слиться с «коренным народом русским». Финляндия должна лишиться своей автономии и перейти на русский язык. Перед цыганами поставлен выбор – или, приняв православие, распределиться по волостям, или покинуть Россию. Мусульманам запрещается многоженство. Кавказские народы делятся на два разряда – «мирные и буйные»: «первых оставить на их жилищах и дать им российское правление и устройство, а вторых силою переселить во внутренность России, раздробив их малыми количествами по всем русским волостям». Кроме того, планировалось «завезти в Кавказской Земле Русския селения и сим русским переселенцам роздать все Земли, отнятыя у прежних буйных жителей, дабы сим способом изгладить на Кавказе даже все признаки прежних (то есть теперешних) его обитателей и обратить сей Край в спокойную и благоустроенную область Русскую». Русифицируются иноземные колонисты. Полностью уничтожается разряд так называемых «подданных иностранцев», тех, кто «сами себя Иностранцами щитают и… присягнули в подданстве прежним властелинам над Россиею, но не Россию за свое отечество признали» (остзейские немцы, поляки, живущие за пределами Польши, греки, армяне и т. д.). Они должны определиться – или стать «совершенно русскими» со всеми вытекающими отсюда последствиями, или перейти в разряд «совершенно иностранцев». О решении польского и еврейского вопроса подробно говорилось выше.
«Восстановление свободы»
Декабризм в мировоззренческом плане представляет собой своеобразный гибрид Просвещения и романтизма: с одной стороны – устойчивый, уверенный в себе (иногда до наивности) рационализм, с другой – принципиальный историзм, поиски общественного идеала в русском прошлом, склонность к эстетической архаике. Социально-политическая программа «первенцев русской свободы» была, несомненно, западнической, но ее культурное оформление явно тяготело к почвенничеству. «Общественное сознание, которое стремилась выразить декабристская литература, развивалось под знаком вольнолюбия и народности. Притом в понимании дворянских революционеров народность равна национальной самобытности… Свобода мыслится всегда в форме национального возрождения, а народность тем самым включается в круг освободительных идей. Декабристская народность – это национальная самобытность и в то же время гражданственность. Декабристская личность – это гражданин, являющийся носителем национального самосознания и патриотического воодушевления» (Л. Я. Гинзбург). В этом смысле декабризм – типичный представитель центрально– и восточноевропейского национализма, отличие его, пожалуй, только в том, что политика в данном случае шла не следующей стадией после «культурного возрождения», а, наоборот, предшествовала ей, и культурный национализм «отставал» от политического, был недостаточно разработан. Так что в русском случае знаменитая схема развития национального движения Мирослава Хроха явно не работает.
Всерьез обдумывалась, например, языковая проблема. Декабристы негодовали на «изгнание родного языка из обществ», «совершенное охлаждение лучшей части общества к родному языку» (А. Бестужев), на господство французской речи в дворянской среде и активно пропагандировали переход к русскому, как языку общения и переписки. Некоторые из них, ориентировавшиеся на лингвистическую программу политически предельно далекого Шишкова, предлагали весьма масштабные проекты по очистке русского языка от иноземных заимствований. В. К. Кюхельбекер надеялся «очистить русский язык от слов, заимствованных со времен Петра I» из латинского, французского и немецкого языков. Планировал «русификаторскую» языковую реформу Пестель, в результате которой все заимствованные слова были бы заменены словами со славянскими корнями, под очевидным влиянием опыта того же Шишкова (сочинения последнего имелись в личной библиотеке лидера Южного общества).
Декабристы-литераторы выступали с красноречивыми призывами к созданию подлинно национальной русской литературы. В. Кюхельбекер восклицал: «Да создастся для славы Росии поэзия истинно русская; да будет святая Русь не только в гражданском, но и в нравственном мире первою державою во вселенной… Станем надеяться, что наконец наши писатели… сбросят с себя поносные цепи немецкие и захотят быть русскими». Источники для «истинно русской поэзии»: «вера праотцев, нравы отечественные, летописи, песни и сказания народные».
Историческая тема – одна из центральных у декабристов. Деятели Тайного общества не только жадно читали исторические сочинения, но и стремились создать собственную концепцию отечественной истории, которая не могла не быть полемически заостренной против наиболее авторитетной в 1820-х гг. исторической схемы Карамзина. Последняя «аргументом от истории» утверждала благодетельную неизбежность и незыблемость для России самодержавия, сводя русскую историю даже не к истории государственности, а к истории монархии. Декабристов не устраивала тенденция «выставлять превосходство самодержавия и какую-то блаженную патриархальность, в которой неограниченный монарх, как нежный чадолюбивый отец, и дышит только одним желанием счастливить своих подданных» (М. Фонвизин). Им для обоснования своих социально-политических идеалов нужно было противопоставить этой концепции принципиально другое, альтернативное представление о русском прошлом.
Во-первых, декабристы настаивали на том, что русская история – это история народа. Никита Муравьев так и начинает свою критическую статью о карамзинской «Истории», в пику ее «посылу» («история народа принадлежит царю»): «История принадлежит народам». Движущая сила истории – «дух народный, без которого не совершается коренных переворотов». Во-вторых, русская история – это история свободного народа, который в начале своего бытия управлялся демократически: «Древние республики Новгород, Псков и Вятка наслаждались политическою и гражданскою свободою… и в других областях России народ стоял за права свои, когда им угрожала власть… общинные муниципальные учреждения и вольности были в древней России во всей силе, когда еще Западная Европа оставалась под гнетом феодализма» (М. Фонвизин). Затем эта свобода была «похищена» московскими князьями, «обманом» присвоившими «себе власть беспредельную, подражая ханам татарским и султану турецкому… Народ, сносивший терпеливо иго Батыя… сносил таким же образом и власть князей московских, подражавших во всем сим тиранам» (Н. Муравьев). Надо отдать должное исторической проницательности Никиты Михайловича, увидевшего корень русских проблем в утверждении принципа Москвы.
Императорский период также оценивался весьма критично, за исключением деятельности Петра I, Екатерины II и «дней Александровых прекрасного начала». Впрочем, у некоторых декабристов (Каховский, Лунин, Поджио) и Петру предъявляется суровый счет. История послемонгольской России – история борьбы народа за возвращение «похищенной свободы», включающая в себя и Земские соборы Московской Руси, и «кондиции» «верховников», и конституционные проекты Н. И. Панина и П. А. Палена, и, наконец, Тайное общество. «Думы» Рылеева пропагандировали декабристскую историческую концепцию в поэтической форме. Даже вроде бы монархический «Иван Сусанин» несет в себе национал-демократический заряд: герой жертвует собой за «русское племя» и за выборного царя.
Таким образом, декабризм претендовал быть не просто «почвенным», но истинно «почвенным» явлением русской жизни. Борьба за политическую свободу и демократию превращалась из подражания иноземцам в «возращение к корням». С. И. Муравьев-Апостол в своем «Православном катехизисе» призывает «христолюбивое воинство российское» не установить, а именно «восстановить правление народное в России». Н. Муравьев единственный способ «добывать свободы» видит в том, чтобы «утвердить постоянные правила или законы, как бывало в старину на Руси». Народно-вечевое прошлое Руси, по его мнению, опровергает «ни на чем не обоснованное мнение, что русский народ неспособен, подобно другим, сам распоряжаться своими делами». Рылеев полагал, что «Россия и по древним воспоминаниям и по настоящей степени просвещения готова принять свободный образ правления». Естественно, что среди декабристов царил подлинный культ «Господина Великого Новгорода».
«Восстановление свободы» поэтому мыслилось в национальных русских формах. По «Конституции», «гражданские чины, заимствованные у Немцев и ничем не отличающиеся между собою, уничтожаются сходственно с древними постановлениями народа Рускаго». Зато появляются должности тысяцкого (глава уездной исполнительной власти), волостного старейшины, державного дьяка. Области, на которые делится государство, получают название «держав», законодательное собрание именуется Народным вечем (а его верхняя палата – Верховной думой), вместо министерств учреждаются «приказы» и т. д. В первой редакции «Конституции» столицу предполагалось перенести в Нижний Новгород, переименованный в Славянск (в третьей редакции столица – Москва). В «Русской правде» практически то же самое: столица переносится в Нижний Новгород (переименованный во Владимир, Владимир же становится Клязмином), законодательная власть осуществляется Народным вечем, исполнительная – Державной думой, Петербург переименовывается в Петроград.
«Русская правда» когда-нибудь явится на божий свет
Важно отметить, что декабристский национализм был отнюдь не маргинальным явлением в среде элиты русского дворянства. А. А. Бестужев не без преувеличения, но и не без основания говорил на следствии: «Едва ли не треть русского дворянства мыслила подобно нам, хотя была нас осторожнее». О декабристских симпатиях Пушкина, Грибоедова, Боратынского хорошо известно, так же как о том, что «первенцы русской свободы» считали «своими» А. П. Ермолова, Н. С. Мордвинова, М. М. Сперанского (их планировалось включить в состав Временного правительства). В. М. Бокова и О. И. Киянская убедительно показали, что Тайному обществу сочувствовал весьма обширный сектор имперского истеблишмента (даже близкие к самому «верху» П. М. Волконский и А. Ф. Орлов), многие из представителей которого (например, П. Д. Киселев) были знакомы с «Русской правдой» и одобряли ее содержание. Вряд ли случайным можно считать членство в Тайном обществе таких успешных в будущем бюрократов, как М. Н. Муравьев и Я. Д. Ростовцев, или представителей младших поколений таких фамилий, как Витгенштейны, Коновницыны, Раевские, Чернышевы…
Этому не нужно удивляться, ведь декабризм – идеология плоть от плоти дворянская. «Восстание декабристов было, по существу, попыткой – перевести шляхетские замыслы XVIII в. на язык передовой европейской мысли XIX века и осложнить и дополнить постановку политических задач проблемами социальными (освобождение крестьян)» (П. Б. Струве). Декабристы в продолжение политической игры дворянства и самодержавия сделали нетривиальный ход, перехватив инициативу выдвижения крестьянского вопроса у монархии, использовавшей его для сдерживания политических аппетитов «благородного сословия». Передовая часть дворянства решила обменять крепостное право (в недалекой перспективе все равно обреченное) на участие в руководстве государством. Многочисленных симпатизантов декабризма оттолкнула от него вовсе не программа и даже не столько радикальные средства, предложенные для реализации последней (далеко не все члены Тайного общества были сторонниками вооруженного восстания), сколько его поражение, оплаченное кровью и репрессиями. Такой массовой «чистки» русское дворянство не знало никогда в Петербургский период (даже в эпоху бироновщины): «Событие 14-го декабря снесло с русской земли цвет русского образованного общества» (И. С. Аксаков).
Любопытно отметить, что «околодекабристские» настроения бродили в первой половине 1820-х гг. не только среди «благородного сословия». Так, в одном донесении Александру I в 1821 г. сообщалось, что купцы петербургского Гостиного двора, собираясь группами по нескольку человек с газетами в руках, «говорят, что если в стране есть конституция, то государь не может постоянно покидать свое государство, так как для этого нужно дозволение нации… Если ему не нравится Россия, то зачем он не поищет себе короны где-либо в другом месте. На что нужен государь, который совершенно не любит своего народа, который только путешествует и на это тратит огромные суммы… Только конституция может исправить все это… Некоторые говорят, что если русское население Петрограда и Москвы единодушно пожелало этого, то министры не посмели бы этому противиться».
Декабризм, будучи одним из наиболее ярких проявлений русского национализма, «выпал» из его истории по вполне объективным причинам. Его вожди и участники были либо казнены, либо «изъяты из обращения» (Герцен) на тридцать лет. За это время сформировались другие версии националистической идеологии, вне прямой связи с «людьми 14 декабря», чьи программные документы были просто-напросто недоступны. Поднявший на щит декабристов в 1850-х гг. Герцен «присвоил» их себе как «предшественников» и вписал в качестве родоначальников в историю «русского освободительного движения», интерпретировав идеологию Тайного общества в духе собственных воззрений. Эта трактовка оказалась чрезвычайно влиятельной, тем более что «Русская правда» впервые была издана только в начале XX в.
Между тем вернувшиеся из ссылки декабристы, первоначально Герцена высоко ценившие, вскоре, во время польского мятежа 1863 г., оказались с ним по разные стороны баррикад, вместе с М. Н. Катковым, похвалы которому нередки в их переписке. Некоторые из них (Завалишин, Свистунов) стали литературными сотрудниками катковских изданий. С симпатией относились многие декабристы к славянофилам. Волконский 13 января 1857 г. писал И. Пущину из Москвы: «Я здесь довольно часто вижу некоторых славянофилов, странно, что люди умные, благонамеренные – [придают столько значения своему платью (в оригинале фраза по-французски. – С. С.)], но что они люди умные, благонамеренные, дельные, в том нет сомнения – и теплы они к емансипации и горячи к православию, а народность и православие – вот желаемая мною будущность России». В 1870-х гг. М. Муравьев-Апостол сделался горячим поклонником суворинского «Нового времени» и «Дневника писателя» Достоевского, в последнем он видел прямого наследника декабристов: когда Достоевский «пишет о нашей Красавице России, мне кажется, что слышу брата [Сергея] и Павла Ивановича Пестеля… „Русская Правда“ когда-нибудь явится на Божий Свет. Какой славой озарится имя Пестеля!».
Но обратной связи с сильно поправевшими новыми поколениями русского национализма у декабристов не получилось. Лишь в начале 1900-х гг. националисты либерального толка из Всероссийского национального союза заинтересовались декабризмом, в их сочинениях (например, у П. И. Ковалевского) появились сочувственные ссылки на Пестеля. Но дальше настали времена, для русского национализма не слишком благоприятные. В СССР начиная с конца 1930-х гг. о национализме декабристов (как якобы прямых предшественниках большевиков) писать было не принято. Так что нет ничего удивительного в том, что только сегодня мы начинаем понимать уникальное место декабристов в истории русского национализма.
Во-первых, они в своем мировоззрении органично соединили идею демократии и идею национальной самобытности. Во-вторых, они создали детально разработанную социально-политическую программу. В-третьих, они выступили как действенная, самостоятельная политическая сила во имя реализации своих идеалов. Наконец, в-четвертых, они действительно могли взять власть, опираясь на верные им войска. Как показывают новейшие исследования О. И. Киянской, наиболее продуманный план переворота Пестеля, предполагавший 1 января 1826 г. начать тщательно подготовленный революционный поход 2-й армии с Украины на столицу, сорвался только из-за ареста Павла Ивановича. Да и у восстания в Петербурге, даже в том виде, в котором оно произошло, а не было задумано, имелись вполне реальные шансы. Никогда подобная возможность в истории русского национализма более не повторялась. Декабризм стал его единственным подлинно политическим проектом, вплоть до начала XX столетия.
«Славянофилы выговорили одно истинное слово: народность»
Психополитическое потрясение, полученное дворянством от разгрома декабризма, предопределило особенности дальнейшей эволюции русского национализма. Его политическое бытование стало невозможным, оставалась только сфера дискурса, но и последний развивался в исключительно неблагоприятных условиях все крепчающей николаевской цензуры и полицейского надзора. Третье отделение зорко отслеживало общественные настроения, выделяя среди них в качестве главной внутренней угрозы для самодержавия национализм околодекабристского толка.
Во Всеподданнейшем отчете этого ведомства за 1827 г., составленном директором его канцелярии М.Я. фон Фоком, читаем: «Партия русских патриотов очень сильна числом своих приверженцев. Центр их находится в Москве… Они критикуют все шаги правительства, выбор всех лиц, там раздается ропот на немцев, там с пафосом принимаются предложения [Н.С.] Мордвинова, его речи и слова их кумира – [А.П.] Ермолова. Это самая опасная часть общества, за которой надлежит иметь постоянное и, возможно, более тщательное наблюдение. В Москве нет элементов, могущих составить противовес этим тенденциям… Партия Мордвинова опасна тем, что ее пароль – спасение России». Адепты этой «партии» якобы присутствуют во всех сословиях: «Молодежь, то есть дворянчики от 17 до 25 лет, составляют в массе самую гангренозную часть Империи. Среди этих сумасбродов мы видим зародыши якобинства, революционный и реформаторский дух, выливающийся в разные формы и чаще всего прикрывающиеся маской русского патриотизма… Купцы вообще очень преданы Государю Императору… Но среди них тоже встречаются русские патриоты… Городские священники, даже самые образованные, стоят совершенно отдельно от правительства и составляют особый класс русских патриотов. Духовенство вообще управляется плохо и пропитано вредным духом». Даже среди крепостных крестьян «встречается гораздо больше рассуждающих голов, чем это можно было бы предположить с первого взгляда… Они хорошо знают, что во всей России только народ-победитель, русские крестьяне, находятся в состоянии рабства; все остальные: финны, татары, эсты, латыши, мордва, чуваши и т. д. – свободны… В начале каждого царствования мы видим бунты, потому что народные страсти не довольствуются желаниями и надеждами. Так как из этого сословия мы вербуем своих солдат, оно, пожалуй, заслуживает особого внимания со стороны правительства».
Короче говоря, русские – потенциальные мятежники сверху донизу. Замечательно, что в том же отчете его автор – остзейский барон – восхваляет надежность своих единоплеменников: «Эстония – легион Монарха. Ее дворянство сердцем и телом предано трону; оно надеется на благость монарха для улучшения своей финансовой системы и торговли… В общем, настроение умов во всех Балтийских провинциях в политическом отношении превосходно, и правительству было бы легко сделать их счастливыми».
Понятно, что руководство Третьего отделения специально, из-за своих служебных и этносословных интересов, раздувало мнимую опасность русского национализма, что для последнего имело самые печальные последствия – любой намек в подобном духе немедленно карался. Скажем, сегодня уже можно считать доказанным, благодаря изысканиям С. В. Березкиной, что запрещение журнала «Европеец» в 1832 г. было связано с несколькими строками его издателя И. В. Киреевского (тогда еще вовсе не славянофила) в статье «„Горе от ума“ – на московском театре», метившими в «русских немцев»: «…любовь к иностранному не должно смешивать с пристрастием к иностранцам; если первая полезна, как дорога к просвещению, то последнее, без всякого сомнения, и вредно, и смешно, и достойно нешуточного противодействия. Ибо, – не говорю уж об том, что из десяти иноземцев, променявших свое отечество на Россию, редко найдется один просвещенный, – большая часть так называемых иностранцев не рознится с нами даже и местом своего рождения: они родились в России, воспитаны в полурусских обычаях, образованы так же поверхностно и отличаются от коренных жителей только своим незнанием русского языка и иностранным окончанием фамилий. Это незнание языка, естественно, делает их чужими посреди русских и образует между ними и коренными жителями совершенно особенные отношения. Отношения сии, всем им более или менее общие, рождают между ними общие интересы и потому заставляют их сходиться между собою, помогать друг другу и, не условливаясь, действовать заодно. Так самое незнание языка служит для них паролем, по которому они узнают друг друга, а недостаток просвещения нашего заставляет нас смешивать иностранное с иностранцами, как ребенок смешивает учителя с наукою и в уме своем не умеет отделить понятия об учености от круглых очков и неловких движений». Николай I, по свидетельству А. Х. Бенкендорфа, лично обратил внимание на этот пассаж как на «самую неприличную и непристойную выходку на счет находящихся в России иностранцев…».
С другой стороны, самодержавие при Николае пусть и декоративно, но национализировалось, введя, благодаря инициативе С. С. Уварова, в свою идеологию понятие народность. Это давало некую лазейку новому поколению русских националистов, получивших прозвание славянофилы (А. С. Хомяков, И.В. и П. В. Киреевские, К.С. и И. С. Аксаковы, Ю. Ф. Самарин, А. И. Кошелев, В. А. Черкасский, Ф. В. Чижов и др.), проводить свои идеи, по внешности схожие с официозом. Ведь «московские славяне» были приверженцами православия, почитавшегося ими не только в качестве истинной религии, но и в качестве основы русской идентичности; сторонниками самодержавия как оптимальной для России формы правления; наконец, они резко критически относились к Западу за его ведущие к духовному опустошению рационализм, индивидуализм и юридизм и выступали за особый путь России.
Но, как верно заметил еще Герцен, между николаевской и славянофильской «народностью» «общего… ничего не было, кроме слов». Славянофилы мечтали о независимой от государства церкви, проникнутой началами христианской любви и соборности (единства в свободе). Социальной проекцией соборности представлялась мифологизированная крестьянская община. Самодержавие мыслилось ими отнюдь не в виде наличной петербургской монархии, которая им казалась начиная с Петра насквозь западной, «немецкой» (как и оевропеившееся и ставшее чуждой народу дворянство), а по образцу до неузнаваемости идеализированной Московской Руси с ее Земскими соборами, «с широким развитием совещательного начала» (характерно, что среди славянофилов не было серьезных историков-профессионалов, за исключением И. Д. Беляева). Отрицание западного либерально-буржуазного прогресса не делало славянофилов охранителями наиболее темных черт Российской империи – они были убежденными сторонниками свободы слова и отмены крепостного права (в последнем пункте несколько особняком стояли братья Киреевские, считавшие, что с крестьянской реформой не стоит торопиться).
«Государству – неограниченное право действия и закона. Земле – полное право мнения и слова (…) внешняя правда – Государству, внутренняя правда – Земле; неограниченная власть – Царю, полная свобода жизни и духа – народу; свобода действия и закона – Царю, свобода мнения и слова – народу», – провозглашал К. Аксаков, оговариваясь, что русские – «народ неполитический», то есть не стремящийся к власти, а потому им не нужны правовые гарантии, а лишь свобода религиозная и бытовая. Николаевскому внешнеполитическому легитимизму, и словом и делом поддерживавшему единство империи Габсбургов, явным образом противоречили панславистские грезы славянофилов, выразившиеся уже в поэзии Хомякова 1830-х гг.
Славянофильская доктрина причудливым образом сочетала разнопородные элементы – и консервативные, и демократические, причем последние первоначально явно преобладали. Позднее гений русского консерватизма К. Н. Леонтьев чересчур категорично, но и не без оснований написал, что «под боярским русским кафтаном московских мыслителей кроется обыкновенная блуза западной демагогии… славянофилы были все либералами… Сами себя они никогда либералами на европейский лад признать не хотели и против этого рода европеизма даже постоянно писали… Но быть против конституции, против всеобщей подачи голосов, против демократического индивидуализма, стремящегося к власти, и быть в то же время за бессословность, за политическое смешение высших классов с низшими — значит отличаться от новейшей Европы не главными и существенными чертами социального идеала, а только степенью их выразительности. При мало-мальски благоприятных условиях для демократических сил равноправность гражданская переходит в равенство политическое, и свобода личная присваивает себе скоро власть конституционную». Вл. С. Соловьев величал славянофилов «археологическими либералами». Думаю, что эта «археологичность» связана не только с особенностями их интеллектуального генезиса, точнее, этот последний сам был во многом определен обстоятельствами времени.
Деполитизированность славянофильского дискурса напрямую вырастала из полной невозможности легальной политики после 14 декабря. Придавленные жестким прессом николаевского режима, «московские славяне» уже не чувствовали государство «своим», оно сделалось для них закрытой в себе сферой, четко отделенной от общества, отсюда своеобразный славянофильский пассивный «анархизм». Прославляемые славянофилами «рабьи» добродетели «смирения», «самоотречения» и проч. – суть морально-психологическая компенсация за унижение и бессилие дворянства в николаевское тридцатилетие. Те же самые печальные реалии указанного периода сформировали у возмужавшего тогда поколения культ (квази)теоретических схем, разного рода историософий, которым многие его представители (у славянофилов это особенно заметно) последовательно подчиняли свою практическую деятельность.
Славянофилы, несмотря на то что при своем появлении они были встречены образованным обществом недоумением и насмешками, наложили на дальнейшее развитие русского национализма неизгладимую печать, определив многие его родовые травмы. Нельзя, конечно, не признать за ними важную заслугу в создании основ национальной мифологии, которая присуща любому европейскому национализму («Речи к немецкой нации» Фихте вряд ли описывают реальных немцев более адекватно, нежели Хомяков или К. Аксаков реальных русских), беда в том, что эта мифология позднее стала помехой для необходимых преобразований в отношении, например, той же крестьянской общины. Но несомненным достоинством славянофильской мысли было выдвижение народа в качестве главного субъекта истории. К. Аксаков, рецензируя «Историю России» С. М. Соловьева, справедливо упрекал последнего, что тот «не заметил одного: Русского народа», а ведет речь почти исключительно об истории Российского государства. А ведь «рядом с Государством существует Земля (…) сама история Государства как Государства не может быть удовлетворительна, как скоро она не замечает Земли, народа». Жаль только, что ни сам критик, ни его единомышленники так и не удосужились написать альтернативную Соловьеву «Историю русского народа»…
Заслуги славянофилов в развитии национального самосознания признавали и их оппоненты-западники, так, В. П. Боткин писал П. В. Анненкову 14 мая 1847 г.: «…славянофилы выговорили одно истинное слово: народность, национальность. В этом их великая заслуга; они первые почувствовали, что наш космополитизм ведет нас только к пустомыслию и пустословию; эта так называемая „русская цивилизация“ исполнена была великой заносчивости и гордости, когда они вдруг пришли ей сказать, что она пуста и лишена всякого национального корня; они первые указали на необходимость национального развития. Вообще, в критике своей они почти во всем справедливы…» При этом он, правда, оговаривался: «Но в критике заключается и все достоинство славян! Как только выступают они к положению – начинаются ограниченность, невежество, самая душная патриархальность, незнание самых простых начал государственной экономии, нетерпимость, обскурантизм и проч.».
Важнейшей проблемой славянофилы справедливо считали преодоление социокультурного раскола между верхами и низами русского народа, вызванного петровскими реформами. По словам Хомякова, «в высших сословиях проявлялось знание, но знание вполне отрешенное от жизни; в низших – жизнь, никогда не восходящая до сознания… Оба начала оставались бесплодными в своей болезненной односторонности». Но, Алексей Степанович верит, что «возврат русских к началам русской земли уже начинается». Осторожно, но твердо славянофилы выдвигают идею русификации империи. Тот же Хомяков писал в 1845 г.: «Россия приняла в свое великое лоно много разных племен: финнов прибалтийских, приволжских татар, тунгузов, бурят и др.; но имя, бытие и значение получила она от русского народа (то есть человека Великой, Малой, Белой Руси). Остальные должны с ним слиться вполне: разумные, если поймут эту необходимость; великие, если соединятся с этой великой личностью; ничтожные, если вздумают удерживать свою мелкую самобытность».
(Обратим, кстати, внимание на хомяковскую конкретизацию понятия «русский народ». Такой подход в то время только-только начал утверждаться. Представление о том, что великороссы, малороссы и белорусы суть один народ, впервые сформулированное с претензией на научность в 1830-х гг. официозным историком Н. Г. Устряловым, стало догмой русского национализма лишь во второй половине XIX в. Ранее многие именитые русские националисты видели ситуацию иначе. Скажем, известный журналист Н. А. Полевой (несмотря на фамилию, вовсе не украинец, а сибиряк с курскими корням) писал в 1830 г., что хотя «доныне малороссияне только исповедуют греческую веру, говорят особенным диалектом русского языка, и принадлежат к политическому составу России, но по народности вовсе не русские». Не менее известный историк М. П. Погодин в 1845 г. позволил себе такое рассуждение: «Великороссияне живут рядом с малороссиянами, исповедуют одну веру, имеют одну судьбу, долго одну историю. Но сколько есть различия между великороссиянами и малороссиянами! Нет ли у нас большего сходства в некоторых качествах даже с Французами, чем с ними? В чем же состоит сходство? – Этот вопрос гораздо затруднительнее». Определенно отделял малороссов от великороссов в тексте 1850 г. один из лидеров славянофильства Ю. Самарин. Склонный к увлечениям и крайностям А. А. Григорьев в середине 1850-х гг. высказывал подозрение к «хохлацкому началу», наряду с «ляхитским», а в начале 1860-х уже восхвалял поэзию Шевченко как явление новой великой литературы славянского мира, то есть в обоих случаях мыслил украинцев в качестве отдельного народа.)
Даже и «археологический либерализм» славянофилов вызвал нешуточные опасения власти, о чем свидетельствует внушительный список репрессий против них. В 1847 г. по возвращении из-за границы был арестован и подвергнут допросу Ф. В. Чижов из-за его контактов с зарубежными славянами и фантастического подозрения в причастности к Кирилло-Мефодиевскому братству. Через две недели его выпустили, но оставили под секретным надзором.
В 1845–1848 гг. в Риге в составе ревизионной комиссии находился служивший чиновником МВД Ю. Самарин. Увиденное там настолько его потрясло, что он написал остропублицистический памфлет «Письма из Риги», посвященный изобличению немецкого господства в Прибалтике, униженному положению там русских («систематическое угнетение русских немцами, ежечасное оскорбление русской народности в лице немногих ее представителей – вот что теперь волнует во мне кровь»; «здесь все окружение таково, что ежеминутно сознаешь себя, как русского, и как русский оскорбляешься»), гонениям на православие и потворству всему этому со стороны генерал-губернатора князя А. А. Суворова. Главный вывод звучал жестко и бескомпромиссно: «…современное устройство Остзейского края противоречит основным государственным и общественным началам, выработанным новейшею историею, достоинству и выгодам России и, наконец, интересам самого края… Чтобы быть полновластными господами у себя, остзейские привилегированные сословия должны располагать волею правительства, иными словами: быть господами у нас». Это сочинение немыслимо было опубликовать легально, и оно распространялось в списках в Москве и Петербурге, осенью 1848 г., вернувшись в Москву, Самарин устраивал его публичное чтение в салонах.
Ответным ходом «немецкой партии» стал арест славянофила 5 марта 1849 г. и заключение его в Петропавловской крепости сроком на две недели. Так могущественно оказалось немецкое лобби в Петербурге, что министр внутренних дел В. А. Перовский, министр государственных имуществ П. Д. Киселев и шеф жандармов А. Ф. Орлов, поддерживавшие Самарина, не смогли этого предотвратить. Правда, благодаря им и своему высокому аристократическому статусу Юрий Федорович (чьим восприемником от купели был сам Александр I) отделался еще сравнительно легко. Замечательно точно сформулировал суть его дела в личной беседе с ним государь Николай Павлович: «Вы прямо метили в правительство. Вы хотели сказать, что со времени императора Петра I и до меня мы все окружены немцами и потому сами немцы… Вы поднимали общественное мнение против правительства; это готовилось повторение 14 декабря… Ваша книга ведет к худшему, чем 14 декабря, так как она стремится подорвать доверие к правительству и связь его с народом, обвиняя правительство в том, что оно национальные интересы русского народа приносит в жертву немцам… Вас следовало отдать под суд… Вы сами знаете, что вы бы сгинули навсегда». «Незабвенный» прекрасно понимал, что его неограниченная власть и немецкие привилегии «скованы одной цепью» и удар по последним неизбежно отзовется на первой.
18 марта того же года был арестован И. С. Аксаков, проведший в Третьем отделении четыре дня. Основанием для ареста стала перлюстрация его писем к родным, в которых содержались резкие суждения о деятельности правительства. Иван Сергеевич подвергся письменному допросу с целью выяснить его убеждения, этот тест затем читал сам император, приказавший Аксакова отпустить. При этом, однако, его отдали под негласный надзор полиции, продолжавшийся вплоть до 1857 г.
В апреле все того же 1849 г. славянофилам предписанием министра внутренних дел было официально приказано сбрить бороды, которые они демонстративно носили как символ своей приверженности исконно русским началам. Парадоксально, но наверху в этом увидели пугающее проявление западничества: «…как дошло до высочайшего сведения, что новый обычай сей все более и более распространяется и что у некоторых он происходит от страсти подражания западным привычкам, то государь император повелеть изволил, дабы я объявил всем гг. губернским предводителям дворянства, что Его Величество почитает недостойным русского дворянина увлекаться подражанием западным затеям так называемой моды и что ношение бороды тем более неприлично, что всем дворянам предоставлено право ношения мундира, при котором отнюдь не дозволено иметь бороды».
Московский генерал-губернатор А. А. Закревский искал славянофильский след даже в обществе фурьеристов-петрашевцев и сказал одному своему близкому знакомому: «„Что, брат, видишь: из Московских Славян никого не нашли в этом заговоре. Что это значит по-твоему?“ – „Не знаю, ваше сиятельство“. – „Значит, все тут; да хитры, не поймаешь следа“».
Попытки славянофилов выступать в легальной печати также жестко пресекались. В декабре 1852 г. император дал такое характерное распоряжение Главному цензурному комитету: «Чтобы все цензурные комитеты обращали особое внимание на сочинения в духе славянофилов, не дозволяли к напечатанию ни отдельных книг, ни журнальных статей, в которых рассуждается о небывалых в России общинах, общинном быте и тому подобном, равно о том, будто бы власть древних князей наших была ограничена упомянутыми общинами, земскою дружиною, вольницей народа и другими небывалыми же отношениями между русскими государями и их подданными, и вообще не допускать ни возгласов, ни даже намеков о желании, дабы в государстве нашем был введен древний или иной какой-либо порядок дел, не соответствующий нынешнему государственному правлению».
В результате второй выпуск славянофильского «Московского сборника» в 1853 г. был отправлен на двойную цензуру в Министерство просвещения и Третье отделение и запрещен со следующим вердиктом: «…прекратить вообще издание „Сборника“… редактора Ивана Аксакова лишить права быть редактором каких бы то ни было изданий, …Ивану Аксакову, Константину Аксакову, Хомякову, Ивану Киреевскому и князю [Владимиру] Черкасскому сделав наистрожайшее внушение за желание распространять нелепые и вредные понятия, приказывать представлять свои рукописи впредь прямо в главное управление цензуры». Одновременно над всеми ними, «как людьми открыто неблагонадежными», был установлен явный полицейский надзор. Дело дошло до того, что даже отцу братьев Аксаковых – старику Сергею Тимофеевичу запретили издание невинного «Охотничьего сборника», ибо, как говорилось в заключении Третьего отделения, «нельзя предполагать, чтобы он при издании помянутого сборника руководствовался должной благонамеренностью…».
«Быть русскими в европейском духе»
Славянофилы были наиболее яркими и значительными выразителями русского национализма в Николаевскую эпоху (характерно, что именно в связи с ними Герцен едва ли не впервые в отечественной словесности в дневнике 1844 г. употребил слово «национализм»), но все же не имели монополии на него. Националистический дискурс – пусть и в более умеренном виде – был свойствен и их оппонентам – западникам. Это утверждение противоречит укоренившимся массовым предрассудкам о якобы злокозненной западнической «русофобии», но факты последним явно противоречат. К сожалению, неспециалисты чаще всего воспринимают западников по критическим инвективам их противников, до крайности полемически заостренным. Но это то же самое, как если бы считать подлинным лицом славянофильства его отражение в кривом зеркале западнических филиппик. Карикатуры на идейных противников создавали обе стороны. Судить о реальных западниках по языковскому «К не нашим» («Вы все, – не русский вы народ!») столь же непродуктивно, как о реальных славянофилах по тургеневскому пассажу в поэме «Помещик» («От шапки-мурмолки своей / Ждет избавленья, возрожденья; / Ест редьку, – западных людей / Бранит – и пишет… донесенья»).
Вот, положим, П. Я. Чаадаев с его пресловутым Первым «философическим письмом» – едва ли не живое воплощение русофобии. Но комплексное изучение наследия Петра Яковлевича не дает оснований считать его мировоззрение последовательно русофобским. И дело не только в «Апологии сумасшедшего», где он патетически возвещает о великом будущем России. Стоит посмотреть на его позицию по конкретным политическим делам, благо есть соответствующие тексты. Предлагаю несколько цитат из статьи «Несколько слов о польском вопросе», написанной в 1831–1832 гг. (то есть уже после окончания работы над всем циклом «Философических писем», созданным в 1828–1830 гг., но за несколько лет до публикации первого из них, – то есть, с одной стороны, «русофобская» историософия Чаадаева была к тому времени уже сформулирована, но, с другой стороны, она еще не была официально осуждена, так что эти пассажи не спишешь на конъюнктурное покаяние): «В областях, присоединенных к Российской империи (не входящих в состав царства Польского) и называвшихся раньше Литвой, Белоруссией и Малороссией, поляки составляют приблизительно пятидесятую часть всего населения. Остальные почти сплошь русские. Эти последние хранят еще свежую память о насилиях, выпавших на долю их отцов при польском владычестве, и питают к своим господам, пережитку прежнего строя, такую ненависть, что спасением своим они отчасти обязаны русскому правительству… Расчленять Россию, отрывая от нее силою оружия западные губернии, оставшиеся русскими по своему национальному чувству, было бы безумием. Сохранение их, впрочем, составляет для России жизненный вопрос. В случае, если бы попытались осуществить этот план, она в тот же час поднялась бы всей массой, и мы стали бы свидетелями проявления всех сил ее национального духа… Надо, наконец, вспомнить, что первоначально Российская империя была лишь объединением нескольких славянских племен, которые приняли свое имя от пришедших Руссов… и что ныне еще это все тот же политический союз, обнимающий две трети всего славянского племени, обладающий независимым существованием и на самом деле представляющий славянское начало во всей его неприкосновенности».
Здесь нет даже намека на русофобию – классический русский национализм, не иначе. То есть одно дело, когда Чаадаев абстрактно «историософствует», возможно желая эпатировать публику беспримерной резкостью теоретических суждений, другое – когда он обращается к «злобе дня», к проблемам, требующим практического и однозначного решения, – тут он ничем не уступает в русофильстве Каткову или Ивану Аксакову.
Но если даже западник-«латинофил» Чаадаев не являл собой законченного русофоба, тем более совершенной напраслиной будет возводить этот поклеп на «классических» за падников, западников-либералов, которые вовсе не стремились разрушить Россию, а, напротив, искренне хотели ее процветания, путь к которому видели в подражании более прогрессивной (в социально-политическом и материально-техническом плане так оно и было) Западной Европе, цивилизационно от России ими неотделяемой. Наиболее же «продвинутые» европейские страны в середине XIX столетия либо уже давно являлись (Англия) национальными государствами, либо стали ими совсем недавно (Франция), либо стремительно в них превращались (Германия). Большинство евро пейских либералов были неприкрытыми националистами, и русские либералы просто последовательно им подражали. Говорят, дескать, западники выступали против «исторической России». Но что это такое? Россия Николая I? То есть ничем не ограниченная автократия, крепостное право и зашкаливающее социальное неравенство. Разве не заслуживает все это, как минимум, критики (кстати, в обличении грехов николаевской России славянофилы повинны в не меньшей степени, чем западники)? Западники недолюбливали допетровскую Русь? Но неужели Московская Русь есть эталон русскости? Тогда и А. К. Толстого придется в русофобы занести. А кто-то, напротив, может инкриминировать русофобию славянофилам за отрицание петербургского периода…
На мой взгляд, наследие русских западников необходимо радикально реабилитировать, ибо именно у них можно найти именно то понимание русскости, которое столь сегодня актуально: русские – это европейский народ, имеющий право на европейский образ жизни.
Вот, скажем, почтеннейший С. М. Соловьев пишет в своей работе «Древняя Россия» (1856): «…варварский народ тот, который сдружился с недостатками своего общественного устройства, не может понять их, не хочет слышать ни о чем лучшем; напротив, народ никак не может назваться варварским, если при самом неудовлетворительном общественном состоянии сознает эту неудовлетворительность и стремится выйти к порядку лучшему; при этом, чем более препятствий встречает он на своем пути к порядку, тем выше его подвиг; если он преодолевает их, тем более великим является такой народ перед историею. Итак, были ли наши предки варварами? Брошенные на край Европы, оторванные от общества образованных народов, в постоянной борьбе с азиатскими варварами, подпадая даже игу последних, русские люди неутомимо совершали свое великое дело, завоевывая для европейско-христианской гражданственности неизмеримые пространства от Буга до Восточного океана, завоевывая не оружием воинским, но преимущественно мирным трудом, русский народ должен был сам все создавать для себя в этой стране, дикой и пустынной. Находясь в обстоятельствах самых неблагоприятных, предоставленные самим себе, предки наши никогда не утрачивали европейско-христианского образа. Ни один век нашей истории не может быть представлен веком коснения; в каждом замечается сильное движение и преуспеяние… Древних русских людей можно назвать передовым отрядом европейско-христианских народов, отрядом, выставленным на самое опасное, самое трудное место…»
Соловьев правильно акцентировал европейскость русского народа. Он (как и другие западники, представители так называемой «государственной школы» – Б. Н. Чичерин, К. Д. Кавелин и др.) ошибался в другом, полагая, что петербургское самодержавие само по своей воле захочет эту европейскость институционализировать.
Некоторые амбициозные ловцы русофобов пытаются в число последних записать и В. Г. Белинского, меж тем как он из всех западников, пожалуй, наиболее последовательный русский националист. Никто из обличителей Белинского так и не смог отыскать у него ни одной действительно русофобской цитаты. (Да, Белинский говорил о «гнусной рассейской действительности», но это относилось к не онтологии русского человека, а к конкретным социально-политическим условиям его бытования 1840-х гг.) Но таких цитат и не могло быть, ибо для Виссариона Григорьевича ключевой категорией его мышления была идея «народности» («народность есть альфа и омега эстетики нашего времени»), и применительно к литературе он был одним из ее главных разработчиков. Более того, именно Белинский являлся одним из первых инициаторов употребления слова «нация» в русском языке в его современном значении («нация выражает собой понятие о совокупности всех сословий»), что бдительно пресекалось николаевской цензурой, вычеркнувшей указанный пассаж из статьи «Россия до Петра Великого» (1841).
В одной из своих поздних статей, имеющей характер духовного завещания, «Взгляд на русскую литературу 1846 г.» (1847), критик недвусмысленно утверждал: «Что личность в отношении к идее человека, то народность в отношении к идее человечества. Другими словами: народности суть личности человечества. Без национальностей человечество было бы мертвым логическим абстрактом, словом без содержания, звуком без значения. В отношении к этому вопросу я скорее готов перейти на сторону славянофилов, нежели оставаться на стороне гуманистических космополитов, потому что если первые и ошибаются, то как люди, как живые существа, а вторые и истину-то говорят, как такое-то издание такой-то логики… Человек силен и обеспечен только в обществе; но, чтобы и общество, в свою очередь, было сильно и обеспечено, ему необходима внутренняя, непосредственная, органическая связь – национальность… Мы… решительно не верим в возможность крепкого политического и государственного существования народов, лишенных национальности, следовательно, живущих чисто внешнею жизнию».
А вот из той же статьи собственно о русской «национальности»: «Нам, русским, нечего сомневаться в нашем политическом и государственном значении: из всех славянских племен только мы сложились в крепкое и могучее государство и как до Петра Великого, так и после него, до настоящей минуты, выдержали с честию не одно суровое испытание судьбы, не раз были на краю гибели и всегда успевали спасаться от нее и потом являться в новой и большей силе и крепости. В народе, чуждом внутреннего развития, не может быть этой крепости, этой силы. Да, в нас есть национальная жизнь, мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль; но какое это слово, какая мысль, – об этом пока еще рано нам хлопотать… В чем состоит эта русская национальность, – этого пока еще нельзя определить; для нас пока довольно того, что элементы ее уже начинают пробиваться и обнаруживаться сквозь бесцветность и подражательность, в которые ввергла нас реформа Петра Великого… Не любя гаданий и мечтаний и пуще всего боясь произвольных, личных выводов, мы не утверждаем за непреложное, что русскому народу предназначено выразить в своей национальности наиболее богатое и многостороннее содержание и что в этом заключается причина его удивительной способности воспринимать и усвоивать себе все чуждое ему; но смеем думать, что подобная мысль, как предположение, высказываемое без самохвальства и фанатизма, не лишена основания…»
В «России до Петра Великого» Белинский четко и ясно формулирует символ веры всех либеральных западников: «…мы уже не хотим быть ни французами, ни англичанами, ни немцами, но хотим быть русскими в европейском духе».
Весьма характерно, что «неистовый Виссарион» оказался ярым противником даже ранней версии украинофильства. В рецензии на «Историю Малороссии» Н. А. Маркевича (1843) он недвусмысленно заявил, что малороссы не способны «к нравственному движению и развитию», что они не подпустили бы «к себе цивилизацию ближе пушечного выстрела», и, только «слившись навеки с единокровною ей Россиею, Малороссия отворила к себе дверь цивилизации, просвещению, искусству, науке, от которых дотоле непроходимою оградою разлучал ее полудикий быт». С нескрываемым презрением говорил великий критик о поэзии Тараса Шевченко (см. его издевательский отзыв на поэму «Гайдамаки»). Впрочем, личность «кобзаря» вызывала у него еще меньше симпатий, чем его поэзия: «Здравый смысл в Шевченке должен видеть осла, дурака и пошлеца, а сверх того, горького пьяницу, любителя горилки по патриотизму хохлацкому… Шевченку послали на Кавказ солдатом. Мне не жаль его, будь я его судьею, я сделал бы не меньше». В том же письме 1847 г. П. В. Анненкову, откуда взята вышеприведенная филиппика, Белинский допускает еще один украинофобский пассаж: «Одна скотина из хохлацких либералов, некто Кулиш (экая свинская фамилия)… напечатал историю Малороссии, где сказал, что Малороссия или должна отторгнуться от России, или погибнуть… Ох эти мне хохлы! Ведь бараны – а либеральничают во имя галушек и вареников с салом!»
(Многие западники были солидарны в этом вопросе с Белинским, например И. С. Тургенев, саркастически высказавшийся об украинской культуре в «Рудине» устами Пигасова: «…если б у меня были лишние деньги, я бы сейчас сделался малороссийским поэтом… Стоит только взять лист бумаги и написать наверху: „Дума“; потом начать так: „Гой, ты доля моя, доля!“ или: „Седе казачино Наливайко на кургане!“, а там: „По-пид горою, по-пид зеленою, грае, грае воропае, гоп! гоп!“ или что-нибудь в этом роде. И дело в шляпе. Печатай и издавай. Малоросс прочтет, подопрет рукою щеку и непременно заплачет, – такая чувствительная душа!.. Вы говорите: язык… Да разве существует малороссийский язык? Я попросил раз одного хохла перевести следующую, первую попавшуюся мне фразу: „Грамматика есть искусство правильно читать и писать“. Знаете, как он это перевел: „Храматыка е выскусьтво правыльно чытаты ы пысаты…“. Что ж, это язык, по-вашему? самостоятельный язык? Да скорей, чем с этим согласиться, я готов позволить лучшего своего друга истолочь в ступе…»)
Национальный социализм
Национализм пронизывает и самосознание первого поколения идеологов «русского социализма». Конечно, однозначно определить Герцена только как националиста будет натяжкой, но, несомненно, он был и националистом тоже, ему явно присущ националистический дискурс, во многом наследующий традиции дворянского национализма первой четверти XIX в. Для него естественна именно националистическая, а не космополитическая картина мира: «Народы любят соотечественников – это понятно, но что такое любовь, которая обнимает все, что перестало быть обезьяной, от эскимоса и готтентота до далай-ламы и папы, – я не могу в толк взять… что-то слишком широко». Именно народы для него главные субъекты истории. И в этой картине мира Герцена, в сущности, интересует только одно – Россия и русские. Он последовательно отделяет свою ненависть к «чудовищному петербургскому правительству» от любви к русскому народу. «Я страшно люблю Россию и русских», – повторяет он постоянно в своих сочинениях и письмах. Он верит в великую всемирную миссию своей страны и своего народа, «народа будущего»: «Судьба России колоссальна… Я вижу это помазание на нашем челе». Но при этом у него не найти мазохистских призывов о том, что русские должны отрекаться от себя ради этого великого будущего.
Живя в эмиграции, Герцен постоянно подчеркивает свою русскость и свою чуждость Европе. «…Я физиологически принадлежу другому миру», – пишет он Моисею Гессу. Характерен ответ Александра Ивановича на резкие нападки эмигранта И. Г. Головина, взявшегося оспаривать его право представлять революционную Россию на международном демократическом митинге, как якобы не русского, а «немецкого жида, родившегося в России»: «Русский по рождению, русский по воспитанию и, позвольте прибавить, вопреки или скорее благодаря теперешнему положению дел, русский всем своим сердцем, я считаю своим долгом требовать в Европе признания моего русского происхождения, что никогда не ставилось даже под сомнение в России ни со стороны признававшей меня революционной партии, ни со стороны царя, преследовавшего меня…»
Наконец, что важнее сорока тысяч теорий, Герцен не желает, чтобы его дети стали иностранцами, постоянно напоминая им о национальных корнях: «…Доволен я и тем, – пишет он дочери о ее отношениях с европейцами, – что ты наконец поняла… что все эти хорошие люди чужие… Итак, друг мой, оставайся в душе русской девушкой и храни в себе это чувство родства и сочувствия к нашей форме». Он надеется, что после его смерти они вернутся на Родину. Да, дети не выполнили завета отца (хотя и русскости тоже не утратили), но внук Александра Ивановича – Петр Александрович (1871–1947) переехал в Россию и стал одним из основоположников клинической онкологии в СССР.
Воюя с самодержавием, Герцен всячески стремится подчеркнуть его нерусскую или даже антирусскую природу, оно для него – «татарско-немецкое». Постоянная мишень для его критических стрел – немецкое окружение Романовых: «Немцы… далеко не олицетворяли прогресса; ничем не связанные со страной, которую не давали себе труда изучить и которую презирали, считая варварской, высокомерные до наглости, они были раболепнейшим орудием императорской власти. Не имея иной цели, как сохранить монаршее к себе расположение, они служили особе государя, а не нации. Сверх того, они вносили в дела неприятные для русских повадки, педантизм бюрократии, этикета и дисциплины, совершенно противоположный нашим нравам… Русское правительство до сих пор не имеет более преданных слуг, чем лифляндские, эстляндские и курляндские дворяне. „Мы не любим русских, – сказал мне как-то в Риге один известный в Прибалтийском крае человек, – но во всей империи нет более верных императорской фамилии подданных, чем мы“. Правительству известно об этой преданности, и оно наводняет немцами министерства и центральные управления. Это и не благоволение и не несправедливость. В немецких офицерах и чиновниках русское правительство находит именно то, что ему надобно: точность и бесстрастие машины, молчаливость глухонемых, стоицизм послушания при любых обстоятельствах, усидчивость в работе, не знающую усталости. Добавьте к этому известную честность (очень редкую среди русских) и как раз столько образования, сколько требует их должность, но совсем не достаточного для понимания того, что вовсе нет заслуги быть безукоризненными и неподкупными орудиями деспотизма; добавьте к этому полнейшее равнодушие к участи тех, которыми они управляют, глубочайшее презрение к народу, совершенное незнание национального характера, и вам станет понятно, почему народ ненавидит немцев и почему правительство так любит их». Это мало чем отличается от традиционного дворянского «немцеедства» XIX столетия.
Да, Герцен был социалистом, но его социализм был именно русским, цель коего – благо русского народа, а не какой-нибудь «Третий Интернационал». В этом смысле автора «Былого и дум» вполне можно назвать русским левым националистом. Равно как и его ближайших сподвижников – М. А. Бакунина и Н. П. Огарева. Кстати, на Западе так их и воспринимали. Немецкий социалист Арнольд Руге писал Герцену в 1854 г.: «Вы знаете, как меня всегда интересовали ваши сообщения о России… но то явление, что даже свободомысленнейшие русские, как вы и Бакунин, все еще остаетесь русскими националистами, все гордитесь этим ужасным отечеством… что вы думаете, будто эта (русская) простая, несамостоятельная толпа может быть сравниваема с теми гордыми вольными индивидуумами, которые разрушили древний мир, со старыми германцами, – это действительно горькое для меня открытие».
Другое дело, что возведение в перл создания передельной крестьянской общины и барское презрение к буржуазии, свойственные «русскому социализму», – концепты, по сути, не менее архаичные, чем славянофильские фантазии на тему Московской Руси и сказавшиеся на развитии русской мысли и русской нации не менее роковым образом.
Учитель и ученик
Картина дореформенного русского национализма будет неполна без еще двух ярких фигур, стоявших несколько наособицу, не вписывавшихся целиком ни в какое направление.
Это, во-первых, историк, профессор Московского университета и издатель журнала «Москвитянин» Михаил Петрович Погодин, долгое время бывший одним из столпов «официальной народности», но одновременно, по мере возможностей, пропагандировавший панславизм, в тогдашней России практически запрещенный. Его национализм, хоть и прикрытый официозной риторикой, был очевиден, и вполне благонамеренный «Москвитянин» не единожды оказывался на грани запрещения из-за недоброжелательного внимания Третьего отделения. Во время Крымской войны Погодин вызвал настоящий общественный фурор своими ходившими по рукам рукописными памфлетами о пороках николаевской системы, в которых он, в частности, подверг сокрушительной критике антинациональную, легитимистскую внешнюю политику империи: «…для сохранения в Европе законного, так называемого, порядка… для поддержания наших предначертаний, мы должны были держать всегда наготове миллион войска. Миллион войска делал необходимым беспрестанные рекрутские наборы, коими истощалось настоящее народонаселение, замедлялось естественное размножение, и самые лучшие, крепкие силы обращались на бесплодное дело. Сколько народа народилось бы в России в продолжение сорока лет, если бы хоть половина рекрутов осталась среди своих семейств… Содержание миллиона войска поглощало половину государственных доходов, коих потому не могло доставать на удовлетворение самых крайних нужд… Наконец, внимание, устремленное исключительно на внешние отношения и на военную часть, оказывалось естественно недостаточным для всех прочих частей управления. Посвящая свои труды и заботы чужим делам, мы пренебрегли собственными, и привели их в бедственное положение. Мы позабыли, что состояние военное есть исключительное, отрицательное, временное, что оно есть только необходимое пока зло, следовательно, и военная служба есть служба случайная. Мы потеряли из виду высшую цель благоустроенного гражданского общества».
Второй – это ученик Погодина по Московскому университету и один из ведущих сотрудников его «Москвитянина», «последний романтик», автор всем известной «Цыганской венгерки» («Две гитары за стеной жалобно заныли…») – поэт и критик Аполлон Александрович Григорьев, сформулировавший основы почвенничества, которое разовьется в самостоятельное направление уже в 1860-х гг. О нем после его смерти скажет Достоевский: «Может быть, из всех своих современников он был наиболее русский человек как натура».
Совершенно новым в мысли Григорьева было, например, то, что он, в отличие не только от западников, но и от славянофилов и предвосхищая Н. Я. Данилевского, радикально отказался от понятия «человечества», «которого, в сущности, нет, ибо есть организмы растущие, стареющиеся, перерождающиеся, но вечные: народы». Но это новое вытекало из более общей установки мыслителя, символом веры которого было поклонение «жизни, а не теории, типам и народностям, а не отвлеченному мундирному единству», а следовательно, свободе, а не несвободе. «Человечество» именно тем ненавистно Григорьеву, что оно «абстрактное чудовище», требующее «жертв никак не менее древнего Ваала». Этой унифицирующей абстракции «жертвуется всем народным, местным, органическим». То есть это один из уровней (самый высокий) насильственной, деспотической, «мундирной» несвободы, стремящейся свести все разнообразие жизни к одному сухому знаменателю. Но есть и другие уровни – пониже, но не менее – а гораздо более – «мундирные». Каждый народ, в свою очередь, многосоставен, в нем существуют различные «типы», «веяния», наконец, «личности», которые своим свободным взаимодействием только и творят народную жизнь. Все иное – «теория», а стало быть, «деспотизм», «мундир», будь то «казармы» «незабвенного императора Николая Павловича»; «формализм государственный и общественный», ведущий к уничтожению «народностей, цветов и звуков жизни» у западников; «социальная блуза» и «фаланстер» социалистов – «в сущности, это одно и то же».
В тот же «мундирный» список попало и славянофильство, которому Григорьев, разумеется, отдавал должное и всегда с почтением произносил имена Киреевского и Хомякова. Но и у них он видел господство теории над жизнью и даже находил в учении «московских славян» «социализм»: «Славянофильство… как и западничество, не брало народ, каким он является в жизни, а искало в нем всегда своего идеального народа, обрезывало по условной мерке побеги этой громадной растительной жизни. Своего, идеального народа оно отыскивало только в допетровском быту и в степях, которых не коснулась еще до сих пор реформа… Славянофильство подвергает народное обрезанию и холощению во имя узкого, условного, почти пуританского идеала».
Характерно одно из самых главных разногласие Григорьева со славянофилами: «Убежденные… что залог будущего России хранится только в классах народа, сохранившего веру, нравы, язык отцов, – в классах, не тронутых фальшью цивилизации, мы не берем таковыми исключительно одно крестьянство: в классе среднем, промышленном, купеческом по преимуществу, видим старую извечную Русь, с ее дурным и хорошим, с ее самобытностью и, пожалуй, с ее подражательностью… Славянофильство видит народное начало только в одном крестьянстве (потому что оно у них связывается с старым боярством), совсем не признавая бытия чисто великорусской промышленной стороны России». Таким образом, основой нации, по Григорьеву, идущему здесь след в след классическому европейскому национализму, может быть только «средний класс», купечество – русское «бюргерство», потому что нация может вырасти только из свободного социального слоя. Дворянство свободно, но только благодаря крепостному праву, его изуродовавшему и сделавшему неспособным к национальному лидерству, к тому же оно слишком «оевропеилось»; крестьянство, в силу своей структурной несвободы, пусть и подавляющее большинство русских, но «своего слова» не несет, оно в конечном счете будет подражать тем, кто выше по социальной лестнице, тем, кто свободнее. А купечество – и свободно, и национально-самобытно, и уже искушено «европеизмом» (не будем здесь обсуждать правоту этого взгляда, это, конечно, миф).
Иначе, чем славянофилы, а тем более официозные охранители, понимал Аполлон Александрович и православие. Для него оно было не строгим догматическим учением, напротив, оно «еще ist im Werden» [находится в становлении]. И главная его ценность в том, что оно, перефразируя одного из персонажей Достоевского, – важнейший «атрибут» русской народности: «Дело православия слилось для восточнославянского племени с делом его народности. Еще более слилось оно с делом народности для нас, русских, в частности. Все связи наши с историею, с стариной – поддерживаются церковью…
Приезжаете вы, примерно, в один из старых городов старой Руси: в Тверь, Новгород, Суздаль, Переяславль, Володимер; тщетно искали бы вы следов старого города (во многих, как в Твери, кремля, кремлика не уцелело), коего имя напоминает вам столько великого и говорящего сердцу: общий уровень казенщины прошел надо всем – и старое, и связь, и предание встают перед вами только иконостасом векового собора, более или менее однотипного со всеми другими, – святынею какого-либо монастыря или пустыни».
В конечном итоге, православие, по Григорьеву, скорее не «вселенская истина», а некое (великое) культурно-историческое явление: «Под православием разумею я сам для себя просто известное, стихийно-историческое начало, которому суждено еще жить и дать новые формы жизни, искусства, в противуположность другому, уже отжившему и давшему свой мир, свой цвет началу – католицизму. Что это начало, на почве славянства, и преимущественно великорусского славянства, с широтою его нравственного захвата – должно обновить мир, – вот что стало для меня уже не смутным, а простым верованием – перед которым верования официальной церкви иже о Христе жандармствующих стали мне положительно скверны…»
Народ как «живой организм» не есть что-то застывшее, статичное, он «вечно старый и новый вместе». Поэтому-то олицетворением русскости для Григорьева в итоге станет Пушкин («наше все», – кстати, именно григорьевская формула), который «и есть наша такая, на первый раз очерком, но полно и цельно обозначившаяся душевная физиономия, физиономия, выделившаяся, вырезавшаяся уже ясно из круга других народных, типовых физиономий, – обособившаяся сознательно именно вследствие того, что уже вступила в круг их. Это – наш самобытный тип, уже мерявшийся с другими, европейскими типами, проходивший сознанием те фазисы развития, которые они проходили, но боровшийся с ними сознанием, но вынесший из этого процесса свою физиологическую, типовую самостоятельность».
В отличие от позднейших почвенников, родоначальник этого направления, особенно в последние годы жизни, отстаивал огромную важность героического и вообще личностного начала в русской жизни: «Мысль об уничтожении личности общностью в нашей русской душе – есть именно слабая сторона славянофильства». Характерна его апология грибоедовского Чацкого как «нашего единственного героя», «единственно положительно борющегося в той среде, куда судьба и страсть его бросили», как «товарища людей вечной памяти двенадцатого года, могущественной, еще глубоко верящей в себя и потому упрямой силы, готовой погибнуть в столкновении с средою, погибнуть хоть бы из-за того, чтобы оставить по себе „страницу в истории“». Здесь очевиден прозрачный намек на декабристов.
Политическим революционером Григорьев конечно же не был. Но ощущение неразрывной связи нации и свободы – ключевого у декабристов – и ему в полной мере было свойственно. Как и они, он разделял культ домонгольской, «вечевой», свободной Руси. Для Григорьева гибель вечевых устоев «Русской федерации» – национальная трагедия. Но прошлое в григорьевском мировоззрении никогда не исчезает бесследно, и потому «коренной русский человек остался все такой же, какой он был во времена Мстиславов – стоятелей за вольную жизнь старой Руси». Так что вечевое начало тоже не умерло и способно в новом обличье воскреснуть.
Национализм Григорьева носил ярко выраженный демократический характер, он сам, собственно, определял свое направление как «народность демократическую и прогрессивную», нация и свобода были для него вещами нераздельными. Но, к сожалению, в последекабристский период эти понятия в русской политической мысли соединялись с трудом и чем дальше, тем больше расходились на противоположные концепции – несвободной нации и безнациональной свободы. Отсюда – одиночество Григорьева, его срывы, загулы и слишком ранняя смерть.
Народ самосознающий
На волне гласности, пусть и относительной, сопутствовавшей великим реформам, русский национализм вышел из полукатакомбного существования и стал влиятельным явлением легальной печати. Ранее всего о себе заявили в этом смысле славянофилы (уже в 1856 г. начал выходить их журнал «Русская беседа»), несомненным интеллектуальным лидером которых в этот период сделался И. Аксаков (оба Киреевских, Хомяков, К. Аксаков скончались один за другим в краткий отрезок с 1856 по 1860 г., Самарин, Кошелев, Черкасский ушли в практическую работу по реализации крестьянской реформы).
Иван Сергеевич был гораздо более трезвомыслящим идеологом, нежели его старший брат или Хомяков, чуждым туманных историософий, приверженность к которым составляла слабость последних. Характерна его реакция на архивные материалы по истории Московской Руси, им специально тщательно изученные, – никакой славянофильской «гармонии» он там предсказуемо не обнаружил: «Я занимался целый год чтением грамот и актов, и это чтение заставило меня разочароваться в древней Руси, разлюбить ее и убедиться, что не выработала она и не хранит в себе начал, способных возродить Россию к новой жизни… Если говорить вполне искренно, то знакомство мое с источниками, исследование по ним Земских дум в России меня скорее огорчило, нежели ободрило: мы привыкли с этим словом соединять какое-то либеральное понятие, но, раскрывая правду, я дал бы нашим противникам орудие в руках против нас же самих… Ученые исторические исследования не только не могут служить в пользу славянофильским отвлеченным теориям, но должны разрушить многие наши верования и точки опоры».
Тем не менее, став вождем направления, Аксаков посчитал необходимым принять историческую схему старшего брата о неполитическом характере отношений Земли (народа) с государством в России как догмат, внеся в нее, однако, важное дополнение – понятие общества (разработанное в цикле его статей 1862 г. в газете «День»), пусть неформально, но ограничивающего пределы государственных компетенций. Таким образом, Иван Сергеевич сделал «либерализм» славянофилов гораздо менее «археологическим».
Общество – это «народ самосознающий», оно «не есть явление политическое… сила его есть сила нравственная, сила общественного мнения, и… орудие деятельности общества – есть слово… Как скоро раздастся общественное слово, как скоро оно является как власть имеющее, – мы познаем существование общества». Государство же «и государственное начало должны быть отвлечены от жизни народа и общества на поверхность, и оставаться в тех скромных пределах, какие полагает им духовная и нравственная деятельность самого общества».
Притом что вроде бы собственно политических требований Аксаков не выдвигал, он «создал достаточно отчетливую концепцию „неполитического либерализма“, где постоянное указание на „неполитичность“ могло повторяться и утверждаться лишь за счет предельно суженного понимания „политического“, высвобождая тем самым пространство для складывания политического общества как пространства оформленного общественного мнения» (А. А. Тесля). Показательно для роста либерального компонента в славянофильстве того времени, что сама общественная среда мыслилась Иваном Сергеевичем как бессословная (он даже выступил с публичным призывом о самоупразднении дворянства): «Чем меньше сословий, чем меньше перегородок, разделяющих людей между собою, тем легче их соединить, тем возможнее деятельность единиц».
Аксаков последовательно проводил в своей публицистике идею о необходимости эволюции Российской империи в Русское национальное государство: «…Россия потому только и Россия, что она Русь, – живое, цельное тело, а не мозаическая сборка иноверцев и иноплеменных. К этому телу могут прилепляться прочие народные личности и тела, могут претворяться в его органическую сущность или только пользоваться его защитой, – но весь смысл бытия, вся сила, разум, историческое призвание – заключается именно в святой Руси… Русское государство только до того времени и в той мере крепко и сильно, в какой оно проникнуто духом русской народности, пока остается верным народным русским началам, пока оно Русь… Русский государь есть русский государь, и только, а не польский, немецкий и т. д. Если прочие народности и находятся под защитой его могучей державы, то на том только условии, чтоб эта защита не противоречила выгодам, счастью и благоденствию Русской народности».
Русскость определялась Аксаковым религиозно, православие представлялось ему «существенным содержанием русского национального типа»: «Что значит выражение русский католик?.. Оно значит: русский, отрицающий православие… Что же останется затем у русского, из его русской народности, вне этого начала, им отвергаемого?.. Язык, физиологические признаки, верноподданничество? Но разве в этом только заключается народность? Где же духовные ее элементы? Какая же может быть общность духовных национальных интересов у латинянина с православным русским? Хороши русские – латинского, Моисеева, Магометова закона, которые не могут назвать Русь – Святой Русью, как ее называл создавший ее православный русский народ!»
Нация – понятие политическое
Несколько позднее устами М. Н. Каткова заявила о себе гражданская версия русского национализма, которую издатель «Московских ведомостей» развернуто изложил в ряде статей 1864 г. Главный нерв этих работ – в утверждении нескольких простых тезисов: 1) цивилизованное государство = национальное государство; 2) в национальном государстве возможна только одна нация; 3) в России такой нацией может быть только русская нация; 4) членство в русской нации не связано с узкоэтническими или конфессиональными критериями, а основывается на лингвистической и гражданской ассимиляции.
В качестве образцов в решении национального вопроса Катков, в ту пору убежденный западник, предлагал Францию и Пруссию («обе эти страны, бесспорно, принадлежат к самым цивилизованным»). Нация – не синоним этноса, а «понятие политическое»: «Когда речь идет о политической национальности, то имеются в виду не племенные, этнографические особенности, которыми характеризуется то или другое народонаселение и которых во всяком государстве бывает множество, и особенно много, например, во Франции, по преимуществу гордящейся своим национальным единством… Признать какой-либо элемент в качестве нации – это… значит… дать ему власть, сообщить ему обязательную силу. В признании нации решается вопрос о власти, о правительстве, о государстве… Господствующая в государстве нация есть само государство. Государственная польза не может быть отделена от пользы той нации, в которой заключается вся сила русского государства и, стало быть, все величие венчающей его верховной власти… В России нет и не может быть другой национальности, кроме русской, другого патриотизма, кроме русского, причем мы вполне допускаем, что русскими людьми и русскими патриотами могут быть, как и бывали, люди какого бы то ни было происхождения и какого бы то ни было вероисповедания… Для того чтобы быть русским в гражданском смысле этого слова, достаточно быть русским подданным».
Разумеется, с точки зрения Каткова, для нациестроительства в многоконфессиональной стране религиозный критерий национальной идентичности не подходит (и в этом он радикально расходился с Аксаковым): «Ни христианство, ни православие не совпадают с какой-либо одной народностью… Как православными могут быть и действительно есть и нерусские люди, так точно и между русскими есть неправославные… Было бы в высшей степени несообразно ни со вселенским характером православия, ни с политическими и национальными интересами России отметать от русского народа всех русских подданных католического или евангелического исповедания, а также еврейского закона, и делать из них, вопреки здравому смыслу, поляков или немцев. Народы различаются между собой не по религиозным верованиям, а прежде всего по языку, и как только русские католики и евангелики, а равно и евреи усвоили бы себе русский язык не только для общественного житейского своего обихода, но и для духовной своей жизни, они перестали бы быть элементом в национальном отношении чуждым и опасным русскому обществу».
Педалирование Катковым языкового критерия национальной идентичности вместо религиозного во многом исходило из практической повестки дня. Формирование русской Большой нации из великороссов, малороссов и белорусов наталкивалось на проблему наличия среди последних двух немалого числа католиков, вовсе не желающих менять свою конфессиональную принадлежность, но в то же время не идентифицирующих себя как поляков, хотя католическое богослужение в Западном крае шло на польском языке и становилось орудием польского нациестроительства. Таким образом, проблема состояла в том, чтобы деполонизировать и русифицировать католицизм в России. Русифицировать предлагал Катков и иудаизм. Издатель «Московских ведомостей» был, кажется, единственным русским националистом позапрошлого столетия, абсолютно свободным от антисемитизма и видевшим в евреях чрезвычайно полезный элемент русской политической нации, недвусмысленно намекая на необходимость даровать евреям гражданское равноправие, ибо «евреи везде, где только признают их права, действуют в интересах политического единства страны». Ну и уж совершенно очевидной логика лингвистического национализма казалась Михаилу Никифоровичу в вопросе о старообрядцах, которым для вхождения в русскую нацию не нужно было даже преодолевать языковой барьер.
Катков резко критиковал национальную политику Российской империи, работающую на то, «чтобы выделить инородческие населения, поддерживать и развивать правительственными способами чуждые русской народности элементы, встречающиеся на ее громадной территории, и, наконец, в этой искусственной отдельности возвышать их над русской народностью… Образовавшаяся у нас система заключалась в том, чтобы правительственными мерами разобщать и, так сказать, казировать разнородные элементы, вошедшие в состав русского государства, развивать каждый из них правительственными способами не только по племенам, но и по религии… Известно также, что мы приобрели бессознательную склонность давать не только особое положение инородческим элементам, но и сообщать им преимущества над русской народностью и тем развивать в них не только стремление к отдельности, но и чувство гордости своею отдельностью; мы приобрели инстинктивную склонность унижать свою народность… Везде, где только отыскивался какой-нибудь инородческий элемент, в нем вызывали фальшивое и пагубное для него и государства чувство превосходства над русским народом. Русское становилось синонимом всего дурного, униженного, обиженного».
Несмотря на то что видимой целью такой политики было сближение и слияние инородцев с русскими, эффект от нее получился совершенно обратный, ибо «внимание к инородцам, принимавшее вид предпочтения, побуждало их для сохранения своего выгодного положения еще более отделяться от русских; кто захочет быть русским, когда выгоднее быть инородцем, когда слияние с русским народом равняется для инородца разжалованию? Нет ничего ошибочнее того мнения, будто политика, лишенная национального духа, ведет к сближению инородцев с господствующим народом. Она ведет к результатам, совершенно противоположным сближению. Она не закрепляет, а раскрепляет связь государственную. Привилегии, даваемые инородцам, предпочтения, им оказываемые, прямо противодействуют сближению их с русскими». В результате в России складывается парадоксальная ситуация, когда «не предпочтения, а только равенства… приходится просить русской народности в Русском государстве». Подлинная же «национальная политика состоит не в том, чтобы унижать чужое, а в том, чтобы возвышать свое».
Соединиться с народной почвой
Еще одним направлением легально-«журнального» национализма 1860-х гг. стало почвенничество, которое, исходя из идей А. А. Григорьева, развивали Ф. М. Достоевский и Н. Н. Страхов, гораздо более чем первый выходя за пределы литературы в узком смысле слова. Особенно это касается Достоевского. Национальное для него есть высшая ценность в социально-политической сфере: «Всякий русский прежде всего русский, а потом уже принадлежит к какому-нибудь сословию»; «право народности есть сильнее всех прав, которые могут быть у народов и общества»; «общечеловечность не иначе достигается как упором в свои национальности каждого народа. Идея почвы, национальностей есть точка опоры; Антей. Идея национальностей есть новая форма демократии»; «каждая нация, живя для себя, в то же время, уже тем одним, что для себя живет, – для других живет…».
Культурно-политическая программа Достоевского – типична для восточноевропейского националиста эпохи модерна, но осложнена российской спецификой, связанной с необходимостью преодоления социокультурного раскола русского общества в результате Петровских реформ. Оценка последних в этом контексте довольно сурова и близка к славянофильской: «Несомненно то, что реформа Петра оторвала одну часть народа от другой, главной… С другой стороны, мы чрезвычайно ошиблись бы, если б подумали, что реформа Петра принесла в нашу русскую среду главным образом общечеловеческие западные элементы. На первый раз у нас водворилась только страшнейшая распущенность нравов, немецкая бюрократия – чиновничество. Не чуя выгод от преобразования, не видя никакого фактического себе облегчения при новых порядках, народ чувствовал только страшный гнет, с болью на сердце переносил поругание того, что он привык считать с незапамятных времен своей святыней. Оттого в целом народ и остался таким же, каким был до реформы; если она какое имела на него влияние, то далеко не к выгоде его… Оттого петровская реформа принесла характер измены нашей народности, нашему народному духу… народ отрекся от своих реформаторов и пошел своей дорогой – врозь с путями высшего общества…»
В то же время Достоевский, в отличие от славянофилов, считал образованность, полученную верхами с Запада, необходимым элементом дальнейшего развития России. Ее будущее виделось писателем, вслед за Григорьевым, как синтез «народных» и «общечеловеческих» (европейских) начал, символизируемый фигурой Пушкина. С одной стороны, интеллигенция должна припасть в поисках вековечных национальных идеалов к «нетронутой еще народной почве»: «Русское общество должно соединиться с народной почвой и принять в себя народный элемент. Это необходимое условие его существования…» С другой – интеллигенция обязана передать народу свое европейское просвещение, ту сумму знаний, которую она накопила за «петербургский период».
Всеобщая грамотность мыслилась писателем как важнейший фактор национального единства: «Только образованием можем завалить мы… глубокий ров, отделяющий нас от родной почвы. Грамотность и усиленное распространение ее – первый шаг всякого образования… Мы приносим на родную нашу почву образование, показываем, прямо и откровенно, до чего мы дошли с ним и что оно из нас сделало. А затем будем ждать, что скажет вся нация, приняв от нас науку, будем ждать, чтоб участвовать в дальнейшем развитии нашем, в развитии народном, настояще-русском, и с новыми силами, взятыми от родной почвы, вступить на правильный путь. Знание не перерождает человека: оно только изменяет его, но изменяет не в одну всеобщую, казенную форму, а сообразно натуре того человека. Оно не сделает и русского не русским; оно даже нас не переделало, а заставило воротиться к своим. Вся нация, конечно, скорее скажет свое новое слово в науке и жизни, чем маленькая кучка, составлявшая до сих пор наше общество».
Достоевский справедливо полагал, что распространение грамотности будет способствовать преодолению не только культурного раскола между верхами и низами, но и раскола социального, ибо «грамотность… у нас… есть привилегия»; «настоящее высшее сословие теперь у нас – сословие образованное». Но и собственно социально-эмансипационные реформы он также считал крайне важными: нужно «облегчить общественное положение нашего мужика уничтожением сословных перегородок, которые заграждают для него доступ во многие места». Только при этих условиях возможно подлинное национальное единство: «Тогда только выработается именно тот общественный быт наш, такой именно, какой нужен нам, когда высшие классы будут опираться не на одних только самих себя, а и на народ; тогда только может прекратиться эта поразительная чахлость и безжизненность нашей общественной жизни. И вот когда у нас будет не на словах только, а на деле один народ, когда мы скажем о себе заодно с народной массой – мы, тогда прогресс наш не будет идти таким медленным прерывистым шагом, каким он идет теперь».
Из других представителей пореформенного национализма следует также упомянуть оригинального мыслителя, издателя газеты «Современные известия» (1867–1887) Н. П. Гилярова-Платонова, близкого к славянофилам, но в то же время расходившегося с ними в славянском вопросе: «…для русского человека принадлежность к славянской семье имеет слишком второстепенное значение. Фактически такой семьи не существует: она значится только в науке. История разлучила эти племена, и они чужие духовно… Русский человек сознает себя русским и православным, допускает этнографическое родство свое с прочими славянами, но своего русского происхождения не подчиняет славянскому… Русский человек должен признать политическую выгоду внешнего союза со своими соплеменниками на западе и на юге. Но ничуть не обязан подчинять бытие свое интересам славянства как такового».
Напротив, не просто ярым приверженцем панславизма, но и создателем теории об особом Славянском культурно-историческом типе во главе с Россией был автор знаменитой книги «Россия и Европа» (1869) Н. Я. Данилевский, где он рассуждает как заправский европейский националист (вместо слово «нация» используя слово «национальность») и восхищается самим «принципом национальности» (каждой отдельной «исторической» национальности – отдельное государство), введенным в политику Наполеоном III: «Как бы ни были эгоистичны, неискренни, недальновидны и, пожалуй, мелочны расчеты, которыми руководствовался повелитель Франции, провозглашая национальность высшим политическим принципом, он заслуживает полной благодарности уже за одно это провозглашение, выведшее это начало из-под спуда (где его смешивали с разными подпольными революционными махинациями) на свет Божий».
Впервые явилось русское общественное мнение
Своеобразным испытанием на прочность пореформенного национализма стало польское Январское восстание 1863 г. Русское общество, которое в период Великих реформ впервые после «дней Александровых прекрасного начала» почувствовало себя самостоятельной социально-политической силой, откликнулось на него чрезвычайно живо и патриотично. Государственные проблемы снова стали осознаваться обществом как свои, тогда как, скажем, общественная реакция на польское же Ноябрьское восстание 1830 г. при жестком николаевском диктате была куда менее единодушна. Характерно, что политическая «великодержавная» лирика Пушкина начала 1830-х гг. (в том числе и знаменитое «Клеветникам России») воспринималась весьма неоднозначно даже в его ближайшем окружении (Вяземский, например, резко осуждал ее). В дневнике А. В. Никитенко за 1830–1831 гг. вообще нет упоминания о польском мятеже, зато обличаются «унылый дух притеснения», свирепства цензуры, отсутствие законности и т. д.; меж тем как в записях 1863–1864 гг. польская тема едва ли не основная, и преобладающая тональность ее подачи, говоря словами П. Б. Струве, «патриотическая тревога»: «Здесь дело идет о том, чтобы быть или не быть». «…Мерещится всем раздробление и попирание государства. Или я жестоко ошибаюсь – или это настоящая историческая минута в нашей жизни» (П. В. Анненков – И. С. Тургеневу).
Общество, наконец-то увидевшее в себе «хозяина земли Русской», стало трепетать за целостность империи, опасаясь потери «исконно русских областей», и опознало в польских инсургентах не «жертв самовластия», а экзистенциальных врагов. Либеральный западник В. П. Боткин писал либеральному западнику И. С. Тургеневу: «Лучше неравный бой, чем добровольное и постыдное отречение от коренных интересов своего отечества… Нам нечего говорить об этом с Европою, там нас не поймут, чужой национальности никто, в сущности, не понимает. Для государственной крепости и значения России она должна владеть Польшей, – это факт, и об этом не стоит говорить… Какова бы ни была Россия, – мы прежде всего русские и должны стоять за интересы своей родины, как поляки стоят за свои. Прежде всякой гуманности и отвлеченных требований справедливости – идет желание существовать, не стыдясь своего существования». Будущий проповедник «непротивления злу насилием» и будущий автор обличающего притеснения поляков в России рассказа «За что?» Лев Толстой спрашивал в письме у «певца весны и любви» Афанасия Фета: «Что вы думаете о польских делах? Ведь дело-то плохо, не придется ли нам с вами… снимать опять меч с заржавевшего гвоздя?»; адресат ему отвечал: «…самый мерзкий червяк, гложущий меня червяк, есть поляк. Готов хоть сию минуту тащить с гвоздя саблю и рубить ляха до поту лица». Толстой и Фет всерьез думали вернуться в армию.
В 1863 г. русский национализм впервые со времен декабристов выступил как влиятельная общественная и даже политическая сила. Общепризнано, что только благодаря небывалому патриотическому подъему общества правительство смогло избавиться от колебаний и занять твердую позицию в отношении как польского мятежа, так и попыток вмешательства во внутренние дела России европейских держав. У многих возникло ощущение подлинного нравственного обновления нации: «Великая перемена совершилась в русском обществе – даже физиономии изменились, – и особенно изменились физиономии солдат – представь – человечески интеллигентными сделались» (Боткин – Тургеневу). И подъем этот возглавили именно тогдашние лидеры русского национализма – Катков и (в меньшей степени) И. Аксаков. Особая роль Каткова в ту эпоху впоследствии подчеркивалась даже в авторитетных университетских курсах русской истории (скажем, у С. Ф. Платонова). Не мудрено, что оба героя дня вспоминали то время как свой звездный час. «Дела наши шли усиленном ходом в направлении антинациональном и вели неизбежно к разложению цельного государства… Россия была на волос от гибели… Россия была спасена пробудившимся в ней патриотическим чувством… Впервые явилось русское общественное мнение; с небывалой прежде силой заявило себя общее русское дело, для всех обязательное и свое для всякого, в котором правительство и общество чувствовали себя солидарными» (Катков). 1863 г. – «эпизод русской истории, в котором именно русскому обществу пришлось принять самое деятельное участие, а русскому правительству опереться преимущественно на содействие русского общества и русской печати» (Аксаков).
Более того, «польская смута» заставила самодержавие временно отказаться от традиционных имперско-сословных ориентиров в национальной политике и взять на вооружение националистические практики, о чем свидетельствует деятельность М. Н. Муравьева и К. П. Кауфмана в Северо-Западном крае и Н. А. Милютина в Царстве Польском. Никогда подобные методы и идеи не использовались имперской бюрократией столь масштабно. Несмотря на то что к концу 1860-х гг. политика «русского дела» была свернута, она явилась важным прецедентом, к которому можно было вернуться как к чему-то опробованному и доказавшему свою эффективность (во всяком случае, в СЗК).
События 1863 г. актуализировали для русского общества проблему построения Большой русской нации, включающей в себя как великороссов, так и малороссов и белорусов, вообще открыли для широкой публики национально-государственное значение Западного края. Именно с этого времени в фокус столичной публицистики попадает украинофильство и начинает обсуждаться его опасность для русского единства. Проблема противостояния «полонизму» в ЗК инициировала чрезвычайно важную полемику Каткова и Аксакова о главном критерии национальной идентичности: язык или религия?
Наконец, польский мятеж косвенным образом «убил» «левый» национализм Герцена – Бакунина – Огарева. Пропагандистская поддержка повстанцев и даже, в случае с Бакуниным, непосредственное участие в их акциях радикально подрубили авторитет этой группы: тираж «Колокола» упал с 3 тыс. экземпляров до 500, «существование его стало едва заметным» (А. А. Корнилов). Герцен отнюдь не был безусловным сторонником восстания, считая его преждевременным. И уж конечно, не сочувствовал лозунгу «Польша от можа до можа». Более того, он не желал полного отторжения Польши от России, в перспективе надеясь на свободную социалистическую федерацию обеих стран. Вопрос о принадлежности ЗК решался им в работе «Россия и Польша» (1859) на основе лингвистических, конфессиональных и социокультурных критериев, близких к славянофильским: «Там, где народ исповедует православие или унию, говорит языком, более близким русскому, чем к польскому, там, где он сохранил русский крестьянский быт, мир, сходку, общинное владение землей, – там он, вероятно, захочет быть русским. Там, где народ исповедует католицизм или унию, там, где он утратил общину и общинное владение землей, там, вероятно, сочувствие с Польшей сильнее и он пойдет с ней». Вполне в духе славянофилов и Каткова Александр Иванович отрицает польский характер ЗК: «…я не верю, чтоб дворянство выражало народность того края».
Но вынужденный из соображений политической тактики поддержать мятеж, Герцен вступил в резкий диссонанс с русским общественным мнением. Соответственно и его версия национализма была отвергнута как выступавшими ранее в союзе с ним по ряду вопросов славянофилами, так и потенциальной «почвенной» силой «левого» национализма – старообрядцами, оживленные контакты с которыми резко оборвались по инициативе последних именно в 1863 г., в связи с позицией «Колокола» по польскому вопросу. «Социалистический» национализм стал символом национальной измены, что, с одной стороны, отвратило от него даже либеральных националистов, с другой – укрепило отторжение от национализма среди социалистов, наоборот признавших «пораженчество» единственно возможной позицией и примером для подражания в сходных ситуациях. Кто же не помнит ленинскую апологию Герцена, якобы спасшего «честь русской демократии»?
Кроме того, 1863 г. косвенно способствовал росту консервативных настроений в русском обществе вообще и, в частности, эволюции русского национализма от либерализма (преобладавшего в нем в начале великих реформ) к консерватизму. Н. И. Тургенев еще в 1847 г. прозорливо называл польскую проблему, наряду с крепостным правом, одним из двух главных препятствий «для прогресса в России»: «Во всех событиях, сулящих русским некий прогресс, поляки ищут только средство для достижений своей цели, которая не может совпадать с интересами России, ибо если русские хотят свободы и цивилизации, то полякам сначала нужна независимость, без которой нельзя и мечтать о других благах».
Либерализация России неизбежно вызывала угрозу польского сепаратизма и потери западных окраин, с которой общество, при всем своем возросшем влиянии, справиться, естественно, не могло. Поэтому националистам сила самодержавия для «русского дела» стала казаться важнее его ограничения. В этом настроении одна из важнейших причин перехода признанного лидера русского национализма Каткова с либеральных на охранительные позиции.
Эволюция «вправо»
В 1867–1869 гг. русские националисты слаженно выступили еще по одному вопросу – «остзейскому», когда в одном русле действовали «национально-государственнические» «Московские ведомости» Каткова, славянофильская, издававшаяся, кстати, на деньги московского купечества, «Москва» Аксакова (там только в 1869 г. на эту тему появилось 32 передовицы) и либеральный «Голос» А. А. Краевского. Важнейшей акцией «национальной партии» стал выход первого тома «Окраин России» ветерана «остзейской войны» Ю. Самарина, полностью посвященного Прибалтике и поднимающего те же проблемы, что и «Письма из Риги», но более развернуто и фундированно. Правда, издавать эту работу пришлось в Праге (а следующие ее выпуски, по иронии судьбы, в Берлине), сам же автор заслужил высочайший выговор. Результат этой акции, как уже говорилось в предыдущей главе, оказался невелик, а обсуждение прибалтийской проблемы было прекращено запретом сверху.
Цензура вообще весьма жестко контролировала националистическую прессу. Особенно доставалось аксаковским изданиям. В 1859 г. после второго номера прикрыли газету «Парус» (а в Третьем отделении хлопотали о ссылке издателя в Вятку). В 1862 г. Аксаков был временно отстранен от редакторства «Дня» за отказ назвать автора одной из статей, возбудившей цензурное негодование. В 1868 г. после девяти предупреждений и трех приостановок по непосредственному распоряжению Александра II была закрыта «Москва» (в основном из-за статей все о том же немецком засилье в Прибалтике), а сам Иван Сергеевич опять, как в старые добрые николаевские времена, лишен права заниматься издательской деятельностью – запрет этот действовал 12 лет! В 1874 г. был арестован тираж аксаковской биографии Ф. И. Тютчева, по поводу чего автор написал дочери поэта Дарье Федоровне, что уже привык «к подобного рода безобразным гонениям на мысль, талант и знание в России. И странно было бы не приобрети этой привычки русскому!».
Не мудрено, что вполне умеренный и благонамеренный Аксаков в частных письмах, бывало, высказывался как заправский революционер: «Правительство есть истинный душегубец русской земли. И это душегубство в тысячу раз страшнее и преступнее всякого убийства… Не обвиняйте общество в недостатке патриотизма. Не надо ему этого дешевого Вашего патриотизма, к которому правительство во дни бед прибегает, как к готовой силе, продолжая душить общество во дни мира! Общество понимает, что враг России не в Польше, а в Петербурге, что злодей его – само правительство».
Цензурным ударам неоднократно подвергались и «Московские ведомости» Каткова, но все же до закрытия газеты дело не дошло – у ее издателя имелись сильные покровители наверху. Тем не менее в конце 1860-х – начале 1870-х гг. Михаил Никифорович вошел в настолько жесткое противостояние с правительством, что ему было негласно запрещено писать о национальном вопросе. С 1871 до 1882 г. Катков хранил о нем вынужденное молчание. В эти годы он все более «правел», окончательно отказался от ставки на пробуждение общественной активности и переключил свою неуемную энергию на борьбу с «нигилизмом» и проповедь классической системы образования. «…В 1870-е гг. Катков все больше осознает, что обладает лишь одним средством для проведения в жизнь своих взглядов – государственным аппаратом. Из „случайного органа государственной деятельности“ „Московские ведомости“ превращаются в „департамент Каткова“, за них все чаще прямо заступается цензура. Поэтому и национализм Каткова – в противоположность… антибюрократическому национализму славянофилов… целесообразно называть национализмом бюрократическим» (А. Э. Котов).
Тогда же ощутимо «правеет» и Достоевский. «Русская земля принадлежит русским, одним русским… хозяин земли русской – есть один лишь русский (великорус, малоросс, белорус – это все одно) – и так будет навсегда…» – горделиво писал он в 1876 г. Но с другой стороны, писатель трезво понимал, что эмпирическая Российская империя весьма далека от его идеала, что русские – хозяева России только в теории, что уровень свободы простого русского человека – «ровно как у мухи, попавшей в тарелку с патокой». Как сделать так, чтобы русские были действительными хозяевами своей земли? Казалось бы, ответ ясен: дать русским вместо «отрицательных» – «положительные» права, превратить подавляющее большинство русского этноса – крестьян – в полноправных граждан, продолжать реформы 1860-х гг., то есть, в общем, развивать и уточнять ту программу, с которой сам же Федор Михайлович и выступал раньше. Но, странное дело, с начала 1870-х пропаганда реформ из его публицистики, по сути, исчезает (скажем, он практически не обращается к столь волновавшей его ранее проблеме всеобщей грамотности). Зато в «Дневнике писателя» все большее место занимает ядовитая критика русского либерализма, который под пером автора «Бесов» становится чуть ли не главной помехой истинно национальному развитию России, ибо его квинтэссенция, якобы – презрение к русскому народу как к «недостойной, варварской массе» и отрицание его идеалов. Наверное, были в среде русского либерализма персонажи, напоминающие эту карикатуру, но в ней невозможно узнать таких его вождей, как К. К. Арсеньев, А. Д. Градовский, К. Д. Кавелин, А. Н. Пыпин, Б. Н. Чичерин…
Особенно важна здесь фигура Градовского, запальчивой и несправедливой полемике против которого Достоевский посвятил третью главу «Дневника писателя» за 1880 г. Этот ученый-правовед и публицист был, пожалуй, самым ярким представителем русского национал-либерализма второй половины XIX в., стремившимся к органическому синтезу западничества и славянофильства (о последнем он много и с большим уважением писал). Он автор первой более-менее систематической научной работы по национальному вопросу на русском языке (1873), в которой дал четкое определение «народности»/нации: «совокупность лиц, связанных единством происхождения, языка, цивилизации и исторического прошлого», каждая народность «имеет образовывать особую политическую единицу, то есть государство». Градовский достаточно внятно изложил свою социально-политическую программу в статье 1879 г. «Социализм на западе Европы и в России»: «Достроить крестьянскую реформу, то есть преобразовать податную систему, обеспечить свободу передвижений и открыть возможность правильного переселения крестьян; привести в правильную систему новые судебные и „общественные“ учреждения, пересмотреть разные старые уставы, остающиеся еще в силе и даже пускающие свои ростки в учреждения новые; устранить разные „поправки“, внесенные в новые законы во имя старых требований; обратить к деятельности по местным учреждениям лучшие силы страны, зная, что в этих учреждениях – школа и фундамент будущей России; воспитывать общество в сознании права, в уважении к себе и другим, в чувствах личной безопасности и достоинства; поднять уровень народного образования широким распространением школ и других орудий грамотности – таковы задачи нашего времени».
Что тут антинационального, что тут вредного для русских? Программа реальных дел, отвечающая на реальные вызовы времени, весьма близкая к тому, что проповедовал некогда и сам Достоевский. Но в «Дневнике писателя» ничего подобного мы не встретим. Зато в изобилии найдем красноречивые рассуждения о смирении русского мужика и его любви к страданию; об особых отношениях в России между царем-отцом и народом-детьми (в силу чего в любой момент царь-отец может дать народу такую неслыханную свободу, которая и не снилась гнилым западным демократиям); о том, что главное в политике – не совершенствование общественных учреждений, а христианские идеалы, будто бы способные сами по себе преобразить русское общество. Градовский и Кавелин вполне резонно возражали, что одна только личная христианская нравственность, без юридически закрепленной перестройки социальных практик, не может улучшить положение народа. Перестройка эта, однако, после 1866 г. начала заметно буксовать – самодержавие явно не желало предоставлять обществу реальные гражданские и уж тем более политические свободы. Перед интеллигенцией, поддержавшей реформы 1860-х гг. и поверившей в реформаторский потенциал самодержавия, встал выбор: либо перейти в оппозицию, либо «верить, ибо абсурдно». Либо требовать в той или иной форме ограничения самодержавия и участия представителей общества в управлении государством, либо ждать, пока самодержавие само «возьмется за ум» и стоя на коленях умолять его об этом.
Достоевский выбрал второй вариант, примкнув к «охранителям» типа В. П. Мещерского и К. П. Победоносцева, которые высоко ценили такого полезного союзника. В начале 1880-х писателя уже благожелательно принимает сам цесаревич – будущий Александр III. Неудивительно, что его национализм стал выписывать весьма причудливые пируэты, подменяя конкретный разговор о конкретных проблемах романтическими фантазиями. Вместо обсуждения системы практических мер, позволивших бы выбраться «мухе из тарелки с патокой» (но невозможных при сохранении статус-кво), – пафосная (и ни к чему не обязывающая) речь об «оздоровлении корней». Вместо серьезной дискуссии о возможных формах народного представительства в России – огульное отрицание последней как «аристократии интеллигенции» и выдвижение фантастического проекта (в духе «прямой демократии») опроса «серых зипунов» «по местам, по уездам, по хижинам». Типичный охранительский прием – представить свою позицию как супердемократическую в противовес «формальной», «ненародной» демократии либералов, самозванно приватизировав себе право говорить от имени многомиллионных низов.
Все более двусмысленный облик приобретал и мессианизм Достоевского. Идея о всемирном призвании русского народа, о его «всечеловечности» была выдвинута им еще в начале 1860-х. Но в середине 1870-х она обрела некоторые новые, оригинальные лейтмотивы. В принципе любой европейский мессианизм (французский, немецкий, даже англосаксонский), настаивая на всемирной миссии своего народа, подчеркивал, что суть ее не в национальном эгоизме, а в самоотверженном служении человечеству. Но только у Федора Михайловича эта идея приобрела отчетливо самоуничижительный оттенок: «…мы сознали… всемирное назначение наше, личность и роль нашу в человечестве, и не могли не сознать, что назначение и роль эта не похожи на таковые же у других народов, ибо там каждая народная личность живет единственно для себя и в себя, а мы начнем теперь, когда пришло время, именно с того, что станем всем слугами, для всеобщего примирения. И это вовсе не позорно, напротив, в этом величие наше, потому что все это ведет к окончательному единению человечества. Кто хочет быть выше всех в царствии Божием – стань всем слугой. Вот как я понимаю русское предназначение в его идеале… Почему они [европейцы] все не могут никак в нас увериться раз навсегда, поверить в безвредность нашу, поверить, что мы их друзья и слуги, добрые слуги, и что даже все европейское назначение наше – это служить Европе и ее благоденствию».
Почетная роль всемирного слуги вытекает из якобы природных свойств русского характера, более того, оказывается, быть слугой – и значит быть господином: «Посмотрите на великоруса: он господствует, но похож ли он на господина? Какому немцу, поляку не принужден ли он уступить. Он слуга. А между тем, тем-то – переносливостью, широкостью, чутьем своим он и господин». Диалектика «слуга – господин» и «русское – всечеловеческое» приобретает у Достоевского настолько запутанный характер, что вряд ли возможна ее логически непротиворечивая интерпретация. С одной стороны, основополагающий лозунг писателя: «Стать русскими во-первых и прежде всего». С другой, онтологическая суть «русскости» – «всечеловечность», то есть служение другим народам, чем, собственно, по его мысли, русские и занимались весь «петербургский период», «ибо, что делала Россия во все эти два века в своей политике, как не служила Европе, может быть, гораздо больше, чем самой себе?».
Таким образом, Федор Михайлович, в сущности, призывает Россию продолжать ту же политику «служения Европе», но только с осознанием того, что она это делает не по глупости, а во имя исполнения своей великой миссии, коей надобно не стыдиться, а, напротив, гордиться. Тогда изменится отношение к России и в Европе: «…как только европеец увидит, что мы начали уважать народ наш и национальность нашу, так тотчас же начнет и он нас самих уважать». «Слуга» остается «слугой», просто теперь он должен воображать, что «слуга» на самом деле «господин», и надеяться, что те, кому он служит, это открыто признают. Странная диалектика «всечеловечности» (русские – хозяева и господа, чья обязанность – быть слугами) отдает каким-то мазохистским абсурдом, но в мистифицированном виде она довольно точно воспроизводит реальное положение русских в России.
Нам нужна эта война
Еще одним важным событием не только русской, но и мировой истории, в котором пореформенный национализм сыграл важную роль, стала Русско-турецкая война 1877–1878 гг. В истории императорской России было много войн, ставших значимыми составляющими национальной памяти, но ни одна из них не стала повивальной бабкой Русского национального государства. В то же время на некоторые из них русские националисты возлагали соответствующие надежды. Война предоставляла для них шанс, которого они, в силу их политической несопоставимости с всемогущим самодержавием, были практически лишены в мирное время – инвестировать во внутреннюю политику России национальный подъем, национальную консолидацию, создаваемые военным временем, и на этой волне попытаться претворить в жизнь свою программу модернизации сословно-династической империи в национальное государство. «Поскольку режим полностью блокировал создание институтов гражданского общества… война осталась единственной ареной для участия нации в политической жизни» (О. Е. Майорова). Странным образом националисты (в особенности панславистского толка) не замечали, что проповедь внешней экспансии плохо согласуется с их же заботой о подъеме великорусского центра, ибо все издержки первой неизбежно ложились на плечи последнего.
Несмотря на очевидное свертывание реформ со второй половины 1860-х гг., русское общество, пусть слабое и немногочисленное, чувствовало естественное желание участвовать в управлении страной; право на это ему объективно давали имущественный и/или образовательный ценз его представителей – таковы были европейские нормы, на которые ориентировалась пореформенная Россия (но которые в ней не работали). Во внутренней политике общество в своих «бессмысленных мечтаниях» натыкалось на глухую, непробиваемую стену, оставалась только внешнеполитическая активность, благо лазейка для нее была – славянский вопрос. Еще в конце 1850-х гг. на стыке внешнеполитических интересов правительства и панславистских увлечений общества в России стали возникать славянские комитеты с центром в Москве, всего же к середине 1870-х их насчитывалось четырнадцать. По сути, это была единственная в империи легальная общественная организация, имевшая некое политическое значение. Тон в ней, разумеется, задавали славянофилы (И. Аксаков, Кошелев, Самарин, Черкасский) и близкий к ним Погодин, но и люди иных идейных воззрений, как более консервативных, так и более либеральных (Градовский, Катков, Н. А. Попов, С. М. Соловьев, Р. А. Фадеев), охотно участвовали в ее деятельности. То есть СК соединяли в едином деле русских националистов разных направлений.
Формально задачей СК являлась благотворительная помощь – деньгами и печатной продукцией – развитию просвещения в славянских землях. Но с 1875 г., в связи с ростом освободительных движений сербов, черногорцев и болгар против турецкого господства, СК стали играть гораздо более важную роль. На собранные ими пожертвования они организовали посылку русских добровольцев во главе с генералом М. Г. Черняевым для участия в сербо-турецкой войне (Черняев сделался главнокомандующим сербской армией). Один из активных членов Петербургского СК молодой кавалерийский офицер Н. А. Киреев формировал болгарские добровольческие отряды для помощи сербам и в 1876 г. геройски погиб в одном из боев. Фактически, как писал современник, СК от имени русского народа «вели войну в лице нескольких тысяч своих сынов… на свои частные средства, в стране хоть и родственной, но чужедальней». Во время Русско-турецкой войны СК снабжали болгарских ополченцев амуницией и медикаментами, их представители оказывали помощь мирным жителям, пострадавшим от военных действий.
Позднее в европейской прессе даже сложился миф, что Восточный кризис 1875–1878 гг. был делом рук СК и прежде всего лично И. Аксакова. Нельзя, однако, не заметить, что некоторые основания у этого мифа имелись. Известно, что Александр II крайне неохотно вступил в войну с Турцией в апреле 1877 г., по сути уступая русскому общественному мнению, а это мнение было сформировано именно СК, чья позиция доходила до образованных русских через пламенную публицистику того же Аксакова и особенно Достоевского – члена петербургского СК (на этой же волне поднялась новая националистическая газета – «Новое время» А. С. Суворина).
Страницы «Дневника писателя», посвященные славянскому вопросу и войне за освобождение Болгарии, принадлежат к наиболее важным и ярким текстам русского мессианского национализма, приближаясь по страсти и пафосу, с которыми они написаны, к стилистике пророков. Недаром о завораживающем их воздействии впоследствии вспоминали такие довольно далекие от политических воззрений автора «Братьев Карамазовых» люди, как П. Б. Струве и Е. Н. Трубецкой, бывшие в ту пору гимназистами. Вероятно, именно Достоевскому принадлежит самая впечатляющая апология войны в истории русской мысли: «Нам нужна эта война и самим; не для одних лишь „братьев-славян“, измученных турками, подымаемся мы, а и для собственного спасения: война освежит воздух, которым мы дышим и в котором мы задыхались, сидя в немощи растления и в духовной тесноте (курсив здесь и далее мой. – С. С.)… Да, война, конечно, есть несчастье, но много тут и ошибки в рассуждениях этих, а главное – довольно уж нам этих буржуазных нравоучений! Подвиг самопожертвования кровью своею за все то, что мы почитаем святым, конечно, нравственнее всего буржуазного катехизиса. Подъем духа нации ради великодушной идеи – есть толчок вперед, а не озверение… Такая война укрепляет каждую душу сознанием самопожертвования, а дух всей нации сознанием взаимной солидарности и единения всех членов, составляющих нацию… Школы важное дело, конечно, но школам надобен дух и направление, – вот мы и идем теперь запасаться духом и добывать здоровое направление. И добудем, особенно если Бог победу пошлет. Мы воротимся с сознанием совершенного нами бескорыстного дела, с сознанием того, что славно послужили человечеству кровью своей, с сознанием обновленной силы нашей и энергии нашей – и все это вместо столь недавнего позорного шатания мысли нашей, вместо мертвящего застоя нашего в заимствованном без толку европеизме… Самоуважение нам нужно, наконец, а не самооплевывание… Война осветит столько нового и заставит столько изменить старого, что вы бы не добились того самооплевыванием и поддразниванием…»
В приведенных выше фрагментах «Дневника писателя» за 1877 г. мы видим полный набор националистических чаяний о поистине преображающе-магическом воздействии войны на процесс «национализации» Российской империи.
Однако мечтам Достоевского не суждено было сбыться. Освобождение Болгарии нимало не решило внутрироссийских проблем, очень скоро, напротив, они обострились до такой степени, что жертвой этого обострения стал сам император Всероссийский. Не переросли во что-то большее, чем амбициозная общественная организация, и СК. Уже в ходе войны правительство стало ограничивать их деятельность, возвращая в изначально заданную сферу благотворительности. А после знаменитой речи Аксакова 22 июня 1878 г. по поводу позорных для России итогов Берлинского конгресса, в которой он, в частности, обвинил российских дипломатов в том, что они – «наши настоящие нигилисты, для которых не существует в России ни русской народности, ни православия, ни преданий», лишенные, как и нигилисты-революционеры, «всякого исторического сознания и всякого живого национального чувства», Московский СК был закрыт, а сам Аксаков на время выслан из Москвы. С той поры СК прежней роли центра общественного мнения более не играли.
Таким образом, Русско-турецкая война помогла возникновению национальных государств на Балканах (а в их становлении непосредственно поучаствовали члены СК – подданные империи, обходившейся без конституции, Черкасский и Градовский разработали болгарскую конституцию 1879 г.), но ни на шаг не продвинула национальную модернизацию в самой России.
Умирание славянофильства
Если считать именно идею национальной модернизации сутью русского национализма, то «национальное царствование» Александра III никак нельзя признать его торжеством. Пока власть была еще в растерянности после первомартовской катастрофы, она искала опоры в обществе, и потому с мая 1881 по май 1882 г., то есть в то время, когда Министерство внутренних дел возглавлял благоволивший славянофилам граф Н. П. Игнатьев, на внутреннюю политику империи имели определенное влияние И. Аксаков (к тому времени – издатель новой газеты «Русь») и сблизившийся с последним Р. Фадеев.
Аксаков призывал власть к немедленным социально-политическим преобразованиям: «…нужно… внутреннее обновление духа, которое может быть дано лишь каким-нибудь переворотом в роде перенесения столицы, или созвания земского собора, волею государя, в Москве, не в виде постоянного учреждения, или же нужно, чтобы возникла и закипела жизнь местная, областная, чтоб там произошло первое единение государства с землей». С близкой программой выступал и Фадеев: передача в руки земств всех функций местного управления (за исключением высшего суда и полиции) и контроля за прямыми налогами; распределение прямых налогов «сообразно имущественной состоятельности каждого»; наделение землей нуждающихся крестьян «при помощи либо дешевого (3 %) кредита, либо иных способов полюбовного или обязательного отчуждения части государственных или помещичьих земель»; созыв совещательного Земского собора.
Аксаков вдохновлял, убеждал и даже инструктировал Игнатьева, направил к нему знатока истории Земских соборов П. Д. Голохвастова, который и составил документ, известный под названием «проекта Игнатьева». Однако очень скоро Иван Сергеевич разочаровался в своем «подопечном», о феноменальном легкомыслии которого в один голос говорят самые разные его современники: «Думаю, что ничего не выйдет, и может быть к лучшему на сей раз: нельзя пьесы Шекспира разыгрывать на театре марионеток, а Игн[атьев] не более как директор кукольного театра». Тем не менее провал замысла Земского собора, отвергнутого императором под влиянием Победоносцева и Каткова, был воспринят издателем «Руси» крайне болезненно: «Победоносцев и Катков погубят Россию. У меня руки опускаются».
Отставка Игнатьева (30 мая 1882 г.) резко подорвала позиции славянофилов в правительственных сферах, и восстановить их им уже более никогда не удалось. Во второй половине 1883 г. сошел с политической сцены и вскоре скончался Фадеев. В декабре 1885 г. над аксаковской «Русью» нависла реальная угроза запрещения, причем газету обвиняли в «недостатке патриотизма». «Как трудно живется на Руси! …Мы уже и 60 лет начинаем изнемогать под бременем! Мое здоровье, некогда геркулесовское, тоже дрогнуло. И я начинаю это чувствовать. Разумеется, кроме причин внешних, физических, гигиенических, климатических и т. д., здесь всегда сильнее оказывают воздействие причины нравственные, даже не индивидуального характера. Есть какой-то нравственный гнет, какое-то чувство нравственного измора, которое мешает жить, которое не дает установиться гармонии духа и тела, внутреннего и внешнего существования. Фальшь и пошлость нашей общественной атмосферы и чувство безнадежности, беспроглядности давят нас», – написал Аксаков в частном письме 26 января 1886 г. На следующий день он умер от разрыва сердца.
Месяцем позже отставки Игнатьева случилась загадочная смерть еще одного идейного «протеже» Аксакова – знаменитого на всю Россию героя освобождения Болгарии и завоевания Средней Азии генерала М. Д. Скобелева, отношение которого к императору было более чем критическим (по свидетельству Н. Е. Врангеля, он его «презирал и ненавидел»), а либерально-славянофильские симпатии несомненными. «Смерть Скобелева пока не вознаградима. Он мог сделаться центром русского направления… Весь его корпус был настроен одинаково – стихи Хомякова сделались там популярными», – так откликнулся на его кончину И. Аксаков, которому генерал ранее писал: «…я убедился, что основанием общественного недуга в значительной мере является отсутствие всякого доверия к положению наших дел. Доверие это мыслимо будет тогда, когда правительство даст серьезные гарантии, что оно бесповоротно ступило на путь народный как внешней, так и внутренней политики, в чем пока и друзья и недруги имеют полное основание болезненно сомневаться. …Я имел основание убедиться, что даже эмиграция в своем большинстве услышит голос отечества и правительства, когда Россия заговорит по-русски, чего так давно-давно уже не было, и в возможность эту она положительно не верит».
В одном из частных писем Михаил Дмитриевич называет в качестве своих ориентиров таких современных политиков-националистов либерального или умеренно консервативного толка, как Кавур, Гарибальди, Бисмарк, Гамбетта, Митхадпаша («отец» турецкой конституции 1876 г.). Хорошо знавший Скобелева писатель Вас. И. Немирович-Данченко полагал даже, что «он не был славянофилом в узком смысле… Он выходил далеко из рамок этого направления… Если уж необходима кличка, то он скорее был народником. В письме, полученном мной от его начальника штаба генерала [М.Л.] Духонина, после смерти Скобелева, между прочим сообщается, что в одно из последних свиданий с ним Михаил Дмитриевич несколько раз повторял: „Надо нам, славянофилам, сговориться, войти в соглашение с „Голосом“ [либеральной газетой]… „Голос“ во многом прав. Отрицать этого нельзя. От взаимных раздражений и пререканий наших – один только вред России“… Славянофильство понимал покойный не как возвращение к старым идеалам допетровской Руси, а лишь как служение исключительно своему народу. Россия для русских, славянство для славян… Взять у Запада все, что может дать Запад, воспользоваться уроками его истории, его наукою – но затем вытеснить у себя всякое главенство чуждых элементов, развязаться с холопством перед Европой, с несколько смешным благоговением перед ее дипломатами и деятелями… Будущим идеалом государственного устройства славянских народов был для него союз автономий, с громадною и сильною Россией в центре. Все они у себя внутри делай что хочешь и живи как хочешь, но военные силы, таможня, монета должны быть общими. Все за одного и один за всех».
Н. Врангель передает такие слова «Белого генерала», сказанные незадолго до смерти: «А все-таки в конце концов вся их лавочка [режим Александра III] полетит тормашками вверх… Полетит, – смакуя каждый слог, повторил он, – и скатертью дорога. Я, по крайней мере, ничего против этого лично иметь не буду… династии меняются или исчезают, а нации бессмертны». П. А. Кропоткин пишет в своих «Воспоминаниях революционера»: «Из сообщений Лорис-Меликова, часть которых была обнародована в Лондоне приятелем покойного (…), видно, что, когда Александр III вступил на престол и не решался созвать земских выборных, Скобелев предлагал даже [М.Т.] Лорис-Меликову и графу Игнатьеву (…) арестовать Александра III и заставить его подписать манифест о конституции. Как говорят, Игнатьев донес об этом царю и таким образом добился назначения себя министром внутренних дел».
Во второй половине 1880-х – 1890-х гг. славянофильство влачило жалкое существование. После кончины И. Аксакова у него не осталось (и не появилось позже) ни одного по-настоящему авторитетного лидера, после прекращения «Руси» – ни одного влиятельного печатного органа.
Интересно проследить взаимоотношения славянофилов и власти в этот период по дневникам генерала А. А. Киреева, который состоял при дворе великого князя Константина Николаевича и его семьи, был вхож в самые высшие правительственные и придворные сферы. В августе 1887 г. Главноуправляющий по делам печати, креатура Каткова Е. М. Феоктистов лично вычеркнул из киреевской статьи «Катков и Аксаков» абзац, где просто упоминалось о том, что в отличие от Каткова Аксаков был сторонником возвращения «к тем совещаниям между верховной властью и землею, которые были в употреблении во второй половине московского периода Русской истории, и к которым зачастую прибегали Цари, не утрачивая при этом ни своей власти, ни своего обаяния». В декабре 1890 г. Киреев снова возмущенно говорит «о нашей глупой цензуре»: «…Государю напели, что славянофильские теории крайне вредны, в особенности опасно говорить о земском соборе. Государь действительно теперь верит, что славянофильство опасно! Недавно еще он это подтвердил в очень резкой форме. Книгу Конст[антина] Аксакова запретили!» При новом монархе – Николае II цензурные запреты на пропаганду славянофильского учения сохранились. Д. А. Хомякову (сыну Алексея Степановича) было отказано в издании журнала на том основании, что «и так много журналов и в новых – нужды не ощущается?!. Да как же это нелепое правительство не видит, что общественное мнение у него уходит из рук!.. Оно старается подобрать себе слуг, но все одевает их в ливрею, а от ливреи порядочные люди отказываются. Запрещая говорить не лакеям, желающим поддержать православ[ие], самодерж[авие] и народность, вот как Хомякову – зажимают рот».
Неоднократно страдал от цензуры и другой видный деятель позднего славянофильства – С. Ф. Шарапов. Его газета «Русское дело», получившая два предупреждения и временно приостановленная, была вынуждена из-за убытков издателя прекратить свой выход. В письме Н. П. Игнатьеву от 23 октября 1888 г. Сергей Федорович рисует весьма мрачную картину окружающей действительности: «Каким образом может происходить то ужасное явление, что при Государе, по общему всенародному убеждению, быть может, наиболее близком к идеалу Монарха и Самодержца… проявляется такое ужасное разложение всей общественной и государственной жизни России, такое падение престижа власти, такое несоответствие издаваемых законов с потребностями жизни, такое отсутствие прочности и нравственности в общественном строе, такая зияющая нищета в области творческой мысли, такое страшное отсутствие людей дела, государственных сил, дающее полный простор только посредственностям? …Откуда этот мертвый сон всего общества, эта дряблость, измельчалость, трусость, подлость, эта всеобщая апатия, фальшь и лицемерие, это поникновение духа, делающие наше время едва ли не самым тяжелым, самым гнетущим. …Все горькое и жесткое, высказанное выше, представляется чуть не ангельски-незлобным сравнительно с тем, что говорится… повсюду, и не враждебными государству элементами, а истинными патриотами, теми людьми, которые за Царя и родину положат не только свое достояние, но и свои головы. …Теперь именно царство бюрократии, которая в слепом самомнении готова совсем упразднить живую Россию».
Если и восторжествовал при Александре III какой-нибудь национализм, то лишь «бюрократический национализм» позднего Каткова и союзного с ним Победоносцева. Программа этого тандема подразумевала тотальное замораживание любых политических реформ и всякой общественной деятельности, активное государственное вмешательство в экономику, укрепление общинного землевладения в деревне, усиление роли дворянства на местах (но не как самостоятельной общественной силы, а в качестве дополнительного орудия правительственного контроля над низами) и запретительные меры против ряда национальных меньшинств. После смерти Каткова (1887) и падения влияния Победоносцева (конец 1880-х) внутренняя политика, в общем, продолжала развиваться по их рецептам. Как видим, лишь отдельные элементы славянофильства были взяты александровским режимом на вооружение – ксенофобия и «общинобесие». Либеральная же его компонента, после недолгого с ней заигрывания в начале 1880-х, была решительно отброшена.
Кризис
1880–1890-е гг. обозначили очевидный кризис националистической мысли. Наиболее живым и интересным русским национальным изданием того времени, безусловно, являлось суворинское «Новое время», но оно в отличие от аксаковской «Руси» в первую очередь было бойкой ежедневной газетой, ориентированной на широкого читателя и откликающейся на любую злобу дня, а не идеологической трибуной. Поэтому затруднительно говорить о какой-либо четкой доктрине, проповедовавшейся с ее страниц.
Но при всех политических пируэтах НВ одна константа сохранялась там всегда – отстаивание интересов великорусского Центра. Сам хозяин газеты писал в 1894 г., раскрывая свое понимание лозунга «Россия для русских»: «Русское ядро населения должно быть крепко, ибо только с его помощью можно владычествовать над народами, входящими в состав Российской империи, и вносить культуру в те новые страны, которые открываются нам в Азии… Коренному населению необходимо дать больше свободы и самоуправления, чем инородцам, чтоб оно явилось могучим культурным центром и направляло окраины и стягивало их в единство государственное, надо раз навсегда, вследствие этого, поставить пределы тем влияниям немецким, польским, финляндским, еврейским, которые открыто или окольными путями пробивались на самую поверхность в ущерб коренному населению… Англичанин покорил себе полмира, потому что он прежде всего и больше всего заботится о себе, о своей англосаксонской расе. Он всячески рос и укреплялся, он развивал свою свободу, свое просвещение, свою торговлю, свою промышленность. Он стремился стать достойным руководителем своих народов и колоний, не завертываясь в сентиментализм. Он сделал еврея полноправным гражданином только тогда, когда сам вырос и окреп так, что чуждые влияния были ему не страшны… „Россия для русских“ именно в том и заключается, чтоб русские люди явились везде как крепкая политическая сила, властная и интеллигентная».
Один из авторов НВ С. Н. Сыромятников в 1903 г. сформулировал ту же сумму идей в виде краткого, прагматического афоризма: «Русский национализм… есть признание права русского народа получить возмещение расходов, понесенных им в постройке империи». Но положительная национал-демократическая программа Суворина («больше свободы и самоуправления») проводилась в газете – отчасти из-за цензурных условий, отчасти из-за его связей с правительственными верхами – крайне осторожно, зато отрицательная («поставить пределы… влияния») более чем энергично, что создавало НВ в интеллигентской среде репутацию органа, специализирующегося на систематической «травле инородцев», прежде всего евреев (но, что интересно, не поляков, к которым Алексей Сергеевич относился весьма благожелательно).
Вполне закономерно, что в этот период происходит отождествление национализма и консерватизма («в 1880-е годы либералы во многом отдали понятие нация на откуп своим противникам справа, часть которых вскоре стала определять себя как националистов» (А. И. Миллер), которое закрепилось благодаря полемическим писаниям Вл. С. Соловьева о национальном вопросе в 1888–1891 гг. (кстати, эта полемика закрепила и сам термин национализм в русском языке). Начав с атаки на учение Данилевского («обдуманную и наукообразную систему национализма»), философ обрушился затем на «родоначальников нашего национализма» – ранних славянофилов («глубочайшею основою славянофильства была не христианская идея, а только зоологический патриотизм, освобождающий нацию от служений высшему идеалу и делающий из самой нации предмет идолослужения») и на Каткова, как публициста, будто бы утвердившего «славянофильскую доктрину на ее настоящей реальной почве… в ее прямых логических последствиях», а именно очистившего «от посторонних [то есть христианских] примесей» славянофильский «языческий культ народа» и создавшего русский «национально-государственный ислам», где предметом поклонения является «всевластное государство». Далее изничтожению подверглись современные «зоологические националисты», посмевшие вступить с «поборником вселенской правды» в полемику, – Н. Н. Страхов, Д. Ф. Самарин, П. Е. Астафьев.
Таким образом, практически вся традиция русского национализма XIX в. (во всяком случае, ее преобладающая, славянофильско-консервативная часть) подверглась систематической и изощренной дискредитации. Многие соловьевские критические стрелы в адрес тогдашнего русского национализма были совершенно справедливы. Скажем, история не оправдала надежду Данилевского и Страхова на возникновение нового, славяно-русского культурно-исторического типа. Соловьев оказался в целом прав в оценке России как части (пусть и очень своеобразной) европейской цивилизации. Но эта правота нисколько не означала истинности основных идей Владимира Сергеевича: 1) необходимости соединения христианских церквей под папским руководством; 2) отрицания национализма как регрессивного принципа, – напротив, именно на нем и основывалась европейская цивилизация с середины позапрошлого столетия. Не говорю уже о тех поразительно недобросовестных полемических приемах, которыми не брезговал «Пушкин русской философии» (например, стараясь доказать вымышленный плагиат Данилевского у немецкого ученого Ф. Рюккерта, Соловьев ничтоже сумняшеся сфальсифицировал цитаты из последнего).
Практически одновременно с Соловьевым на национализм с совершенно иных позиций напал К. Н. Леонтьев, обвинивший его в латентном либерализме. При всех очевидных противоречиях, обоих мыслителей роднило отрицание национального государства в модерном его понимании, но первый его не принимал за «зоологический патриотизм», а второй – за «демократическое смешение». Оба они предпочитали ему христианскую полиэтническую империю, в соловьевской терминологии – «семью народов». А предпочтение это вырастало из свойственных им разных вариантов домодерного типа мышления, предполагающего, в случае с Леонтьевым, апологию социальной архаики, а в случае с Соловьевым прямолинейное перенесение на социально-политическую жизнь религиозных норм.
То, что два крупнейших русских ума конца XIX столетия оказались в плену у подобных идеологем – свидетельство удручающе-провинциального состояния русской мысли того времени. Еще печальнее то, что двойной соловьевско-леонтьевский демарш против национализма не получил достойного интеллектуального отпора. Несмотря на множество справедливых возражений против него, не прозвучала аргументация собственно модерного национализма. Оппоненты Соловьева, защищавшие от него русский национализм, понимали последний в духе утопии «особого пути», де-факто означавшего консервацию социально-политических институтов и практик, препятствующих модернизации России, прежде всего самодержавия и крестьянской поземельной общины. Совершенно нормальное, мейнстримное для Европы (причем не только Западной, но и Восточной) соединение роста национального самосознания с капитализацией экономики и демократизацией общественно-политической жизни казалось им в русских условиях какой-то неслыханной ересью. Поэтому-то и на абсолютно справедливую леонтьевскую констатацию «революционности» (по отношению к российскому статус-кво) национального принципа они отреагировали как на странный парадокс. Русские либералы же, находившиеся в оппозиции к «контрреформационному» курсу Александра III, охотно поддержали Соловьева, таким образом как бы подтверждая чуждость либерализма и национализма со своей стороны.
Так, под влиянием атмосферы консервативного «самобытничества» 1880-х – 1890-х окончательно оформилась роковая развилка русской мысли и политики: антилиберальный национализм vs. антинациональный либерализм, вовсе не «онтологическая» для России: достаточно вспомнить декабризм или публицистику Аксакова и Каткова в период Великих реформ. Кстати, один из стойких приверженцев изначального национально-демократического духа последних А. Д. Градовский, который мог бы веско ответить и Соловьеву, и Леонтьеву, как раз скончался в самый разгар рассматриваемой дискуссии в 1889 г.
В интеллигентской среде, где верховодили либералы и левые, быть националистом стало считаться чем-то неприличным. Следует, однако, заметить, что некоторые интеллигентские лидеры «про себя» исповедовали вполне националистические воззрения, но «расшифровывались» только в очень узком кругу. Например, по свидетельствам очень разных современников, таков был основоположник русского марксизма Г. В. Плеханов. По словам Л. А. Тихомирова: «Он носил в душе неистребимый русский патриотизм. Ничего оригинального, своеобразного он в России, как и во всех других странах мира, не видел и не признавал. Но он видел в России великую социалистическую страну будущего и никому Россию не отдавал. Всякие сепаратизмы буквально ненавидел. К украинофильству он относился презрительно и враждебно. В нем глубоко жил великорусский унитарист и уравнитель. Революционеру и эмигранту нельзя открыто идти против поляков, как тоже силы революционной. Но Плеханов не любил поляков, не уважал их и не верил им. В дружеских беседах он это откровенно высказывал. С Драгомановым он был в открытой вражде. О Шевченке, смеясь, говорил: „Я Шевченке никогда не прощу, что он написал: „вмию, та не хочу“ говорить по-русски“. К Шевченке и украинофилам он относился, конечно, с большей ненавистью, чем даже, например, Катков».
В. И. Ульянов-Ленин в статье «Как чуть не потухла „Искра“» (1900) среди прочего вспоминал: «По вопросу об отношении нашем [русских социал-демократов] к Еврейскому союзу (Бунду) Г.В. [Плеханов] проявляет феноменальную нетерпимость, объявляя его прямо не социал-демократической организацией, а просто эксплуататорской, эксплуатирующей русских, говоря, что наша цель – вышибить этот Бунд из партии, что евреи – сплошь шовинисты и националисты, что русская партия должна быть русской, а не давать себя „в пленение“ „колену гадову“ и пр. Никакие наши возражения против этих неприличных речей ни к чему не привели и Г.В. остался всецело при своем, говоря, что у нас просто недостает знаний еврейства, жизненного опыта в ведении дел с евреями».
Н. Валентинов (Н. В. Вольский) рассказывает в своих мемуарах, как Плеханов в 1917 г. ответил на вопрос об изменениях в России, особенно бросившихся ему в глаза за 37 лет отсутствия: «Видите ли, я до сих пор считал Россию в большинстве своем населенной русскими – славянами. Думал, что господствует в ней славянский тип, примерно „новгородского образца“. Значит – люди высокого роста, по преимуществу долихоцефалы и блондины. Что же я вижу во всех российских, петербургских и прочих советах рабочих, крестьянских и солдатских депутатов? Множество людей черноволосых, большей частью брахицефалов, и говорят эти люди с каким-то акцентом и придыханием. Неужели, думал я, за эти годы, что не был в России, антропология ее населения так сильно изменилась? За все время, что приехал сюда, увидел, кажется, только двух истых представителей новгородского типа – это Авксентьев и Стеклов, но после проверки оказалось, что тов. Стеклов к новгородцам не принадлежит [настоящая фамилия – Нахамкис]… А… если говорить серьезно, должен сказать, что меня не только поразило, а даже шокировало слишком уж обильное представительство русских представителями других народностей, населяющих Россию, как бы почтенны они ни были. В этом видна незрелость русского народа».
Накануне
На рубеже XIX–XX вв. в националистической мысли начинается оживление. В правом лагере перешедший туда после отречения от революционного прошлого один из лидеров «Народной воли» Л. А. Тихомиров в 1890-х гг. начал разрабатывать свою теорию «истинного самодержавия», соединимого, по его мнению, как с широким самоуправлением, так и с общенациональным представительством от общественных и профессиональных корпораций: «Сила всякой верховной власти требует связи с нацией. Монархия отличается от аристократии и демократии не отсутствием этой связи, а лишь особым ее построением: через посредство нравственного идеала. …Монархическое начало власти, будучи высшим проявлением здорового состояния нации, особенно требует здорового состояния социального строя… Задачи осведомления и общения с нацией – достигаются для верховной власти тем легче, чем более находятся на виду все наиболее деятельные силы и люди нации, а это… лучше всего там, где энергичнее и свободнее происходит группировка нации на слои, корпорации, общества, в центре которых сами собою обозначаются наиболее способные и типичные представители национальной работы. …Идея сословного государства… состоит в том, чтобы естественные классы, естественные группы нации получили от государства делегацию его управительных функций во всех пределах компетенций этих групп; государство же при этом может и должно войти в свою нормальную роль верховного направления и согласования этих естественных групп, покинуть мелочную регламентацию их жизни, а тем избавившись… от бюрократического характера…»
В конце 1900 – начале 1901 г. в Петербурге возник и получил официальную регистрации клуб правых националистов «Русское собрание», положивший начало будущему черносотенному движению.
В 1901 г. в журнале «Вопросы философии и психологии» под псевдонимом П. Борисов была опубликована статья-манифест бывшего марксиста, а в юности – поклонника И. С. Аксакова П. Б. Струве «В чем же истинный национализм?», заново открывающего для русской публики либерально-демократическую сущность национализма: «Либерализм в его чистой форме, то есть как признание неотъемлемых прав личности, которые должны стоять выше посягательств какого-либо коллективного, сверхиндивидуального целого, как бы оно ни было организовано и какое бы наименование оно ни носило, и есть единственный вид истинного национализма, подлинного уважения и самоуважения национального духа, то есть признание прав его живых носителей и творцов на свободное творчество и искания, созидание и отвержение целей и форм жизни».
В 1904 г. в «Новом времени» появилась статья ее ведущего (с декабря 1901 г.) сотрудника М. О. Меньшикова «Вторая душа», в которой почти открыто утверждалось, что конституирующий признак нации – наличие у нее политических прав: «„Нация“ есть не физическое существо, а политическое. Нация есть одухотворенный народ, сознающий себя среди других народов независимым и державным. Нация – это когда люди чувствуют себя обладателями страны, ее хозяевами. Но сознавать себя хозяевами могут только граждане, люди обеспеченные в свободе мнения и в праве некоторого закономерного участия в делах страны. Если нет этих основных условий гражданственности, нет и национальности, или она зачаточна. Нация есть душа народа: общий разум и общая любовь. Но возможен ли общий разум, если он обречен молчанию? Возможна ли общая любовь без творческого участия в том, что любишь? Итак, нация есть союз гражданский прежде всего. „Все остальное приложится“, если найдена вот эта „правда“ – гражданская справедливость. Какая бы группа ни соединилась для защиты и бережения основных прав человека, она становится нацией».
Появление такого текста в подцензурной печати сигнализировало, что времена меняются, и действительно, кардинальные перемены не заставили себя ждать.
Глава 6. Падение на взлете
Трудное рождение нации
Уже с конца 1890-х гг. Россию, еще недавно вроде бы тихую, смирную, беспрекословно повинующуюся начальству, начинает «потряхивать». В феврале 1899 г. как гром среди ясного неба разразились массовые студенческие волнения, начавшиеся в Петербурге и затем перекинувшиеся в другие города. Внимательные наблюдатели из правого лагеря увидели в этом событии пугающий симптом. Л. А. Тихомиров записал в дневнике: «…изумительно, как Правительство ухитрилось расшатать Россию в какие-нибудь 4 года… Теперь я бы, кажется, не удивился никакому перевороту. Нигде не видно ни искры движения к силе и прочности власти. Эта студенческая история обнаружила такое невероятное анархическое состояние правительства и такую энергию… заговорщиков, что страх берет за будущее. …Это такая „проба пера“, это такое торжество их и такое поражение Правительства, что, конечно, дело скоро возобновится. Интересно знать, что будет через 3–4 года?» А вот цитата из дневника А. С. Суворина: «Мы переживаем какое-то переходное время. Власть не чувствует под собою почвы, и она не стоит того, чтоб ее поддерживать».
В связи с той же самой «студенческой историей» резко возрастает пессимизм в дневниках А. А. Киреева: «Мы никогда не переживали еще (насколько я себя помню) такого странного времени (да и страшного). Никто не хочет повиноваться и никто не умеет повелевать!» Александр Алексеевич передает следующий свой разговор с Победоносцевым, который жаловался, что «вообще все молодое поколение, все мыслящее становится враждебным правительству, число его сторонников уменьшается. Да, отвечал я Победоносцеву грустно; но „на век государя [то есть Николая II] хватит?“ „Хватит ли?“– отвечал мне Поб[едоносцев]. Да и действительно, хватит ли? Вопрос о будущности России ставится грозно, он настоятельно требует решения и этого не видят „на верху“… Современный государственный строй отживает свой век… Это яснее дня (и не пасмурного Петербуржск[ого], а ясного Кутаисского)… Мы идем навстречу сериозным, очень сериозным смутным временам. Идем с открытыми глазами, ничего не видя и не понимая… Снизу идет революционная работа, сверху делаются глупости… а где опора?».
С начала нового столетия возвращается, казалось бы, окончательно побежденный революционный террор. В 1901 г. его жертвой становится министр просвещения Н. П. Боголепов, в 1902-м – министр внутренних дел Д. С. Сипягин, в 1903-м – уфимский губернатор Н. М. Богданович, в 1904-м – министр внутренних дел В. К. Плеве и финляндский генерал-губернатор Н. И. Бобриков.
Осмелела пресса. В январе 1902 г. газета «Россия» опубликовала фельетон А. В. Амфитеатрова «Господа Обмановы», в героях которого читатели без труда узнали самодержцев Дома Романовых, а в незадачливом Нике-Милуше – самого царствующего монарха. Газета тут же была закрыта, автор памфлета – выслан из Петербурга в Минусинск, что, как вспоминал позднее Амфитеатров, создало вокруг «Обмановых» шум «неслыханного скандала»: «Номер газеты… в несколько дней сделался библиографическою редкостью, продавался по 25 руб., а некоторые москвичи впоследствии уверяли меня, будто платили даже сто рублей».
Весной 1902 г. по Полтавской и Харьковской губерниям прокатилась волна многотысячных крестьянских бунтов, участники которых разгромили десятки помещичьих усадеб. Летом и осенью того же года последовали крестьянские выступления в других губерниях Южной и Центральной России. В марте 1903 г. при разгоне войсками рабочей забастовки в Златоусте было убито 69 ее участников и 250 ранено.
Оппозиционные элементы начали структурироваться. В 1903 г. возник либеральный Союз освобождения и окончательно оформилась партия социал-демократов (РСДРП), еще ранее сложилась неонародническая партия эсеров со своей грозной Боевой организацией. Конфликт активных общественных сил (прежде всего интеллигенции) и власти явно назрел. Политические лозунги стали раздаваться со стороны самых невинных вроде бы общественных организаций. Так, на Девятом съезде Пироговского общества русских врачей, состоявшемся в январе 1904 г., в течение одного дня были приняты резолюции с призывом поддержать требования восьмичасового рабочего дня, ввести земства в губер ниях, где их еще не было, запретить телесные наказания, отменить смертную казнь, поставить школы под контроль местных властей и положить конец неравноправию евреев. В последний день съезда в зале, где он проходил, раздавались номера нелегального оппозиционного журнала «Освобождение» и листовки социал-демократов, слышались выкрики: «Долой самодержавие!», а несколько участников заседания попытались остановить игравший государственный гимн оркестр, ломая стулья и швыряя их прямо в музыкантов. В соседнем малом зале некий ветеринар Родионов зачитал резолюцию с требованием личной свободы, свободы слова и собраний, упразднения цензуры, добавив, что, поскольку все это при существующем режиме недостижимо, необходимо копить силы для борьбы против правительства, используя все доступные средства. После оглушительных аплодисментов толпа запела: «Отречемся от старого мира!» В этот момент появился отряд полиции, который разогнал мероприятие, арестовав нескольких человек и конфисковав все материалы съезда.
Нельзя сказать, что имперская бюрократия не понимала серьезности ситуации. О том, что Россия стоит на пороге революции, в частных беседах говорили оба последовательно убитые руководители МВД – Сипягин и Плеве. Член Госсовета А. А. Половцов записал в своем дневнике за июнь – июль 1901 г. весьма проницательные размышления о возможном ходе событий, которыми он делился с Победоносцевым и с самим императором: «За студенческими беспорядками последовали стачки и сражения фабричных рабочих с полицией. За ними встанет крестьянская толпа с требованием земли… Здесь конец той России, которую мы знали, которую мы всей душой боготворили! …Кто же явится надежным орудием репрессии? Прежнего, двадцатилетней службой оторванного от своей среды солдата не существует. Нынешний доблестный перед иноземным врагом воин покидает семью свою лишь на короткое время и остается солидарным с ее интересами, особливо земельными. На чью сторону станет он в такого рода поземельном процессе?» Половцов предлагает и «средства спасения»: «Умножать и усиливать класс землесобственников во всех видах. От табунного ковырянья земли, именуемого общинным владением, переходить к подворной и личной собственности… Открыть широко всем сословиям права поземельной собственности и непременно связанное с ними радение о местных пользах и нуждах. Сферу чиновничьей деятельности сузить, сделать ответственной в полном смысле слова…»
С похожими рецептами выступал тогда же и Вл. И. Гурко: «Необходимо предоставить простор свободной игре, свободному состязанию экономических сил и способностей народа, так как при нем происходит тот естественный подбор, при котором преимущественно вырабатываются и крепнут сильные народные элементы… Дайте вполне свободный выход из общины каждому крестьянину, отмените мертвящий закон о неотчуждаемости крестьянских надельных земель, и вы получите в сельских местностях многочисленный крепкий элемент порядка и хозяйственного прогресса».
В министерстве Плеве под его покровительством даже начали разрабатываться проекты реформ в указанном направлении. Но, во-первых, все это делалось без всякого обсуждения с обществом. Во-вторых, ни темпы подготовки преобразований, ни состав правящей верхушки не соответствовали гигантскому масштабу накопившихся из-за постоянного откладывания за десятки лет проблем: «Перестройка всего государственного здания была неизбежна, но для этого нужен был гений, размах и воля Петра, какового в нужный момент Россия, увы, не выставила» (Гурко). В-третьих, даже эти робкие попытки были свернуты из-за начавшейся в январе 1904 г. войны с Японией.
Амбициозная и в то же время плохо продуманная внешняя политика Николая II в сочетании с потрясающе низкой эффективностью российской военной машины, которой, как оказалось, совершенно не впрок пошла львиная доля государственных расходов, привела империю к позорному поражению, ставшему для нее «первым признаком начала конца» (О. Р. Айрапетов). Авторитет самодержавия критически пошатнулся (первые случаи крестьянского сквернословия в адрес императора зафиксированы именно в это время), и общество почувствовало в себе силы в открытую бороться с внезапно одряхлевшей властью, от которой отвернулись не только заядлые оппозиционеры, но и многие пылкие «державники». Эта война, вспоминал позднее Гурко, «несчастная во всех отношениях… раскрыла многие наши внутренние язвы, дала обильную пищу критике существовавшего государственного строя, перебросила в революционный лагерь множество лиц, заботящихся о судьбах родины, и тем не только дала мощный толчок революционному течению, но придала ему национальный, благородный характер».
Даже бывший начальник Петроградского охранного отделения К. И. Глобачев вынужден был признать в своих мемуарах, что события революции 1905 г. «были вызваны крайними элементами на почве общего неудовольствия военными неудачами и имели в своем основании, если хотите, национальную идею. Монархия уронила престиж Российской Великой Державы, и в защиту национальных интересов должна вступить новая власть – народная, способная вернуть России былое величие и дать такой строй стране, который обеспечил бы ей здоровое существование, вместо неспособного, отжившего монархизма. Вот лозунги, под которыми шла революция 1905 года и развивалась как бы на почве народного патриотизма». «Именно военная беспомощность самодержавия ярче всего подтвердила его бесполезность и вредность», – записал в дневнике того времени П. Б. Струве.
А. С. Суворин в мае 1905 г. в ответ на упреки своего приятеля и постоянного автора «Нового времени» консервативно настроенного историка С. С. Татищева – как, дескать, он может сочувствовать революционному движению, в первых рядах которого «всевозможные инородцы и иноверцы, исконные враги и ненавистники России» – отвечал: «Заслуги самодержавия мне так же ясны, как и Вам, но оно пережило себя. Нечего смотреть на тех, кто ополчается на самодержавие. Об этом нельзя судить под впечатлением минуты. Надобны годы, и поверьте, народ не выпустит власти из своих рук, то есть не передаст ее всем тем, кого Вы перечисляете».
В. Я. Брюсов, единственный из крупных русских поэтов той эпохи, воспевавший борьбу России за «скипетр Дальнего Востока», в августе 1905 г. окончательно отрекается от симпатий к растерявшей свою харизму монархии: «Да! Цепи могут быть прекрасны, / Но если лаврами обвиты». Славянофил П. П. Перцов, пропагандировавший в начале войны «могучий русский империализм», пишет в мае 1906 г. своему другу В. В. Розанову, некогда ученику К. Н. Леонтьева, а ныне постоянному автору либеральной газеты «Русское слово» под псевдонимом Варварин: «…ей Богу, бросить бы Вам это чертово „Нов[ое] время“ и уйти к „левым“ – без псевдонимов уже. Ведь будущее, конечно, за революцией. Нельзя же не видеть, что правда там. Я и сам теперь „левый“!»
Городское население, вовлеченное в революцию, оказалось способным к весьма эффективной самоорганизации. Это касается не только рабочих с их успешным опытом выросших из забастовочных комитетов Советов рабочих депутатов в 33 городах, но и интеллигенции и служащих. Уже в первые месяцы 1905 г. были созданы 14 профессионально-политических союзов: профессоров и преподавателей высшей школы (Академический), адвокатов, писателей и журналистов, учителей и деятелей народного образования, медицинского персонала, агрономов и земских статистиков, инженеров и техников, почтово-телеграфных и железнодорожных служащих, конторщиков и бухгалтеров, служащих правительственных учреждений и т. д. Каждый из этих союзов был весьма представителен. Например, академический насчитывал в своих рядах в разное время 1500–1800 членов, что приблизительно равнялось 70 % всего преподавательского состава высшей школы. В мае эти организации образовали общественно-политическое объединение Союз союзов, включавшее в себя до 50 тыс. человек (15 % всей российской интеллигенции и служащих). В начале октября призыв Центрального бюро Всероссийского железнодорожного союза о всеобщей забастовке привел к остановке 14 дорог, на которых работало 700 тыс. рабочих и служащих. Вскоре стачка стала всероссийской, к ней присоединились фабрично-заводские рабочие, печатники, горняки, телеграфисты, общее количество бастующих составило около 2 млн человек в 66 губерниях и 120 городах. В Москве и Петербурге к 14 октября закрылись магазины, прекратили работу банки и электростанции (а в Москве и водопровод), перестали ездить трамваи, конки и даже извозчики. «В России жизнь остановилась», – констатировали современники. Следствием Октябрьской стачки и стал императорский Манифест от 17 октября «Об усовершенствовании государственного порядка», открывший новую эпоху в истории России.
Манифест обещал «даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов» и «установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от нас властей». И эти обещания вскоре во многом были реализованы. 23 ап реля 1906 г. были утверждены Основные законы Российской империи, разделявшие законодательную власть на паритетных началах между императором, Думой и реформированным Государственным советом (половина его членов теперь выбиралась от духовенства, дворянских и земских собраний, Академии наук и университетов, торговых и промышленных организаций); для принятия всякого закона требовалось его одобрение большинством голосов в Думе и Госсовете, а затем – подписание императором. Преобразовывалась и власть исполнительная – 19 октября 1905 г. был учрежден Совет министров, коллегиальное правительство во главе с председателем, подотчетным лично императору. 4 марта 1906 г. были приняты «Временные правила об обществах и союзах», провозглашавшие отмену разрешительного порядка создания обществ: общества и союзы могли теперь быть образованы «без испрошения на то разрешения правительственной власти».
Итак, впервые за все века русской истории верховная власть в России гарантировала своим подданным основные гражданские права и даровала им права политические, ставя себя под – пусть и ограниченный – контроль общества, отрекаясь тем самым от своей надзаконной сущности. Империя стала конституционной или думской монархией. Хотя в Манифесте не прозвучало слово «нация», именно 17 октября 1905 г. следует считать днем рождения русской политической нации. Недаром один из идейных вождей освободительного движения либерал-националист П. Б. Струве писал позднее, что «актом 17 октября по существу и формально революция должна была завершиться».
Но судьба новорожденной нации висела буквально на волоске, подвергаясь смертельной опасности как «справа», так и «слева». С одной стороны, Манифест был вырван у императора силой, и последний, подписав его, вовсе не собирался расставаться с привычным положением «хозяина земли русской», как не собиралась расставаться с надзаконным стилем управления значительная часть имперской бюрократии, воспринимавшая акт 17 октября как временную уступку. В этом их поддерживали правые политические организации (Союз русского народа, Монархическая партия и др.), чьи многочисленные симпатизанты из среды городского мещанства – черносотенцы – сумели объединиться и устроили с 17 октября по 1 ноября в 36 губерниях и 660 населенных пунктах страны серию антиреволюционных и антиеврейских (еврей ассоциировался в их сознании с революционером, что имело некоторое фактическое основание, если вспомнить непропорционально высокое еврейское представительство в революционных партиях) погромов, стоивших жизни примерно 4 тыс. человек. С другой стороны, большей части интеллигентской общественности Манифест виделся лишь первым этапом в осуществлении ее социалистических грез, и в этом она совпадала не только с рабочим движением, но и с крестьянским бунтом, происходившим под лозунгом «черного передела» – отъема и равного распределения помещичьих земель.
Вплоть до 1907 г. Россия переживала новую Смуту. Продолжались стачки (хотя уровня Октябрьской уже не достигавшие). То тут, то там вспыхивали волнения в армии и на флоте. К концу ноября крестьяне в европейской части России разгромили до 3 тыс. имений, а всего за 1905–1907 гг. там произошло более 18 тыс. крестьянских выступлений. Иногда возникали даже самоуправляющиеся крестьянские «республики», например подмосковная Марковская, просуществовавшая 6 месяцев, жители которой поделили между собой помещичьи земли, отказались платить налоги и поставлять рекрутов и отменили сословные различия, решив называться отныне просто «русские граждане».
Зашкаливал революционный террор: в 1905 г. его жертвами стали 591 человек (233 убитых и 358 раненых), в 1906-м – 1588 (768 и 820 соответственно), в 1907-м – 2543 (1231 и 1312), только с 1908 г. он пошел на спад (394 убитых и 615 раненых). В ответ нарастал террор правительственный: в 1905 г. было казнено 10 человек, в 1906-м – 144, в 1907-м – 456, в 1908-м – 825. К ноябрю 1905 г. в 40 губерниях было введено военное положение. В декабре того же года вооруженное восстание в Москве, в ходе которого погибло более 1000 человек, удалось подавить только с помощью присланного из Петербурга гвардейского Семеновского полка. Впрочем, армию применяли для борьбы против революции по всей стране: в 1905 г. с этой целью использовалось 3,2 млн солдат и казаков; за первые 10 месяцев 1906 г. войска вызывались «для наведения порядка» 2330 раз, общее число участников карательных акций составило 2 млн.
В такой ситуации либералы, призванные по идее быть политическим центром, ощутимо сместились «влево», даже на уровне деклараций неоднократно подчеркивая, что там у них «врагов нет». Партия кадетов включила в число своих требований принудительное отчуждение земли у помещиков в пользу крестьян, впрочем, в кадетской программе вообще отсутствовало упоминание в числе основных прав ключевого для либерализма права собственности. Первые две Думы прошли в яростном противостоянии исполнительной и законодательной властей и были распущены.
Национализм в действии
Россию разрывали крайности, каждая из которых вела прямиком к диктатуре – правой или левой. И это естественно при катастрофической слабости в стране среднего класса. Идеи Манифеста 17 октября могли обрести под собой прочный социальный фундамент только тогда, когда класс этот стал бы реальной общественной силой. Указанную задачу и должны были решить реформы П. А. Столыпина, назначенного Председателем Совета министров в июле 1906 г. «Новый политический порядок в нашем отечестве для своей прочности и силы нуждается в соответственных экономических основах и, прежде всего, в таком распорядке хозяйственного строя, который опирался бы на начала личной собственности и на уважение к собственности других. Только этим путем создана будет та крепкая среда мелких и средних собственников, которая повсеместно служит оплотом и цементом государственного порядка», – говорилось в особом журнале Совета министров от 10 октября 1906 г. «Пока крестьянин беден, пока он не обладает личною земельною собственностью, пока он находится насильно в тисках общины, он останется рабом, и никакой писаный закон не даст ему блага гражданской свободы… Мелкий земельный собственник, несомненно, явится ядром будущей мелкой земской единицы; он, трудолюбивый, обладающий чувством собственного достоинства, внесет в деревню и культуру, и просвещение, и достаток. Вот тогда, тогда только писаная свобода превратится и претворится в свободу настоящую, которая, конечно, слагается из гражданских вольностей и чувства государственности и патриотизма», – заявил глава правительства 16 ноября 1907 г. с думской трибуны.
Столыпин был последним шансом Петербургской России для ее эволюционного перехода к национальному государству европейского типа. Именно в годы его премьерства впервые за все время существования империи Романовых русский национализм стал действительной (а не декоративной, как при Александре III) государственной программой. Да, как справедливо отмечалось в мемуарной и научной литературе, в реформах Столыпина не было ничего принципиально нового, не предлагавшегося ранее теми или иными его предшественниками, однако заслуга Петра Аркадьевича как раз в том и состояла, что он сумел все эти прекрасные, но лежавшие годами под сукном предложения сделать неотложными правительственными мерами и незамедлительно принялся за их энергичную реализацию.
Без распространения права частной собственности, других гражданских прав и грамотности на подавляющее большинство русских – крестьян – построить русскую нацию было невозможно. Уже через полтора месяца после назначения на должность новый премьер обнародовал главные пункты своего курса: улучшение крестьянского землевладения и землепользования, введение всеобщего начального образования, гражданское равноправие, неприкосновенность личности, введение всесословного волостного самоуправления и т. д. 5 октября 1906 г. был издан указ, отменявший все правоограничения лиц крестьянского сословия. 9 ноября – указ «О дополнении некоторых постановлений действующего Закона, касающегося крестьянского землевладения», который предоставлял крестьянам право выхода из общины со своим земельным наделом, переходившим из временного владения в личную частную собственность (принят Третьей думой в качестве закона 14 июня 1910 г.). Обрело полную свободу переселенческое движение, стимулируемое теперь рядом льгот: выдавались ссуды, достигавшие 400 руб., на новом месте переселенцев ожидали 15 десятин земли и 3 десятины леса на душу мужского пола.
Еще ранее Министерство народного просвещения выработало законопроект «О введении всеобщего начального обучения». На его первом обсуждении правительством 8 августа 1906 г., в частности, прозвучало, что в ближайшие годы усилия и средства МНП будут сосредоточены на развитии школы в Центральной России, чтобы «постепенно двигаться от центра к окраинам». Открытие новых школ и признание готовности того или иного региона к обязательному обучению возлагалось на земства и городские органы самоуправления, министерство брало на себя содержание преподавателей. В проекте формулировались основные параметры новой школы: ее бесплатный характер, возраст учащихся (8—11 лет), продолжительность учебного процесса (4 года), число учащихся, приходящихся на одного учителя (не более 50 человек), протяженность школьного района (3 версты в диаметре) и т. д. Срок реализации было предложено определить в десять лет – 1907–1917 гг. В конце 1906 г. Министерство внутренних дел представило проект закона о создании всесословной волости в качестве мелкой земской единицы, но яростное сопротивление дворянства не позволило провести эту идею в жизнь.
Риторика и практика Столыпина в национальном вопросе также показывают его как последовательного русского националиста. Россия виделась Петру Аркадьевичу не сословно-династической или абстрактно либеральной, а национальной империей, «не стыдящейся быть русской»: «Можно понимать государство как совокупность отдельных лиц, племен, народностей, соединенных одним общим законодательством, общей администрацией… Но можно понимать государство и иначе, можно мыслить государство как силу, как союз, проводящий народные, исторические начала. Такое государство, осуществляя народные заветы, обладает волей, имеет силу и власть принуждения, такое государство преклоняет права отдельных лиц, отдельных групп к правам целого. Таким целым я почитаю Россию». Сама нация, а не только верховная власть определяет политический курс государства: «С введением нового строя в России поднялась… реакция русского патриотизма и русского национального чувства, и эта реакция… вьет себе гнездо именно в общественных слоях… В прежние времена одно только правительство имело заботу и обязанность отстаивать исторические и державные приобретения и права России. Теперь не то».
В то же время права других народов империи не должны ущемляться, а, напротив, расширяться (скажем, Столыпин предлагал отменить ограничения для евреев, но встретил резкое сопротивление царя), целью правительственных мер в отношении «инородцев» провозглашалось их «мирное приобщение… к общему течению русской государственной жизни и возможное сближение… с русскою общественностью при условии сохранения религиозных и племенных… особенностей».
Под покровительством Столыпина весной – летом 1908 г. был создан Всероссийский национальный союз – первая легальная русская собственно националистическая партия, образовавшая в Третьей думе вместе с умеренно правыми фракцию националистов в количестве 78 депутатов (17,6 % от общего числа последних; лидеры – П. Н. Балашев, В. А. Бобринский, В. В. Шульгин и др.), вторую по численности после октябристов, это положение она сохранила и в Четвертой думе (88 депутатов). Причем, по подсчетам Ф. А. Гайды, «националисты по своему составу были демократичнее фракции „Союза 17 октября“. В период I сессии дворяне составляли в октябристской фракции 58 %, крестьяне – всего 10, в то время как у умеренно-правых и националистов в совокупности – 40 и 28. После их объединения для единой фракции была характерна наиболее высокая численность крестьян во всей Думе (29 % всех депутатов-крестьян)». Председатель ВНС С. В. Рухлов в 1909 г. вошел в правительство в качестве министра путей сообщения. Опираясь на «своих» националистов и на союз с октябристами, премьер провел в Думе ряд ограничений автономии Финляндии (в частности, из ведения местной компетенции изымались права русских подданных, не состоявших финляндскими гражданами).
В мае 1910 г. Дума приняла правительственный законопроект о земствах в Западном крае, по которому там вводились вместо сословных курий (дворянской и крестьянской) курии национальные (русская и польская), что обеспечивало русское преобладание, ибо дворянство в ЗК было почти сплошь польским, а крестьянство – русским (малоросским и белорусским). «В этом законе проводится принцип не утеснения, не угнетения нерусских народностей, а охранения прав коренного русского населения, которому государство изменить не может, потому что оно никогда не изменяло государству и в тяжелые исторические времена всегда стояло на западной нашей границе на страже русских государственных начал», – подчеркивал Столыпин. Характерно, что проект был провален дворянским большинством Госсовета, для которого в данном вопросе сословная солидарность оказалась важнее национальной. Премьер-министр буквально продавил этот закон чрезвычайно-указным порядком, угрожая императору отставкой.
Именно в столыпинские годы национализм снова перестает быть монополией правых, сделавшись достоянием самых различных идейно-политических течений. Национализм черносотенцев (А. С. Вязигин, Б. В. Никольский, К. Н. Пасхалов, С. Ф. Шарапов и др.) играл в их идеологии скорее подчиненную роль сравнительно с охранением традиционных основ российской государственности и продолжал пребывать в качестве третьего, служебного члена уваровской триады, что, например, находило отражение в программных документах Союза русского народа, в коих ценности, отстаиваемые «союзниками», перечислялись в следующем порядке: «1. Святая православная вера; 2. Исконно русское неограниченное царское самодержавие и 3. Русская народность». Какие бы чувства ни обуревали черносотенцев, на интеллектуальном уровне нация никогда не имела для них самоценного характера. Наиболее значительный консервативный мыслитель того времени Л. А. Тихомиров неоднократно выступал с резким осуждением «узкой идеи русского интереса», «национального эгоизма», доказывая, что Россия велика лишь как носительница «идеалов общечеловеческой жизни», «христианской миссии, дела Божия». Творческое развитие националистической мысли явно стало прерогативой тех или иных вариантов национал-либерализма.
Превращение либерального национализма во влиятельное направление общественной мысли неразрывно связано с именем его признанного вождя П. Б. Струве, для которого национализм являлся «одним из незыблемых столпов его интеллектуальной биографии, можно сказать, ее константой, тогда как в отношении остального его политическая и социальная точки зрения постепенно менялись. Великая, полнокровная, культурная русская нация была для него… главной целью всей его общественной деятельности» (Р. Пайпс). По Струве, без «признания прав человека… национализм есть либо пустое слово, либо грубый обман или самообман». С другой стороны, и либерализм «для того, чтобы быть сильным, не может не быть национальным». Струве снимает противоречие, возникшее во второй половине XIX в., между русским европеизмом и русским национализмом в своей знаменитой и только внешне парадоксальной формуле: «Я западник и потому – националист». Единомышленник Петра Бернгардовича В. С. Голубев доказывал, что «бессилие „русского освободительного движения“» происходит прежде всего из-за его «бесплодной космополитической идеологии», что сама успешность борьбы за «европейские формы государственности» в России «во многом зависит от силы нашего национального самосознания».
Струве отстаивал «открытый», «прозелитический» национализм англосаксонского типа, втягивающий в орбиту русской культуры другие народы империи (кроме поляков и финнов, ассимиляция которых «немыслима»), в сочетании с их юридическим равноправием это, по его мнению, могло бы стать решением национального вопроса в России. В то же время он не уставал подчеркивать, что Российская империя «есть государство национальное» за счет своего русского «национального ядра». Петр Бернгардович пропагандировал активную внешнюю политику во имя «политического и культурного преобладания России на всем так называемом Ближнем Востоке», прежде всего на Балканах. К 1917 г. «струвизм» числил в своих рядах немало талантливых пропагандистов, как именитых (А. С. Изгоев, С. А. Котляревский, А. Л. Погодин), так и начинающих (В. Н. Муравьев, Д. Д. Муретов, П. Н. Савицкий, Н. В. Устрялов), в его распоряжении находился один из лучших журналов того времени «Русская мысль», в 1910–1917 гг. возглавляемый самим Струве. Другим важнейшим печатным органом национал-либералов была газета «Утро России», финансируемая капиталистами-старообрядцами П. П. Рябушинским и А. И. Коноваловым, где, в частности, выделялись статьи публициста В. Г. Тардова.
Нововременский национализм, чьим главным выразителем являлся М. О. Меньшиков, по внешности имел много общего с национал-либерализмом. То же утверждение текучести жизни этноса, которая предопределяет неизбежность отмирания старых и возникновения новых общественных форм, то же требование участия всей нации в государственных делах, то же западничество… Но при этом Меньшиков был биологическим детерминистом и социал-дарвинистом с сильной примесью ницшеанства. Отсюда и вытекают основные противоречия между ним и «этическим идеалистом», опиравшимся на наследие Канта и Фихте, Струве: для Петра Бернгардовича главная ценность – благо отдельной личности, для Михаила Осиповича – благо этноса как биологического организма; первому либеральный строй важен как осуществление высшего нравственного принципа равноценности всех людей, второму – как средство «отбора» новой аристократии, устанавливающей законы для «ленивого, мечтательного, тупого, простого народа»; с точки зрения духовного вождя национал-либералов национальность определяется принадлежностью к той или иной культуре, по мнению ведущего публициста «Нового времени» – к той или иной «расе», «крови», «породе» (биологизаторскую трактовку нации развивал и другой идеолог ВНС П. И. Ковалевский); если лидер правых кадетов призывал к утверждению юридического равноправия всех народов Российской империи, то идейный рупор Всероссийского национального союза считал инородцев врагами России и потому протестовал против их присутствия в Думе…
Короче говоря, «либерализм» Меньшикова носил ярко выраженный антидемократический и этнократический характер и, в сущности, был предельно далек от струвевского социал-либерализма, да и от классического либерализма тоже. Но от традиционалистских правых Меньшиков был еще дальше, неоднократно подчеркивая, что для него высшей ценностью в уваровской триаде является ее третий элемент – народность/ нация. В отличие от них он не боялся прославлять «национальный эгоизм»: «Апостолы мелких национальностей не стыдятся выражения „эгоизм“. Мне кажется, и русскому национализму не следует чураться этого понятия. Да, эгоизм. Что ж в нем удивительного или ужасного? Из всех народов на свете русскому, наиболее мягкосердечному, пора заразиться некоторой дозой здравого эгоизма. Пора с совершенной твердостью установить, что мы не космополиты, не альтруисты, не „святые последних дней“, а такой же народ, как и все остальные, желающие жить на белом свете прежде всего для самих себя и для собственного потомства… Суть национализма составляет благородный эгоизм, сознательный и трезвый, отстаиваемый как душа, как совесть».
Меньшиков продолжал и развивал традиционную для «Нового времени» тему необходимости подъема великорусского центра страны: «Расширяясь без конца, страна тратит капитал; развиваясь внутрь, она накапливает его, и, может быть, все беды России в том, что она все еще не начала настоящего периода накопления. Завоевывая огромные пространства, мы до сих пор оттягивали от центра национальные силы. Пора возвращаться назад, пора вносить в свою родину больше, чем мы вынимаем из нее, пора собирать землю Русскую из-под навалившихся на нее инородных грузов. Я вовсе не настаиваю на автономии окраин – я настаиваю на автономии русского центра от окраин. Я уверен, что только тогда мы разовьем наше национальное могущество, когда восстановим нарушенное единство, когда отбросим примеси, отказывающиеся войти в нашу плоть и кровь. Кроме народов-победителей, страдающих несварением желудка, мы знаем народы, гибнущие от этой болезни; пренебрегать этими уроками истории мы, националисты, не вправе». От тех окраин, которые невозможно «обрусить» (например, от Польши), Меньшиков предлагал в перспективе отказаться. Главным и прямо-таки онтологическим врагом «русского возрождения» Михаил Осипович считал евреев, беспрестанно и виртуозно обличая в своей публицистике их злокозненность в самых разных сферах российской жизни.
Национальная идея в разных ее вариациях становится главенствующей в творчестве многих «властителей дум»: в поэзии Александра Блока и Андрея Белого, в философских трудах Николая Бердяева и Сергея Булгакова, в живописи Михаила Нестерова… Отдельные смельчаки из оппозиционной русской интеллигенции ставили на обсуждение табуированные прежде для нее проблемы. Струве выступил с резкой критикой украинского «культурного сепаратизма». Он же высказался о законности для русской интеллигенции особых русских интересов и чувств: «Я и всякий другой русский, мы имеем право на эти чувства, право на наше национальное лицо. Чем яснее это будет понято и нами, русскими, и представителями нерусских национальностей, тем меньше в будущем предстоит недоразумений».
Андрей Белый в 1910 г. опубликовал в журнале «Весы», редактируемом В. Я. Брюсовым, статью «Штемпелеванная культура», протестующую против еврейского диктата в литературе и искусстве: «…вы посмотрите списки сотрудников газет и журналов России; кто музыкальные, литературные критики этих журналов? Вы увидите почти сплошь имена евреев; среди критиков этих есть талантливые и чуткие люди; есть немногие среди них, которые понимают задачи национальной культуры, быть может, и глубже русских; но то – исключение. Общая масса еврейских критиков совершенно чужда русскому искусству, пишет на жаргоне „эсперанто“ и терроризирует всякую попытку углубить и обогатить русский язык. Если принять, что это все „законодатели вкусов“ в разных слоях общества, то становится страшно за судьбы родного искусства. То же и с издательствами: все крупные литературно-коммерческие предприятия России (…) или принадлежат евреям, или ими дирижируются; вырастает экономическая зависимость писателя от издателя, и вот – морально покупается за писателем писатель, за критиком критик. Власть „штемпеля“ нависает над творчеством: национальное творчество трусливо прячется по углам; фальсификация шествует победоносно. И эта зависимость писателя от еврейской или юдаизированной критики строго замалчивается: еврей-издатель, с одной стороны, грозит голодом писателю; с другой стороны – еврейский критик грозит опозорить того, кто поднимет голос в защиту права русской литературы быть русской и только русской… Равноправием должны доказать мы евреям, что они не дурной народ, и в их стремлении к равноправию мы с ними. И протестом против их гегемонии во всех областях культурного руководительства должны подчеркнуть мы, что они народ иной, чуждый задачам русской культуры; в их стремлении к равному с нами пониманию скрытых возможностей русского народа мы безусловно против них».
Авторы сборника «Вехи» (Бердяев, Булгаков, М. О. Гершензон, Струве, С. Л. Франк и др.), произведшего после своего выхода 1909 г. настоящую сенсацию, выступили с резкой критикой всей интеллигентской политической и культурной традиции – революционизма, «безрелигиозности», «государственного отщепенства», социалистического утопизма, правового нигилизма и т. д.
«Преображение страны новым духом»
Споры об успешности столыпинского курса сегодня ведутся, наверное, не менее бурно, чем в годы его проведения. Поскольку реформы реально осуществлялись всего семь с половиной лет (1907–1914) и были оборваны войной, однозначно утверждать, что они провалились, столь же нелепо, как и настаивать на их безусловной победе. Первые результаты начатых преобразований скорее обнадеживают, чем разочаровывают. Всего к 1916 г. из общины вышли почти 2,5 млн дворов (почти 27 % крестьян). 914 тыс. владельцев сразу же продали свои наделы, чтобы переселиться за Урал или в города. Единоличное владение хуторского или отрубного типа завели 1 млн 210 тыс. домохозяев 47 губерний Европейской России (немногим более десятой части общего числа крестьянских хозяйств в последней), что составило около 15,4 млн десятин земли. С учетом многовекового господства общинных традиций это не такая уж и скромная цифра. «…Много это или мало 15,4 млн. десятин за 9 лет? – рассуждает И. И. Макурин. – Ну, наверное, смотря как сравнивать… Например, с 1991 по 2010 г., то есть за 19 лет, под фермерскими хозяйствами, в том числе и на праве аренды находится 29,4 млн. га земли (1 дес. = 1,092 га). Как видим, цифры совершенно сопоставимые, только динамика у „столыпинских фермеров“ повыше, и это объяснимо – еще не было коллективизации… Разве эта динамика – не победа и не успех?»
Кроме того, далеко не все крестьяне, получившие наделы, имели надобность выходить из общины, утратившей свой прежний принудительный характер, поэтому количество тех, кто подал заявления относительно землеустройства как такового (то есть пожелавших провести внутринадельное размежевание, не обязательно выходя из состава сельского общества), гораздо больше – 6,2 млн – «две трети общинников» (В. Г. Тюкавкин). А вопреки устоявшемуся мнению, цель столыпинской аграрной реформы состояла вовсе не в разрушении общины, а в том, чтобы снять путы с крестьянской самодеятельности, а уже где последняя будет себя проявлять – на хуторе или внутри общины, закон этого не предписывал.
Процент выходцев из сельских обществ был особенно велик в Новороссии (до 60), на Правобережной Украине (до 50), в ряде центральных губерний – Самарской (49), Курской (44), Орловской и Московской (в обеих – 31), то есть в областях либо с развитым рыночным хозяйством, либо страдавших от острого малоземелья. Из великорусских губерний хуторское хозяйство стало решительно преобладать на Псковщине (82 %). По данным германской правительственной комиссии, изучавшей в 1911–1912 гг. русский аграрный опыт, абсолютное большинство обследованных хуторских или отрубных хозяйств добились качественного улучшения землепользования, урожайность там превышала общинную на 14 %. Крестьяне активно скупали землю, в 1916 г. им уже принадлежало почти 89 % всех посевных площадей, а помещикам соответственно – немногим более 11 %.
Тульский крестьянин-толстовец М. П. Новиков описывает в своих воспоминаниях период 1908–1914 гг. как «крестьянский золотой век»: «…в деревнях все быстро улучшалось… заводились деньжонки у мужиков и, если они не были горькими пьяницами, у них появлялся хороший инвентарь, сбруя, ставились новые и перекрывались железом старые хаты, прикупалась земля… Появлялись у некоторых даже граммофоны, хорошие гармошки. Ни один и простой праздник не обходился без белого хлеба и баранок. А в большие праздники все покупали 20–30 килограммов белой муки. Картошку без масла ели уж только любители. Девки и парни приходили на Пасху с фабрик в таких нарядах, что нельзя было уже узнать – то ли это мужицкие, то ли господские дети… Хорошее, золотое было время для старательных и более трезвых крестьян. О нужде были разговоры только в семьях пьяниц».
Другой, подмосковный крестьянин-толстовец С. Т. Семенов, один из первых у себя в деревне вышедший на отруб, высказывал в 1915 г. надежду на кардинальное общественное обновление сельской России: «…с выделами должно распространяться и сознание, что один в поле не воин, и идти сознательное объединение крестьян на почве хозяйственных интересов. Таким образом, должна воспитываться необходимая общественность, отсутствие которой отличает русский народ от других наций, и нелюбовь к чему русского человека причиняла в прошлом огромный вред всему народу». (Замечательно, кстати, что оба цитируемых крестьянских последователя учения графа Льва Николаевича приветствовали столыпинскую реформу в полном противоречии со своим учителем, ее безоговорочно отвергавшим.)
Обретение гражданского равноправия и рост материального благополучия крестьянства сказались и на его представительстве в высшей школе и культуре. Процент крестьянских юношей, учившихся в университетах с 1906 по 1914 г., увеличился почти в два с половиной раза – 5,4 и 13,3 соответственно (а лица из всех непривилегированных сословий вкупе дали к 1916 г. 55 % университетских студентов). В специализированных технических и народно-хозяйственных высших учебных заведениях крестьян было еще больше – например, в инженерных институтах в 1914 г. – 22,4 % (в 1895 г. – 9,4 %), в 1915 г. в аграрных высших школах – 31,3 % (в 1895-м – 8,2 %). В 1912 г. доля крестьян в военных училищах составила 18,18 %, превысив долю потомственных дворян (15,27 %), совсем недавно там господствовавших (63,89 % в 1894 г.). В литературе появилось весьма яркое «крестьянское» направление: в 1911 г. вышли в свет первые сборники стихов Николая Клюева и Сергея Клычкова, в 1916-м – Сергея Есенина, активно печатались их соратники Петр Орешин, Пимен Карпов, Александр Ширяевец, Алексей Чапыгин…
Таким образом, крестьянские выходцы начали оспаривать у дворян даже те сферы деятельности, которые веками были их вотчиной, – военное дело и писательство. Культурный разрыв между элитой и «народом» начал заметно сокращаться. Ф. А. Степун считал, что «еще десять – двадцать лет дружной, упорной работы, и Россия, бесспорно, вышла бы на дорогу окончательного преодоления того разрыва между „необразованностью народа и ненародностью образования“, в котором славянофилы правильно видели основной грех русской жизни».
Ассигнования на нужды начального образования в столыпинский период выросли почти в четыре раза: с 9 млн до 35,5 млн руб. В 1910 г. доля государственных средств на содержание земских училищ составила 36,5 % общей суммы расходов на них (доля земств – 56,7 %, сельских обществ – 6,8 %). Хотя законопроект о введении всеобщего образования не был окончательно утвержден до падения монархии, деятельность МНП в данной сфере с 1908 г. стала официально обозначаться как «подготовительные работы по введению всеобщего начального образования». Рост ассигнований МНП на нужды начальной школы с большим отрывом опережал финансирование среднего и высшего образования и науки: в 1905 г. эти траты составили 18 % всех расходов ведомства, в 1907 – 21 %, в 1908 – 30 %, а в 1912 – уже 52,6 %, притом что доля государственного бюджета, выделяемого МНП, в 1903–1912 гг. увеличилась более чем в два раза (это составило наибольший относительный рост расходов среди всех центральных ведомств).
За период 1893–1914 гг. число земских одноклассных училищ увеличилось более чем в три раза: в 1893 г. было 13,3 тыс. с 910,6 тыс. учеников, к началу 1915 г. – 43,67 тыс. с 3 млн 73 тыс. учеников. В большинстве уездов, согласно информации от земств, введение всеобщего обучения могло состояться в 1918–1920 гг. К 1916 г. всего действовало 189,5 тыс. школьных комплектов (из них 139,6 тыс. по ведомству МНП), для реализации идеи всеобщего обучения оставалось открыть еще 151 тыс. комплектов. «Можно с уверенностью предположить, что если бы России удалось избежать участия в Первой мировой войне и вызванных ею потрясений, всеобщее обучение в центральных регионах страны было бы введено к началу 1920-х гг.» (И. В. Зубков).
В годы реформы за Урал переселилось 3 млн 772 тыс. человек, из них осталось на новом месте большинство – 2 млн 745 тыс. (правда, далеко не все разбогатели, и из этих недовольных жизнью переселенцев позднее будет черпать кадры антиколчаковское партизанское движение). Сибирь, еще недавно лежавшая «географическим трупом», активно развивалась. К 1911 г. там были освоены 30 млн десятин целины. Сибирская железная дорога, ранее убыточная, стала давать к 1912 г. 400 тыс. руб. чистого дохода. К 1914 г. из Сибири вывозилось 50 млн пудов хлеба и 5 млн пудов масла, рост скота и посевов почти вдвое превышал рост населения. Именно тогда была намечена схема создания на сибирских землях нового индустриального района. Другой индустриальный район уже заработал в Донбассе и был воспет в известном стихотворении Блока «Новая Америка» (1913):
На пустынном просторе, на диком Ты все та, что была, и не та, Новым ты обернулась мне ликом, И другая волнует мечта… Черный уголь – подземный мессия, Черный уголь – здесь царь и жених, Но не страшен, невеста, Россия, Голос каменных песен твоих! Уголь стонет, и соль забелелась, И железная воет руда… То над степью пустой загорелась Мне Америки новой звезда!Столыпинские преобразования подготовили «исключительный хозяйственный подъем» (Гурко) России в предвоенные годы, когда она по величине национального дохода (7,4 % от мирового) вышла на четвертое место в мире после США, Германии и Великобритании, а по темпам экономического роста (7 % в год) – на первое. Важно отметить, что на сей раз подъем этот шел не за счет благосостояния народа, а, напротив, сопровождался ростом уровня жизни последнего. Если в 1900 г. доход одного человека в среднем составлял 98 руб., то в 1912-м – уже 130 руб., то есть повысился более чем на 30 %.
В империи развивалась легальная политическая жизнь – к февралю 1917 г. насчитывалось 45 партий общероссийского уровня (а включая локальные – 205), представлявшие весь возможный политический спектр – консерваторов, либералов, социалистов. Росли как грибы после дождя разнообразные общественные организации. Только за 1906–1909 гг. было образовано, по данным русского правоведа Н. П. Ануфриева, 4801 общество. В одной Москве в 1912 г. насчитывалось более 600 различных обществ и клубов, а в Петрограде к октябрю 1917 г. – около 500. К 1914 г. существовало свыше 100 обществ учителей, около 40 – фельдшеров, более 150 – служащих частных предприятий. В период с 1905 по 1917 г. возникло около 120 новых научных обществ, их общее число превысило 300. Всего же в этот период, по оценкам американского исследователя Джозефа Брэдли, в Российской империи числилось около 10 тыс. добровольных обществ. Особо нужно сказать о колоссальном подъеме кооперативного движения, тот же Брэдли полагает, что по количеству кооперативов Россия в предреволюционные годы занимала первое место в мире (в 1905 г. их было 4 тыс., в конце 1914 г. – 30 тыс., на 1 января 1917 г. – 63 тыс.). «…Даже человеку с закрытыми на общественную жизнь глазами нельзя было не видеть быстрого, в некоторых отношениях даже бурного роста общественных сил России накануне злосчастной войны 1914 года», – вспоминал позднее Ф. А. Степун.
В 1907–1914 гг. в России впервые происходила не фасадная, «техническая» европеизация, а структурная, менявшая социокультурные основы страны, заложенные еще в XV столетии. Об этом очень хорошо написал в своих воспоминаниях умный и наблюдательный меньшевик Н. Валентинов (Н. В. Вольский): «В 1912 г. я остро чувствовал преображение страны новым духом… Ускоренно шла индустриализация. Целыми пластами уходила земля из дворянских рук. Шло широкое жилищное строительство. Улучшалось городское и земское хозяйство, в деревне внедрялась разного рода кооперация. Вырастал новый быт, новый тип рабочего, новый тип интеллигенции. Не на поверхности, не в сознании только передовых людей, а в самых глубоких, доселе плохо или совсем не затронутых недрах появились и укреплялись элементы европеизма… В 1907–1914 гг., желая „глазом своим“ посмотреть, что сделалось со страной после всколыхнувшей ее бури революции… я посетил множество городов – Казань, Нижний Новгород, Самару, Сызрань, Вольск, Саратов, Тамбов, Моршанск, Суздаль, Романово-Борисоглебск, Владимир, Кострому, Харьков, Одессу, Крым, Туапсе, Новороссийск, Владикавказ, Ростов, Батум, Тифлис, Камышин, немецкие колонии на Волге и т. д. и т. д. И всюду видел – оживление, подъем, даже грюндерство, рост культурных потребностей, в народных массах жажду образования… В поездках по России я всюду видел борьбу – старого и нового, двух экономических и культурных формаций, двух начал, двух „душ“. Одна душа многовековая, восточная, византийско-татарская, проросшая некультурностью, духом Победоносцева… косных навыков, обрядов, быта с остатками Московии XVII века. И рядом – другая Россия, вытеснявшая старую, ее преобразовывавшая и, несмотря на все преграды, экономически, культурно, психологически, бытом своим и всем прочим отходившая от Востока к Западу».
Похожую характеристику указанного периода находим и у Г. П. Федотова: «Восьмилетие, протекшее между первой революцией и войной, во многих отношениях останется навсегда самым блестящим мгновением в жизни старой России. Точно оправившаяся от тяжелой болезни страна торопилась жить, чувствуя, как скупо сочтены ее оставшиеся годы. Промышленность переживала расцвет. Горячка строительства, охватившая все города, обещавшая подъем хозяйства, предлагавшая новый выход крестьянской энергии. Богатевшая Россия развивала огромную духовную энергию».
Да, положительная динамика предвоенной России несомненна. Но беда в том, что она постоянно находилась под угрозой срыва, ибо экономические, политические и социокультурные новоделы не отвердели еще в виде устойчивых, самовоспроизводящихся общественных институтов, – нужно было немалое время, чтобы они воспринимались как естественные условия существования народа.
В деревне, несмотря на рост ее благополучия, проблема малоземелья (по крайней мере для Центральной России) пока не была решена, и крестьяне продолжали мечтать о переделе помещичьих угодий. Между «частниками» и завидовавшими им «общинниками» вспыхивали многочисленные конфликты. При всех гигантских подвижках в развитии начального образования, к 1913 г. доля учащихся среди населения страны поднялась только до 5 %. Несмотря на очевидный экономический рост, Россия 1913 г. по объему промышленного производства отставала от Германии в 6 раз, а от США в 14,3 раза; годовое производство хлебов на душу населения составляло 26 пудов, в США – 48, в Канаде – 73; национальный доход на душу населения был ниже, чем в Германии, в 2,9 раза, чем во Франции – в 3,5 раза, чем в Англии – в 4,3 раза, чем в США – в 6,8 раза. Младенческая смертность в 1906–1910 гг. составляла 247 на тысячу родившихся, а в Германии – 174, во Франции – 128, в США – 121, в Англии – 117. Ожидаемая продолжительность жизни в 1907–1910 гг. для православных – 32 года (мужчины) и 34 года (женщины), в то время как в Германии соответственно – 46 и 49, во Франции – 47 и 50, в США – 49 и 52, в Англии – 50 и 53.
Весной 1912 г. снова оживилось рабочее движение, «количество стачек… выросло до масштабов, которых страна не знала с 1905 г.» (М. Хаген). Одна из них, на Ленских золотых приисках, закончилась трагедией (жертвами расстрела стали сотни забастовщиков), всколыхнувшей всю страну.
А главное, верховная власть и общество по-прежнему находились в состоянии холодной гражданской войны. Многие ретивые чиновники все еще видели очаги революции в любых проявлениях общественной инициативы – только один показательный по своей курьезности пример: в 1910 г. представитель Департамента полиции в Особом совещании по пересмотру «Правил» об общественных организациях М. И. Блажчук приравнял по степени опасности для государства общества воздухоплавания к просветительским обществам, ибо «обе эти категории обществ… представляются особо важными, а потому требующими и особо бдительного надзора. Путем открытия громадного количества просветительных обществ народное образование стремительно стало переходить в руки неблагонадежных элементов. Авиаторское искусство, будучи предоставлено такому же свободному развитию и очутившись в руках тех же элементов, может стать в недалеком будущем орудием истребления крепостей, Императорских резиденций и т. п.». В свою очередь, большинство интеллигенции не желало видеть никаких позитивных перемен и полагало, что в стране, как и встарь, царит «система опеки и бесконтрольного правительственного надзора» (А. И. Каминка).
Сохранялся, говоря словами В. А. Маклакова, «ров» между властью и обществом – их «недоверие друг к другу, отсутствие общего языка, которое мешало совместным действиям», причем «обе стороны были неправы»: «Неразумная линия прогрессивного общества находила свое объяснение и оправдание в неискренней политики власти». После смерти Столыпина его преемники не сумели наладить взаимоотношения правительства с Думой, и последняя опять сделалась легальным центром политической оппозиции.
Вообще, инерция старорежимной психологии была еще очень сильна, известный экономист И. Х. Озеров жаловался в 1910 г.: «…у нас считается жить впроголодь чуть ли не чем-то почетным… Эта черта свойственна слабым, пассивным натурам, которые, не чувствуя в себе достаточно силы воли, чтобы резко изменить известное положение вещей, выражают свое настроение состраданием; вот почему, быть может, в нашем обществе сложилось почти отрицательное отношение к лицам, развивающим энергию, инициативу в поднятии производительных сил страны. Правда, быть может, еще и то, что крупные заработки получались у нас нередко не в силу личной энергии, а господства деспотизма, протекционизма. У нас сложилось воззрение, что интеллигентному человеку заниматься лесным, торговым делом и т. п. не пристало, и кто много зарабатывает, того даже осуждают… Наша серьезная болезнь в том, что мы не понимаем, не чувствуем связи с целым, каждый держится у нас пословицы: „моя хата с краю, ничего не знаю“ и этим руководствуется в жизни. Оттого-то мы и относимся к нашим обязанностям халатно, мы не хотим себе ярко представить, какое пагубное значение для общественной жизни имеет отмеченная формула поведения. Куда мы ни посмотрим, везде мы видим пренебрежение обязанностями, между тем из этого вытекает огромный общественный вред для страны… Все у нас вяло, все спит, люди мало верят друг другу, и в этой разрухе особенно обостряется инстинкт индивидуального самосохранения (не коллективного). Каждый думает только о том, как бы ему самому получше устроиться, а что делается кругом, для него безразлично. Каждый стремится использовать настоящий момент, мало заботясь о будущем, как будто он чувствует, что здание, в котором он живет, очень непрочно. Так некоторые больные, зная, что все равно жить осталось недолго, стремятся поскорее прожечь жизнь. Мы не понимаем, что формулой индивидуального поведения может быть только такая формула, которая была бы приемлема всеми. У нас же каждый хочет быть исключением, рассчитывая на то, что авось другие будут поступать иначе… Нет в нашем обществе и развитого чувства ответственности. Мы все в положении безответственных детей и на таком положении желаем оставаться. Мы привыкли прятаться за чужую спину. Это красной нитью проходит через наше общество. Слово дать и не сдержать – у нас довольно распространенное явление. Мы не дорожим временем, ни своим, ни чужим. Все это – признаки малой культурности, которую нам во что бы то ни стало надо поднимать…»
Так что Столыпин не ради красного словца твердил о необходимых для успеха реформ двадцати годах покоя – «внутреннего и внешнего». «…Мы потеряли с устройством крестьян 20 лет, драгоценных лет, и надо уже лихорадочным темпом наверстывать упущенное. Успеем ли наверстать. Да, если не помешает война» – такие тревожные мысли, по свидетельству И. И. Тхоржевского, преследовали премьер-министра. «…Нам нужен мир: война в ближайшие годы, особенно по непонятному для народа поводу, будет гибельна для России и династии. Напротив того, каждый год мира укрепляет Россию не только с военной и морской точек зрения, но и с финансовой и экономической. Но, кроме того, и главное это то, что с каждым годом зреет: у нас складывается и самосознание, и общественное мнение. Нельзя осмеивать наши представительные учреждения. Как они ни плохи, но под влиянием их Россия в пять лет изменилась в корне и, когда придет час, встретит врага сознательно. Россия выдержит и выйдет победительницею только из народной войны», – писал Петр Аркадьевич за месяц с небольшим до своей гибели русскому послу в Париже А. П. Извольскому.
Смог бы Столыпин не допустить губительного втягивания России в мировую войну? Сумел бы он и дальше вести успешную политическую игру с Думой? Действительно ли его отставка в 1911 г. была уже предрешена? Бессмысленно сегодня гадать об этом. Проблема в другом: в который раз из-за отсутствия нормального общественного организма судьба России оказалась в зависимости от судьбы одного – пусть и выдающегося – человека, то есть, в конечном счете, от случайности. Кто бы ни стоял за Богровым, выстрел его оказался роковым… За месяц до Февральской революции Л. А. Тихомиров, во многом не согласный со Столыпиным и нередко критиковавший его «справа», записал о нем в дневнике: «Завелся „раз в жизни“ человек, способный объединить и сплотить нацию, и создать некоторое подобие творческой политики – и того убили!.. Но кто бы ни подстроил этого мерзкого Богрова, а удача выстрела есть все же дело случая, попущения. Все против нас, и нет случайностей в нашу пользу».
Роковая война
Последняя война императорской России – Первая мировая – не случайно получила в русском военно-пропагандистском дискурсе того времени наименование Второй Отечественной. Общество возлагало на эту войну большие надежды. Предполагалось, что после победы Россия должна принципиально измениться, что процесс демократизации российской государственности наконец-то придет к своему завершению. Казалось, что война станет тем общим делом, которое снимет противоречия между властью и обществом, что в ее крови и огне родится новая Россия.
В результате успехов 1914 г. в состав империи вошла Галиция – последний осколок «Русской федерации», находившийся вне русских границ. Правда, менее чем через год австрийцы вернулись и устроили настоящий террор по отношению к приветствовавшим русские войска «москвофилам», десятки тысяч которых оказались в концентрационных лагерях Талергоф и Терезин, а несколько тысяч были казнены по приговору военно-полевых судов.
Для помощи фронту промышленники во главе с А. И. Гучковым создали Военно-промышленные комитеты, деятели земств и городских дум – Земгор (Главный по снабжению армии комитет Всероссийских земского и городского союзов) во главе с Г. Е. Львовым. Практически весь спектр политических и идейных направлений русской общественности так или иначе поддержал войну, хотя бы с платформы «оборончества», на которой сошлись такие столпы радикальной оппозиции правящему режиму, как социал-демократ Г. В. Плеханов, анархист П. А. Кропоткин, народник В. Г. Короленко. Писатели-политэмигранты А. В. Амфитеатров и М. А. Осоргин вернулись на родину, знаменитый эсер-террорист Б. В. Савинков, почувствовав себя «очень русским», призвал коллег прекратить революционную деятельность и принялся писать военные корреспонденции из Франции для русских газет. Первый переводчик Марксова «Капитала» Г. А. Лопатин и известный публицист левых убеждений, разоблачитель Азефа В. Л. Бурцев сделались членами «Общества 1914 года», ставившего своей целью освободить «русскую духовную и общественную жизнь, промышленность и торговлю от всех видов немецкого засилья».
Но громче всех патриотическая риторика лилась из уст либералов, что естественно, ведь в этой войне Россия сражалась на стороне «демократических держав». Вождь кадетов П. Н. Милюков, рьяно ратовавший за передачу России черноморских проливов, получил даже ироническое прозвище Милюков-Дарданелльский. Настоящей лебединой песней стали военные годы для идеолога национал-либерализма П. Б. Струве – казалось, заработала его концепция Великой России и на практике происходит «внутреннее слияние или спайка… между началом национальным и либеральным». Казалось, само понятие «национализм» начинает приобретать в дискурсе русской интеллигенции позитивные коннотации, наконец-то заняв свое законное (и почетное) место среди прочих прогрессистских ценностей. На этом фоне красноречиво-маргинально смотрелась пораженческая позиция большевиков с их лозунгом «превратить войну империалистическую в войну гражданскую».
Никакая предыдущая война императорской России не оказала столь значительного непосредственного влияния на развитие националистического дискурса в русской культуре. За годы войны был создан огромный пласт национально-мессианской историософской публицистики. Перечислю только некоторые издания произведений наиболее известных авторов: Глинка А. С. (Волжский). Святая Русь и русское призвание. М., 1915; Бердяев Н. А. Судьба России. М., 1918; Булгаков С. Н. Война и русское самосознание. М., 1914; Дурылин С. Н. Лик России. Великая война и русское призвание. М., 1916; Розанов В. В. Война 1914 года и русское возрождение. М., 1915; Трубецкой Е. Н. Смысл войны. М., 1914; Эрн В. Ф. Меч и крест. Статьи о современных событиях; Его же. Время славянофильствует. Война, Германия, Европа и Россия. Обе – М., 1915. А сколько всего было разбросано по журналам и газетам! Один М. О. Меньшиков в «Новом времени» 1914–1915 гг. написал несколько сотен статей под воинственно-оптимистической рубрикой «Должны победить!». По-разному эти разные авторы трактовали «русскую идею», но все они верили, что, говоря словами Бердяева, в этой войне «Россия выковывается как нация, обладающая целостным характером и целостным сознанием. Ибо мы только теперь переходим к подлинно историческому, выявленному бытию».
Активно работали как военно-патриотические публицисты и известные литераторы: Андреев Л. Н. В сей грозный час. Пг., 1915; Ивнев Рюрик. Как победить Германию? Пг., 1915; Ремизов А. М. За Святую Русь. Думы о родной земле. Пг., 1915; Его же. Укрепа. Слово к русской земле о земле родной, тайностях земных и судьбе. Пг., 1916… В. Я. Брюсов и М. М. Пришвин отправились на фронт в качестве газетных военкоров. В. В. Маяковский, который, по воспоминаниям И. А. Бунина, «в день объявления… войны с немцами… влезает на пьедестал памятнику Скобелеву в Москве и ревет над толпой патриотическими виршами», пишет тексты для народных лубков на военную тему и сотрудничает в газете А. А. Суворина «Новь», на страницах которой, в частности, заявляет, что «война не бессмысленное убийство, а поэма об освобожденной и возвышенной душе». Молодой критик-футурист Н. Н. Пунин записывает в дневнике 18 сентября 1916 г.: «Должны ли мы воевать? Да, должны. Мы обязаны воевать во имя своей национальной жизни, во имя своих прав на будущее… Мы существуем, подобно колоссу, на чьи плечи Европа еще положит великие бремена; мы существуем от Померании до Сахалина, мы варвары – великое море огня. Мы должны воевать, бить и гнать Германию, оспаривать у Германии и только у Германии права на престол, нация, которая не имеет прошлого, должна иметь свое будущее. Но не во имя рыхлых идеалов истощенной Франции и не ради лицемерных добродетелей Англии – этой неизменной синечулочницы – мы льем орудия. Попранные права Бельгии, Сербии, что нам за дело до всех попранных прав – во имя своей жизни, во имя своего высокого господства, ради великой футуристической России „чемодан“ в Померанию, шрапнелью покроем кенигсбергские форты…»
Отдельная большая тема – война в тогдашней изящной словесности. Певцами ратного подвига выступили Брюсов, Городецкий, Гумилев, Клюев, Сологуб… Даже Мандельштам воспел «великорусский державный лик». Утонченный эстет С. А. Ауслендер написал сборник патриотически-мелодраматических новелл «Сердце воина» (Пг., 1916). Сдержанный Блок в черновых вариантах знаменитого стихотворения «Петроградское небо мутилось дождем…» (1914) ударился прямо-таки в ура-патриотизм:
И теперь нашей силе не видно конца, Как предела нет нашим краям, И твердят о победе стальные сердца, Приученные к долгим скорбям. Но за нами – равнины, леса и моря, И Москва, и Урал, и Сибирь, Не отсюда грозу нам пророчит заря, Заглядевшись на русскую ширь…Но весь этот взрыв националистической экзальтации оказался в результате пустым выхлопом. Война не только не смягчила противоречий между властью и обществом, а, напротив, до крайности их обострила. Уже с 1915 г. либералы переходят в оппозицию правительству, а в 1916 г. там оказываются не только националисты вроде В. В. Шульгина, но и даже правые («правее которых только стена») вроде В. М. Пуришкевича. Что характерно, оппозиция, требуя политических уступок, обвиняет власть в предательстве национальных интересов, выступая под знаменем «патриотической тревоги».
Боком правящему режиму вышла и мощная агитационная кампания против «немецкого засилья», вполне естественная при наличии Германии в качестве главного врага. Запущенная по инициативе правительства, она тем не менее неизбежно вышла из-под его контроля, ибо попала на благодатную и хорошо возделанную почву германофобского дискурса, созданного русским дворянством в XVIII–XIX вв. Этот дискурс в несколько упрощенном и приспособленном для массовых вкусов виде был взят на вооружение интеллигентско-буржуазными националистами, контролировавшими такие массовые газеты, как суворинские «Новое время» и «Вечернее время», печатный орган октябристов «Голос Москвы», национал-либеральные «Утро России», «Биржевые ведомости» и др. Упомянутое выше Общество 1914 года к началу 1915 г. насчитывало в Петрограде 6500 членов. В Москве общество «За Россию» публиковало списки «вражеских германских фирм». «Немецкое засилье» было одной из постоянных тем думских заседаний, например, в 1915 г. депутат С. П. Мансырев выступил на одном из них с цифрами, свидетельствующими о преобладании немцев в МИД.
Любое правительство в условиях войны не могло не предпринимать превентивных мер против крупной этнической общины, кровно и духовно связанной с противником. Наряду с чисткой государственных ведомств от «германского эле мента» важнейшей такой мерой стали законы о ликвидации немецкого землевладения в России (1915): немцы-землевладельцы должны были продать свои земли с торгов. Но поразительна малая эффективность этого закона. Во-первых, в ряде западных губерний ликвидационные мероприятия не проводились вовсе, так как там шли военные действия и эвакуация населения. Во-вторых, по непонятной причине были совершенно забыты Курляндия, Поволжье и почти вся азиатская часть страны. Но и даже в тех 29 губерниях и областях Европейской России, где ликвидация все же осуществлялась, дело делалось чрезвычайно вяло. Из 33 897 владений, внесенных в ликвидационные списки, общей площадью 2 млн 739 тыс. 464 десятин к 1 января 1917 было окончательно отчуждено 1774 владений общей площадью 406 485 десятин (то есть приблизительно одна седьмая запланированного). Причем к 1917 г. процесс отчуждения «фактически остановился» (И. Г. Соболев).
То же самое наблюдалось и в деле борьбы с «германизмом» в торгово-промышленной сфере: из 611 акционерных обществ, принадлежавших германскому или австрийскому капиталу, решение о ликвидации было принято только по 96, из них 62 сумели ее избежать (по другим данным, в списки внесли 712 акционерных обществ, к июлю 1916 г. постановили ликвидировать 91 из них). Это притом, что в 1915 г. в России насчитывалось 2941 частное предприятие, частично или полностью принадлежавшее германским или австрийским подданным.
Да и чистка госаппарата не увенчалась даже более-менее заметной «дегерманизацией». Во всяком случае, это касается элитных ведомств. Руководство того же МИД (министр С. Д. Сазонов и товарищ министра В. А. Арцимович) жестко и последовательно отстаивали своих немецких коллег. По мнению осведомленного современника, «германофильство» Сазонова прежде всего объяснялось его личными связями «с явно германским по своему происхождению, а отчасти и по симпатиям, большинством его ближайших любимых сотрудников по МИД. Иная позиция была прямо невозможна при сохранении этих лиц в дипломатическом аппарате на ответственных местах» (Г. Н. Михайловский).
За годы «борьбы с германизмом» ситуация никак не повлияла на состав ближайшего окружения императора: придворный штат «не только не „очищался“ от сановников из русских немцев, но наоборот – самые высокие придворные отличия продолжали получать именно лица с немецкими фамилиями, несмотря на то, что с началом войны награждение этими отличиями было приостановлено. Показательно, что на фоне общего числа пожалований в высшие, первые и вторые чины Двора (27 чел.), состоявшихся за военный период, доля сановников с немецкими фамилиями равнялась одной четверти» (С. В. Куликов).
В среде высшей бюрократии «дегерманизация» коснулась только гражданских губернаторов. К 23 февраля 1917 г. сановники с немецкими фамилиями среди основных категорий правительственной элиты составляли от 10 до 25 %. Не этим ли объясняется фактический крах «борьбы с немецким засильем» во всех областях российской жизни? Некоторые ее очевидцы думали именно так: «По логике вещей, германскую чистку надо было начинать сверху, но ввиду той громадной роли, которую играли люди, так или иначе связанные с Германией в высшей петербургской бюрократии, это было совершенно немыслимо» (Г. Н. Михайловский).
Нельзя не согласиться с мнением современного историка о том, что нерешенность «немецкого вопроса» стала «одной из причин Февральской революции, в ходе которой большое значение имела антинемецкая риторика»(С. В. Куликов). Последнюю активно использовали оппозиционные самодержавию (и союзные между собой) группировки: придворная, во главе с великим князем Николаем Николаевичем (начальник его штаба генерал Н. Н. Янушкевич, главноуправляющий землеустройства и земледелия А. В. Кривошеин и др.) и политически-промышленная во главе с А. И. Гучковым, который контролировал значительную часть «немцеедской» прессы («Голос Москвы» и отчасти «Новое время» и «Вечернее время»).
Но, конечно, одними провокациями оппозиционеров массовую низовую германофобию, особенно агрессивно выплеснувшуюся во время немецкого погрома в Москве в мае 1915 г. (погибло пять лиц «австро-немецкой национальности», четверо из них – женщины, и 12 погромщиков – в результате стрельбы, открытой войсками), не объяснишь. Совершенно очевидно, что немцы стали лишь временным громоотводом для стремительно растущего народного недовольства всей социально-политической системой императорской России, и в первую очередь ее властной верхушкой. Военные поражения, рост цен, ухудшение продовольственного положения быстро радикализировали настроения низших социальных слоев. Но язык для выражения народного недовольства явно заимствовался из словаря элитного «немцеедства».
В апреле 1915 г. донесения агентов московской полиции свидетельствовали: «В народе складывалось убеждение, что победы достигнет не правительство, а народ своими собственными усилиями и после войны посчитается с правительством за ту кровь, которая напрасно пролилась, благодаря его потворству немцам». После майского погрома в рабочей среде говорили, что в нем виновата полиция и администрация, но обе они были лишь «слепым орудием так называемой „партии мира“, членами которой состоят особо высокопоставленные лица, преимущественно немецкого происхождения, из придворных и весьма влиятельных кругов». Многие вообще считали, «что немцев следует бить и что разгромы фабрик и заводов – дело хорошее… надо было фирмы отобрать в казну, а немцев из Москвы выгнать». В некоторых группах чернорабочих велись речи о необходимости сменить правительство как «онемечившееся». В солдатских письмах 1916 г. можно было прочесть, например, такое: «Слышал, конечно, что погибли 2 русских корпуса под Кенигсбергом… А почему? Потому, что нами командуют немцы, полно их везде… Они же нас направляют на пули и штыки своих соотечественников, но с таким расчетом, чтобы мы потерпели аварию… А на внутренность государства поглядишь: здесь стоят 2 партии, на верху которых – буржуазия, дворянство и немцы, а на второй – мещане и крестьяне». Автор другого письма выражал сожаление, что «мы воюем с немцами, но все наши правители – немцы». Летом 1915 г. по стране ходили слухи о готовящемся всероссийском немецком погроме, их зафиксировали жандармские управления в Петрограде, Одессе, Казани, Харькове, Архангельске, Киеве, Владивостоке, Иркутске, Терской области.
Одним из лозунгов Февраля был: «Долой правительство! Долой немку [то есть императрицу]!» В его первые дни происходили массовые расправы солдат с офицерами, носившими немецкие фамилии. В письмах того времени февральские события нередко объяснялись как свержение «немецкого засилья»: один солдат поздравлял своего адресата с «новым Русским, а не с немецким правительством Штюрмеров, Фредериксов, Шнейдеров» и поясняет, что «никто за старое правительство не стоял из солдат, все перешли на сторону нового». Типичным для революционных акций была фраза: «Везде правили нами немцы, но теперь не то».
Можно сказать, что русский дворянский «антинемецкий» дискурс наконец-то «овладел массами». Давняя мечта дворян-националистов, подхваченная националистами из промышленного класса и интеллигенции, сбылась: «немецкая партия» была отстранена от участия во власти. Но это стало возможным только после падения самодержавия. Что совершенно естественно: немецкие дворяне, «императорские мамелюки», служившие Романовым, а не России, были «нервом политической системы Российской империи», «несущей опорой старого порядка» (С. В. Куликов), вот почему, несмотря на все «русификации», их положение оставалось, по сути, неизменным. Но для элитных националистов эта победа оказалась пирровой. Ибо «народ», с которым они имели так мало общего в социальном и культурном отношении, их воспринимал (судя по цитированному выше солдатскому письму) как органическую часть той же «немецкой партии»…
Но не только немецкий вопрос возбуждал этнические конфликты. В 1916 г. восстали «инородцы» Туркестана, поводом стала их мобилизация для тыловых работ (в армии они не служили). Но, очевидно, глубинные причины случившегося связаны с непростыми, далекими от идиллии отношениями между местными жителями и русскими переселенцами, прежде всего с семиреченскими казаками. Русские крестьяне, признавал чиновник Переселенческого управления Г. К. Гинс, часто относятся к казахам с высокомерием и даже с жестокостью: «Русские мужики, заражаясь духом завоевателей, нередко теряют здесь свое исконное добродушие, а с ним и ту детскую добродушную улыбку, которую так любил Л. Н. Толстой… Они заражаются столь распространенной на окраинах с полудиким населением жаждой наживы, привыкают к эксплуатации, отвыкают от гостеприимства, – они часто делаются неузнаваемы». В ходе восстания, по официальным данным, было убито 2325 и без вести пропали 1384 русских. «Целую книгу можно написать о зверствах киргиз. Времена Батыя, пожалуй, уступят… Достаточно того, что на дороге попадались трупики десятилетних изнасилованных девочек с вытянутыми и вырезанными внутренностями. Детей разбивали о камни, разрывали, насаживали на пики и вертела. Более взрослых клали в ряды и топтали лошадьми. Если вообще страшна смерть, то подобная смерть еще страшнее. Жутко становилось при виде всего этого», – вспоминал священник Евстафий Малаховский. Мятеж был подавлен с помощью самых устрашающих мер – были уничтожены, видимо, десятки тысяч казахов и киргизов.
Сказалась война и еще на одном национальном вопросе – еврейском. Отступление русской армии фактически ликвидировало черту оседлости, десятки тысяч жителей которой хлынули в Центральную Россию, стараясь обосноваться в столицах. В Московском университете в 1916 г. еврейское присутствие составило уже 11,6 %.
Россия не выдержала испытания изнурительной четырехлетней войной, она оказалась к ней не готова по всем статьям. «С 1914 г. по 1917 г. доля военных затрат в национальном доходе России повысилась с 27 % до 49 % и, по-видимому, достигла того предела, за которым начинается необратимое расстройство товарно-денежного обращения и воспроизводственного процесса» (Н. С. Симонов). Управляемая, как и во времена Витте, бюрократическими методами промышленность не справлялась с напряжением военного времени: в 1914–1917 гг. русскими заводами было изготовлено и отремонтировано 3 млн 576 тыс. винтовок, в то время как в Германии среднемесячный выпуск винтовок составлял 100 тыс. в 1915 г., 250 тыс. – в 1916-м, 210 – в 1917-м, то есть в общей сложности почти в два раза больше при значительно меньшей армии; количество боевых самолетов за годы войны выросло в России со 150 до 1000, в Германии – с 300 до 4000; и это притом, что российская экономика была самой милитаризованной в Европе – более 70 % фабрично-заводских предприятий выполняли военные заказы, а в Германии – чуть более 61 %. «Сапожный кризис» в армии не был ликвидирован даже к началу 1917 г. Мудрено ли, что русские войска, относительно легко бившие австрийцев, над немцами ни одной крупной победы не одержали. Несмотря на обилие продовольствия, правительство не смогло наладить нормального снабжения городов продуктами питания, что, кстати, стало поводом для «бабьего бунта» в Петрограде, с которого, собственно, и началась Февральская революция.
Л. А. Тихомиров с горечью записал в дневнике 5 августа 1915 г.: «Война – всегда есть страшная проверка национальной работы за долгий период. Вспышки энергий – не помогут, если за плечами этих вспышек лежат десятилетия гнилого бездействия или разнокалиберной толчеи. А у нас именно это и было, и настолько было, что остается и по сию минуту».
Главное же – в России остро отозвался так и не преодоленный дефицит национального единства. Февраль 1917-го, что бы там не измышляли все старые и новейшие конспирологи, случился не в результате заговора – английского или масонского (хотя планы государственного переворота оппозицией обсуждались), а в результате стихийного народного возмущения, вызванного тотальным недоверием к власти. В принципе война могла бы «обернуться ростом чувства гражданственности на националистической основе. Однако в расколотом социальном пространстве подобная возможность скорее могла вылиться в свою противоположность – страстью к разрушению всего того, что не оправдало доверия и обернулось крахом надежд» (В. П. Булдаков, Т. Г. Леонтьева).
Война не может быть действенной стратегией национальной модернизации, когда страна еще не преодолела социокультурного раскола, заложенного в XVIII в. и искусственно замораживаемого в XIX. И дело не только в конфликте общества и власти, хотя конечно же противостояние «паралитиков власти» и «эпилептиков революции», по меткому выражению И. Г. Щегловитова, изрядно раскачало корабль российской государственности в 1915–1917 гг., но прежде всего в позиции подавляющего большинства населения России – собственно «народа», который за столетие этого конфликта так и не был интегрирован в культуру и правовое поле «верхов» и так и не получил своей доли в национальном богатстве (точнее, и эта интеграция, и получение этой доли только-только начали происходить) и потому оказался совершенно чужд всем тем – когда искренним, когда натужным – патриотическим призывам «господ» о «войне до победного конца». Генерал Ю. Н. Данилов писал уже в эмиграции, что русский народ к войне «оказался психологически неподготовленным», ибо «главная масса его – крестьянство – едва ли отдавала себе ясный отчет, зачем его зовут на войну». К декабрю 1916 г. почти два миллиона пленных и почти миллион солдат, имевших опыт дезертирства, красноречиво об этом сигнализировали, предвещая грядущую катастрофу…
Распад
Овеянный тускнеющею славой, В кольце святош, кретинов и пройдох, Не изнемог в бою Орел Двуглавый, А жутко, унизительно издох.Эти жестокие слова Георгия Иванова – чистая правда. Тысячелетняя русская монархия рухнула совершенно бесславно и удивительно быстро и легко – «слиняла в два дня» (В. В. Розанов). Николай II, которого современные монархисты со свойственным им агрессивным невежеством объявляют великим правителем, сумел за годы своего царствования промотать последние остатки символического капитала династии Романовых, и уже к 1915 г., по свидетельству не просто монархиста, а главного тогдашнего теоретика монархической идеи, автора фундаментальной «Монархической государственности» Л. А. Тихомирова, «его [Николая] авторитет исчез»; поэтому, пророчествует Лев Александрович, если «в 1612 [г.] тяжкая война привела к воскресению монархии; здесь, по-видимому, война приведет к падению самодержавия».
В. А. Маклаков накануне Февраля составил очень точное описание этой «болезни к смерти»: «…рушится целое вековое миросозерцание, вера народа в Царя, в правду Его власти, в ее идею как Божественного установления. И эту катастрофическую революцию в самых сокровенных глубинах душ творят не какие-нибудь злонамеренные революционеры, а сама обезумевшая, влекомая каким-то роком власть. Десятилетия напряженнейшей революционной работы не могли бы сделать того, что сделали последние месяцы, последние недели роковых ошибок власти… Сейчас это уже не мощная историческая сила, а подточенный мышами, внутри высохший, пустой ствол дуба, который держится только силой инерции до первого страшного толчка. В 1905 г. вопрос шел об упразднении самодержавия, но престиж династии все еще стоял прочно и довольно высоко. Сейчас рухнуло именно это – престиж, идея, вековое народное миросозерцание, столько же государственное, сколько религиозное».
Источники фиксируют резкий рост поношений царского имени в годы войны именно среди «простого народа», который последний самодержец считал – в противовес «западнической» интеллигенции – своей непоколебимой опорой: «Царь дурак, сукин сын»; «а не лучше ли заставить воевать того самого Николашку, чтобы даром наша кровь не пропадала, которую он до сих пор пил…» и проч. Император «чаще всего обвинялся крестьянами в плохой подготовке к войне и неумении вести ее. Его сравнивали то с плохой деревенской бабой, то с нерадивым крестьянином, со временем к этому добавились обвинения в вовлечении страны в ненужную войну» (В. П. Булдаков). «Нигде нет „монархистов“, или очень мало, – вот в чем дело, – писал П. П. Перцов В. В. Розанову в сентябре 1915 г. – Вы представить себе не можете, что пришлось слышать от мужиков (самых „темных“ и степенных) в наших костромских, „сусанинских“ лесах. А раненые, вернувшиеся с войны? Побеседуйте-ка с ними?» Позднее трагическая смерть последнего русского монарха и его семьи будет встречена почти всеобщим народным равнодушием.
Самодержавие изжило себя. Характерно, что в 1917-м у него не нашлось, как в 1905-м, добровольных защитников: черносотенцы как будто испарились, все слои общества, даже высшие сословия – дворянство и духовенство, – приветствовали его падение, практически весь генералитет (кроме трех человек) поддержал отречение Николая от престола. Подавляющим большинством жителей бывшей Российской империи владели безудержный восторг и уверенность в том, что «теперь Россия пойдет вперед семимильными шагами» (П. Б. Струве). Трагедия, однако, состояла в том, что пришедшая к власти на гребне революционной волны русская интеллигенция оказалась совершенно не готова к руководству страной, особенно с учетом экстремальной ситуации, в которой Россия находилась, и полностью «провалилась на государственном экзамене» (С. Е. Трубецкой). И это неудивительно, ведь интеллигенция к этому руководству никогда и не подпускалась, все ее взаимодействие с властью почти полностью сводилось к борьбе с последней, а управленческий опыт ограничивался уровнем земства.
Еще 17 декабря 1916 г. Л. А. Тихомиров проницательно записал в дневнике: «Эти земцы и городские головы не имеют ни искры государственного чутья и склада ума. Они ничего не понимают кроме оппозиции, агитации, революции. Организующей мысли нет ни на один грош. И все это ведет нас к гибели, не к либеральному устройству, а к гибели». Постфактум выглядит гораздо предпочтительнее, если бы образованное общество вместо раздувания революционного пожара нашло бы «в себе мудрость дальнейшего претерпения безвольной и безыдейной, но далеко не такой кровавой… власти, которая одна только и могла довести войну до приемлемого конца и на тормозах спустить Россию в новую жизнь» (Ф. А. Степун).
Столь характерный для русской интеллигенции утопизм самым печальным образом сказался на практической работе Временного правительства. Скажем, первому его премьеру князю Г. Е. Львову, по свидетельству С. Е. Трубецкого, было свойственно «искреннее и наивное „народничество“… Народничество это носило у Львова какой-то „фаталистический“ характер. Я не подберу другого слова, чтобы охарактеризовать веру кн. Львова – не в русский народ вообще – а именно в простонародие, которое рисовалось ему в каких-то фальшиво-розовых тонах… „Не беспокойтесь, – говорил он накануне первого (летнего) выступления большевиков в Петербурге в 1917-м, – применять силы не нужно, русский народ не любит насилия… Все само собою утрясется и образуется… Народ сам создаст своим мудрым чутьем справедливые и светлые формы жизни…“». Еще более важно то, что новые правители России не имели никакого влияния на управляемый ими народ и потому вынуждены были все время приспосабливаться к его вырвавшемуся на волю хаотическому «многомятежному хотению».
Распоряжения Временного правительства за недолгие восемь месяцев его нахождения у властного штурвала по большей части далеки не только от государственной мудрости, но и от простого здравого смысла. Фактически оно полностью уничтожило прежний государственный аппарат, не создав ему достойную замену. Более того, своим сентиментальным «непротивленчеством» правящие либералы и социалисты, по словам А. И. Гучкова, «свергли и упразднили саму идею власти, разрушили те необходимые устои, на которых строится всякая власть». Очень быстро вплотную к катастрофе подошла экономика: за 1917 г. валовая продукция металлообрабатывающей промышленности сократилась почти на треть, производство химической промышленности упало на 40 %, добыча угля – на 14 %, к октябрю 1917 г. движение на железных дорогах оказалось на грани полной остановки, стали массово закрываться фабрики и заводы, а некоторые города (например, Коломна, Звенигород, Можайск) переживали настоящий голод. «Демократизированную» армию охватила эпидемия дезертирства.
Демагогическая политика «селянского министра» земледелия эсера В. М. Чернова («сквернейший тип социал-революционера интернационалиста», по характеристике С. Е. Трубецкого) во многом спровоцировала «общинную революцию» в деревне. Подписанное им в июне 1917 г. постановление «О приостановлении действий некоторых узаконений о крестьянском землевладении и землепользовании и положения о землеустройстве, а также об упразднении землеустроительных комиссий», по сути, отменяло все столыпинское аграрное законодательство, что было истолковано на местах как благословление на «черный передел». «Вчитываясь в циркулярные распоряжения и проекты министра земледелия Чернова, приходится сделать кошмарный вывод, что… анархические явления вытекают непосредственно из его земельной политики, – писали члены Елизаветградского союза земельных собственников 5 августа 1917 г. – Последнее распоряжение министра… вызовет несомненно тяжкие и опасные последствия, отдавая один класс населения на поток и разграбление другому».
Первым делом «общинная революция» ликвидировала хутора и отруба. «Хозяев, решивших презреть общинные узы, избивали, отнимали имущество, деньги, скот, вынуждали уезжать из обжитых мест или вернуться (вместе с землей) в общину… Натиск на хуторян и отрубников был характерен для всей европейской России, но с особой силой стремление выкорчевать столыпинские „саженцы“ проявилось в Самарской, Уфимской, Саранской, Казанской и Симбирских губерниях, то есть в регионах, где община была традиционно сильна и столыпинские преобразования ощутимо задевали ее интересы» (Д. И. Люкшин). Сопровождалось это порой самыми варварскими выходками, например, в селе Спивцевском Ставропольской губернии в процессе насильственного возвращения отрубников в «сельское общество» было сожжено 5000 пудов хлеба. Потом настала пора тотального захвата помещичьих земель и разгрома «дворянских гнезд». В одной Тамбовской губернии в сентябре 1917 г. было разгромлено 89 имений, в октябре – 36, в ноябре – 75.
«Как дворяне-помещики, так и крестьяне-отрубники в один голос негодуют на действия крестьян-общинников и сельские комитеты, – заявляли в мае 1917 г. земельные собственники Саратовского уезда. – По словам отрубников, общинники не дают им организоваться… Всегда оказываются правы общинники или… волостные комитеты. А кто в них сидит? Все те же общинники». Веками культивировавшаяся в Российской империи общинная архаика не могла быть преодолена в течение нескольких лет, и, пробужденная новой Смутой, пользуясь бездействием, а то и потворством новой «демократической» власти, она буквально смела новую, столыпинскую деревню, что среди прочего нанесло страшный удар по производительности сельского хозяйства. К осени 1917 г. сельская Россия фактически уже не управлялась государством, а жила сама по себе.
Видя слабость центральной власти, заявили о своих правах народы бывшей империи. Уже 4 марта в Киеве украинские националисты создали Центральную раду, претендующую на роль самостоятельного правительства. Не только на Украине, но в самых разных областях и городах страны формировались украинские «национальные» воинские части (даже в Москве возник Украинский запорожский полк в количестве 1270 человек) и этнические общины – «громады». 13 июня 600 делегатов Рады провозгласили автономию Украины, которая была признана Временным правительством. В июне же образуется автономная Эстонская губерния. Живо обсуждаются проекты автономных Латвии и Литвы. 5 июля Сейм Финляндии принял закон о верховенстве своих прав во всех внутренних делах управления. На Всероссийских мусульманских съездах, проходивших в мае, желательным государственным устройством страны была объявлена демократическая республика, построенная на принципе национально-территориальной автономии, национальностям же, не имеющим определенной территории, следовало предоставить культурную автономию. Объявили себя особой «нацией» казаки. Между февралем и октябрем образовались 46 новых национальных партий. Стоит, однако, заметить, что ни одна национальная окраина не выразила желания выйти из состава России. Исключение – Польша, чью независимость провозгласило само Временное правительство (правда, вполне формально, ибо польские земли в ту пору были оккупированы немцами).
На фоне этой настоящей «весны народов» «национализм русского народа в целом оказывался пассивен», а русские национальные организации «встречались относительно редко» (В. П. Булдаков). Общество взаимопомощи великороссов 7-й армии, разумно призывавшее русских озаботиться защитой своих собственных прав, которые «нарушаются организованным меньшинством народов России вовсе не со злым умыслом, а в силу простой неорганизованности великороссов как народа», – один из немногих примеров такого рода. Историк Ю. В. Готье записал в дневнике 21 июля 1917 г.: «Необычайно уродливое явление – отсутствие русского вообще и в частности великорусского патриотизма. В так называемой Российской державе есть патриотизмы какие угодно – армянский, грузинский, татарский, украинский, белорусский – имя им легион – нет только общерусского, да еще великороссы лишены оного».
Почему победили красные?
Сравнивая способность русских к самоорганизации в двух Смутах – начала XVII и начала XX столетия, – нельзя не заметить ее очевидный упадок. Силы, сопротивлявшиеся все более нарастающему социальному хаосу, оказались многократно слабее сил, этому хаосу способствовавших и старавшихся на его волне урвать побольше шкурных выгод. Далеко растерянным и безвольным буржуазии и дворянству 1917 года до посадских и служилых людей 1611-го, создававших народные ополчения! Два века господства петербургской «вертикали» подорвали всякую местную инициативу. Грустным парадоксом (особенно учитывая почти повальный антисемитизм белогвардейцев) смотрится тот факт, что в финансировании Белого движения на его начальном этапе решающая роль принадлежала не русскому, а еврейскому капиталу: ростовский коммерсант Абрам Альперин дал в декабре 1917 г. А. М. Каледину 800 тыс. руб. на организацию казачьих партизанских отрядов, 200 тыс. Бориса Гордона составили львиную долю в критически необходимом для Добровольческой армии М. В. Алексеева полумиллионе, собранном ростовскими же предпринимателями. Какой контраст – борьба в это же время с коммунизмом в Германии, где «Антибольшевистский фонд» германской промышленности щедро выделил «Фрайкору» (местному и гораздо лучше организованному и многочисленному – не менее 150 тыс. человек – аналогу Добрармии) 500 млн марок!
Не мудрено, что в обстановке всеобщего распада в Смуте XX столетия победили, не как встарь «национально-консервативные средние слои» (С. Ф. Платонов), а, говоря языком XVII в., «воры» – власть взяла в руки маргинальная, но дьявольски энергичная и авторитарно управляемая марксистская секта, чему нимало не помешала ее скверная репутация агентуры немецкого Генштаба. Большая часть населения России – крестьяне – охотно признали новых правителей, первым делом законодательно закрепивших «черный передел» и обещавших измученной стране скорый мир. В буржуазно-обывательской же среде «поначалу… господствовало убаюкивающее активный протест убеждение, что большевики продержатся не более двух недель. Потом стали возлагать надежды на то, что после окончания мировой войны победители – не важно кто – но непременно займутся ликвидацией „нелепого, но жестокого кошмара“, затеянного большевиками. Среди сил, противостоящих большевизму, поразительно мало было людей, готовых сплотиться и действовать» (В. П. Булдаков). «Российские деловые круги не восприняли Октябрь 1917 г. как катастрофу. Вплоть до осени 1918 г. предприниматели, за редким исключением, не покидали мест постоянного проживания и вели, насколько это было возможно, привычный образ жизни» (М. К. Шацилло). Генерал и донской атаман А. П. Богаевский так вспоминал о настроениях казачества: «Разбрелись казаки по своим станицам, и каждый эгоистически думал, что страшная красная опасность где-то далеко в стороне и его не коснется. Отравленные пропагандой на фронте, строевые казаки спокойно ждали Советской власти, искренно или нет считая, что это и есть настоящая народная власть, которая им, простым людям, ничего дурного не сделает. А что она уничтожит прежнее начальство – атамана, генералов, офицеров да кстати и помещиков, так черт с ними! Довольно побарствовали!» Тот же Богаевский приводит следующий характерный эпизод. Кто-то из белых спросил у донского крестьянина: «А что, дед, ты за кого, за нас, кадет, или за большевиков?» Тот ответил не задумываясь: «Чего же вы меня спрашиваете? Кто из вас победит, за того и будем». Похожая ситуация была и в других казачьих войсках (за исключением Терского, из-за поддержки большевиками их старинных врагов – чеченцев и ингушей).
Сбылось предсказание Р. А. Фадеева – после упразднения полиции единственным подлинно политическим субъектом в лишенной «общественной организации» России оказались «цюрихские беглые».
Сопротивление большевизму, начавшееся сразу после Октябрьского переворота, долгое время было делом небольшой кучки мужественных идеалистов – в основном совсем молодых людей – новоиспеченных офицеров, юнкеров, интеллигентов, студентов, гимназистов… Собственно из них в то время и состояла русская нация – из людей, сознательно вставших с оружием в руках на защиту ценностей национально-демократической России против возродившегося в социал-демократическом обличье самодержавия. 29 октября 1917 г. в Петрограде вспыхнуло быстро подавленное восстание юнкеров, в московских боях 27 октября – 1 ноября также главную роль играли юнкера, к ним присоединились не более 700 офицеров «из находившихся тогда в городе нескольких десятков тысяч (курсив мой. – С. С.)» (С. В. Волков), в целом же «из 250 тыс. офицеров менее 3 % сразу же с оружием в руках выступили против Октябрьской революции» (А. Г. Кавтарадзе). 8—17 декабря в Омске 800 юнкеров и 100–150 добровольцев безуспешно пытались противостоять 20 тыс. солдат запасных полков и рабочих.
Среди примерно 3700 человек, участников знаменитого Ледяного похода зимы – весны 1918 г., с коего и начинается, по сути, история Белого дела, насчитывалось 2350 офицеров (притом что в Ростове их тогда обреталось до 17 тыс., а в Новочеркасске – до 7 тыс.), из них 1848 были офицерами военного времени – недавними штатскими, призванными на фронт, лишь пятая часть добровольцев по возрасту перешла сорокалетний рубеж, примерно столько же было едва достигших совершеннолетия (кстати, за подавляющим числом руководителей похода не числилось никакого недвижимого имущества – так что отнести их к помещикам или капиталистам нет никакой возможности). Это соотношение сохранялось и впредь: вплоть до 1920 г. офицеры в Вооруженных силах Юга России составляли 60–70 %, а 95 % из них были не кадровыми военными, а все теми же офицерами военного времени. Лишь 40 % (около 100 тыс. человек) офицерства оказались в составе различных белых армий. Большая же часть офицеров либо уклонились от участия в Гражданской войне, либо перешли на службу большевистской диктатуре – некоторые добровольно, преимущественно же «по мобилизации». Всего к концу 1920 г. в Красной армии служили, по разным оценкам, от 50 до 75 тыс. военных специалистов, которые занимали подавляющее большинство высших командных и штабных должностей – 85 % командующих фронтами, 82 % командующих ар миями, до 70 % начальников дивизий и даже до 80 % среднего командного состава в звене командир полка – командир батальона (при этом идейных большевиков среди них было не более нескольких сотен).
Таким образом, две трети русского офицерского корпуса, тщательно отученного самодержавием от всякой политической активности после декабристского инцидента, либо не препятствовали установлению в стране откровенно антинационального режима, либо, решив прислониться к твердой государственности, пусть даже и в марксистской упаковке, сыграли решающую роль в его победе, ибо без такого количества военспецов Красная армия конечно же никогда не сложилась бы в серьезную боевую силу. Если в октябре – начале ноября пассивность офицерства можно еще объяснить совершенно естественной неприязнью последнего к Временному правительству, допустившему массовую резню офицеров после провала августовского корниловского выступления, то с ноября – декабря, когда на Дону генералами М. В. Алексеевым, Л. Г. Корниловым и А. И. Деникиным (последние двое от Временного правительства как раз пострадали) было поднято знамя антибольшевистской борьбы, это «оправдание» уже не работает. Даже в период своих наибольших успехов, с учетом проведенной на отвоеванной территории мобилизации, в сентябре 1919-го все Белые армии насчитывали в своих рядах не более 250–300 тыс. человек, в то время под красным знаменем воевали полтора миллиона.
Но, разумеется, если бы с большевиками сражались только добровольцы, Гражданская война не продлилась три с лишним года. Массовый народный отпор большевизму начался весной 1918 г., когда крестьяне почувствовали на себе прелести его продовольственной политики, изымавшей из деревни практически весь хлеб подчистую. За 15 месяцев 1918–1919 гг., по чекистским данным, произошло 344 крестьянских выступления, жертвами которых стали 1150 советских работников. Всего за период 1918–1920 гг. крестьяне уничтожили около 20 тыс. продотрядовцев. В марте взялись за оружие уральские казаки. Весной 1918-го частью донских казаков была создана антибольшевистская Донская армия во главе с П. Н. Красновым. В мае в Сибири произошел мятеж сорокатысячного чехословацкого корпуса, сразу же изменившего ситуацию на Востоке в пользу противников советской власти. В июне при активной поддержке местных рабочих в Самаре власть переходит к Комитету членов Учредительного собрания (КОМУЧ), разогнанного большевиками в январе, который объявил себя всероссийским правительством. В июле против большевиков ополчились их бывшие союзники левые эсеры, имевшие большое влияние в Сибири. Тогда же Союз родины и свободы под руководством Б. В. Савинкова организовал антибольшевистский переворот в Ярославле, город в течение 18 дней держался против превосходящих сил Красной армии. В августе – ноябре против «пролетарского государства» поднялись рабочие Ижевского и Воткинского заводов, давшие белым около 5 тыс. штыков.
Наконец, весной 1919 г. в ответ на политику «расказачивания» (или, если называть вещи своими именами, политику «массового… истребления без всякого разбора», по выражению члена Донревкома И. И. Рейнгольда, целого сословия) восстали ранее вполне просоветские казаки Верхнего Дона, что позволило Деникину прорваться в Донскую область и начать наступление в центральные районы России. Как от зачумленной, от коммунистической России разбегались окраины. 6 декабря 1917 г. Сейм утвердил полную независимость Финляндии. 9 января 1918 г. Рада провозгласила Украинскую Народную Республику «независимым, свободным и суверенным государством украинского народа». (Рада не была популярна и быстро пала, но это вовсе не значит, что украинское крестьянское большинство тянуло к большевистской Москве – на выборах в Учредительное собрание «за исключением южных степей… Украина отдала почти 60 % голосов блоку украинских социалистических партий (то есть социалистам и националистам), а на Киевщине они получили 70 % голосов против 5,8 %, отданных… большевикам» (А. Грациози), а мощнейшая крестьянская война 1919–1920 гг. шла под лозунгом «самостийной вильной Радянской Украины».) Позднее этим примерам последовали Эстония, Латвия, Литва, Грузия, Азербайджан, Армения, Дагестан (Горская республика). Даже кубанские казаки создали независимую самостоятельную Кубанскую народную республику. В октябре 1919-го Деникин уже стоял в 250 км от Москвы.
И все же белые проиграли. И главная причина этого – опять-таки в отсутствии широкой общественной поддержки, в отсутствии нации. Национально-демократические лозунги Белого дела («За Россию, за свободу!») русскому большинству казались совершенно абстрактными и непосредственно его не касающимися. Массовые антибольшевистские настроения и радость по поводу освобождения от красного ига так и не вылились в общенародное организованное движение, которое стало бы гарантией от всегда возможных перемен военного счастья. В. А. Маклаков, посетивший в октябре 1919 г. области, занятые Вооруженными силами Юга России, писал Б. А. Бахметеву: «Деникину удалось создать, по-видимому, прекрасную армию… Но зато в России, кажется, только и есть хорошего, что эта армия… Тыл просто никуда не годится и больше всего потому, что я не вижу в нем никакого идейного одушевления, никакой жажды работать и абсолютно никакого организационного таланта. …Вся энергия, поскольку она осталась, уходит на удовольствия и на наживу… Спекулируют и воруют все… Вместе с тем у всего русского общества нетерпеливое ожидание, когда же мы будем в Москве. Но про приход в Москву они говорят так, как будто этот приход должны делать и сделать за них, помимо них».
О том же вспоминал позднее и сам Деникин: «Классовый эгоизм процветал пышно повсюду, не склонный не только к жертвам, но и к уступкам. Он одинаково владел и хозяином и работником, и крестьянином и помещиком, и пролетарием и буржуем. Все требовали от власти защиты своих прав и интересов, но очень немногие склонны были оказать ей реальную помощь. Особенно странной была эта черта в отношениях большинства буржуазии к той власти, которая восстанавливала буржуазный строй. Материальная помощь армии и правительству со стороны имущих классов выражалась ничтожными в полном смысле слова цифрами. И в то же время претензии этих классов были весьма велики». Похожую картину разложения тыла в колчаковском Омске рисуют мемуары белых офицеров, воевавших на Восточном фронте. В последнем оплоте Белого дела – Приморье – на призыв его правителя («воеводы») М. К. Дитерихса к городской интеллигенции пополнить состав Земской рати во Владивостоке откликнулось 176 человек из четырех тысяч, причем среди них не было ни одного (!) человека из организаций, политически поддерживающих белых. Буржуазная молодежь скрывалась от призыва в Харбине, а на фронт шли преподаватели и студенты.
Впрочем, были и отрадные исключения. Как показывает новейшее исследование Л. Г. Новиковой, в бывшей Архангельской губернии, не знавшей крепостного права, с ее многовековыми традициями развитого местного самоуправления, белое Северное правительство обрело неплохую социальную опору. Осенью 1919 г. общее число мобилизованных в Северной области составило более 54 тыс., то есть десятую часть ее населения, и этот успех «не был связан с каким-либо особым насилием со стороны белых властей». В самом Архангельске на основе добровольных квартальных комитетов, патрулировавших город с целью предотвращения грабежей, возникло народное ополчение из более чем тысячи мужчин, свободных от призыва, причем, по воспоминаниям очевидца, «собравшаяся публика по своему образованию и положению были первые люди в городе… краса и гордость города». Крестьяне в ответ на зверства красных сами организовывали белые партизанские отряды, которые к концу января 1919 г. представляли серьезную военную силу – около 2,5 тыс. бойцов. Тем не менее степень их политической сознательности не стоит преувеличивать, член Северного правительства Б. Ф. Соколов, близко общавшийся с партизанами, с сожалением отмечал: «Напрасно… было бы искать в психологии партизан чувств общегосударственных, общенациональных. Напрасной была бы попытка подвести под их ненависть антибольшевистскую – идейную подкладку. Нет, большевики оскорбили грубо… душу партизан, допустив насилия над женами и сестрами, разрушив их дома и нарушив их вольные права… Но до России, до всей совокупности российских переживаний им было дела очень мало». И потом – судьба войны решалась не на Русском Севере…»
Изначальная слабость социальной базы конечно же не снимает с вождей Белого дела ответственности за их плохо сформулированную положительную программу, не способную увлечь «широкие народные массы». Размытое решение агарной проблемы оттолкнуло от них крестьянство: в Сибири крестьянская партизанщина стала одним из важнейших факторов поражения А. В. Колчака. «Непредрешенчество» в национальном вопросе, проистекавшее из имперских иллюзий, сделало врагами нерусские национальные движения. «Дрались и с большевиками, дрались и с украинцами, и с Грузией и Азербайджаном, и лишь немного не хватило, чтобы начать драться с казаками, которые составляли половину нашей армии», – предъявлял претензии деникинской национальной политике П. Н. Врангель (к этому списку стоит добавить и чеченцев, с которыми шла война с использованием тактики выжженной земли). Вполне антибольшевистские режимы Прибалтики и даже Польши предпочитали договариваться с красными, а не с белыми, правда, как оказалось впоследствии, на свою же беду.
Аграрная реформа во врангелевском Крыму, проводимая сподвижником Столыпина А. В. Кривошеиным и законодательно закреплявшая за крестьянами всю захваченную ими землю на правах собственности за небольшой выкуп, и заигрывания Крымского правительства с «националами» явно запоздали. В отличие от большевиков белые лидеры совершенно не владели искусством социальной демагогии: «…большевики выиграли потому, что умели обещать все, что угодно, чтобы затем забрать еще больше. Белые не умели обещать, а когда им приходилось забирать относительно немногое, то это воспринималось как морально ничем не подкрепленный произвол» (В. П. Булдаков).
Но победив белых, красные в 1920–1921 гг. столкнулись с «величайшим крестьянским восстанием со времен Пугачева» (А. Грациози) – по оценкам советского главкома (кстати, бывшего полковника императорской армии) С. С. Каменева на Тамбовщине действовало около 15 тыс. вооруженных повстанцев (на пике антоновщины, в феврале 1921-го, их количество возросло до 40–60 тыс.), в Западной Сибири – 50–60 тыс. (всего в Сибири – более 200 тыс.), притом что большинство «мирных жителей» так или иначе им сочувствовало. Только в Сибири было убито свыше 30 тыс. партийных и советских работников, восставшие на два месяца захватили Тобольск и создали Временное Сибирское правительство. Пугающим для новой власти симптомом стало «невероятное» присутствие среди повстанцев демобилизованных красноармейцев. В феврале 1921-го под лозунгом «За Советы без коммунистов» вспыхнул мятеж в ранее неизменно большевистской цитадели – Кронштадте (большинство матросов были крестьянскими сыновьями), в связи с чем «во многих местах стал наблюдаться массовый отъезд чиновной партийно-советской бюрократии» (С. А. Павлюченков). В Ярославле, где памятен был переворот 1918 г., ввели военное положение, а местный горпартком принял решение переселить всех коммунистов города в квартиры на двух улицах и создать там своего рода укреппункт.
Несмотря на то что мятежная деревня была буквально потоплена в крови, большевики вынуждены были пойти ей на серьезные уступки – началась эпоха нэпа. Результаты «черного передела» были окончательно закреплены за крестьянством, но интересно, что прежнее общинное всевластие осталось в прошлом – по Земельному кодексу РСФСР 1922 г. крестьянские хозяйства получили право в любое время вывести свою землю из общины с ее согласия или без последнего, если происходил общий передел или если о выходе заявляло 20 % семейств. Уже к 1924 г. в Смоленской области количество отрубов и хуторов превысило дореволюционный уровень, составив более 30 %, даже в Московской области к 1927 г. оно увеличилось почти до 2 % с 0,13 % в 1917-м. Сводки ОГПУ в 1926 г. отмечают, например, в Иваново-Вознесенской губернии «большое стремление крестьян выходить на отруба и в некоторых случаях на хуторские участки. В большей части к этому стремятся крестьяне-середняки – передовики по улучшению сельского хозяйства, которые, при всем желании провести улучшенные формы землепользования, в целом селении ничего не могут сделать, так как в селениях в этих случаях всегда возникают недоразумения и споры». Так что столыпинская реформа все же не осталась без последствий, хотя частная собственность на землю была официально отменена. Но недолго крестьяне праздновали победу…
Смена элиты
В Гражданской войне Россия потеряла не менее 3 млн убитыми с разных сторон, а вместе с жертвами болезней и голода 16–18 млн. Общая же убыль населения (с учетом неродившихся) за период 1914–1923 гг. составила порядка 70 млн. Многолетнее обыденное массовое насилие чудовищно деформировало народную психологию. «Человека убить иному, какой руку на этом деле наломал, легшее чем вшу раздавить. Подешевел человек за революцию…» – говорит один из персонажей «Тихого Дона». Люди научились «шагать через людей», отмечает в своих дневниках 1918 г. М. М. Пришвин и приводит слова своего приятеля о Свидригайлове из «Преступления и наказания»: нас учили, что он «страшное существо», «а я читал и думал… какой хороший человек, где найти теперь такого».
Уровень всеобщего ожесточения того времени – жуткое свидетельство того, до какого дна может дойти человек. Противников, а иногда и просто обывателей живьем закапывали в землю и топили в прорубях, поджаривали на огне и обливали водой на морозе, распинали, отрубали им руки, выкалывали глаза, сдирали с них кожу и т. д. и т. п. – и делали это практически все силы, участвовавшие в войне. Но, конечно, красный террор был не просто более массовым, он – в отличие от белого – имел систематический характер и четкий социальный адрес – привилегированные и полупривилегированные слои русского этноса, способные к сопротивлению новой власти. Чекист М. Я. Лацис так определял суть красного террора: «Мы не ведем войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. Первый вопрос, который мы должны ему предложить, – к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого».
А вот что писал в официальном письме член Донревкома И. И. Рейнгольд: «Казаков, по крайней мере, огромную их часть, надо будет рано или поздно истребить, просто уничтожить физически…» В циркулярном письме Оргбюро ЦК РКП(б) от 24 января 1919 г. предписывалось: «Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью».
В марте 1922 г. в секретном письме политбюро по поводу кампании об изъятии церковных ценностей Ленин призывал воспользоваться случаем и поставить на колени восстановившую в ноябре 1917-го свою самостоятельность церковь – устроить «с максимальной быстротой и беспощадностью подавление реакционного духовенства», «дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий», и «чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше».
Но еще более наглядно это видно по статистике жертв террора, например, в собранных С. П. Мельгуновым сведениях о 5004 расстрелянных во второй половине 1918 г., среди последних лидируют интеллигенты (1286) и офицеры и чиновники (1026), вместе это почти половина общей цифры. Кстати, собственно «буржуев» в этом мартирологе всего 22 (!), из чего понятно, насколько растяжимо большевики трактовали понятие «буржуазия». Характерен финал Гражданской войны на Юге – зимой 1920/21 г. «в Крыму было расстреляно, утоплено в море, прилюдно повешено едва ли не 100 тыс. человек – не только из числа „офицеров, чиновников военного времени, солдат, работников в учреждениях добрармии“, которым было предписано явиться на регистрацию, но и масса представителей интеллигенции» (В. П. Булдаков).
Красное самодержавие целенаправленно срезало «голову» только-только начавшей формироваться русской нации, уничтожало ее образованный и руководящий слой. Пусть «голова» эта и была забита множеством глупостей, но она вполне имела шанс постепенно поумнеть при нормальной эволюции страны. Представителей русской элиты оказалось не только непропорционально много среди погибших, но среди почти двух миллионов беженцев из страны победившего социализма. Заметное место и там, и там занимали сознательные русские политические националисты. В Киеве членов Русского национального клуба местное ЧК уничтожало прямо по спискам, за свои «погромные» статьи без суда и следствия был расстрелян М. О. Меньшиков; в эмиграции оказались П. Б. Струве, В. В. Шульгин, П. И. Ковалевский, братья А.А. и Б. А. Суворины и др. Оставшиеся жить в СССР вынуждены были тщательно скрывать свои убеждения.
Попытки интеллигентского сопротивления жестоко карались, по так называемому делу Таганцева 1921 г. было расстреляно около шестидесяти человек, среди которых поэт Н. С. Гумилев и несколько видных петроградских профессоров. Немногие крупные деятели русской культуры, симпатизировавшие большевикам и с ними сотрудничавшие, довольно быстро разочаровались в созидаемом на крови и костях «прекрасном, новом мире», даже Горький надолго бежал из него, заклеймив перед этим своих властвующих друзей в «Несвоевременных мыслях»: «Народные комиссары относятся к России как к материалу для опыта, русский народ для них – та лошадь, которой ученые-бактериологи прививают тиф для того, чтоб лошадь выработала в своей крови противотифозную сыворотку… Реформаторам из Смольного нет дела до России, они хладнокровно обрекают ее в жертву своей грезе о всемирной или европейской революции. …Большевизм – национальное несчастие, ибо он грозит уничтожить слабые зародыши русской культуры в хаосе возбужденных им грубых инстинктов».
Блок, восславивший Октябрь в «Двенадцати», уже в июле 1919 г. так передает свои ощущения от жизни в Советской России: «…Новых звуков давно не слышно. Все они приглушены для меня, как, вероятно, для всех нас. Я не умею заставить себя вслушаться, когда чувствую себя схваченным за горло, когда ни одного часа дня и ночи, свободного от насилия полицейского государства, нет, и когда живешь со сцепленными зубами. Было бы кощунственно и лживо припоминать рассудком звуки в беззвучном пространстве». В дневниках он называет Ленина «рабовладельцем», пишет про «тусклые глаза большевиков… глаза убийц». В отличие от Горького, Блоку не удалось выехать за границу для необходимого ему лечения, «рабоче-крестьянское государство» его не выпускало, что и стало причиной ранней смерти поэта: «Роковую роль в затягивании получения разрешения [на выезд в Финляндию] сыграло письмо возглавлявшего Особый отдел ВЧК В. Р. Менжинского В. И. Ленину, где говорилось: „Блок натура поэтическая; произведет на него дурное впечатление какая-нибудь история, и он совершенно естественно будет писать стихи против нас. По-моему, выпускать не стоит…“» (Е. В. Иванова).
Недоедание, холод, болезни косили ряды старой интеллигенции не менее эффективно, чем террор, по этим причинам, например, в 1918–1922 гг. окончили свой земной путь семь академиков. В. И. Вернадский в одном из писем 1921 г. так описал реальность красного Петрограда: «Мне сейчас все это кажется мифом о Полифеме, в пещере которого находятся русские ученые». Некий саратовский интеллигент составил мартиролог скончавшихся в 1917–1930 гг. своих 134 знакомых, из которых 18 было расстреляно (в основном, в 1919 г.), 17 умерли от истощения (как правило, в 1920–1921 гг.), кончили жизнь самоубийством 6 (1920-е гг.), сошли с ума 4 (тоже 1920-е).
Свято место пусто не бывает – уничтоженную или эмигрировавшую элиту замещала новая – большевизированные выходцы из русских низов и «инородцы», среди которых ведущая роль, разумеется, принадлежала предприимчивым и имевшим неплохой образовательный уровень евреям. Ленин, по свидетельству главы Еврейского отдела наркомата национальностей С. М. Диманштейна, признавал их принципиально важную роль в истории советской государственности: «Большую службу революции сослужил… тот факт, что из-за войны значительное количество еврейской средней интеллигенции оказалось в русских городах. Они сорвали тот генеральный саботаж, с которым мы встретились сразу после Октябрьской революции и который был нам крайне опасен. Еврейские элементы, хотя далеко не все, саботировали этот саботаж и этим выручили революцию в трудный момент… овладеть государственным аппаратом и значительно его видоизменить нам удалось только благодаря этому резерву грамотных и более или менее толковых, трезвых новых чиновников». О том же говорил в 1926 г. М. И. Калинин: «В первые дни революции… когда значительная часть русской интеллигенции отхлынула, испугалась революции, как раз в этот момент еврейская интеллигенция хлынула в канал революции, заполнила его большим процентом по сравнению со своей численностью и начала работать в революционных органах управления».
Евреи охотно пошли к новой власти на службу, ибо это давало отличные шансы для социального продвижения наверх, и сделались передовым отрядом «социалистической модернизации», которую большинство русских отвергало. В 1920 г. доля евреев в РКП(б) превышала их долю в составе населения страны в 2,5 раза, а в ВЧК почти в 5 раз. Из семи членов первого политбюро ЦК РКП(б), образованного накануне 25 октября 1917 г., четверо евреи – Зиновьев, Каменев, Сокольников, Троцкий. Среди шести членов «малого Совнаркома» (реального правительства РСФСР с ноября 1917-го до лета 1918-го) их тоже четверо: Свердлов (председатель), Каменев, Володарский, Стеклов. Всего в 1917–1922 гг. евреи составляли 13 % работников центральных органов власти первого в мире социалистического государства.
«Нет сомнений, еврейские отщепенцы далеко перешли за процентную норму… и заняли слишком много места среди большевистских комиссаров», – писал еврей-антикоммунист Д. С. Пасманик. «Евреи приблизились к власти и заняли различные государственные „высоты“… Заняв эти места, естественно, что – как и всякий общественный слой – они уже чисто бытовым образом потащили за собой своих родных, знакомых, друзей детства, подруг молодости… Совершенно естественный процесс предоставления должностей людям, которых знаешь, которым доверяешь, которым покровительствуешь, наконец, которые надоедают и обступают, пользуясь знакомством, родством и связями, необычайно умножил число евреев в советском аппарате», – свидетельствовал другой еврей-антикоммунист Г. А. Ландау.
Это присутствие пусть и значительной, но в масштабах страны все же ничтожной группы евреев во власти на первых ролях принесло остальному еврейскому народу больше страданий, чем выгод, породив невиданный до той поры в России вал массового антисемитизма, который царил не только в Белом движении, но и среди крестьян-повстанцев (типичный пример: листовка штаба «народной повстанческой армии Голышмановского района Ишимского уезда» в феврале 1921 г. возвещает о «великой борьбе за освобождение от позорного ига коммунистов и жидов»). Даже красный командарм Второй конной Ф. К. Миронов, расстрелянный в 1921 г. по личному приказу Троцкого, говорил про большевиков, что «это не власть народа, а жидокоммунистическая…». Погромами (а жертвы их исчисляются несколькими десятками тысяч) увлеченно занимались все стороны Гражданской войны – вплоть до лихих бойцов буденовской Первой конной, но сомнительное первенство в этом деле все же принадлежит украинским левым националистам – петлюровцам (40 % всех погромов; доля белых – 17 %, красных – 8,5 %, зеленых – 25 %). О том, что «еврейское засилье» провоцирует рост юдофобии, предупреждали большевиков такие известные юдофилы, как Горький и Короленко (из дневника последнего весны 19-го: «Среди большевиков – много евреев и евреек. И черта их – крайняя бестактность и самоуверенность, которая кидается в глаза и раздражает… Мелькание еврейских физиономий среди большевистских деятелей (особенно в чрезвычайке) разжигает традиционные и очень живучие юдофобские инстинкты»).
Видный чекист еврейского происхождения Г. С. Мороз отправил в апреле 1919 г. в ЦК специальную докладную записку, где с тревогой констатировал, что «весь Западный Край пропитан в настоящее время ядом антисемитизма», – для борьбы с этим он, в частности, предлагал «влить евреев-коммунистов в ряды красной армии в качестве прямых солдат. До сего времени евреев-коммунистов в Красной армии рядовых нет. Объясняется это просто тем, что большинство из них как лучшие работники того края, в коем они находятся, заняты в Советских учреждениях в качестве сотрудников, но в настоящее время вполне возможно было бы заменить [их] и не коммунистами и не евреями». «В Центральный Комитет поступило также заявление одного московского коммуниста, отправленного на Украину вместе с продотрядами. Он пытался объяснить, почему деревни встретили его и его товарищей криком „бей жидов и москалей!“ В происходящем, говорил он, есть доля нашей вины, так как мы использовали слишком много еврейских кадров, часто несоциалистов, и на постах слишком бросающихся в глаза. В заключении он приводил пример Киевского губпродкомитета, где из 150 сотрудников 120 были евреями, подтверждая тем самым сказанное и оставляя членам ЦК самим вообразить, какое впечатление производило такое соотношение на крестьян, имевших дело с этим учреждением» (А. Грациози).
Вместо исправления всем очевидного «еврейского перекоса» большевистский СНК в июле 1918-го издал декрет о беспощадной борьбе с антисемитизмом (притом что в 1917–1918 гг., по подсчетам В. П. Булдакова, «антисемитские акции составили лишь 23,2 % всех этнических столкновений», наиболее кровавые погромы пришлись как раз на период после принятия декрета – 1919–1920 гг.): «Совет Народных Комиссаров объявляет антисемитское движение опасностью для дела рабочей и крестьянской революции… Совнарком предписывает всем Совдепам принять решительные меры к пресечению в корне антисемитского движения. Погромщиков и ведущих погромную агитацию предписывается ставить вне закона». С учетом огромного количества разного рода зарубежных «интернационалистов» (латышей, поляков, венгров, немцев, китайцев и т. д.) в Красной армии и советских карательных органах (некоторые авторы оценивают их общее число в 300 тыс.) у массового сознания были все основания воспринимать коммунистическое государство как «нерусское».
«У нас еще нет нации»
Произошедшая с Россией катастрофа вызвала у большинства русской элиты тяжелейший кризис веры в русский народ. Подлинный взрыв того, что можно было бы назвать русофобией, мы видим в сочинениях, дневниках, письмах русских писателей и интеллектуалов 1917 – начала 1920-х гг. Содержательно пассажи этих очень разных авторов на удивление схожи, но поскольку в большинстве случаев все это писалось «в стол», заподозрить прямое взаимовлияние невозможно.
И. А. Бунин (из дневника 1917–1918): «С револьвером у виска надо ими править… Злой народ! Участвовать в общественной жизни, в управлении государством – не могут, не хотят за всю историю… Это этот-то народ, дикарь, свинья, грязная, кровавая, ленивая, презираемая ныне всем миром, будет праздновать интернационалистический праздник… Будь проклят день моего рождения в этой стране!»
В. В. Розанов («Апокалипсис нашего времени», 1918): «Благородное на Руси – все от татар. Славянская кровь – вонюча… Явно, Чаадаев прав с его отрицанием России, которая умеет только пускать сопли на ту дудку, которую держит во рту… Все вообще русские, племя слабое, ничтожное. Племя глупое и варварское. „Земля наша велика и обильна“, но чумичка, обетовавшая на ней, не умела ни пахать земли, ни разводить садов, ни ухаживать за скотом. Она, видите ли, все „молилась“ и под предлогом молитвы ничего не делала. Любили же тучную землю одни колонисты, пришельцы, – евреи, немцы, латыши, татары… И вот, пришел час предложить ужасный вопрос… „Кто истинное дитя отечества, тот ли, кто вечно жил на ней – только гадил свою землю, гадил и ругал, гадил и проклинал…“ …или: кто подвязывал тихо ягодку-малинку к ягодке-малинке, собирал грибы благочестивые, копил сметанку милую, творог делал, доил коровку, холил лошадку. Это – евреи, немцы, латыши… Так вот мое слово… убирайтесь же вы к черту с русской земли, Ивановы и Александровы, и отдайте ее Генрихам и Соломонам. Ибо они одни были честные в русской земле. Эй, берите землю, немцы, – и гоните русскую сволочь».
С. Н. Булгаков (из письма П. А. Флоренскому, 1922): «В теперешнем виде русский характер не годится никуда: это – кисель без всякого костяка, это, действительно, рабье состояние…»
М. О. Меньшиков (из дневника 1918 г.): «Англия, Германия, Франция… это звучит гордо. Соединенные Штаты – это звучит богато и могуче. Италия, Испания, Греция – звучит красиво. Даже Китай, Япония, Индия дали великие цивилизации, даже Аравии и Египту есть, чем похвалиться… А Россия? „Ничего“… Самовар, квас, лапти… Только в прикосновении с Европой Россия как будто стала принимать облик культурной страны. Но вспомните горькое пророчество Руссо о России („сгнила, раньше, чем созрела“)… И в XIX веке мы ничего не дали более знаменитого, чем нигилизм. И в XX в. ничего, кроме оглушительного падения в пропасть… Верю в то, что потеря независимости дает нам необходимое освобождение от самих себя. Ибо не было, и нет более подлых у нас врагов, как мы же сами. Вяжите нас – мы бешеные! Земля, это точно, велика и обильна, но порядка нет, а потому придите бить нас кнутом по морде! Даже этой простой операции, как показал опыт, мы не умеем делать сами».
Историк С. Б. Веселовский (из дневника 1918 г.): «Последние ветви славянской расы оказались столь же неспособными усвоить и развивать дальше европейскую культуру и выработать прочное государство, как и другие ветви, раньше впавшие в рабство. Великоросс построил Российскую империю под командой главным образом иностранных, особенно немецких, инструкторов и поддерживал ее выносливостью, плодовитостью и покорностью, а не способностью прочно усваивать культурные навыки, вырабатывать свое право и строить прочные ячейки государства… Мало-помалу, у меня складывалось убеждение, что русские не только культурно отсталая, но и низшая раса».
Историк Ю. В. Готье (из дневника 1917 г.): «Большевики – истинный символ русского народа… это смесь глупости, грубости, некультурного озорства, беспринципности, хулиганства и, на почве двух последних качеств, измены… Мы годны действительно только, чтобы быть навозом для народов высшей культуры, и в нашей культуре были правы только отрицатели, начиная с Курбского, Хворостинина и кончая Чаадаевым, Печериным и т. п.».
По всем критериям, эти иеремиады, принадлежащие, как на подбор, авторам национально мыслящим, а то и вовсе форменным русским националистам, – просто классика русофобии, такого накала и концентрации она до того в русской культуре не знала. И тем не менее здесь принципиально важен исторический контекст – время, когда у русской элиты возникло поистине апокалиптическое ощущение «полной гибели всерьез» России и русского народа. Перед нами вопль отчаяния людей, все основания жизни которых разбились в прах, которые вместо русско-европейской России узрели вдруг «ожидовевшую Азию» (Готье). Чувствуется во всех этих проклятиях в адрес своего народа некий мазохистский надрыв, самоистязание, расцарапывание ран. Трудно судить людей, попавших в исторический ад. Тем более что практически у любого из них – в тех же самых текстах – рядом с безысходностью вдруг появляется надежда: кто-то ждет победы белых, кто-то духовного возрождения, кто-то (как Булгаков) видит якорь спасения в католицизме… Но для всех них русский народ оставался главной ценностью (по крайней мере, в пределах земного бытия). Как написал Бунин в «Окаянных днях»: «Если бы я эту „икону“, эту Русь не любил, не видал, из-за чего же бы я так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал так беспрерывно, так люто?» Или же Розанов в письме к Струве (февраль 1918): «…люблю и люблю только один русский народ, исключительно русский народ… Кляну и проклинаю. И только эту „вошь преисподнюю“ и люблю. И хочу – сгнить, сгнить – с нею одной, рыдая об этой его окаянной вшивости».
В более мягкой и в то же время более точной форме о крушении русского нациестроительства после Октября высказался в 1919 г. известный ученый-аграрник А. В. Чаянов: «Русский народ представлял собой только демос – темную людскую массу – в то время как он должен быть демократией – народом, сознавшим себя… Ему недоставало организованности, недоставало общественных навыков, недоставало организованной общественной мысли… Русская революция с подчеркнутой наглядностью вскрыла эту истину и показала, что у нас еще нет нации (выделено мной. – С. С.)…»
Позднее у большинства тех, кто оказался в эмиграции, разочарование сменится надеждой, без которой невозможно жить человеку, и появится множество политических мифов – о перерождении большевизма в русскую национальную власть (сменовеховство), о том, что Октябрьская революция есть признак конца «романо-германского ига» в русской истории и скорого появления истинной «евразийской» России (евразийство), наконец, что русский народ опамятуется, преобразится в полное собрание славянофильских добродетелей и сбросит с себя коммунистическое ярмо. Но все эти утешительные фантазии имели весьма косвенное отношение к процессам, протекавшим в государстве под названием СССР.
Глава 7. Бремя «старшего брата»
Большевизм представлял собой самое радикальное крыло русского марксизма, воспринимавшегося в России конца XIX – начала XX в. как идеология крайнего западничества. Коммунистическое общество, которое намеревались построить новые властители страны, судя по их декларациям, должно было стать едва ли не полным отрицанием всего предшествующего исторического опыта упраздненной империи. Само название основанного ими государства – Союз Советских Социалистических Республик – вроде бы полностью зачеркивало память о тотально отвергнутом дореволюционном «проклятом» прошлом, упраздняя старорежимное слово «Россия». О последнем в начале 1930-х Малая советская энциклопедия авторитетно сообщала: «…бывшее название страны, на территории которой образовался Союз Советских Социалистических Республик».
«Все знают, что прикрывающие ее [Россию] четыре буквы „СССР“ не содержат и намека на ее имя, что эта государственная формация мыслима в любой части света: в Азии, в Южной Америке», – писал в 1929 г. Г. П. Федотов. О том же много десятилетий спустя с изумлением говорил французский философ Жак Деррида: «…СССР является единственным в мире названием государства, не содержащим в себе никакой отсылки к местности или к нации; единственным именем собственным государства, в котором нет имени собственного в обычном смысле слова… Я не знаю другого аналогичного примера…»
«Российское» сохранилось только в названии самой большой из союзных республик, стыдливо спрятавшись в аббревиатуре РСФСР. Но даже поверхностного изучения реалий советской жизни достаточно, чтобы понять: при всем отталкивании «первого в мире социалистического государства» от уничтоженной им «исторической России» основополагающие социально-политические константы последней воспроизвелись в нем с удивительной внутренней схожестью, хотя и в новом, экстремальном, восторгавшем сторонников и вызывавшем омерзение у противников внешнем обличье. Еще в 1927 г. бывший генерал императорской армии К. Л. Гильчевский проницательно заметил в письме к М. И. Калинину: «…вы [коммунисты]… постепенно отказываетесь от большевистских принципов, переходите к прежнему. Вообще там, где вы возвращаетесь к выработанному тысячелетиями жизненному укладу, у вас все налаживается: и дисциплина, и единоначалие, и преданность службе, и винная монополия, и проч.». Уместно применить к этой ситуации формулу Токвиля, выведенную им из французского опыта: «Старый порядок предоставил Революции многие из своих форм; она лишь добавила к ним жестокость собственного гения».
«Орден меченосцев»
Начнем с того, из чего растет все остальное, – со структуры власти. Она в СССР, как и в Российской империи и Московском царстве, продолжала оставаться «автосубъектной и надзаконной» (А. И. Фурсов): главный ее элемент – РКП(б) – ВКП(б) – КПСС – являясь, по брежневской конституции, «руководящей и направляющей силой советского общества», не имел никакого определенного юридического статуса. Отец-основатель СССР это прекрасно понимал и откровенно писал о том, что коммунистическая власть («диктатура пролетариата») есть «ничем не ограниченная, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненная, непосредственно на насилие опирающаяся власть», что «юридическая и фактическая конституция советской республики строится на том, что партия все исправляет, назначает и строит по одному принципу». Г. Е. Зиновьев в 1919 г. говорил: «Всем известно, ни для кого не тайна, что фактическим руководителем Советской власти в России является ЦК партии».
Позднее «надзаконность» большевистской диктатуры так или иначе камуфлировалась в советском официозе, тем ценнее проговорка Хрущева, когда он в 1960 г. потребовал расстрела для группы «валютчиков» и в ответ на возражение генпрокурора, что такое наказание не соответствует закону, воскликнул: «Закон над нами, над коммунистической партией или мы над законом?!» Естественно, обвиняемых расстреляли.
Форма новой инкарнации «русской власти» была действительно новаторской. Компартия – «партия нового типа» – не имела аналогов в отечественной истории, разве что опричнина Грозного может смотреться ее отдаленным и несовершенным предком. Вероятно, о чем-то подобном мечтал Павел I, когда пытался организовать российскую элиту по образцу рыцарского ордена. И именно «орденом» назвал РКП(б) Сталин в июле 1921 г.: «Компартия как своего рода орден меченосцев внутри государства Советского, направляющий органы последнего и одухотворяющий их деятельность». Связывало этот орден и создавало его легитимность обладание и верность «единственно верной», дающей исчерпывающие ответы на все вопросы идеологии-квазирелигии, о чем точно (и пророчески) написал в 1927 г. П. Н. Милюков: «В день, когда эта идеология будет потеряна, большевиков вообще больше не будет. Будет простая шайка бандитов, – какими часто и считают большевиков их нерассуждающие враги. Но простая шайка бандитов не владеет секретом гипнотизировать массы. Что в конце концов потеря большевистской идеологии неизбежна и что большевики к этому фатально идут – это совсем другой вопрос!»
Но при всех новациях, установленный Лениным еще на II съезде РСДРП (1903) и окончательно закрепленный запретом фракционной деятельности на X съезде РКП(б) (1921) жесткий централизм внутри «ордена» вел к привычному старорежимному единодержавию, которое конечно же не было зафиксировано ни в каких партийных документах, но которым неизбежно заканчивались все эпохи олигархического «коллективного руководства» – иных вариантов управления компартией (а следовательно, и страной), кроме указанных двух, такое ее устройство и не предполагало. Поэтому, как при московских царях и российских императорах, историю России советского периода невозможно понять без учета личностных особенностей ее верховных правителей – настолько сильный отпечаток они накладывали и на внутреннюю, и на внешнюю политику. Несомненно, что большевики вообще бы не удержались у власти, не будь во главе их такой железный лидер, как Ленин. Фантастические масштабы репрессий конца 1930-х (одних расстрелянных почти 700 тыс.!) не в последнюю очередь объясняются тем, что Сталин был, по словам М. М. Пришвина, человеком, «в котором нет даже и горчичного зерна литературно-гуманного влияния: дикий человек Кавказа во всей наготе». Холерический темперамент Хрущева во многом спровоцировал и кукурузную эпопею, и Карибский кризис. Личная незлобивость, а затем и болезнь Брежнева определили неповторимый стиль эпохи «застоя». Наконец, взлет и падение перестройки – очевидные плоды шестидесятнических иллюзий ее инициатора – Горбачева.
О том, почему партократия порождает автократию, просто и ясно написал в своем дневнике в июле 1957 г. историк С. С. Дмитриев, с профессиональным интересом наблюдавший за утверждением хрущевского «фактического единодержавия» на смену сталинскому: «Конечно, полностью история не повторяется. Внешность единодержавия может быть различная. Приемы единодержцев также, равно их вкусы и претензии. …Существовавший и существующий общественно-политический порядок и экономический строй СССР не могут быть без диктатуры партии, а партия покоится на диктатуре ЦК, а в последнем первый секретарь устанавливает непререкаемо, каково сегодняшнее содержание и формы диктатуры, что сегодня является истиной и что надлежит признавать ложью. Положение первого секретаря есть положение папы римского в католической церкви. Пока он жив и на посту первого секретаря, он непогрешим. Только его посмертный (в отношении физическом или политическом смысле касательно его) преемник на этом посту вправе установить его ошибки, размеры и характер его посмертного культа».
Низложение Хрущева в 1964 г. нимало не опровергает вышеприведенную сентенцию – три российских самодержца тоже потеряли власть (и даже жизнь) в результате дворцовых переворотов, коим, по сути, и был Октябрьский пленум ЦК КПСС. А затем достаточно быстро триумвират Брежнев – Подгорный – Косыгин был вытеснен уже брежневским единовластием, принявшим, правда, с середины 1970-х символически-карикатурный характер – но показательно, что сей позорный фарс, возмущавший всю страну, не встретил никакого отпора внутри партии.
Любопытны в этой связи записи в дневнике за декабрь 1978 г. замзава Международного отдела ЦК КПСС А. С. Черняева, читавшего тогда книгу М. К. Касвинова «Двадцать три ступени вниз» о царствовании Николая II и невольно сравнивавшего «век нынешний и век минувший». С одной стороны: «…в дрожь бросает: ничего в России не меняется, в какой-то самой стержневой линии ее государственного существования. Мелкие, бытовые обиходные аналогии и подробности просто ошеломляют и угнетают». С другой: «…иногда просто хохотать хочется о том, как задолго до отречения [Николая II] сановники и думцы позволяли себе разговаривать с самодержцем. Например, когда не советовали ему принимать на себя верховное командование армией летом 1915 года. Никто и ни под каким видом ни по тону, ни по существу сейчас бы себе этого не позволил, скажем, по случаю присвоения нашему „самодержцу“ маршала или награждения его орденом „Победы“». А комментируя принятие решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 г., Черняев с горечью констатирует: «Вот так делается политика от имени партии и народа. И никто ведь не возразил – ни члены политбюро, ни секретари ЦК, ни, конечно, республики, ни даже аппарат. Думаю, что в истории России, даже при Сталине, не было еще такого периода, когда столь важные акции предпринимались без намека на малейшее согласование с кем-нибудь, совета, обсуждения, взвешивания – пусть в очень узком кругу. Все – пешки, бессловесно и безропотно наперед готовые признать „правоту и необходимость“ любого решения, исходящего от одного лица – до чего, может быть, это лицо и не само додумалось…»
Разумеется, единовластие партийных вождей после 1953 г. – лишь бледная тень настоящего, поистине грозненского стиля самодержавия Сталина (недаром фигура Ивана Васильевича в это время пережила впечатляющую официозную реабилитацию), длившегося со второй половины 1930-х до самой кончины Иосифа Грозного. Оно стоило СССР не только кровавой репрессивной мясорубки, но и страшных поражений лета – осени 41-го, ибо никем не оспариваемые политические и военные расчеты «кремлевского горца» полностью провалились. Боязнь повторения ужаса 1937 года, когда в жернова террора попала и часть номенклатуры, заставила коммунистических царей и бояр смягчить методы борьбы с неугодными и конкурентами – отправка на пенсию заменила расстрел.
Понятно, что при отсутствии автономных от государства общественных структур все управление страной сосредоточилось в руках коммунистической бюрократии. По данным ЦСУ СССР, в середине 80-х она насчитывала от 2 до 2,4 млн человек (на самом деле гораздо больше, ибо здесь не учтены работники партаппарата и работники советских учреждений). В целом качество ее было чрезвычайно прискорбным, ибо ведущий принцип подбора туда основывался не на деловых качествах или высоком уровне образования, а на верности либо коммунистической идеологии, либо какому-либо из кремлевских «кланов». Уже в 1919 г. инструктор ВЧК по Тамбовской губернии жаловался Дзержинскому, что местные коммунисты главным образом занимаются властным произволом и личным обогащением: «…пьянствуют до невозможности, отбирают у граждан, что попадет в руки… На каждом почти селе есть клуб коммунистов, в которых с пышностью помещика николаевских времен устраивают свадьбы, там же происходит картежная игра…» «Низкий уровень носителей власти» – одна из ключевых тем дневников В. И. Вернадского конца 1930-х – начала 40-х гг.: «В партии собираются подонки и воры и Тит Титычи» (ноябрь 1938 г.); «…варварство на всяком шагу. Причина ясная – слишком большое количество щедринских типов сейчас входит в партию и получают власть… Их число в смысле влияния не уменьшается, а растет. Гоголь – Островский – Салтыков схватили живучую черту. Значение этих людей даже увеличилось по сравнению с царским временем. Уровень – умственный и нравственный – партийных – поскольку я сталкиваюсь – ниже среднего» (сентябрь 1939 г.). А ведь это время, когда комчиновники находились под дамокловым мечом сталинского самодержавия, позднее, особенно с середины 1970-х, ситуация только ухудшилась: «…вся верхушка в глазах народа предстает как стяжатели – материальные и духовные расхитители страны…» (из дневника А. С. Черняева 1980 г.). Конечно же среди партийного начальства было немало дельных управленцев или хозяйственников, искренне заботящихся о народных нуждах, но не они определяли его лицо.
Партноменклатура фактически не была подотчетна гражданскому законодательству, отчитываясь только перед высшим партийным руководством. И тенденция эта определилась уже в начале 1920-х. «В январе 1923 года появилось следующее дополнение к циркуляру от 4 января 1922 года о порядке привлечения коммунистов к судебной ответственности: „Опыт последнего времени показал, что не раз при привлечении ответственных работников-коммунистов хозяйственников к судебной ответственности на суде выяснялось, что сложность хозяйственной обстановки создает в случае неумелого подхода хозяйственников к делу факты разрушения хозяйства без наличия со стороны хозяйственников злого умысла“. В результате этого суды не могли выносить иных приговоров кроме как порицаний, постановки на вид и даже оправдания… 16 марта того же года Секретариат вынес постановление о порядке привлечения к судебной ответственности секретарей губкомов и обкомов. Здесь партийный генералитет вообще выводился в особую статью. Во всех случаях возбуждения уголовного преследования против ответственных секретарей губкомов и обкомов, до судебного следствия органы должны были сообщить все материалы по делу губернскому прокурору, который, не производя никаких следственных действий, был обязан, прежде чем дать законный ход делу, направить материалы и свое заключение прокурору Республики на распоряжение и согласование с ЦК РКП(б)» (С. А. Павлюченков).
Разумеется, все более-менее крупные бюрократы воспроизводили авторитарный стиль управления верховной власти. «…Культ личности – это вовсе не только культ Сталина, личности Сталина. Ведь каждый райком, обком, крайком, партком имели своих „вождей“ и героев и насаждали тот же культ личности в соответствующих масштабах», – записал в дневнике 1956 г. С. С. Дмитриев. Единственным коррективом полновластия местных царьков еще с 1920-х гг. стала памятная нам как по Московскому царству, так и по Российской империи постоянная переброска партийных кадров с места на место, из ведомства в ведомство. «Манипуляция кадрами стала основополагающим способом партийного строительства и главным приемом в реализации принципа партийного централизма на всех уровнях возводимой пирамиды власти» (С. А. Павлюченков).
Важнейшей опорой партократии был мощный и хорошо организованный репрессивный аппарат, костяк которого составляла политическая полиция режима ВЧК – ОГПУ– НКВД – МГБ – КГБ, напрямую подчинявшаяся политбюро. Как было заявлено еще в 1919 г., «ЧК созданы, существуют и работают лишь как прямые органы партии, по ее директивам и под ее контролем». В принятом в 1959 г. Положении о КГБ при Совете министров СССР говорилось: «Комитет государственной безопасности работает под непосредственным руководством и контролем Центрального комитета КПСС». Там же была прописана систематическая отчетность КГБ перед партийными органами (ЦК КПСС, ЦК союзных республик, крайкомами, обкомами, горкомами и райкомами), «но не перед органами Советов, которым согласно Конституции принадлежала вся полнота власти в СССР» (Н. В. Петров). Замечательно, что этот документ относился к разряду совершенно секретных вплоть до 1991 г., пока не утратил силу. Ю. В. Андропов, выступая перед личным составом Высшей школы КГБ 1 сентября 1981 г., так определил функции и статус своей организации: «Советские органы государственной безопасности – это не спецслужба. Это – острый и надежный инструмент партии в борьбе с противниками социализма». В 1946 г. только 0,4 % сотрудников руководящего состава центрального аппарата МГБ (разного рода хозяйственники) не были членами (или кандидатами в члены) ВКП(б).
В 1922 г. общий штат ГПУ составлял 119 тыс. человек, включая 30 тыс. осведомителей. В 1952 г. в МГБ числилось более 543 тыс. человек. Накануне распада СССР, по данным последнего председателя КГБ В. В. Бакатина, количество его подчиненных приближалось к полумиллиону. Для сравнения – общая численность жандармского корпуса Российской империи к октябрю 1916 г. достигла только 14 667 человек. На советскую политическую полицию работала целая армия секретных сотрудников, пронизывающая все сферы жизни страны. Подполковник в отставке Н. А. Коваленко рассказывает в своих мемуарах, как его, только что призванного на военную службу юношу, в 1940 г. завербовали в «сексоты» НКВД, а позднее выяснилось, что из его группы в 50 человек «сексотами» оказались еще пятеро, то есть «из 50 человек шесть сексотов. Я подсчитал, сколько же сексотов в пятимиллионной Красной Армии. Получилось шестьсот тысяч». Разумеется, это расчет, сделанный «на глаз», но некоторое приблизительное представление о масштабах «стукачества» в сталинском СССР он дает. В 1968 г., по официальным данным, агентурный аппарат КГБ насчитывал около 260 тыс. негласных сотрудников.
Работа «органов» проходила в строжайшем секрете. Подбор кадров был весьма тщательным. «…В полном соответствии со своим исключительным положением, „органы“ сами выбирали, кого пригласить к себе на работу, а кого нет… Из года в год, с завидной регулярностью в ЦК компартий рес пуб лик, обкомы и крайкомы из ЦК КПСС спускались разнарядки – сколько человек следует отрядить на учебу в чекистские школы с последующим направлением на руководящую работу в госбезопасность… Что же касается пополнения органов госбезопасности рядовыми сотрудниками, то здесь целенаправленная работа проводилась управлением кадров КГБ и отделами кадров местных УКГБ по подбору кандидатов на работу среди студентов высших учебных заведений… О том, чтобы кто-то был принят на оперативную работу в КГБ по собственной инициативе, конечно же, не могло быть и речи. Ясно и доходчиво это объяснили будущему президенту России В. В. Путину в Ленинградском КГБ, куда он обратился в романтическом юношеском порыве с просьбой принять его на службу: „Инициативников не берем“» (Н. В. Петров).
Разрушение общества
Подобно самодержавию, компартия не терпела ничего, что претендовало хоть на малейшую политическую субъектность. Еще в Гражданскую вне закона оказались все «буржуазные» партии. Затем пришла очередь левых. В 1921 г. репрессии обрушились на анархистов. В 1922–1923 гг. были разгромлены эсеры, по итогам выборов в Учредительное собрание 1918 г. – самая популярная партия в России. В 1931 г. прошел последний крупный показательный процесс над меньшевиками.
В 1920—1930-х гг. продолжалось систематическое изничтожение русской интеллигенции, которую пока еще не удалось окончательно поставить на колени и которая пыталась оппонировать новой власти в духе протестов либеральной общественности накануне революции 1905 года. Скажем, на Всероссийском агрономическом съезде (март 1922 г.), по мнению компетентных органов, «общественная агрономия показала себя противником Советской власти и сторонником восстановления буржуазного порядка». В мае того же года на 1-м Всероссийском геологическом съезде была принята следу ющая резолюция: «Русские ученые остро чувствуют гражданское бесправие, в котором пребывает сейчас весь народ, и полагают, что уже наступило время для обеспечения в стране элементарных прав человека и гражданина, без чего никакая общеполезная работа и, научная прежде всего, не может протекать нормально».
Но длань красного самодержавия оказалась куда тяжелей, чем у самодержавия романовского. Постановление политбюро «Об антисоветских группировках среди интеллигенции» от 8 июня 1922 г. гласило, что отныне «ни один съезд или всероссийское совещание спецов (врачей, агрономов, инженеров, адвокатов и проч.) не может созываться без соответству ющего на то разрешения НКВД РСФСР. Местные съезды или совещания спецов разрешаются губиспол комами с предварительным запросом заключения местных отделов ГПУ (губотделов)». ГПУ предписывалось «произвести… перерегистрацию всех обществ и союзов (научных, религиозных, академических и проч.) и не допускать открытия новых обществ и союзов без соответствующей регистрации ГПУ. Незарегистрированные общества и союзы объявить нелегальными и подлежащими немедленной ликвидации». ВЦСПС было предложено «не допускать образования и функционирования союзов спецов помимо общепрофессиональных объединений, а существующие секции спецов при профсоюзах взять на особый учет и под особое наблюдение. Уставы для секций спецов должны быть пересмотрены при участии ГПУ. Разрешение на образование секций спецов при профобъединениях могут быть даны ВЦСПС только по соглашению с ГПУ». Политотделу Госиздата совместно с ГПУ надлежало «произвести тщательную проверку всех печатных органов, издаваемых частными обществами, секциями спецов при профсоюзах и отдельными наркоматами (Наркомзем, Наркомпрос и пр.)». Первостепенное внимание в цитируемом документе уделялось высшей школе – было решено «в целях обеспечения порядка в в[ысших] у[чебных] заведениях образовать комиссию из представителей Главпрофобра и ГПУ (…) и представителей Оргбюро ЦК для разработки мероприятий по вопросам: а) о фильтрации студентов к началу будущего учебного года; б) об установлении строгого ограничения приема студентов непролетарского происхождения; в) об установлении свидетельств политической благонадежности для студентов, не командированных профессиональными и партийными организациями и не освобожденных от вноса платы за право учения… Той же комиссии (…) выработать правила для собраний и союзов студенчества и профессуры». 23 ноября ГПУ издало циркуляр своим органам по работе в вузах с тем, чтобы на каждого профессора и политически активного студента составлялась личная картотека, формуляр, куда бы систематически заносился осведомительский материал.
Несколько позднее в сфере особого внимания советской политической полиции оказались школьные учителя. «Как отмечалось в докладной записке, подготовленной в 1925 году ОГПУ для Сталина, „в отношении учительства… органам ОГПУ, несомненно, предстоит еще много и упорно работать“. Секретный циркуляр по ряду регионов страны от 7 августа 1925 года фактически объявил чистку и предписывал немедленно приступить к замене нелояльных к советской власти учителей школ выдвиженцами, окончившими педагогические вузы и техникумы, а также безработными педагогами. „Замену“ учителей предписывалось проводить через особые „тройки“ в совершенно секретном порядке. На каждого учителя конфиденциально составлялась характеристика. Сохранились несколько протоколов заседаний комиссии по „проверке“ учителей Шахтинского округа с сентября по декабрь 1925 года. В результате из 61 подвергнувшегося проверке учителя 46 (75 %) были сняты с работы, 8 (13 %) – переведены в другую местность. Остальных было рекомендовано заменить или не использовать на данной работе» (Н. А. Белова).
В августе – сентябре 1922 г. на пресловутых «философских пароходах» были высланы за границу более ста выдающихся русских интеллектуалов. В конце 1920-х – начале 1930-х гг. практически одновременно произошел разгром едва ли не всех видов интеллигенции – инженеров (Шахтинское дело, дело Промпартии), экономистов (дело Трудовой крестьянской партии), гуманитариев (Академическое дело, дело славистов) и офицеров (операция «Весна» – репрессировано не менее 10 тыс. человек). Одновременно производились масштабные кампании по «очистке» от «социально опасных» интеллигентов Москвы, Ленинграда и других крупных городов. 7 мая 1929 г. шеф ГПУ Г. Г. Ягода инструктировал своих ближайших подручных: «Злостная агитация в Москве принимает довольно большие размеры… Необходимо ударить по всей этой публике, особенно важно сейчас, ибо здесь пройдут целый ряд кампаний: чистка сов. аппарата, выселение из домов нэпмановского элемента, лишенцев и др. …Необходимо провести широкие аресты злостных агитаторов, антисемитов, высылая их в Сибирь… Даже с семьями, особенно, если это „бывшие“ люди». Молодым людям «буржуазного» происхождения и сомнительного образа мысли был фактически закрыт доступ в советские вузы.
Антиинтеллигентские гонения продолжались вплоть до конца 1930-х, затем сломленным и «перековавшимся» остаткам «бывших» милостиво разрешили влиться в состав новой «трудовой» интеллигенции, которая без них вряд ли сумела бы создать что-нибудь путное. Например, по моим подсчетам, едва ли не 90 % ведущих советских историков – «бывшие» или их дети и внуки. Или вот еще яркий пример: автор «Брянского леса», многодесятилетний главред вполне официозного «Огонька» и видный функционер СП СССР А. В. Софронов был, как недавно выяснилось, сыном расстрелянного в 1926 г. «за связь с контрразведкой Белой армии» в Гражданскую войну юриста Северо-Кавказского военного округа В. А. Софронова, в досоветском прошлом – начальника харьковской полиции…
Естественно, за социальную реабилитацию приходилось платить социальной и идеологической мимикрией, особенно гуманитариям. Философ А. Ф. Лосев, ослепший на строительстве Беломорканала (куда он, естественно, попал не по свой воле), а позднее ставший профессором МГПИ им. В. И. Ленина, рассказывал своему секретарю В. В. Бибихину уже в 1970-х: «Я вынес весь сталинизм, с первой секунды до последней на своих плечах. Каждую лекцию начинал и кончал цитатами о Сталине. Участвовал в кружках, общественником был, агитировал. Все за Марра – и я за Марра. А потом осуждал марризм, а то не останешься профессором. Конечно, с точки зрения мировой истории что такое профессор. Но я думал, что если в концлагерь, то я буду еще меньше иметь… Вынес весь сталинизм как представитель гуманитарных наук. Это не то что физики или математики, которые цинично поплевывали». Бибихин комментирует: «В доме Лосева я видел старые тетради с хвалебными посланиями Сталину на древнегреческом языке». С. С. Дмитриев записал в дневнике 1951 г.: «До чего все же низведено у нас чувство собственного достоинства и самостоятельности в ученых людях… Покойный Михаил Петрович Погодин с его политическими письмами времен Крымской войны просто представляется каким-то античным героем, трибуном. Что уж вспоминать о Чернышевском. Такие смельчаки вывелись навсегда при нашей жизни».
Прежде гордая, вольнолюбивая русская интеллигенция превратилась просто в одну из групп государственных служащих. Сам фундамент ее старорежимной автономии был разрушен – в СССР с начала 1930-х не осталось никаких частных периодических изданий и издательств. Тем не менее после хрущевской оттепели у интеллигенции появилась некая свобода для маневра. Разумеется, быть последовательным оппозиционером и в то же время сохранять блага, получаемые от государства, было невозможно. Лишиться последних и обречь себя на жизнь социального изгоя решались немногие. Но просто работать обслугой непопулярного режима стало уже не престижно. Поэтому советские интеллигенты, желавшие и невинность соблюсти и капитал приобрести, в меру своих творческих способностей и моральных свойств, пытались балансировать между диссидентством и официозом, превратив это увлекательное занятие в настоящее искусство. Некоторые его виртуозы достигали уровня так называемых «придворных диссидентов», совмещавших репутацию крамольных вольнодумцев и личные контакты с руководством советской политической полиции. Титанические фигуры Е. А. Евтушенко, Ю. П. Любимова, И. С. Глазунова – ярчайшее олицетворение этого поразительного явления.
Еще более жестокому погрому поверглась церковь. Коммунистический режим за годы своего правления уничтожил около 200 тыс. священнослужителей. К 1939 г. были закрыты все монастыри; из 37 тыс. действовавших в 1930 г. приходских храмов официально действовали только 8032 (на самом деле гораздо меньше, ибо при многих из них не было священников), например, на всю Тамбовскую епархию – 2 из 110; из 163 епископов продолжали служить только четверо. Атмосферу того времени замечательно передает текст Д. Д. Шостаковича в книге «Знатные люди Страны Советов о религии» (1939): «К созданию антирелигиозной оперы следует отнестись очень серьезно. Тут не отделаешься шуточками и смешками по адресу церковников. Нам нужно могучими средствами музыкального искусства, очень понятного массам, раскрыть невежество и мракобесие людей церкви, контрреволюционное нутро многих из них, их подрывную работу по заданию врагов народа из иностранных разведок». Тем более потрясает мужество тех верующих, которые пытались сопротивляться насильственной дехристианизации. Например, в спецсообщении НКВД от 13 октября 1938 г. говорится о том, как жители села Черная Заводь Ярославской области числом 300–400 человек помешали снятию колоколов в своем храме, притом что даже местный батюшка призывал их «пойти навстречу государству и добровольно сдать колокола».
Во время войны Сталин пошел на уступки церкви и даже восстановил патриаршество, но уже после марта 1948 г. в стране не было открыто ни одного нового православного прихода, а многие старые закрылись. При Хрущеве развернулась новая волна гонений – число церквей сократилось с 13 430 до 7560, по религиозным мотивам были осуждены 1234 человека.
Отношения между атеистическим государством и Московской патриархией стабилизировались только к середине 1960-х гг. – по словам одного из сотрудников Совета по делам религий при Совете министров СССР, с тех пор возможно говорить о неком «„возрождении“ системы дореволюционного обер-прокурорства: ни один мало-мальски важный вопрос деятельности религиозных организаций не мог быть решен без участия Совета по делам религий. Но одновременно сам Совет действовал в тех рамках, какие определяли ему высшие партийные и государственные органы». Следует, однако, отметить, что если обер-прокуроры, при всех оговорках, ставили своей целью распространение православия, то Совет по делам религий решал задачу прямо противоположную. Уровень христианизации России, и до 1917-го года не слишком высокий, понижался с каждым новым поколением, воспитанным при советской власти. «Религиозное возрождение» конца 1960-х – начала 1970-х коснулось почти исключительно интеллигенции.
Большевики серьезно опасались социальной самоорганизации крестьянства – сводки ОГПУ 1926–1928 гг. переполнены тревожными сообщениями об «агитации за кресть янские союзы» в самых разных сельских районах страны: «Крестьянский союз является наиболее распространенным и наиболее популярным лозунгом антисоветской агитации и встречает отклик почти во всех слоях деревни». «Крестьяне, поощряемые кулаками… могут потребовать от нас свободу организации „крестьянского союза“… Но тогда нам пришлось бы объявить свободу политических партий и заложить основы для буржуазной демократии», – рисовал пугающую для ВКП(б) перспективу Сталин на партийном пленуме 1928 г. Движение это было задавлено в самом зародыше. Коллективизация уничтожила или распылила крестьянскую элиту – так называемых кулаков, именно они и члены их семей составили большинство из почти миллиона погибших (в том числе 20 тыс. расстрелянных по приговорам трибунала ОГПУ) и 2,5 млн высланных. Увы, нельзя не признать, что часть крестьян с энтузиазмом поучаствовала в расправах над своими односельчанами и в разграблении их домов. Типичная картинка того времени: «Кулаков раскулачили стихийно, имущество все до нитки растащили колхозники…» (село Черемшанка Каменского округа, Сибирь). Способности ссыльных «кулаков» были успешно эксплуатированы «народной властью». «В сущности, новая Россия создается в значительной части, по-моему, не ком[м]унистами (…), но в смысле бытовом „спец“ ссыльными. Интересная форма использования „рабского“ труда свободных людей», – записал в дневнике 1938 г. В. И. Вернадский. По данным В. Н. Земскова, на 1 января 1953 г. в СССР числилось 2 753 356 спецпоселенцев.
Компартия ликвидировала / поставила под свой контроль не только те общественные структуры «старого порядка», в которых был хоть какой-то намек на автономию от государства, но и те формы низовой самоорганизации, которые возникли / развились в ходе всех трех русских революций начала XX в. В том числе, кстати, и собственно «советы», чье имя присвоила убившая их власть, и рабочие профсоюзы, огосударствленные уже в начале 1920-х. Любые новые, естественно возникающие «снизу» общности тут же разрушались или «возглавлялись». Власть в России наконец-то стала «инфраструктурной», сделавшись при этом еще более «деспотической».
Екатеринбургский общественный активист Сергей Ивин пару лет назад прислал мне крайне интересное письмо, в котором, в частности, вспомнил о том, как в 1986 г. по просьбе заболевшего комсорга своего класса он в течение месяца ездил в районный комсомольский штаб на курсы комсоргов: «Курсы вела инструктор райкома ВЛКСМ, профессиональный педагог. Те несколько занятий, которые я посетил, были посвящены формированию управляемого коллектива. На первом же занятии были разобраны основные формы коллектива: „песок“, „глина“, „камень“, переходные и смешанные формы. Было сказано, что перед тем, как формировать управляемый коллектив, нужно разрушить все спаянные коллективы (имеющие форму крепких „камней“), из которых формируется управляемый коллектив, до уровня „песка“ (можно оставить крепкие „камни“, чья масса составляет незначительную часть от общей массы коллектива). Далее, из этого „песка“ с помощью активной идеологической обработки можно замесить „глину“, после чего в этот „замес“ можно допустить мелкие „камни“, которые не удалось раздробить до уровня „песка“. Далее из этой массы формируется управляемый коллектив нужной формы, который в результате „закалки“, получаемой в ходе совместной работы под руководством своего руководителя, постепенно превращается в камень, обладающий заранее заданными руководителем свойствами. Я посетил несколько занятий: были лекции и практикумы. Я лекции законспектировал и передал своему комсоргу, перед этим показав их своему приятелю, который в пионерские годы был членом „совета дружины“ и летом был в спецлагере „Океан“. Он сказал, что им, „лидерам пионерии“, в „Океане“ читали аналогичные лекции, и они проходили аналогичные практикумы. Кстати, комсорг моего класса после школы служил в ФСБ и вышел на пенсию, имея звание подполковник».
Читатель, надеюсь, помнит сетования Р. А. Фадеева 70-х годов XIX столетия об отсутствии «связного русского общества», приведенные в четвертой главе. Конечно же инструктор райкома ВЛКСМ и те «товарищи», которые ее образовывали, Фадеева не читали, но какое поразительное совпадение в терминологии: «песок», «камень»!.. И главное – какая продуманная стратегия разрушения любых естественных низовых общностей буквально на клеточном уровне. А ведь это 1986 год, система была по сравнению со сталинским периодом дряхлой и беззубой, начиналась перестройка… И особенно замечательно, что комсорг затем сделал карьеру в ФСБ, в недрах предшественницы которой, собственно, данная методика и была, скорее всего, придумана. При таких изощренных приемах «работы с населением» удивительно ли, что та атомизация русского социума, которую произвели большевики, и не снилась старорежимной России? Как проницательно заметил в дневнике 1938 г. Пришвин: «…в условиях высших форм коммунизма люди русские воспитываются такими индивидуалистами, каких на Руси никогда не бывало».
Ненародная власть
Подобное беспрецедентное – даже для русской истории – давление на общество объясняется прежде всего тем, что «советская» власть не была народной, популярной властью. История СССР как минимум до 1941 г. – это в том числе и история противостояния коммунистического режима и русского большинства, которое этот режим своим не считало и потому воспринималось руководством компартии как «единая реакционная масса», в борьбе с которой все средства хороши. «Россией сейчас распоряжается ничтожная кучка людей, к которой вся остальная часть населения, в громадном большинстве, относится отрицательно или даже враждебно. Получается истинная картина чужеземного завоевания. Латышские, башкирские и китайские полки (самые надежные) дорисовывают эту картину», – писала в 1920 г. З. Н. Гиппиус. Можно, конечно, не доверять свидетельству ярой противницы «красной тирании», но ведь и сам Ленин «отмечал, что большевики подобны меньшинству оккупантов в завоеванной стране и соответственно ведут себя» (А. Грациози). Пришвин зафиксировал в дневнике 1920 г. характерный разговор с Л. Б. Каменевым: «…говорил ему о [большевистском] „свинстве“, а он в каких-то забытых мной выражениях вывел так, что они-то (властители) не хотят свинства и вовсе они не свиньи, а материал свинский (русский народ), что с этим народом ничего не поделаешь». Очевидно, этот разговор произвел сильное впечатление на писателя, ибо он вернулся к нему в дневнике в следующем году, увидев в тезисе своего собеседника отрицание всего прежнего интеллигентского дискурса о «народе»: «Каменев мне сказал, что декреты хороши, а народ плох. Раньше мы говорили, что хорош народ, дурно правительство, теперь хорошо правительство, дурен народ».
В голодном 1922 г. продотряды применяли для исправления «плохого народа» следующие воспитательные меры: «Повсеместно арестованных крестьян сажают в холодные амбары, бьют нагайками и угрожают расстрелом. Крестьяне, боясь репрессии, бросают хозяйства и скрываются в лесах. 156-я проддружина и 3-й продотряд приказали жителям нескольких сел собраться на общее собрание. Собравшихся кавалерийский отряд начал избивать нагайками и обнаженными шашками. Не выполнивших полностью продналог гнали через село и топтали лошадьми. После чего сажали голыми в холодные амбары. Многих женщин избили до потери сознания, закапывали голыми в снег, производили насилие… Продотряды… производили повальное беспощадное избиение крестьян, среди которых были 60 стариков… райуполномоченный 4-го района в с. Самойловском арестовал… почти все население. Крестьян гнал с красным знаменем за 20 верст до штаба, отстающих подгоняли прикладами, угрожая расстрелом… Крестьяне избиваются шомполами… председатель сельсовета был посажен голым на лед, отчего умер» (из информсводок ВЧК по Сибири).
Деревня, как могла, сопротивлялась. В ответ на коллективизацию только в 1930 г. произошло 13 574 крестьянских волнения, в которых участвовали более 2,5 млн чел. Восставали и спецпереселенцы. Так, в Чаинском районе Сибири в 1931 г. около тысячи человек, вооруженных чем попало, вполне организованно начали захватывать местные комендатуры. Повстанцы несли двухцветное сине-белое знамя и лозунг: «Долой коммунизм, да здравствует вольная торговля, свободный труд и право на землю». После боя с карателями, вспоминает очевидец, которому в год восстания было 9 лет: «Трупы [повстанцев] лежали густо, как снопы в поле. В начале августа стояли знойные дни, и они начали быстро разлагаться. Кругом стоял невыносимый запах. И на следующий год нам казалось, что там нехорошо пахнет». Как отмечает историк В. Бойко, «точную цифру крестьянских потерь во время восстания сейчас назвать трудно», ибо «данные „Обвинительного заключения“ сильно занижены. Львиная доля смертей приходилась при подавлении восстания на расстрелы, которые… в следственных документах не фиксировались» (это, кстати, к вопросу, насколько достоверна нынешняя официальная статистика коммунистических репрессий).
Финский коммунист Арво Туоминен, бывший в 1934 г. участником хлебозаготовительного отряда, позднее вспоминал: «По первому моему впечатлению, оказавшемуся прочным, все были настроены контрреволюционно и вся деревня восставала против Москвы и Сталина»; в деревне «не услышать было гимнов великому Сталину, какие слышишь в городах», господствовало мнение, что Сталин, как организатор коллективизации, – закоренелый враг крестьян, и крестьяне желали его смерти, свержения его режима и провала коллективизации даже ценой войны и иностранной оккупации. Слух о грядущей войне, за которой последует вторжение иностранных войск и отмена колхозной системы, оставался самым частым слухом в советских деревнях все 1930-е гг. Вполне понятно – после прелестей коммунистического управления никакая иностранная оккупация не казалось страшной.
Вот как описывает М. А. Шолохов в письме к Сталину методы хлебозаготовок в его родном Вешенском районе в еще одном голодном 1933 г.: «…колхозник получал контрольную цифру сдачи хлеба, допустим, 10 центнеров. За несдачу его исключали из колхоза, учитывали всю его задолженность, включая и произвольно устанавливаемую убыточность, понесенную колхозом за прошлые годы, и предъявляли все платежи, как единоличнику. Причем соответственно сумме платежей расценивалось имущество колхозника; расценивалось так, что его в аккурат хватало на погашение задолженности. Дом, например, можно было купить за 60–80 руб., а такую мелочь, как шуба или валенки, покупали буквально за гроши… Было официально и строжайше воспрещено остальным колхозникам пускать в свои дома ночевать или греться выселенных. Им надлежало жить в сараях, в погребах, на улицах, в садах. Население было предупреждено: кто пустит выселенную семью – будет сам выселен с семьей. И выселяли только за то, что какой-нибудь колхозник, тронутый ревом замерзающих детишек, пускал своего выселенного соседа погреться. 1090 семей при 20-градусном морозе изо дня в день круглые сутки жили на улице. Днем, как тени, слонялись около своих замкнутых домов, а по ночам искали убежища от холода в сараях, в мякинниках. Но по закону, установленному крайкомом, им и там нельзя было ночевать! Председатели с[ельских] советов и секретари ячеек посылали по улицам патрули, которые шарили по сараям и выгоняли семьи выкинутых из домов колхозников на улицы. Я видел такое, что нельзя забыть до смерти: в хуторе Волоховском Лебяженского колхоза, ночью, на лютом ветру, на морозе, когда даже собаки прячутся от холода, семьи выкинутых из домов жгли на проулках костры и сидели возле огня. Детей заворачивали в лохмотья и клали на оттаявшую от огня землю. Сплошной детский крик стоял над проулками… В Базковском колхозе выселили женщину с грудным ребенком. Всю ночь ходила она по хутору и просила, чтобы ее пустили с ребенком погреться. Не пустили, боясь, как бы самих не выселили. Под утро ребенок замерз на руках у матери». Перечисляет Шолохов и другие способы выбивания хлеба: «В Ващаевском колхозе колхозницам обливали ноги и подолы юбок керосином, зажигали, а потом тушили: „Скажешь, где яма? Опять подожгу!“ В этом же колхозе допрашиваемую клали в яму, до половины зарывали и продолжали допрос»; «в Наполовском колхозе уполномоченный РК кандидат в члены бюро РК Плоткин при допросе заставлял садиться на раскаленную лежанку. Посаженный кричал, что не может сидеть, горячо, тогда под него лили из кружки воду, а потом „прохладиться“ выводили на мороз и запирали в амбар. Из амбара снова на плиту и снова допрашивают»; «в Чукаринском к[олхо]зе секретарь ячейки Богомолов подобрал 8 человек демобилизованных красноармейцев, с которыми приезжал к колхознику – подозреваемому в краже – во двор (ночью), после короткого опроса выводил на гумно или в леваду, строил свою бригаду и командовал „огонь“ по связанному колхознику. Если устрашенный инсценировкой расстрела не признавался, то его, избивая, бросали в сани, вывозили в степь, били по дороге прикладами винтовок и, вывезя в степь, снова ставили и снова проделывали процедуру, предшествующую расстрелу»; «в Солонцовском к[олхо]зе в помещение комсода внесли человеческий труп, положили его на стол и в этой же комнате допрашивали колхозников, угрожая расстрелом» и т. д.
В 1932 г. на Кубани председатель колхоза Н. В. Котов и двое его коллег были расстреляны за то, что предоставляли своим колхозникам семенные ссуды в удвоенном объеме, Каганович и Микоян публично одобрили этот приговор и пригрозили тем же самым любому другому коммунисту, который «проявит мягкотелость и будет относиться к колхозам в народническом духе (выделено мной. – С. С.)».
Всего во время голода 1932–1933 гг., спровоцированного тотальным изъятием зерна у крестьян Украины и Казахстана, Поволжья и Кубани, Дона и Южного Урала, умерло, по разным оценкам, от 4,6 до 8,5 млн человек, в XX в. больше людей погибло от голода только в Китае после 1958 г. В досоветской России случаев голода было очень много, но, как правило, цари и императоры открывали для голодающих запасы продовольствия, в отличие от Сталина, отказавшегося сделать это, равно как и от закупок зерна за границей, и уж, конечно, не выставляли вокруг голодающих районов заградотряды, не дававшие отчаявшимся людям вырваться из зоны бедствия. К 13 марта 1933 г. ОГПУ арестовало 220 тыс. беглецов, из них 187 тыс. были отосланы обратно умирать в свои деревни, остальные отданы под суд или отправлены в фильтрационные лагеря. И это не было каким-то «произволом на местах», а санкционировалось специальной директивой, подписанной Сталиным и Молотовым, где «массовый выезд крестьян „за хлебом“» объявлялся якобы организованным «врагами Советской власти, эсерами и агентами Польши с целью агитации „через крестьян“ в северных районах СССР против колхозов и вообще против Советской власти».
При обсуждении проекта Конституции 1936 г. в сельских районах Ленинградской области агенты НКВД зафиксировали такие типичные разновидности «антисоветских» и «контрреволюционных» разговоров: «1) разжигание недовольства колхозников по отношению к рабочим (то есть недовольство крестьянами своим более низким, чем у рабочих, социальным статусом. – С. С.); 2) распространение пораженческих настроений; 3) требование прекращения планирования государством хозяйственной жизни колхозников, освобождения крестьян от выполнения гос. обязательств; 4) распространение провокационных слухов о том, что „Конституция – фикция“; 5) требование возвращения кулаков с мест высылки и возвращения им имущества; 6) требование открытия всех церквей, запрещения антирелигиозной пропаганды, высказывание антисемитских настроений и т. п.». Наконец, «особого внимания заслуживают факты обработки к.-р. элементом колхозников за необходимость объединения крестьян в специальные политические организации с целью противопоставления их государству».
Анализ сводок ОГПУ/НКВД и письма крестьян в «Крестьянскую газету» свидетельствуют о том, что «память о коллективизации не давала образу Сталина как „доброго царя“ утвердиться в предвоенной деревне» (Ш. Фицпатрик). Например, в спецсообщении УНКВД по Ростовской области от 4 июля 1938 г. о ходе подготовки к выборам в Верховный Совет РСФСР среди множества случаев «антисоветской агитации» приводился следующий: «„…если бы умер Сталин, то мы праздновали бы целый год, а когда бы умерли и остальные – Молотов, Каганович, Ежов, то тогда зажили бы вовсю еще лучше“. (Колхозница Чеботарева – арестована)».
Но и в городах сталинистов было немного. «Сталин настолько осознавал свою непопулярность, так боялся малейшего физического контакта с населением, что стоял у истоков Постановления политбюро (от 20 октября 1930 года), которое формально запрещало генеральному секретарю передвигаться по улице пешком, учитывая риск (мнимый) покушения на него. Радостные отклики, собранные агентурой органов госбезопасности после убийства Кирова, и распространение частушек на тему „Убили Кирова, [убьем и] Сталина!“, усилили страх Сталина перед покушением» (Н. Верт). «Доведенные до отчаяния голодом 1932–1933 гг. рабочие-текстильщики Родниковского комбината „Большевик“ Иваново-Промышленной области обратились за помощью к послу США в СССР В. Буллиту. В своем письме они объясняли свой поступок тем, что „единственный выход из положения нужды и голода, к которому привела население СССР гибельная политика большевиков, видели в возникновении войны и свержении большевизма“. Пять человек рабочих, подписавших письмо, были арестованы и доставлены на Лубянку. Их обвинили в том, что они в извращенном виде описали жизнь рабочих и крестьян Советского Союза» (В. Ф. Зима).
После принятия карательных производственных законов 1938 и 1940 гг. информаторы отмечали рост «нездоровых пораженческих настроений», характеризовавшихся «неуместным сравнением положения рабочих в СССР и рабочих в Германии в пользу последних». В 1940–1941 гг. в городах происходил массовый взрыв народного недовольства. Это и открытые политические выступления, и распространение слухов и прокламаций, и призывы к забастовкам. Идея революции и восстания сильнее всего занимала рабочих в это время. Листовки гласили: «Долой правительство угнетения, бедности и тюрем». Рабочие говорили о необходимости второй революции. «Чувствовалось, что терпение людей лопнуло, что достаточно небольшого толчка, чтобы они пошли на крайние меры, и что в 1940 или 1941 г. советской власти может прийти конец» (С. Дэвис). Даже среди офицеров в период финской войны велись более чем крамольные разговоры: «Гитлер лучше заботится о народе, чем Сталин, у нас нет родины (выделено мной. – С. С.)».
В массовом сознании коммунистический режим воспринимался как нерусский, как правило, еврейский – эта тема постоянно звучала в письмах рабочих и в сводках агентов ОГПУ/НКВД. В Сталине также видели чужого, нерусского человека: «После смерти Кирова говорили: „Лучше бы убили Сталина, он армянин, а товарищ Киров чистый русский“… „Лучше, если бы убили Сталина, а не Кирова, потому что Киров наш, а Сталин не наш“… „Киров – русский, а Сталин – еврей“». Хорошо помню, как мой родной дед по материнской линии Никита Пафнутьевич Сердцев (1912–1992), московский слесарь, перебравшийся в столицу из калужской деревни аккурат во время коллективизации, неполиткорректно величал «отца народов» «Еськой черножопым». Сохранилось огромное количество высказываний рабочих против насаждения культа личности Сталина, типа: «Все славословят Сталина, считают его богом, и никто это не критикует». Ситуация во многом изменилась после войны, но даже и тогда среди крестьян циркулировали слухи о будущем роспуске колхозов, «благодаря вмешательству американцев и англичан», которые «надавят на Сталина и Молотова».
Одним из важнейших мифов современных сталинистов является утверждение, что репрессиям 1930 гг. подверглась в основном некая антисталинская «пятая колонна» внутри советской партноменклатуры, а простые люди если и попадали под их маховик, то случайно. Между тем факты говорят о другом. О жертвах коллективизации мы уже говорили выше. Но и от Большого террора 1937–1938 гг., когда действительно шла массовая чистка партийной и военной элиты, тоже пострадали в первую очередь простые люди. По статистике НКВД, из 937 тыс. арестованных в 1937 г. членов партии числилось всего около 6 %. И это не случайно, ибо самой масштабной операцией НКВД того времени была проводившаяся в соответствии с приказом № 00447 от 30 июня 1937 г. кампания по борьбе с «антисоветскими элементами», главной мишенью которой были «бывшие кулаки». Эта операция дала более 54 % всех казненных в 1937–1938 гг. (386 798 из 681 692). Еще 36,3 % (247 157) казненных дали так называемые «национальные операции» (прежде всего против поляков и немцев), там тоже, понятное дело, номенклатурщиков было немного. Характерно, что, как социальная группа, бюрократия после Большого террора сохранила и даже преумножила свои позиции – просто одних бюрократов сменили другие. В 1937–1939 гг., в то время как численность занятых в промышленности выросла едва на 2 %, рост числа сотрудников различных ведомств составил приблизительно 26 % (и превысил 50 % для ответственных постов).
Современный итальянский специалист по советской истории Андреа Грациози справедливо отмечает: «Само огромное количество крестьян, депортированных во время коллективизации и сразу после нее, арестованных „врагов народа“, отправленных в лагеря, говорит о том, что система ощущала и сознавала свою непопулярность… Зарождение и функции системы концентрационных лагерей, прямая связь которых с репрессивной деятельностью правящей верхушки, вынужденной защищать себя от враждебности населения, сегодня лучше просматривается, также свидетельствуют о чрезвычайных масштабах оппозиции; эту оппозицию требовалось сокрушить, дабы насадить систему… С этой точки зрения, если проводить параллель с Германией 1937 г., где в лагерях сидели всего несколько тысяч человек, а режим и возглавлявший его диктатор по крайней мере до вторжения в Прагу пользовались поддержкой большей части населения, в первую очередь бросаются в глаза различия, а не сходство, которое, тем не менее, тоже можно обнаружить… Вообще говоря, в отличие от культов Ленина, Муссолини и Гитлера, культ Сталина, во всяком случае на родине, – явление искусственное, сознательно сконструированное, что заняло не один год. Только во второй половине десятилетия, благодаря все тем же большим процессам, он начал обретать под собой реальную основу, а затем новую силу ему придала война, которая между прочим привела и к массовым вспышкам его на Западе. Косвенным доказательством этого может служить сравнение между хронической неуверенностью и обостренной подозрительностью, которую Сталин всегда проявлял по отношению и к своим приспешникам, и к своим подданным… и поведением Гитлера – как в тесном кругу, среди близких, так и при контактах с населением, с которым фюрер любил общаться, по крайней мере, до 1942 г.».
После войны, в июне 1947 г. в разгар нового страшного голода (умерло более 1,5 млн человек), когда население было вынужденно массово воровать, чтобы выжить, были приняты два указа о хищении государственной и личной собственности, по ним сели около 2 млн рабочих (в большей степени) и крестьян. Сроки варьировались от 7 до 25 лет за хищение государственной собственности, за мелкие хищения – от 1 до 7. Многотиражка ленинградской фабрики «Красный треугольник» сообщала, например, о двух женщинах, получивших за хищение со своего предприятия четырех метров ситца 8 и 9 лет лагерей, и еще об одной женщине, осужденной на 10 лет лагерей за хищение трех пар ботиков и пары тапочек. Подростки 15 и 16 лет могли получить по 8 лет колонии общего режима за кражу трех огурцов. Сохранилась жалоба 1949 г. на имя А. А. Андреева от колхозницы Е. В. Беличенко по поводу ее дочери М. Н. Иванковой, осужденной на 7 лет за кражу яблок в колхозном саду. Именно осужденные по указам 47-го составили основной поток постояльцев в послевоенный ГУЛАГ.
Даже некоторые представители правящей верхушки понимали абсурдность этих карательных указов. Генпрокурор Г. Н. Сафонов в 1948 г. писал В. М. Молотову: «…суды обязаны отказаться от практики лишения свободы на срок не менее семи лет за кражу пары галош, трех метров сатина и т. п. Порой подобные приговоры совершенно непонятны гражданам и создают у них впечатление о несоответствии меры наказания и тяжести преступления, поскольку приговоры за более серьезные правонарушения наказываются гораздо мягче, чем за мелкие кражи. Грабители получают максимум восемь лет или при отягчающих обстоятельствах до десяти лет. Чиновник, уличенный во взяточничестве, получает до двух лет лишения свободы. Таким образом, за мелкое хищение с производства суды обязаны назначать обвиняемым от семи до десяти лет, в то время как умышленный грабеж наказывается сроками от одного до восьми лет, а взяточников осуждают не более чем на два года заключения».
Ясное дело, что подобная репрессивная политика не добавляла коммунистам популярность в той социальной группе, которую они якобы представляли. Даже в 1957 г. доля рабочих среди осужденных «пролетарским государством» за «контрреволюционные преступления» составляла почти 47 %. Последняя вспышка народных выступлений против «народной» власти относится к началу 1960-х (Краснодар, Муром, Александров, Бийск), пиком ее стали знаменитые события в Новочеркасске в 1962 г., в результате которых 26 «бунтовщиков» были убиты, 87 ранены, 7 «зачинщиков» приговорены к смертной казни и расстреляны, 105 получили сроки заключения от 10 до 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Это был своеобразный рубеж, «после которого волна кровавых и массовых столкновений народа и власти постепенно пошла на убыль. В 1963–1967 гг. еще фиксировались отдельные рецидивы волнений, при подавлении которых власти применяли оружие. Но, начиная с 1968 г. и вплоть до смерти Брежнева (1982 г.), оружие не применялось ни разу. В 1969–1976 гг. КГБ СССР вообще не зарегистрировал ни одного случая массовых беспорядков. Другими словами, брежневский режим научился обходиться без применения крайних форм насилия и, как правило, гасил периодически вспыхивавшее недовольство без стрельбы и крови» (В. А. Козлов).
Важно отметить, что все перечисленные волнения 1930– 1960-х гг. происходили сугубо стихийно и никак не были связаны с какой-либо организованной политической оппозицией режиму, ибо таковая была превентивно и успешно «зачищена». И в этом важнейшая причина того, что они так и не переросли в общенародное освободительное движение. Возникшее в 1960-х гг. малочисленное диссидентство практически не имело взаимодействия с народным большинством и влияло почти исключительно на интеллигентские умы, да и больше интересовалось темой еврейской эмиграции, чем повседневными проблемами рабочих и колхозников.
А был ли модерн?
Часто можно услышать, что при всех пороках советского периода – это все же наш русский модерн, благодаря которому Россия преодолела свою многовековую отсталость и распрощалась с экономической и социокультурной архаикой. Да, бесспорно, что под руководством коммунистов страна провела индустриализацию страны (не будем сейчас говорить о сотнях тысяч расстрелянных и миллионах заключенных, без которых как-то умудрялись обходиться промышленные революции что в Германии, что в Японии); создала ядерное оружие (пусть и во многом ворованное); первая вышла в космос; ввела обязательное всеобщее начальное образование, наладила эффективную систему здравоохранения, обеспечила своим гражданам пакет социальных гарантий и т. д. В середине 1980-х СССР входил, нередко занимая первое место, в тройку крупнейших мировых производителей электроэнергии, нефти, природного газа, угля, железной руды, чугуна, стали, алюминия, золота, цинка, урана, минеральных удобрений, серной кислоты, цемента и т. д. С 1928 по 1960 г. численность студентов высших учебных заведений возросла в 12 раз и достигла 2,4 млн человек. Количество специалистов с высшим образованием увеличилось за те же годы с 233 тыс. до 3,5 млн человек.
Все это так, но, с другой стороны, советский проект включает в себя столько элементов очевидной архаики, что в пору задуматься: а точно ли этот проект модернистский? Даже в тех областях, где советские достижения наиболее впечатляющи, – в промышленности и науке – достижения эти связаны почти исключительно с военно-промышленным комплексом, что заставляет вспомнить об особенностях другой отечественной «модернизации» – петровской. А в области гуманитарных наук – страшный провал, особенно в их социальном секторе, в результате чего, по крылатому выражению Андропова, правящие верхи просто не знали общества, которым они руководят. Причина этого незнания проста: вполне средневековое по типу господство квазирелигиозной моноидеологии стреножило всякую свободу мысли – основу современной цивилизации.
Но модерн включает в себя не только техническую и научную, но и социокультурную составляющую, которая предполагает повышение уровня жизни, демократизацию политики, социальный эгалитаризм, автономизацию индивида, преобладание рационально-критической картины мира и т. д. Со всем этим в СССР были явные проблемы структурного свойства. Частная собственность и политическая демократия как институты отсутствовали на всем протяжении его истории.
О каком модерне можно говорить, если советский социум – яркий образец сословного общества? (Вслед за С. Кордонским, в данном случае под сословиями понимаются социальные группы, наделяемые государством определенными привилегиями и обязанностями в соответствии с законами, подзаконными актами или традицией). При Сталине завершился и выкристаллизовался процесс, начавшийся сразу же после Октября 1917-го: «Произошла рефеодализация общества в целом. Основанием для такого утверждения может служить то, что основной признак сословности – объем прав, привилегий и повинностей по отношению к государству – стал еще более выпуклым и очевидным, поскольку роль государства… не только не ослабла, но и многократно возросла». В советском обществе можно выделить «пять групп сословного типа»: 1) номенклатура, «по аналогии с дореволюционным сословием сталинскую номенклатуру можно определять как „служилое дворянство“, ибо права и привилегии давались ей только за службу, а правами собственности и ее наследования номенклатура не обладала» (то есть это аналог дворянства до Манифеста о вольности и Жалованной грамоты); 2) «рабочие как квазипривилегированное сословие. Многие их права скорее декларировались, но по ряду признаков рабочие выделялись из общей массы. Среди них большими правами обладала группа передовиков – стахановцев»; 3) «специалисты и служащие. Внутри этой страты можно выделить привилегированные группы – элиту, представители которой имели ряд привилегий, аналогичных тем, которыми пользовались до революции „почетные граждане“, а также торговых работников, занимавших ключевые позиции в распределительной системе»; 4) крестьянство; 5) «маргинальные группы, в число которых входили остатки привилегированных в прошлом сословий – священнослужители, купечество, дворянство, а также „новообразования“ сталинской эпохи – спецпереселенцы, тылоополченцы и т. д.» (С. А. Красильников). В целом, с некоторыми изменениями, эта система просуществовала до кончины СССР.
Что же касается советской «социальной мобильности», то она, конечно, существенно возросла в сравнении с Российской империей, но ее характер (подобно «меритократии» при Петре I) не отрицал самой сути сословной системы. «Продвижение по социальной лестнице, доступное… для детей из рабоче-крестьянских семей… лишь позволяло отдельным индивидуумам выбиться из пролетарской (или крестьянской) среды и занять место в рядах бюрократической иерархии. То был классический пример „циркуляции элит“… когда можно обновить и заменить правящий класс, но невозможно положить конец правлению этого класса» (Р. В. Даниелс).
Разница между советскими сословиями видна не только по их политическому весу, но и по материальным доходам и уровню потребления. «В 1933 г. председатели и секретари ЦИК СССР и союзных республик; СНК СССР и союзных республик, их замы; председатели краевых, областных исполкомов и горсоветов Москвы, Ленинграда, Харькова; наркомы СССР и РСФСР и их замы; председатели Верховного суда СССР, РСФСР, краевых и областных судов; прокуроры СССР, союзных республик, краев, областей; ректора Института Красной профессуры и ряда других университетов получали оклад 500 рублей в месяц. Персональные зарплаты доходили до 800 рублей в месяц. Средняя зарплата рабочих в это время составляла 125 рублей. Лишь небольшой слой высокооплачиваемых рабочих имел заработок 300–400 рублей в месяц. Зарплата учителей начальной и средней школы составляла 100–130, врачей – 150–275 рублей в месяц. Существовали в стране и оклады 40–50 рублей в месяц, которые получал, например, средний и младший медперсонал» (Е. А. Осокина).
Во время войны промышленным рабочим обычно полагалось в месяц 1,8–2 кг мяса или рыбы, 400–600 г жиров, 600–800 г сахара, 1,2–1,5 кг крупы и макарон. При этом «20 ноября 1941 г. исполком Московского горсовета принял секретное решение, в соответствии с которым следовало организовать в городе „по одной столовой на район для питания руководящих партийных, советских и хозяйственных работников“ с контингентом питающихся без карточек не более 100 человек. Фонды продовольствия и обслуживающий персонал для этих столовых обеспечивал Мосглавресторан. В месяц на каждого питающегося выделялось 3 кг мяса, 2 кг колбасы, 1 кг ветчины, 1,5 кг свежей осетрины или севрюги, 500 г кетовой икры, 1 кг сыра, 1 кг сливочного масла, 1,5 кг сахара, необходимое количество хлеба, овощей, сухих фруктов и т. д.» (А. С. Якушевский).
В. Ф. Михеев, сын управляющего делами Ленинградского обкома ВКП(б) в первые послевоенные годы Ф. Е. Михеева, вспоминал, что любому партийному работнику, «в зависимости от занимаемой должности, ежемесячно полагался конверт с денежной суммой, в два-три раза превышающей его зарплату. Такое практиковалось во всех партийных организациях страны, а не только в Ленинграде… Отец, как и все партийные руководители, получал достаточно высокую зарплату (1200 рублей) и еще дополнительно конверт с денежной суммой, в три раза превышавшей зарплату. Ему была предоставлена бесплатно госдача… Дом был обставлен удобной, хорошей мебелью, на стенах картины, на окнах – шелковые гардины… За отцом были закреплены четыре легковые машины с прикрепленным постоянным шофером… Продовольственная проблема для семей начальства тоже была решена. Были открыты так называемые продовольственные спецмагазины, к которым персонально прикреплялись семьи руководителей. Наш шофер ездил в такой магазин и по списку получал сравнительно недорогие необходимые продукты, деньги затем высчитывались из зарплаты отца. Таким же образом решался вопрос с пошивом одежды – существовали спецателье. Была при Смольном собственная больница с поликлиникой („Свердловка“)».
В 1980 г. разница в доходах сословий продолжала быть огромной: свыше 250 руб. на члена семьи получали 1,3 % населения, 150–250 руб. – 17,1 %, 75—150 руб. – 55,9 %, менее 75 руб. – 25,8 %. Особую заботу компартия проявляла по отношению к своей политической полиции. В конце 1930-х средняя зарплата сотрудника НКВД была 2 тыс. руб. в месяц. С 1981 г. «выпускник учебного заведения КГБ, зачисляемый на должность оперуполномоченного в чине лейтенанта, получал 130 руб. плюс 120 руб. за звание, а всего в месяц – 250 руб. При этом от уплаты любых налогов чекисты, как и все остальные военнослужащие в СССР, были освобождены. О таких зарплатах выпускники гражданских вузов – рядовые инженеры не могли даже и мечтать. Им в лучшем случае начисляли 130–150 руб. в месяц, причем из них еще и налоги вычитали (12 % подоходного и 6 % за бездетность)» (Н. В. Петров).
Особо вопиющий факт сословного неравенства в стране Советов – положение крестьянства. Деревня, в которой проживало в начале 1930-х гг. 80 % населения страны, воспринималась правящим режимом просто как ресурсная база, откуда можно черпать дешевое продовольствие и дешевую рабочую силу. Все это было и в имперский период, но по своим масштабам «социалистическая» эксплуатация в разы превзошла старорежимную. Уровень жизни и потребления крестьянства «после коллективизации резко снизился и за весь предвоенный период так и не достиг снова уровня, существовавшего до 1929 г.» (Ш. Фицпатрик), военный и послевоенный период (до 1953 г.) оказались еще более тяжелыми: с 1946 по 1948 г. налоги на сельских жителей увеличились на 30 %, а к 1950 г. – на 150 %. Послесталинские послабления сменились борьбой с приусадебными участками и неперспективными селами. В итоге последний правитель СССР в 1988 г. был вынужден признать: «Мы вконец раздавили деревню…»
Колхозная система стала, по сути, вторым, сильно ухудшенным изданием достолыпинской общины. «Сделавшись еще меньше, чем когда бы то ни было, хозяином своей земли и своей продукции, крестьянин лишился даже той малой возможности проявлять собственную хозяйственную инициативу, влиять на организацию производства, которая у него была в общине и которая постепенно расширялась по мере развития капитализма» (А. Г. Вишневский). Правовые нормы, по которым реально жило колхозное крестьянство, носили откровенно дискриминационный характер. Так называемая система трудодней в колхозах предполагала оплату труда продуктами, но лишь после сбора урожая и расчета по госпоставкам, так что в случае неурожая выплата на трудодень могла составлять менее трети килограмма зерна на крестьянский двор, денежные же выплаты были крайне малы. Писатель Ф. А. Абрамов записал в дневнике в январе 1954 г.: «Как-то на днях мне пришли в голову две цифры: 160 тысяч и 250 рублей. Это заработок двух людей за год, родившихся в одном и том же 1905 году. 160 тысяч – это заработок Л. Плоткина [профессора кафедры советской литературы ЛГУ], 250 руб. – заработок моего брата Михаила (он заработал в прошлом году 300 трудодней, на трудодень получил 1 кг хлеба, что в переводе на деньги и будет 250 рублей)».
До середины 1960-х колхозники не были включены в систему государственного пенсионного обеспечения, за счет колхозных средств пенсии получали 2,6 млн человек при среднем размере пенсии 6,4 руб. в месяц. После принятия специального закона «О пенсиях и пособиях членам колхозов» (1964) средний размер колхозной пенсии стал равняться 12,75 руб., притом что для рабочих и служащих средняя пенсия составляла почти 100 руб., а минимальная – 35 руб. Большую часть колхозников пенсионного возраста пенсионное обеспечение охватило только в начале 1970-х. Даже в 1985 г. средняя пенсия колхозника была меньше средней пенсии по стране приблизительно в полтора раза.
Вплоть до 1974 г. на колхозников не распространялась паспортная система СССР. Сословная принадлежность детей колхозников фактически закреплялась по достижении ими шестнадцатилетнего возраста: «Правление механически заносило в списки членов артели без их заявления о приеме. Получалось, что сельская молодежь не могла распоряжаться своей судьбой: не могла по собственному желанию после шестнадцати лет получить в райотделе милиции паспорт и свободно уехать в город на работу или учебу. Совершеннолетние молодые люди автоматически становились колхозниками и, следовательно, только в качестве таковых могли добиваться получения паспортов» (В. П. Попов). А получить паспорт можно было только с разрешения колхозного правления, которое конечно же не было заинтересовано в уходе работников. Писатель В. И. Белов с горечью вспоминал: «Дважды, в сорок шестом и сорок седьмом годах, я пытался поступить учиться. В Риге, в Вологде, в Устюге. Каждый раз меня заворачивали. Я получил паспорт лишь в сорок девятом, когда сбежал из колхоза в ФЗО».
И особенно сомнительно советский модерн выглядит с учетом того, что в СССР в течение более двух десятилетий (с начала 1930-х до середины 1950-х) практиковался рабский труд. В 1945–1953 гг. в стране, по сути, произошло «стирание различий между свободным и рабским трудом» (Д. Фильцер). Значительный сектор социалистического хозяйства обеспечивался работой заключенных. Экономика МВД охватывала 20 % общей численности промышленной рабочей силы (около 3 млн человек), к которым нужно добавить и несколько сотен тысяч так называемых «закабаленных» (послевоенных репатриантов и досрочно освобожденных). В 1949 г. ГУЛАГ производил 10 % ВВП страны. Но наряду с этим существовал и гораздо более обширный сектор «полусвободного» труда – 8–9 млн человек, завербованных, что называется, принудительно-добровольно – по оргнабору и через систему трудовых резервов. То есть в этот период где-то 3/4 промышленной рабочей силы СССР составляли люди несвободные или полусвободные.
Удивительно ли, что СССР 1930—1950-х гг. вызывал вполне архаические ассоциации с восточными деспотиями далекого прошлого. Академик И. П. Павлов в 1934 г. писал Молотову: «…я всего более вижу сходства нашей жизни с жизнию древних азиатских деспотий». Другие современники вспоминали пророчества Константина Леонтьева о социализме как о «феодализме будущего» или Герцена о возможном явлении в России «небывалого примера самовластья, вооруженного всем, что выработала свобода; рабства и насилия, поддерживаемого всем, что нашла наука. Это было бы нечто вроде Чингисхана с телеграфами…» В. А. Маклаков в 1948 г. писал Б. А. Бахметеву, что «советский режим» – наследник «худших форм деспотизмов и самодержавия; все элементы его управлений имели зародыши там», но «у современных Чингисханов не телеграф, а авионы, газы и атомные бомбы…». Со временем советское «чингисханство» приобрело более-менее цивилизованные формы, скажем, в 1930– 1950-х с высылкой Солженицына не стали бы возиться, проблему с ним решили бы гораздо быстрее и проще. Можно сказать, что уровень свободы слова в 1970-х был выше, чем в николаевское «мрачное семилетие», но этот советский максимум (перестройка не в счет, ибо она как раз показала несовместимость свободного общества и СССР, уничтожив последний), вероятно, можно сопоставить с концом XIX в., но уж никак не с эпохой 1905–1914 гг.
Что же до благ социального государства, то необходимо помнить, что последним СССР стал только после смерти Сталина (и то весьма относительно), то есть оно было таковым приблизительно половину своего существования. В особенности же сталинский СССР (1929–1953 гг.) не был для подавляющего большинства его граждан не только обществом материального изобилия, но и даже обществом скромного достатка, это было общество голода, нищеты, товарного дефицита и борьбы за выживание. В дневнике тех лет Л. В. Шапориной без обиняков говорится о «жизни без горизонта, полуголодной, полухолодной, полукаторжной и абсолютно рабской», где господствует «презрение к обывателю, возведенное в принцип».
Про два опустошительных голода говорилось выше. Но вот типичный фрагмент из писем трудящихся «наверх», рисующий совершенно безрадостную картину советской повседневности конца 1930-х гг.: «Я хочу рассказать о том тяжелом положении, которое создалось за последние месяцы в Сталинграде. У нас теперь некогда спать. Люди в 2 часа ночи занимают очередь за хлебом, в 5–6 часов утра – в очереди у магазинов – 600–700—1000 человек… Вы поинтересуйтесь, чем кормят рабочих в столовых. То, что раньше давали свиньям, дают нам. Овсянку без масла, перловку синюю от противней, манку без масла. Сейчас громадный наплыв населения в столовые, идут семьями, а есть нечего. Никто не предвидел и не готовился к такому положению… Мы не видели за всю зиму в магазинах Сталинграда мяса, капусты, картофеля, моркови, свеклы, лука и др. овощей, молока по государственной цене… У нас в магазинах не стало масла. Теперь, так же как и в бывшей Польше, мы друг у друга занимаем грязную мыльную пену. Стирать нечем, и детей мыть нечем. Вошь одолевает, запаршивели все. Сахара мы не видим с 1 мая прошлого года, нет никакой крупы, ни муки, ничего нет. Если что появится в магазине, то там всю ночь дежурят на холоде, на ветру матери с детьми на руках, мужчины, старики – по 6–7 тыс. человек… Одним словом, люди точно с ума сошли. Знаете, товарищи, страшно видеть безумные, остервенелые лица, лезущие друг на друга в свалке за чем-нибудь в магазине, и уже не редки случаи избиения и удушения насмерть. На рынке на глазах у всех умер мальчик, объевшийся пачкой малинового чая. Нет ничего страшнее голода для человека. Этот смертельный страх потрясает сознание, лишает рассудка, и вот на этой почве такое большое недовольство. И везде, в семье, на работе говорят об одном: об очередях, о недостатках. Глубоко вздыхают, стонут, а те семьи, где заработок 150–200 руб. при пятерых едоках, буквально голодают – пухнут. Дожили, говорят, на 22 году революции до хорошей жизни, радуйтесь теперь» (зима 1939/40 г.).
В 1939 г. в Алтайском крае, Архангельской, Вологодской, Кировской, Пермской, Саратовской, Свердловской, Сталинградской, Тамбовской, Челябинской, Пензенской областях, Москве на 1000 родившихся умерло в среднем от 200 до 250 детей (в возрасте до года), то есть детская смертность «на 22-м году революции» соответствовала уровню Российской империи 1906–1910 гг. «В 1940 г. в РСФСР зарегистрировано 1,7 млн детей в возрасте до двух лет, заболевших острым гастроэнтероколитом, что прямо свидетельствовало об употреблении в пищу суррогатов вместо полноценного питания» (В. П. Попов).
Конечно, уже к концу 1950-х, а тем более в брежневскую эпоху, многое изменилось к лучшему, можно даже сказать, что «никогда в отечественной истории… русский народ в массе своей не жил так сытно, обеспеченно и спокойно» (Т. Д. Соловей, В. Д. Соловей). Но все же уровень этой обес печенности был очень низким. В 1965 г., по данным Центрального научно-исследовательского экономического института Государственной плановой комиссии РСФСР, почти 40 % населения страны имели доходы ниже прожиточного минимума. Даже в 1970—1980-х русская провинция ис пытывала острую нехватку основных продуктов питания. Любопытный материал в этом смысле содержат дневники А. С. Черняева.
Январь 1976 г.: «На Новый год моя секретарша ездила в Кострому на свадьбу дочери своего мужа. Спрашиваю:
– Как там?
– Плохо.
– Что так?
– В магазинах ничего нет.
– Как нет?
– Так вот. Ржавая селедка. Консервы – „борщ“, „щи“, знаете? У нас в Москве они годами на полках валяются. Там тоже их никто не берет. Никаких колбас, вообще ничего мясного. Когда мясо появляется – давка. Сыр – только костромской, но, говорят, не тот, что в Москве. У мужа там много родных и знакомых. За неделю мы обошли несколько домов, и везде угощали солеными огурцами, квашеной капустой и грибами, то есть тем, что летом запасли на огородах и в лесу. Как они там живут! Меня этот рассказ поразил. Ведь речь идет об областном центре с 600 000 населения, в 400 км от Москвы! О каком энтузиазме может идти речь, о каких идеях?»
Февраль 1979 г.: «Б.Н. [Пономарев, зав. Международного отдела ЦК КПСС, непосредственный начальник Черняева] всю неделю отсутствовал – ездил к избирателям: Калинин, Новгород, Псков. Подготовка речей не обошлась без меня… По поводу одного места я начал было возражать: он мне в ответ, – у них там в Твери, небось, ни мяса, ни масла, ни теперь молока нет. Надо же им сказать что-то в успокоение: что там (при капитализме) кризис, безработица, инфляция (?!)… Сам невесело смеется».
Март 1980 г.: «…Даже из таких городов, как Горький, „десантники“ на экскурсионных автобусах продолжают осаждать Москву. В субботу к продовольственным магазинам не подступиться. Тащат огромными сумками что попало – от масла до апельсинов. И грех даже плохо подумать об этом. Чем они хуже нас, эти люди из Торжка или Калуги?!»
Читательница «Литературной газеты» из Коврова (Владимирская область) писала в конце 1970-х: «Хочу рассказать вот о чем. Сижу на кухне и думаю, чем кормить семью. Мяса нет, колбасу давным-давно не ели, котлет и тех днем с огнем не сыщешь. А сейчас еще лучше – пропали самые элементарные продукты. Уже неделю нет молока, масло если выбросят, так за него – в драку. Народ звереет, ненавидят друг друга. Вы такого не видели? А мы здесь каждый день можем наблюдать подобные сцены».
До начала 1960-х ужасающими были и жилищные условия, в которых находилось подавляющее большинство горожан СССР. Более того, бездомные «нищие или бродяги, вопреки утверждениям официальной пропаганды, были… довольно обычной частью городского пейзажа (за исключением, может быть, Москвы и Ленинграда). В первом полугодии 1957 г. более 75 тыс. таких людей были задержаны милицией, в тот же период 1958 г. – более 80 тыс.» (В. А. Козлов). В Москве в 1930 г. средняя норма жилплощади составляла 5,5 кв. м на человека, а в 1940 г. понизилась почти до 4 кв. м. Даже на таком элитном московском заводе, как «Серп и молот», 60 % рабочих в 1937 г. жили в общежитиях того или иного рода. Только в 1960-х гг. столичная средняя норма достигла уровня 1912 г. В 1934–1935 гг. ленинградский житель в среднем занимал только 5,8 кв. м жилой площади (по сравнению с 8,5 в 1927 г.). В Магнитогорске и Иркутске норма была чуть меньше 4 кв. м, а в Красноярске в 1933 г. – всего 3,4 кв. м. В Мурманске на человека в 1937 г. в среднем приходилось только 2,1 кв. м. Главной причиной такого положения был гигантский наплыв людей из сельской местности в города и практически полное отсутствие массового жилищного строительства. Так, первый пятилетний план предполагал прирост норм жилплощади на 7 %, в действительности же она снизилась на 25 %. План по жилью на вторую пятилетку был выполнен только на 37,2 %.
После войны жилье продолжали строить по остаточному принципу. На начало 1953 г. в городах на одного жителя приходилось 4,5 кв. м. жилья. Если в 1945 г. в городских бараках числилось около 2,8 млн человек, то в 1952 году – 3,8 млн, из них более 337 тыс. человек жили в Москве. После этих цифр горестные жалобы по поводу проблем с жильем в дневнике Л. В. Шапориной не кажутся преувеличениями: «Коммунальность жилищ – это чудовищное изобретение советской власти, растлевающее нравы, лишающее жизнь последнего благообразия, вызванное характерным для нашей эпохи абсолютным презрением к человеку и полной бесхозяйственностью…» Как метафорически написал в дневнике 1938 г. Пришвин: «…в Москве слово „дом“ в смысле личного человеческого обитания заменилось словом жилплощадь, то есть как будто слово стало по существу бездомным и живет на площади».
Массовое жилищное строительство началось только при Хрущеве, в дальнейшем ситуация в этой области стремительно улучшалась, но пресловутый «квартирный вопрос» в СССР так и не был окончательно решен. Предсовмина РСФСР в 1971–1983 гг. М. С. Соломенцев вспоминал, как в начале 1970-х в поездке по Брянской области видел целую деревню, которая с Отечественной войны продолжала жить в землянках. При обсуждении конституции 1977 г. архитектор Н. Опарин предлагал исключить из нее статью 44 («право на жилище») как чисто пропагандистскую. В 1985 г. 71 % опрошенных семей высказали претензии к качеству строительства и ремонта жилья. В 1987 г. 23,2 % городских семей в РСФСР нуждались в улучшении жилищных условий (на Украине – 20 %, в Белоруссии – 31,6 %). Даже в Москве сохранялись коммуналки, в одной из таких в начале 1990-х жил автор этих строк.
По точной формулировке британского историка Джеффри Хоскинга, «советское общество было задумано как эгалитарное общество, основанное на изобилии, на деле же оно стало иерархическим обществом, основанном на скудности».
В борьбе за мировое лидерство
Нет, не «модерн» и не социальное государство было главной заботой компартии. Как и самодержавие, она прежде всего стремилась к геополитическому могуществу управляемой ею страны. Идея мировой коммунистической революции, владевшая умами первого поколения большевиков, в дальнейшем трансформировалась в нескончаемую борьбу за статус первой сверхдержавы мира и в изматывающее противостояние с главным конкурентом – США. С начала 1930-х военная доктрина Советского Союза предполагала противоборство со всем капиталистическим миром (нацистская Германия стала считаться первостепенным вероятным противником только с 1935 г.), что, собственно, и вызвало создание в стране мобилизационной системы экономики. Уже «в 1933 г., по оценке советских военных руководителей, Красная армия стала сильнейшей армией мира» (О. Н. Кен). После Второй мировой войны СССР совершенно затмил Российскую империю по степени международного влияния: его сателлитами стали почти все страны Восточной Европы, советские советники и военнослужащие отстаивали «дело мира и прогресса» не только в Азии, но и в Африке и Латинской Америке. Все это требовало гигантских расходов. Во-первых, на армию и ВПК, ассигнования на которые поступательно росли с 1927 г. (с недолгими отступлениями во второй половине 1940-х и 1950-х), и в 1980-х уже поглощали, по признанию Горбачева, до 40 % бюджета страны.
Численность вооруженных сил СССР увеличилась с 562 тыс. человек в 1925 г. до 5 070 000 в 1985 г., то есть почти в десять раз (между этими датами происходил как гигантский их рост в годы Отечественной войны – более 11 млн, так и относительное сокращение – 3 623 000 в 1960 г.). В брежневскую эпоху свыше 60 % машиностроительной продукции составляли товары военного назначения, на военные цели шло 75 % всех ассигнований на науку. Дипломат и член ЦК КПСС в 1989–1991 гг. В. М. Фалин уже в наши дни вспоминает о недавнем прошлом: «Метастазы милитаризма поразили властные структуры, госаппарат, науку, экономику страны. Сошлюсь на то, что 83 % ученых и технологов занимались военной и паравоенной тематикой. Больше четверти ВВП Советского Союза поглощал ненасытный молох. Эксперты открытым текстом пытались убеждать власти предержащие: мы занимаемся самоедством, обслуживанием доктрины США, нацеленной на доведение нашей страны до экономического и социального коллапса».
Другой важнейшей затратной статьей, связанной с внешнеполитическими амбициями СССР, была помощь, оказываемая «странам социалистического лагеря и народной демократии», а также компартиям капиталистических и «развивающихся» государств. В 1981 г. СССР экономически и технически помогал 69 странам (включая Финляндию), особенно повезло Монголии (430 млн руб.), Кубе (357 млн) и Болгарии (332,5 млн). В 1988 г. Вьетнам стоил советскому бюджету 40 млрд в год, Куба – около 25 млрд, Сирия – 6 млрд. Крупнейший производитель оружия, СССР в первой половине 1980-х осуществлял военные поставки в 36 стран, что составляло треть всего оружия, поступавшего в страны третьего мира, как правило в долг. Например, к 1991 г. Северная Корея была должна Советскому Союзу 2,2 млрд долларов, Лаос – 0,8, Египет – 1,7, Алжир – 2,5, Йемен – 1, Вьетнам – 9,1, Сирия – 6,7, Камбоджа – 0,7, Бангладеш – 0,1, Ангола – 2, Мозамбик – 0,8, Эфиопия – 2,8, Афганистан – 3, Никарагуа – 1. Общая сумма, затраченная только на военные поставки социалистическим странам и странам третьего мира, по данным министра иностранных дел СССР Э. А. Шеварднадзе, составила 700 млрд руб.
Даже в самые тяжелые времена СССР не отказывался от возможности поддержать свой престиж претендента на мировое лидерство. «Учитывая тяжелое продовольственное положение во Франции и просьбу французского правительства, – отмечалось в 1946-м, голодном году при подписании соглашения о поставках зерна во Францию, – Советское правительство решило пойти навстречу Франции как своему союзнику». Помимо Франции тогда же зерно поставлялось в Болгарию, Румынию, Польшу, Чехословакию, Берлин и т. д. Динамика экспорта зерна за границу в послевоенные годы впечатляет: в 1946 г. – 1230,2 тыс. тонн, в 1947-м – 609,5, в 1948-м – 2594,8, в 1949 г. – 2401,2, в 1950-м – 2800,2. «В самый разгар жесточайшей засухи… Сталин не стал добиваться репараций с немцев сельскохозяйственными продуктами, хотя это могло бы спасти жизни многих советских граждан, прежде всего крестьян, от голодной смерти» (В. М. Зубок).
Огромное количество продовольствия из государственных резервов уходило в начале 1980-х в беспокойную Польшу, в то время как во многих русских городах случались описанные выше проблемы с питанием. Своего хлеба, естественно, не хватало, и в 1960—1970-х гг. ежегодно на закупки хлеба за границей расходовалось около 300 тонн золота, в середине 1980-х ежегодно закупалось до 50 млн тонн хлеба, то есть около 40 % всех хлебофуражных запасов страны. Помощь странам третьего мира не прекратилась даже накануне краха Советского Союза в 1989–1991 гг., когда его казна была практически пуста.
Немаловажным источником пополнения военного бюджета был рост государственной продажи алкоголя. 1 сентября 1930 г. Сталин откровенно писал Молотову: «…нынешний мирный состав нашей армии с 640 тысяч придется довести до 700 тысяч… Но для „реформы“ потребуются немаленькие суммы денег (…). Откуда взять деньги? Нужно, по-моему, увеличить (елико возможно) производство водки. Нужно отбросить ложный стыд и прямо, открыто пойти на максимальное увеличение производства водки на предмет обеспечения действительной и серьезной обороны страны. Стало быть, надо учесть это дело сейчас же, отложив соответствующее сырье для производства водки, и формально закрепить его в госбюджете 30–31 года». 15 сентября политбюро приняло решение: «а) Ввиду явного недостатка водки как в городе, так и в деревне… предложить СНК СССР принять необходимые меры к скорейшему увеличению выпуска водки. Возложить на т. Рыкова личное наблюдение за выполнением настоящего постановления. б) Принять программу выкурки спирта в 90 мил. ведер в 1930/31 году».
«В 1936 г. производство спирта увеличилось в 250 раз по сравнению с „сухим“ 1919 г. и после коренной реконструкции заводов перекрыло уровень 1913 г., о чем рапортовали работники отрасли к двадцатилетнему юбилею советской власти… Размеры снижения цен на водку стали предметом специального обсуждения на политбюро в мае 1949 г. [в связи с сокращением ее потребления]… Снижение цен на алкогольные напитки должно было, по расчетам правительства, увеличить их реализацию и тем компенсировать снижение цены… Так, только за 1947–1949 гг. производство водки в СССР увеличилось с 41,4 до 60,0 млн дкл, то есть почти в 1,5 раза, а цена 0,5 л водки снизилась с 60 до 30 руб. …» (И. Курукин, Е. Никулина).
Тенденция эта в дальнейшем лишь усиливалась: в 1952 г. – было произведено 81,1 млн дкл, в 1962-м – 162, в 1970-м – 243. (И это не считая производства вин, большей частью низкокачественных). В 1979 г. казна получила от налога на алкоголь поступлений больше, чем от подоходного налога (соответственно – 25,4 и 23 млрд руб.). Душевое потребление алкоголя (в пересчете на спирт) быстро росло: в 1960 г. – 3,9 л, в 1970-м – 6,8 л, в 1984-м – 10,5 (последняя цифра превысила соответствующий уровень 1913 г. более чем в два раза).
Доступность и дешевизна спиртного провоцировала массовый алкоголизм у измученного «коренными переломами» населения. Историк Н. П. Полетика так вспоминал о пьянстве 1930-х гг.: «Пили все, и притом в массовых размерах… Пьянство двадцатых годов имело оттенок веселья и жизнерадостности. Оно соответствовало завету Владимира Святого. Причиной веселья и радости была надежда на лучшую жизнь. Массового, ежедневного пьянства, до одури, до бессознательности, в двадцатых годах было мало. Но пьянство тридцатых годов имело совершенно иной характер. Это было пьянство безнадежности и отчаяния. Рабочие в городах (Ленинграде и Москве – в особенности) допивались до бесчувствия, до положения риз, они искали в водке забвения от действительности, от тревог жизни нашей, от ее безысходности, от убивающей здоровье тяжелой работы, от страха перед нуждой и старостью. Пили отчаянно и озлобленно – и мужчины, и женщины, и даже подростки 15–16 лет. Алкоголизм охватил и интеллигенцию, в особенности творческую интеллигенцию – писателей, художников, музыкантов, артистов, работников науки… Трудно сказать, кто пил больше, – ученые, или писатели, или артисты, или музыканты…»
И. Л. Солоневич в своей «России в концлагере» рассказывает, что в начале 1930-х в подмосковной Салтыковке, «где жителей тысяч 10, хлеб можно купить только в одной лавчонке, а водка продается в шестнадцати, в том числе и в киосках того типа, в которых при „проклятом царском режиме“ торговали газированной водой. Водка дешева. Бутылка водки стоит столько же, сколько стоит два кило хлеба, да и в очереди стоять не нужно. Пьют везде. Пьет молодняк, пьют девушки, не пьет только мужик, у которого денег уж совсем нет». «Водка единственное, что можно покупать в сколь угодном количестве. В Москве вечером 7 [ноября] хорошо одетые люди валялись пьяные на тротуарах», – записал в дневнике в ноябре 1938 г. Вернадский. Ему в дневнике того же года вторит Пришвин: «Ныне душа русского человека в бутылке: вино – реализация скрытой души, а для государства питейный доход». В декабре 1938 г. нарком обороны К. Е. Ворошилов издал специальный приказ «О борьбе с пьянством в РККА», в котором, в частности, говорилось: «За последнее время пьянство в армии приняло поистине угрожающие размеры…»
Период «застоя», наряду с ростом материального благополучия, отмечен и резким усилением народного пьянства. В конце 1970-х гг. на учете состояло 2 млн алкоголиков. В 1978 г. в органы милиции было доставлено около 9 млн пьяных, свыше 6 млн попали в вытрезвитель. В 1984 г. смерти, так или иначе связанные с потреблением алкоголя, составили почти 32 % всех смертей (525 тыс. человек).
«Пьяные деньги», как мы помним, были важной составляющей бюджета и Московского царства, и Российской империи, но, конечно, по травматическим последствиям такой политики СССР превзошел своих предшественников с лихвой.
«Позитивная дискриминация»
Нетрудно догадаться, что геополитические триумфы СССР, как и Российской империи справлялись главным образом за русский счет. Во-первых, русские были главным источником военной силы – составляя в 1941 г. 51,8 % населения страны, они во время войны дали 65,4 % мобилизованных и 66,4 % погибших (а вместе с украинцами и белорусами – 86,3 и 84,2 % соответственно). Во-вторых – основным материальным ресурсом, на котором держалась не только безудержная милитаризация экономики, но и внутреннее единство самой «новой исторической общности». Русский центр и прежде дотировал национальные окраины, но большевики придали этой практике характерно левое идеологическое обоснование, систематичность и новый, куда более впечатляющий масштаб.
С начала 1920-х гг. была выработана и начала проводиться в жизнь политика «позитивной дискриминации» (Т. Мартин). Ее суть четко сформулировал Ленин в 1922 г.: «…Интернационализм со стороны угнетающей или так называемой „великой“ нации [то есть русской]… должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически». На XII съезде РКП(б) (1923) эту тему развил Н. И. Бухарин: «Мы в качестве бывшей великодержавной нации должны идти наперерез националистическим стремлениям [нерусских народов] и поставить себя в неравное положение в смысле еще больших уступок национальным течениям. Только при такой политике, когда мы себя искусственно поставим в положение, более низкое по сравнению с другими, только этой ценой мы сможем купить себе настоящее доверие прежде угнетенных наций».
Сталин в тезисах к тому же съезду, одобренных ЦК, конкретизировал: «Правовое национальное равенство, добытое Октябрьской революцией, является великим завоеванием народов, но оно не решает само по себе всего национального вопроса. Ряд республик и народов, не прошедших или почти не прошедших капитализма, не имеющих или почти не имеющих своего пролетариата, отставших ввиду этого в хозяйственном и культурном отношении, не в состоянии полностью использовать права и возможности, предоставляемые им национальным равноправием, не в состоянии подняться на высшую ступень развития и догнать, таким образом, ушедшие вперед национальности без действительной и длительной помощи извне… Преодолеть это неравенство в короткий срок, ликвидировать это наследство в один-два года невозможно… Но преодолеть его нужно обязательно. И преодолеть его можно лишь путем действительной и длительной помощи русского пролетариата отсталым народам Союза в деле их хозяйственного и культурного преуспеяния».
В экономическом смысле это означало следующее. 21 августа 1923 г. был создан Союзно-республиканский дотационный фонд СССР, средства из которого предназначались для экономического и социального развития кавказских, среднеазиатских и других союзных республик, включая Украину. Фонд формировался за счет РСФСР, но последняя из него ничего не получала. При этом, в отличие от РСФСР, в бюджеты союзных республик полностью зачислялись сборы налога с оборота (один из основных источников бюджетных поступлений) и подоходный налог. Уже в 1924–1925 гг. доля средств центра, скажем, в бюджете Туркмении составляла 90 %, а Украины – более 60 %. Опубликованные отчеты Минфина СССР за 1929, 1932, 1934 и 1935 гг. показывают, что в указанные годы Туркменистану в качестве дотаций было выделено 159,8 млн руб., Таджикистану – 250,7, Узбекистану – 86,3, ЗСФСР (в ее состав до 1936 г. входили Грузия, Армения и Азербайджан) – 129,1. В результате такой политики за период 1922–1972 гг. промышленное производство возросло в Таджикистане в 513 раз, в Армении – в 527, в Узбекистане – в 239, Казахстане – в 601 раз. В 1975 г. РСФСР могла оставить себе 42,3 % налога с оборота, в то время как Азербайджан – 69,1, Грузия – 88,5, Армения – 89,9, Таджикистан – 99,1, Киргизия – 99,2, Казахстан и Туркмения – 100.
По данным председателя Совета министров РСФСР в 1990–1991 гг. И. С. Силаева, в течение всех лет советской власти Россия ежегодно выплачивала союзным республикам, включая и Прибалтийские, около 30 % своего годового бюджета – 46 млрд руб. в год. Производство на душу населения в РСФСР было в 1,5 раза выше, чем в других республиках, а потребление в 3–4 раза ниже, чем в Грузии, Армении, Эстонии. Даже на закате советской эпохи, занимая первое место по промышленному производству, РСФСР по душевому доходу стояла только на 10-м месте среди 15 «братских республик». Кроме того, говоря словами К. Л. Гильчевского из письма Калинину, в Советском Союзе «не только русский рабочий и мужик содержит окраины, он строит для них фабрики и заводы». РСФСР отдавала «младшим братьям» «свой самый драгоценный капитал – высококвалифицированных специалистов. В 1959 г. за пределами России находилось 16,2 млн русских, в 1988 г. – 25,3 млн. За 30 лет их численность увеличилась на 55,5 %… Представители российской диаспоры (в национальных республиках) создавали значительную часть их национального дохода. Например, до 1992 г. 10 % русского населения Таджикистана производили до 50 % внутреннего национального продукта» (В. Г. Чеботарева).
Условия, в которых, особенно в 1920—1930-х гг., русские «цивилизаторы» жили в том же Таджикистане, были далеки от привилегированных: «…люди на самом деле [оттуда] бежали. С самого начала был введен запрет на возвращение из Таджикистана. Постоянно выдавались и шли в ход специальные справки, так что, если ты работаешь в Душанбе, нельзя было уезжать из города, не получив направления, чтобы сохранить за собой квартиру. Если ты уехал из Таджикистана, это каралось тюрьмой. Можно было уехать по медицинскому направлению, но потом врачам запретили их выдавать, потому что все начали пользоваться своими болезнями как аргументом. Сейчас идет большая дискуссия о том, был ли Советский Союз колониальным режимом и был ли он современным государством, и тогда я смотрю на этих своих „беспомощных колонизаторов“, у которых была одна забота – как же вернуться обратно… Многие „колонизаторы“ сами вовсе не хотели быть колонизаторами, были бы рады возвратиться к себе и не нести никому никакую „высшую культуру“», – рассказывает в своем недавнем интервью специалист по данной теме Ботакоз Кассымбекова.
Даже среди высшей государственной бюрократии «позитивная дискриминация» русских порой вызывала протесты. Так, А. И. Рыков в 1920-е гг. заявлял, что считает «совершенно недопустимым, что туркмены, узбеки, белорусы и все остальные народы „живут за счет русского мужика“». Он же язвительно провел разницу между русским и английским колониализмом: «Колониальная политика… Великобритании заключается в развитии метрополии за счет колоний, а у нас колоний за счет метрополии». М. С. Соломенцев вспоминал: «Когда Брежнев рекомендовал меня на должность предсовмина РСФСР, я поставил лишь одно условие: перестать затюкивать Россию. Леонид Ильич, помнится, не понял меня, спросил: „Что значит затюкивать?“ Я объяснил: отраслевые отделы ЦК и союзное правительство напрямую командуют российскими регионами и конкретными предприятиями, руководствуясь больше интересами союзных республик, оставляя России лишь крохи с общесоюзного стола». Но от этих возражений принципиально ничего не менялось.
Особенно ярко «затюканность» России видна на примере положения русской деревни. Замечательно, например, что в феврале 1930 г. ЦК принял секретное постановление, в котором запрещалось применять в национальных районах Средней Азии, Казахстана, Закавказья, Северного Кавказа и Бурят-Монголии те методы коллективизации, которые использовались в русских областях. По расчетам В. П. Попова, в военном 1944 г. в РСФСР средний валовой доход на колхозный двор составлял 8917 руб., 17 % этой суммы уходило на прямые налоги (сельхозналог – 8,1 %, военный налог – 8,9 %), 9,2 % – на так называемые «добровольные платежи» (займы, лотереи). Аналогичные показатели по республикам Закавказья: Азербайджанская ССР – 14 530 руб., 6,4 % (2,6 и 3,8), 7,4 %; Грузинская ССР – 20 199 руб., 8 % (3,6 и 4,4), 5 %; Армянская ССР – 16 325 руб., 6,9 % (2 и 4,9), 5,1 %. По данным Г. И. Литвиновой, в 1951 г. смоленский колхозник за один трудодень мог получить 890 г зерна и 17 коп., эстонский – 1 кг 830 г зерна и 1 руб. 50 коп., а таджикский – 2 кг 40 г зерна и 10 руб. 05 коп. Стоимость валового сбора продуктов растениеводства за один трудодень по закупочным ценам в Центральной России в 1950-х гг. была в 10 раз ниже, чем в Узбекистане, и в 15 раз ниже, чем в Грузии.
Но и сравнение жизни в городах было не в пользу России. В 1988 г. этнографы В. В. Коротеева и О. И. Шкаратан писали в академическом журнале «История СССР»: «На текущий момент состояние социальной инфраструктуры в крупных городах РСФСР существенно хуже, чем в столицах и других крупных городах большинства республик. Что особенно печально, Москва – столица СССР и величайший город России – по показателям развития социально-культурной инфраструктуры оказалась в седьмом десятке [!] городов страны».
В 1997 г. писатель Александр Кузнецов сетовал: «Горько становится на душе, когда видишь старые русские города. Старинные дома с обвалившейся штукатуркой, деревянные одноэтажные дома ушли по окна в землю, а двухэтажные покосились и пропахли уборной. Картина знакомая. Так выглядят сейчас все старые русские города, не то что кавказские или среднеазиатские. Ереван целиком построен в годы советской власти. Раньше он состоял из глинобитных и каменных одноэтажных домишек, а теперь возведен из благоустроенных многоэтажных и, заметьте, нетиповых домов, облицованных разноцветным туфом. И ни одного старого дома во всем городе. Советский период – золотой век для Армении. В Тбилиси оставили одну старую улицу, как памятник истории. Реставрировали ее, выглядит как картинка. Все остальное выстроено заново, как и в других кавказских городах. О среднеазиатских республиках и говорить нечего – дворцы, театры, парки, фонтаны, все в граните и мраморе, в каменной резьбе. Богатели, тяжелели 70 лет края государства, чтобы, насытившись, потом отвалиться. Россия же как была нищей, так и осталась».
И даже по количеству научных кадров РСФСР, несомненный интеллектуальный лидер Страны Советов, явно отставала. В 1973 г. на 100 научных работников имелось аспирантов: среди русских – 9,7 человека, белорусов – 13,4, туркмен – 26,2, киргизов – 23,8. В 1987 г. научных учреждений на душу населения в России было в два раза меньше, чем в среднем по союзным республикам, даже в академиках у нее была пятикратная недостача, сравнительно с общесоюзным уровнем. Внутри самой РСФСР дело обстояло не лучше. В 1989 г. «в Якутии на 1000 человек среди якутов приходилось 140 человек с высшим и незаконченным высшим образованием, среди русских – 128 человек. В Бурятии и Калмыкии эти показатели еще больше в пользу титульной национальности. Примерно такая же ситуация и по республикам Поволжья» (В. А. Тишков). И это, разумеется, произошло не из-за врожденной пониженной способности русских к высшему образованию, а стало следствием все той же политики «позитивной дискриминации» – в советских вузах существовали официальные квоты для представителей «националов», скажем, в 1932/33 учебном году она составляла 7500 мест. В некоторых республиках «коренным» студентам платили стипендии на 10–15 % больше, чем русским. В вузах Казахстана «некоренные», составляя 60 % населения, имели лишь 10 % студенческих мест.
При этом столичные вузы широко открывали двери для гостей с национальных окраин. Автор этих строк хорошо помнит свое изумление, когда он, поступая летом 1985 г. на истфак МГПИ им. В. И. Ленина, увидел в главном корпусе на Пироговке огромную и шумную толпу юных восточных красавиц – как оказалось, это были абитуриентки узбекского отделения филфака.
В результате перипетий коммунистического эксперимента – войн, репрессий, систематического измывательства над деревней, тяжкого бремени «старшего брата» – Центральная Россия, которая и при старом режиме жила не сладко, надорвалась. Ее население стало заметно сокращаться, что особенно хорошо видно при сравнении с демографической динамикой восточных республик. Г. И. Литвинова в 1989 г. писала: «…в общеобразовательных школах РСФСР сегодня учится меньше детей, чем в довоенном 1940 году, когда обязательным было лишь семилетнее обучение. Только за период с 1970/71-го по 1980/81 год численность учеников (а стало быть, и детей школьного возраста) сократилась почти на 20 процентов (с 25,3 млн до 20,2 млн человек). В ряде республик численность учеников за это время выросла в 3–4 раза. Выросла она и в автономиях РСФСР… Если из 20 экономических районов СССР выделить два с самыми низкими показателями естественного прироста населения – Центрально-Черноземный и Волго-Вятский и два с самыми высокими темпами роста населения – Средне-Азиатский и Казахстанский, то обнаружится, что до войны они имели почти равную численность населения. В 1940 году в двух районах РСФСР было 17,9 млн человек, а в двух последних – 17 млн. К 1987 г. численность населения первых сократилась на 2 млн человек, а численность населения последних увеличилась на 30 млн человек».
В Вологодской области рождаемость, составлявшая 42 155 детей в 1940 г. и 23 651 – в 1959 г., сократилась до 9647 новорожденных в 1967 г., то есть более чем в четыре раза! С конца 1950-х в России на одно рождение приходилось около двух абортов. Конечно, упадок рождаемости был во многом связан со стремительной урбанизацией русских (в 1959 г. 52 % из них жило в городах РСФСР, в 1979-м – 69 %), но сами темпы этой урбанизации не были вполне естественными, их спровоцировала тяжелая и бесправная жизнь на селе. Причем росли в основном мегаполисы, малые русские города хирели.
Русская провинция вроде бы благополучных «застойных» лет представляла, по мнению очень многих современников, крайне грустную, депрессивную картину. В. П. Астафьев в написанной «в стол» в конце 1970-х – начале 1980-х документальной повести «Зрячий посох» сокрушался: «Не просто из-за войны опустела наша исконно русская земля, ибо потери России не восполнены и невосполнимы, они продолжаются из поколения в поколение и будут продолжаться при таком браконьерском отношении к русскому народу и русской земле. Запустение того и другого, одичание, уход в межедомки ныне прикрывается хитрой, убогой и привычной уже демагогией, и то, что было исконной Россией, центром ее и душой, уже поименовали термином – Нечерноземье. Не земля, не страна, не родина, не народ, не нация, а Нечерноземье, на котором живут, точнее, доживают, не русичи, не славный и многотерпеливый народ, народ-победитель… обретаются какие-то, мало кому ведомые, новые племена нечерноземцев, которые от деревни не ушли и к городу не пришли».
М. А. Дудин, вполне официозный стихотворец, Герой Соцтруда и лауреат Госпремии СССР, приблизительно в это же время сочинил такие скандальные вирши, разумеется тогда не опубликованные, но активно ходившие по рукам:
Был дом и поле на два дышла. Там ни двора и ни кола. России нет. Россия вышла И не звонит в колокола. О ней ни слуху и ни духу. Печаль никто не сторожит. Россия глушит бормотуху И кверху задницей лежит. И мы уходим с ней навеки, Не уяснив свою вину. …А в Новгородчине узбеки Уже корчуют целину.«Фабрика наций»
Советская национальная политика, среди прочего, отмечена следующим невиданным прежде новшеством. Если самодержавие порой невольно способствовало развитию национального самосознания народов империи, то компартия сознательно строило на их основе национальные государства в рамках СССР, причем не только там, где для этого имелись серьезные предпосылки (Грузия, Армения), но и там, где вместо наций существовали множество разнообразных этнических групп (республики Средней Азии). Причина этого настоящего нациестроительного «бума» состояла в том, что большевики, с одной стороны, старались во что бы то ни стало удержать в качестве плацдарма мировой революции как можно большую территорию, а с другой – сделать управляемую ими страну объектом притяжения для потенциально к ней могущих присоединиться других народов. Для этого они не просто шли на максимальные уступки национальным движениям, а шли на опережение последних, стремясь их возглавить и тем самым взять под контроль.
Парадоксальным образом пламенные борцы за Интернационал, за «мир без Россий, без Латвий», где все народы будут «жить единым человечьим общежитьем», оказались в своей национальной политике радикальными «мультинационалистами» (О. Б. Неменский), «можно сказать, что партия стала авангардом национализма нерусских народов» (Т. Мартин). «Если говорить о краткой формуле реального советского проекта, то здесь скорее нужно говорить об этнизации или национализациии социалистического, нежели о его интернационализации или деэтнизации… Реализация советского проекта шла рука об руку с созданием моноэтнических протогосударств для еще не существовавших тогда нерусских наций…» (О. В. Кильдюшов).
Советский Союз, таким образом, стал удивительной «фабрикой по производству наций», и в этом смысле его распад был «абсолютно закономерным явлением… процесс создания нации неизбежно приводит к постановке вопроса о ее суверенитете и независимости. Только добившись их, нация реализует себя, оформляется как полноценный nation-state. Распад СССР не был приостановкой, и тем более завершением действия „советской“ фабрики наций, а наоборот – ее победой, ее утверждением: с конвейера сошла основная партия новоиспеченных национальных государств… Можно даже сказать, что декабрь 1991 г. – не поражение Советского Союза, а его победа, победа заложенных в нем принципов, всего его механизма. СССР распался не из-за того, что был неэффективен (как это нередко пытаются представить). Наоборот, он распался именно из-за своей эффективности как мультинационалистического образования» (О. Б. Неменский).
Особенно впечатляюще эта нациестроительная горячка проявилась во время кампаний по «коренизации» как союзных, так и автономных республик в 1920-х – начале 1930-х гг., когда в них спешно, иногда практически на пустом месте, как в Средней Азии и на Северном Кавказе, создавались партийное и административное руководство и интеллигенция из представителей титульных национальностей, внедрялись в качестве языка делопроизводства и культуры местные наречия. К 1939 г., по подсчетам Т. Мартина, процент «коренных» в управленческом аппарате составлял, например, для Чечено-Ингушской АССР – 63,4, Чувашской АССР – 74,9, Дагестанской АССР – 71, Якутской АССР – 53, Азербайджанской ССР – 55, Таджикской ССР – 56,2, Туркменской ССР – 56,7, Узбекской ССР – 64,8, Армянской ССР – 79,6, Белорусской ССР – 81,6, Грузинской ССР – 59,7, Украинской ССР – 76,9 %. А среди писателей и журналистов: в Чувашской АССР – 82, Дагестанской АССР – 72,7, Калмыцкой – 72,7, Татарской АССР – 56,3, Якутской АССР – 62,3, Азербайджанской ССР – 62,5, Киргизской ССР – 53,2, Туркменской ССР – 54,4, Армянской ССР – 81,9, Белорусской ССР – 54,1, Грузинской ССР – 62,5, Украинской ССР – 55 %.
Мечта любого националиста – создание национальной элиты (бюрократической и культурной) – сбылась за весьма короткий срок для множества народов СССР, благодаря усилиям правивших в Кремле интернационалистов. Перед войной СССР аннексировал уже существовавшие национальные государства Прибалтики, которые в рамках советской национальной политики во многом сохранили свои особенности.
Со второй половины 1930-х союзное руководство взяло курс на поощрение «расцвета национальных культур»: активно конструировались национальные литературы, театры, оперы, балеты, кинематографы, причем, если не хватало «коренных» творцов, подключали «варягов». Так, основоположниками киргизского музыкального театра стали русский В. А. Власов и немец Поволжья В. Г. Фере (оперы «Айчурек», 1939, и «За счастье народа», 1941). Подобная «братская помощь» очень хорошо оплачивалась. Современник свидетельствует: «Ни для кого не секрет, что все столичные знаменитости приезжали в республики зарабатывать деньги, ордена, звания. Самые главные лица получали даже ордена Ленина» (Г. Ю. Бахтаров). Писатель Всеволод Иванов наблюдал в поезде, как «утешал свою жену» упомянутый выше Власов, «едущий во Фрунзе устраивать киргизскую оперу». Поскольку Киргизию «сделали 11-й союзной республикой, там, завидуя Казахстану и его театральным успехам в Москве, решили создать к 1938 г., когда в Москве будет театральная декада, – оперу и балет. Для музыкантов теперь, должно быть, здесь „золотая лихорадка“…»
Для судьбы русского национального проекта, в то время забитого и, по сути, поставленного вне закона, принципиально важна массированная украинизация Украины, окончательно откалывавшая от «большой русской нации» ее вторую по значению часть. В 1926 г. пленум ЦК Компартии Украины объявил украинизацию «одним из способов построения социализма». Уже к этому году делопроизводство в УССР было украинизировано на 65 %. В 1930 г. на украинском языке издавалось 84,7 % журналов и 80 % книг. К 1933 г. 89 % учащихся начальных школ учились на украинском языке. В 1924 г. в Киев из эмиграции было дозволено вернуться одному из столпов украинского национализма М. С. Грушевскому. Кадры культработников формировались в значительной степени из рядов националистически настроенной украинской интеллигенции, благодаря чему был создан настоящий культ Шевченко. Украинизации подверглись и некоторые русские регионы – например, Кубань и Курская область. После 1933 г. «тотальная украинизация была отменена, но и русификация Украины не началась» (Т. Мартин). В 1946 г. 70 % секретарей горкомов и райкомов КП(б)У были украинцами. Приблизительно ту же цифру видим и в 1964 г. Самостоятельность украинской национальной культуры никогда не ставилась под сомнение.
Присоединение в 1939 г. Западной Украины чрезвычайно обострило проблему радикального украинского национализма. Формально говоря, через семь веков после распада была восстановлена территориальная целостность «Русской федерации». Но на самом деле именно тогда Галичина для русского единства оказалась окончательно потерянной. Жертвы, понесенные в 1940-х гг. в борьбе с ее советизацией, Украинской повстанческой армией (УПА), поддерживаемой подавляющим населением края (по данным МВД СССР, только к июлю 1946 г. карательными органами было уничтожено более 110 тыс. «бандитов», в 1944–1946 гг. 203 тыс. человек было депортировано за пределы УССР) «дала украинскому национальному проекту целый пантеон мучеников и страдальцев-героев, о которых слагали легенды и песни» (Д. С. Павлов).
Сталин в 1930-х гг. резко затормозил «коренизацию», которая стала уже представлять потенциальную почву для сепаратизма, но не остановил ее совсем, и она пусть не такими быстрыми темпами, но продолжала осуществляться, что привело в 1970-е к окончательному закреплению власти местных элит в союзных республиках. Показательно, что, когда в декабре 1986 г. Центр попытался сменить на посту первого секретаря ЦК Компартии Казахстана казаха Д. Кунаева на русского Г. В. Колбина, в ответ в Алма-Ате произошли организованные выступления казахов с использованием насилия, и Москва была вынуждена отступить – уже в июне 1989 г. на место Колбина пришел нынешний казахский президент Н. Назарбаев.
Интересно свидетельство о недавнем прошлом современного философа и публициста О. В. Кильдюшова (1972 г. р.): «Я родился и вырос в Северном Казахстане, на целинных землях с преимущественно русским населением (например, в Кустанайской области казахи составляли лишь 12 % населения), и там в 70—80-е годы реализация принципа коренизации, то есть казахизации, in concreto выглядела следующим образом: все статусные, представительские и иные социально престижные позиции занимались кадрами из числа „коренного населения“, причем явно непропорционально их доле в общей структуре населения региона. Особенно это было заметно в органах власти, а в правоохранительных органах существовал такой дисбаланс, что даже родился такой анекдот: в школе проходит День дружбы народов. Учительница требует, чтобы школьники пришли в традиционной одежде своего этноса. На что маленький казах замечает: „А где я возьму такую маленькую милицейскую форму?“»
«…Федерализм советского типа имел своей целью максимально обезопасить государство от лишенных прав русских, поставив их под двойной контроль – Коммунистической партии и этнических меньшинств» (П. В. Святенков). Формирование в национальных республиках этнократических режимов низвело живущих там русских на положение граждан второго сорта. «Брошенные в политически слаборазвитую киргизскую массу лозунги борьбы с колонизаторством подхватываются туземными кулаками, баями и монапами в целях разжигания национальных страстей и развития в массах национальной ненависти против русских. Политработа в области слабая, вследствие чего агитация баев и монапов пользуется успехом», – сообщалось в сводках ГПУ 1922 г. по Пишпекскому уезду.
В начале 1920-х в Казахстане русских просто сгоняли с занимаемых ими земель и вынуждали покидать край, русское население которого только с 1920 по 1922 г. сократилось на 20 %, а русские пахотные угодья уменьшились более чем в два раза. Курировался этот процесс, провозглашенный казахскими властями «малым Октябрем», особыми карательными отрядами. Согласно одному из отчетов ОГПУ, за один только день «на мороз было выброшено целое поселение [Юрьев], насчитывающее от 500 до 600 дворов». Оставшиеся в Казахстане русские сетовали: «Тут у нас некуда пойти с жалобой: придешь в милицию – там киргиз, придешь в ГПУ – опять киргиз, придешь в местный совет – снова киргиз». В 1926 г. один из высших чинов ОГПУ Я. Х. Петерс назвал русских в Казахстане «вечно преследуемыми». Та же судьба постигла терских казаков на Северном Кавказе – было депортировано примерно 15 тыс. человек, их земли передали горцам.
В Татарской АССР руководитель местного отделения Госбанка мог отклонить заявление русского о приеме на работу со словами: «В первую очередь нам нужны татары, и мы можем обойтись и без русских». В письмах русских из Узбекистана в 1928 г. звучали жалобы типа: «…работа достается в основном… узбекам, а на нашего брата, европейца, хотя бы он и умирал с голода, не обращают никакого внимания». «…Ощущение, будто Узбекистан принадлежит им, заставляло узбеков говорить о русских, как о „гостях“, а во время стычек на этнической почве заявлять: „Убирайтесь вон из Узбекистана“ и „Возвращайтесь к себе на родину“» (Т. Мартин).
«Русских отовсюду гонят, русских здесь не терпят… Они [грузины] откровенно говорят: пусть русские побольше построят нам фабрик и заводов, все они останутся нам, когда мы выгоним отсюда русских», – писал в 1927 г. живший в Тифлисе К. Л. Гильчевский. Инженер А. В. Деркач вспоминает про свою поездку в Грузию в начале 1950-х: «Полнейшее большинство грузин презирало нас, русских – ведь это их Сталин безраздельно правил нашей страной… В Грузии мне пришлось побывать еще не единожды, и каждый раз я чувствовал свое полное бесправие – немногим лучше, чем в немецкую оккупацию».
После смерти Сталина «наверх» посыпались письма от русских, живших и работавших в Грузии. Например, «4 августа 1954 г. главный редактор „Комсомольской правды“ переслал в ЦК КПСС полученное газетой письмо мастера Горийского хлопчатобумажного комбината Д. К. Кравченко. Факты, о которых писала Кравченко, были столь возмутительны, что рассмотрение письма уже через несколько дней, 9 августа, вошло в повестку дня секретариата ЦК КПСС. Кравченко, которую направили на работу в Грузию по распределению после окончания текстильного техникума в России, писала о многочисленных злоупотреблениях, преступлениях и „круговой поруке“ грузинских руководителей. Приезжих работников избивали. Им угрожали, предлагали уехать. Кравченко сообщала об изнасилованиях русских работниц, которые оставались безнаказанными. Саму Кравченко дважды избивали, причем один раз прямо на комбинате. Однако следствие и суд по делу об избиении затягивались. Секретариат ЦК КПСС поручил проверить заявление Кравченко ЦК компартии Грузии. Однако под предлогом болезни директора комбината проверка и обсуждение вопроса затягивались. Но 23 ноября 1954 г. бюро ЦК компартии Грузии все же приняло решение, в котором факты, изложенные в письме Кравченко, были признаны правильными. Директора и секретаря партийной организации комбината сняли с должностей. Милиции, прокуратуре и судебным органам предписали „привлечь к ответственности виновных в затягивании рассмотрения дел на лиц, совершивших проступки на Горийском хлопчатобумажном комбинате“…» (О. В. Хлевнюк).
В феврале 1956 г. Секретариат ЦК КПСС дал поручение ЦК компартии Грузии рассмотреть и принять меры по письму И. В. Звягинцева из Кутаиси на имя Хрущева, где, в частности, рассказывалось о печальной судьбе русских мигрантов, которых использовали в качестве неквалифицированной рабочей силы, трудившейся за гроши по 14–15 часов в сутки преимущественно на строительстве частных домов или в сельском хозяйстве. Они часто опускались на социальное дно, превращаясь в бродяг и нищих. «В г. Самтредиа у павильона железнодорожного ресторана, спившись, уснуло одно из таких существ. Равнодушно шагала, задевая его ногами, богато и элегантно одетая публика, спокойно прошел милиционер. Но вот из дверей павильона шумно вывалила подгулявшая компания грузин. Один из гуляк с бутылкой в руках, заметив лежавшего и поставив ногу ему на живот, хрипло провозгласил: „Пью за великий русский народ!“ И, как это ни дико, в ответ раздались одобрительные возгласы и хохот. Случаев, подобных описанному, десятки, сотни».
То тут, то там вспыхивали этноконфликты между русскими и «коренными», самым заметным из которых было русское восстание в Грозном в августе 1958 г., вызванное убийством чеченцами рабочего Е. Степашина, похороны которого вылились в античеченскую демонстрацию и в захват здания горкома партии. В Грозный были введены войска. «В результате беспорядков пострадало 32 человека, в том числе 4 работника МВД и милиции республики. Два человека (из числа гражданских) умерло, 10 были госпитализированы. В числе пострадавших оказалось много официальных лиц – секретарь обкома КПСС, заместитель министра внутренних дел республики, заместитель начальника районного отделения милиции, два оперативных уполномоченных милиции, лектор Грозненского горкома КПСС… Ситуация в городе и в республике стала предметом обсуждения на Пленуме ЦК КПСС в сентябре 1958 г. Это единственный известный нам случай подобного обсуждения массовых волнений на партийном пленуме» (В. А. Козлов).
Периодически то в Прибалтике, то в Закавказье возникали стихийные выступления «коренных» с лозунгом: «Русские оккупанты, вон!» Возросшие после XX съезда антисоветские настроения автоматически переносились на орудие и заложников коммунистической политики в национальных республиках – русских, особенно это касается Латвии, где они, направленные по воле компартии строить коммунизм, по численности стали конкурировать с латышами.
Поэтому неудивительно, что с 1960-х гг. из национальных республик начинается отток русского населения, чувствовавшего себя там неуютно. И не только русского, но и вообще «неместного». В середине 1960-х один из корреспондентов-евреев И. Г. Эренбурга так описывал тогдашнюю ситуацию в Баку: «…За десять лет национализм (точнее, национал-шовинизм) принял колоссальные размеры у нас, и все, у кого есть возможность (я имею в виду не азербайджанцев, разумеется!), бегут в Россию… Вообще, национализм и в других республиках стал неофициально поощряться сверху, под видом культурного развития малых народов… Здесь хапают самым беззастенчивым образом, лишь заимев минимум власти. Кто хапает – опять-таки „местные кадры“. Чувствуя безнаказанность, они вообще игнорируют советскую власть…»
Если в 1959–1969 гг. за пределами России проживал 31 % русских, то в 1970–1978 – уже 12 %, а в 1979–1988 – всего 6 %. Особенно сильно численность русских сокращалась в Средней Азии и Закавказье. Но на Украину, в Белоруссию, Прибалтику и Молдову русские еще переезжали. При этом численность молдаван в РСФСР увеличилась за 1979–1988 гг. на 69 % против 10,5 % в своей республике, грузин и армян – на 46 % (в своих республиках – на 10,3 и 13,2 %), азербайджанцев – в 2,2 раза (24 %), узбеков и туркмен – в 1,8 раза (34 %), киргизов – в 2,9 раза (33 %), таджиков – в 2,1 раза (46 %).
«Русско-еврейское предприятие»
Отдельного разговора заслуживает еврейский вопрос, ибо роль евреев, о чем уже говорилось в предыдущей главе, в установлении власти компартии была исключительно велика. Как формулирует Дж. Хоскинг, «на первых этапах развития и становления, Советский Союз был русско-еврейским предприятием…». Израильский историк Жозеф Тартаковский пишет: «Бесспорно, что доля участия евреев в Руководстве СССР в период с 1917 по 1952 год была очень велика, значительно больше, чем была доля евреев в населении СССР. Более того, и в абсолютных цифрах количество евреев в составе Руководства СССР значительно превышало количество деятелей любой другой национальности, разумеется, кроме русских. Так, с 1917 по 1952 в состав Руководства СССР входили 68 евреев, тогда как за этот же период в состав Руководства СССР входили 49 украинцев, 34 армянина, 26 грузин, 23 латыша, 16 белорусов, 14 азербайджанцев, 13 поляков, 12 туркмен и т. д. При этом надо учесть, что большинство из деятелей – не евреев входили в состав руководства своих Союзных республик, тогда как у евреев на территории СССР никогда не было своего национального образования (не считать же таковым ублюдочную Еврейскую автономную область) (действительно, евреи в ней насчитывали не более 0,6 % жителей. – С. С.)».
В 1920—1930-х гг. евреи составляли около 1,8 % населения Страны Советов, а их доля в компартии равнялась 5,2 %, они занимали там третье место после русских (72 %) и украинцев (5,9 %) (на четвертом латыши – 2,5 %). При этом в 1922 г. на XI съезде в ЦК избрали 26 % представителей этой национальности. До конца 1920-х Троцкий, Зиновьев, Каменев были не менее значимыми фигурами в партии, чем Сталин. Даже после разгрома левой оппозиции, который современники иронически сравнивали с еврейским погромом, доля евреев в ЦК оставалась весьма солидной – 11 человек из 71 в марте 1939 г. В 1936 г. в правительстве СССР были представлены 9 наркомов-евреев, среди них главы таких ключевых ведомств, как внутренних (Ягода) и иностранных (Литвинов) дел. В среднем по стране количество евреев в государственном аппарате было больше в шесть с половиной раз, чем в населении страны.
Особенно поражает их обилие в руководстве карательными органами – в период с 1 января 1935 г. по 1 января 1938 г. они возглавляли более половины основных структурных подразделений НКВД. Практически вся верхушка управления ГУЛАГом до конца 1930-х состояла из евреев (начальники Главного Управления лагерей и поселений с 1930 по 1938 г. – Л. И. Коган, М. Д. Берман, И. И. Плинер, их бессменный зам – Я. Д. Рапопорт, руководитель Главного управления лагерей железнодорожного строительства – Н. А. Френкель, начальник Беломорско-Балтийского лагеря – С. Я. Фирин и т. д.). Но и на местах их имелось немало: по данным на 1 марта 1937 г., в областных УНКВД – 1776 человек, или 7,6 % от всех работавших там сотрудников.
Велика также была еврейская доля в советском дипломатическом корпусе. Например, если судить по перечню состава полномочных представительств и консульств СССР за границей 1925 г., то «не было тогда в мире страны, в которую Кремль не направил бы своего верного еврея!» – восклицал в 1989 г. некий еврейский публицист, укрывшийся под псевдонимом М. Зарубежный. В. М. Молотов вспоминал, что, когда он в мае 1939 г. возглавил наркомат иностранных дел, «евреи составляли там абсолютное большинство в руководстве и среди послов».
Вожди Советского Союза неоднократно делали официальные заявления о своем активном неприятии антисемитизма. Например, Сталин в 1931 г.: «Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком каннибализма… В СССР строжайше преследуется законом антисемитизм как явление глубоко враждебное Советскому строю. Активные антисемиты караются законом СССР смертной казнью».
Из этого видно: компартия евреям доверяла, поручая им весьма важные и деликатные дела (например, коллективизацию лично курировал нарком земледелия Я. А. Яковлев-Эпштейн, а «коренизацию» Украины в 1920-х гг. – Л. М. Каганович), подобно тому, как самодержавие в свое время доверяло немцам. По словам Дж. Хоскинга, евреи в 1920– 1930-х гг. «в известном смысле… заняли место немцев в царской администрации как этническая группа, обладающая влиянием, непропорциональным своей долей в составе населения, что стало возможным благодаря их более высокому уровню образования и сильной преданности правящей системе» и, добавим, благодаря резкому неприятию русским большинством коммунистического режима. В контексте русской истории хорошо видно, что евреи стали очередной привилегированной нерусской этнокорпорацией, с помощью которой надзаконная верховная власть проводит в России свою заведомо непопулярную политику. Но, конечно, степень их политического и социокультурного влияния оказалась куда выше, чем у тех же немцев или украинских монахов. Евреи не просто заняли те или иные важные управленческие позиции, они стали важной частью русского социума, составив высший слой городского населения.
«В Советском Союзе евреи были, пожалуй, самой урбанизированной и наиболее образованной национальностью. Еще в 1926 г. 2 144 000 евреев (87 %) проживали в городах. К 1939 г. 40 % евреев являлись жителями крупных городов, в Москве их насчитывалось 400 000 (в 1926 г. – 131 200), в Ленинграде – 250 000, в Одессе – 180 000, Киеве – 175 000, Харькове – 150 000, Днепропетровске – около 100 000… В 1927 г. 23 405 (14,4 %) студентов вузов были представителями этой национальности, к 1935 г. их доля в общей численности лиц, имевших высшее образование, несколько снизилась – до 13,3 %. В 1939 г. из 1000 евреев 268 имели среднее образование и 57 – высшее, тогда как соответствующие показатели для русских составляли 81 и 6 человек. К интеллигенции как социальной „прослойке“ относились к этому времени не менее 700 000 евреев, в том числе 125 000 управленцев и бухгалтеров, 60 000 техников со средним образованием, 46 000 учителей, 31 000 медиков среднего и низшего звена, 21 000 врачей, 47 000 работников культуры и искусства, 7000 ученых, 2000 агрономов и 25 000 инженеров и архитекторов и др.» (Г. В. Костырченко).
Кроме того, во время нэпа евреи практически монополизировали место уничтоженного ранее русского торгового класса. Скажем, в Москве в 1924 г. в еврейских руках находилось 75 % аптекарской и парфюмерной торговли, 55 % мануфактурных лавок и магазинов, 49 % ювелирных, 39 % галантерейных, 36 % дровяных и лесных складов. Характерно признание Бухарина в 1927 г. на партийной конференции: «Во время военного коммунизма мы русскую среднюю и мелкую буржуазию наряду с крупной обчистили», и потому «еврейская мелкая и средняя буржуазия заняла позиции мелкой и средней российской буржуазии… Приблизительно то же произошло с нашей российской интеллигенцией, которая фордыбачила и саботажничала: ее места кое-где заняла еврейская интеллигенция».
Сара Дэвис приводит интересные данные по Ленинграду: «Согласно статистике 1933 г., русские составляли 85,8 % населения Ленинграда, евреи 6,7 %… К 1939 г. русских стало 87 %, евреев 6,3 %… В самом городе евреи в процентном отношении значительно превосходили любую другую группу национальных меньшинств, их доля практически равнялась общей доле всех остальных нерусских национальностей. В 1939 г. в Ленинграде проживало больше евреев, чем где-либо еще в РСФСР, даже больше, чем в Москве, где евреев насчитывалось 6 %… Почти четверть всех евреев, проживающих в городах России, приходилась на Ленинград… В 1924 г. на 19 промышленных предприятиях Ленинграда на 600 всех нерусских рабочих приходилось только 16 евреев. В 1930-х гг. численность евреев, занятых в производстве, оставалась по-прежнему незначительной. Зато среди партийного руководства евреев было необычайно много… хотя в 1930-х гг. их число несколько сократилось… Они также доминировали в среде ленинградской интеллигенции: в 1939 г. евреи составляли 18 % всех ученых и преподавателей в вузах, 20 % инженеров, треть писателей, журналистов и издателей, 31 % директоров, 38 % врачей, 45 % адвокатов и 70 % дантистов».
Все это не могло не вызывать недовольства русского большинства. С. Дэвис, исходя из анализа сводок ОГПУ-НКВД, отмечает устойчивый рост антисемитизма в Ленинграде, причем, как правило, он шел рука об руку с антисоветизмом, ибо, как и в годы Гражданской войны, «сохранилась тенденция объединять евреев и членов партии в одно целое… Евреев также отождествляли с государственной властью… а потому считалось, что они не стоят за интересы рабочего класса. Например, рабочие говорили, что евреи их эксплуатируют, а жаловаться некому, все начальство состоит из них же; что в Испании много евреев, и рабочие там проиграют, потому что „жиды“ их предадут. Евреев характеризовали как людей бесчестных, ведущих паразитический образ жизни, потому что они не трудились, то есть не работали руками; называли торгашами, тунеядцами и обманщиками. Когда СССР оккупировал в 1939 г. Польшу, рабочий с завода „Экономайзер“ советовал убивать меньше поляков и больше евреев, иначе те хлынут в Россию, не будут работать, а в России и так паразитов хватает».
Те же настроения циркулировали и в Москве. Сменовеховец, бывший кадет профессор Ю. В. Ключников, в декабре 1926 г. выступая на «митинге по еврейскому вопросу» в Московской консерватории, сказал: «Создалось определенное несоответствие между количественным составом [евреев] в Союзе и теми местами, которые в городах временно евреи заняли… Мы здесь в своем городе, а к нам приезжают и стесняют нас. Когда русские видят, как русские же женщины, старики и дети мерзнут по 9—11 часов на улице, мокнут под дождем над [лотком] Моссельпрома, и когда они видят эти сравнительно теплые [крытые еврейские] ларьки с хлебом и колбасой, у них появляется ощущение недовольства… Страшно нарушена пропорция и в государственном строительстве и в практической жизни и других областях… Если бы у нас в Москве не было жилищного кризиса – масса людей теснится в помещении, где нельзя совершенно жить, и в то же время вы видите, как люди приезжают из других частей страны и занимают жилую площадь. Это приезжие евреи… Растет национальное недовольство и национальная сторожкость, настороженность других наций. На это не надо закрывать глаза… Массы говорят, что слишком много евреев в Москве. С этим считайтесь, но не называйте это антисемитизмом».
Озабоченность еврейской темой видна в дневниках и переписке виднейших представителей русской интеллигенции, менее всего могущих быть заподозренными в черносотенстве. Историк С. Б. Веселовский записывает в марте 1923 г.: «Наглость и бестактность евреев, две их национальные черты, очень помогают росту антисемитизма. Они не понимают, что им лучше было бы не принимать участия в таких делах, как ограбление и разрушение церквей, вскрытие мощей, и не лезть в „тройки“ по оценке награбленных церковных и музейных ценностей… Но с присущей этой нации физической и политической близорукостью они ринулись без оглядки на эти скверные дела». Вернадский в одном из писем 1927 г. сообщает: «Москва – местами Бердичев, сила еврейства ужасающая, а антисемитизм (и в коммунистических кругах) растет неудержимо». В августе 1928 г., находясь на отдыхе в Ессентуках, он отмечает в дневнике: «Бросается в глаза и невольно раздражает всюду находящееся торжествующее еврейство. Еще в санат[ории] Цекубу их число не так велико – но всюду в парке, на улице местами они преобладают. Редко встречаются тонкие, одухотворенные, благородные лица, – преобладают уродливые, вырождающиеся или лица terra a terre [заурядные]. Они сейчас чувствуют власть – именно еврейская толпа… Все родичи теперешней аристократии, правящего класса, сейчас пользуются вовсю…» Пришвин в ноябре 1938 г.: «Растет необычайно антисемитизм, хотя евреи начинают все лучше и лучше говорить по-русски… Сейчас они управляют всей страной, но не будет же так навсегда… Это курьез: все детские журналы в руках евреев, все дикторы в Радио – евреи, и русскому туда не пробиться. Не хочется, но придется их выгонять, а то рано или поздно их выгонит стихия: бить будут».
Но уже в конце 1930-х количество евреев во власти стало снижаться. В связи с заключением пакта о ненападении с нацистской Германией Молотов, по личному указанию Сталина, убрал «неарийцев» из верхнего эшелона внешнеполитического ведомства. Но особенно впечатляющее сокращение еврейского элемента произошло в НКВД, где во время Большого террора были выметены кадры Ягоды, – к 1 января 1939 г. среди руководителей ведомства осталось только 6 % евреев. Однако «эта „ротация“ не имела специальной антиеврейской направленности», то, что «среди уволенных и арестованных чекис тов было довольно много евреев… объяснялось их высокой кон центрацией в спецслужбах» (Г. В. Костырченко). Характерно, что в 1937–1938 гг. численность русских в ГУЛАГе возросла почти на 5 %, а численность там евреев, напротив, сократилась почти на 3 %; количество русских в составе заключенных в это время (60,3 %) более чем на 2 % превышало их долю в общесоюзной численности населения (58 %), а аналогичный показатель у евреев был меньше на 0,2 % (соответственно 1,7 и 1,5). Во время войны евреев берегли. В 1941–1942 гг. из прифронтовой полосы было отправлено в глубокий тыл около 2 млн граждан еврейской национальности (13,3 % от 15 млн всех эвакуированных), тем самых спасенных компартией от геноцида.
Настоящее гонение ждало советских евреев после 1948 г. Обеспокоенный проамериканской ориентацией Израиля Сталин устроил бескровную, но весьма внушительную «этническую чистку» аппарата, в результате которой представительство евреев в советской номенклатуре с 1945 г. сократилось к началу 1952 г. более чем на 60 %. За «националистическую деятельность» в 1948–1953 гг. было репрессировано около 1 тыс. евреев, в том числе расстреляно около ста. Развернутая в конце 1940-х «борьба с космополитизмом» несколько потеснила еврейские позиции в литературном мире. Характерно, что тот же Пришвин, при всем человеческом сочувствии к конкретным жертвам этой кампании, на первых порах воспринял ее с немалым энтузиазмом: «Евреи совсем было уверились, что нашли в Москве свою Палестину, но получился и для нового Израиля старый Египет… Чувство радости освобождения… перекликается со днями Февральской революции…» Но позднее его радость омрачилась тем, что еврейские кадры на ключевых постах в Союзе писателей заменяются ничуть не лучшими (а то и худшими) русскими литчиновниками типа Ф. Панферова или А. Софронова.
В итоге Пришвин приходит к грустному выводу: «…скорее всего, существует бессмертная еврейская либеральная партия, для которой выступление „русской“ партии, вроде панферовской, только выходка русской некультурности. Каждый большой, независимый русский талант для еврея является сучком, на который сядет он, и потому каждый русский незаменимый талант надо беречь, а талант заменимый надо заменить евреем. Эта простая политика у нас останется до тех пор, пока не нарастет большая русская интеллигенция».
Интуиция не подвела Пришвина: если из политической элиты, а также из силовых структур и ВПК евреи оказались во многом вытеснены, то в интеллигентской среде «еврейская либеральная партия» оказалась воистину «бессмертной» – ее потомственно-кланово сложившееся влияние в сфере науки, культуры, образования оставалось огромным. «По уровню образования евреи к концу 1950-х гг. значительно обгоняли другие советские национальности. В РСФСР из 1000 евреев 556 имели среднее и высшее образование, а аналогичный показатель для русских составлял 82. В подавляющем своем большинстве евреи входили в социальные страты служащих и интеллигенции, и поэтому по уровню урбанизации они так же лидировали: в РСФСР доля евреев-горожан составляла 94,8 % (у русских – 54,9 %). Это нацменьшинство проживало по преимуществу в крупных городах страны: в Москве числилось 239 246 евреев (4 % от всего населения столицы), Ленинграде – 168 246 (5,8 %), в Киеве – 153 466 (14 %)» (Г. В. Костырченко). Даже после нескольких лет активной еврейской эмиграции число евреев – научных работников составило в 1973 более 6 %. «Еврейское население, составляя 0,69 процента от всего населения страны, представлено в ее политической и культурной жизни в масштабах не менее 10–20 процентов», – заявил в 1986 г. Горбачев.
Важно отметить, что с середины 1960-х евреи перестали быть самой просоветской этнической группой населения, а параллельно вытеснению их из высших эшелонов политической элиты, напротив, сделались основой антисоветской оппозиции, что видно по их незаурядной активности в диссидентском движении. В годы перестройки евреи снова явились «проводниками модернизации», на сей раз капиталистической, подтверждая этим еще одно пророчество Пришвина 1937 г.: «Положение толкача Кагановича никогда не удовлетворит еврея: рано или поздно он возвратит свой советский паспорт и потребует капитализма».
Во время арабо-израильских войн среди евреев СССР стал пробуждаться национализм. Юдофильски настроенный драматург А. К. Гладков записал в дневнике в июле 1967 г.: «Любопытно, как израильско-арабское столкновение стимулировало рост еврейского национализма у нас, даже в исконно космополитско-ассимиляторской среде. Яркий пример Л. Сегодня я напомнил ему, как всего год или полтора назад он яростно спорил со мной о невозможности отрицать генетическую наследственность и о том, что есть у людей „славянское“, „немецкое“, „еврейское“. Сегодня, когда он говорил о национализме как движущей силе истории, я напомнил ему этот спор, в котором он отрицал „национальное“ в любом виде[,] и он сказал: – Значит, тогда я был неправ… Но он неправ и нынче, ибо опять верит в крайнюю точку зрения и готов все мерить мерилом национального… Пожалуй, сколько ни живу, я еще не видел такого цветения у нас еврейского национализма».
От государственной русофобии – к «национал-большевизму»
А что же русский национализм? Как видно из предыдущего изложения, в 1920-х – начале 1930-х не то что национализм, сама сфера национального как таковая была для русских фактически табуирована. Показателен пассаж из записных книжек 1926 г. известного советского литературоведа Л. Я. Гинзбург, человека вполне «просоветского» круга Тынянова, Шкловского, Эйхенбаума: «У нас сейчас допускаются всяческие национальные чувства, за исключением великороссийских. Даже еврейский национализм, разбитый революцией в лице сионистов и еврейских меньшевиков, начинает теперь возрождаться политикой нацменьшинств. Внутри Союза Украина, Грузия фигурируют как Украина, Грузия, но Россия – слово, не одобренное цензурой, о ней всегда нужно помнить, что она РСФСР. Это имеет свой хоть и не логический, но исторический смысл: великорусский национализм слишком связан с идеологией контрреволюции (патриотизм), но это жестоко оскорбляет нас в нашей преданности русской культуре».
Иначе как русофобским официозный дискурс того времени не назовешь. В программной работе вождя партии и председателя правительства о русских – без всяких попыток их социальной дифференциации – говорилось как о «так называемой „великой“ нации (хотя великой только своими насилиями, великой только так, как велик держиморда)». Главный теоретик партии Бухарин вплоть до 1936 г. печатно пропагандировал концепцию «русские – „нация обломовых“» и бдительно боролся с любыми проявлениями «великорусского шовинизма» (в том числе и в поэзии Есенина – см. его статью 1924 г. «Злые заметки»). Наркомпрос А. В. Луначарский задачу советского образования видел в том, чтобы русские, «если у них есть предубеждение в пользу русского народа, русского языка или русского села… должны осознать, что это чувство – самое неразумное предубеждение». Замнаркомпрос, практически официальный руководитель советской исторической науки М. Н. Покровский объявлял, что «„русская история“ – есть контрреволюционный термин», и доказывал, что «великорусская народность» – фикция буржуазных историков.
Целый хор «пролетарских поэтов» – Демьян Бедный, А. Безыменский, Джек Алтаузен, В. Александровский, А. Ясный и проч. (имя им легион…) – на разные лады проклинал само «растреклятое» слово «Русь», «чтоб слова такого не вымолвить ввек» (Безыменский). В 1931 г. партийный критик О. М. Бескин, директивно и издевательски обвиняя так называемых крестьянских поэтов (Н. Клюева, С. Клычкова, П. Орешина) в таких страшных преступлениях, как «славянофильство», «русопятство», «погружение в глубины „народного духа“ и красоты „национального фольклора“», а главное, в именовании СССР – «Советской Русью», предельно откровенно написал: «Великодержавнику Клычкову никогда не понять, не дойти до того, что Октябрьская революция – не русская революция».
Тотальное отречение от русского прошлого выразилось и в настоящей оргии разрушения. К концу 1930-х из 80 тыс. православных храмов сохранилось лишь 19 тыс., большинство которых использовалось под разного рода хозяйственные помещения или клубы. В невероятных масштабах истреблялись иконы. Гибли и светские исторические памятники, в том числе связанные с войной 1812 г. Подверглись уничтожению или надругательству могилы героев Куликовской битвы, Минина и Пожарского, генерала Багратиона.
Стремясь ликвидировать политически опасный, «контрреволюционный» русский национализм, с одной стороны, и пригнуть русских под ярмо «позитивной дискриминации» – с другой, большевики сформулировали официальную государственную доктрину, согласно которой «русский народ должен расплачиваться за свои прежние привилегии и шовинизм» – «русские зачислялись теперь в разряд угнетающей нации, несмотря на то что до 1917 г. русские крестьяне едва ли в большей мере чувствовали свое родство с правящей элитой, чем сельские жители в нерусских регионах России»; «русская нация… предстала в отталкивающем облике некоего союза угнетателей» (Й. Баберовски). То есть марксистами-большевиками были забыты всякие классовые критерии – русских дискриминировали по этническому принципу, это в равной степени касалось и интеллигенции, и крестьянства, и рабочего класса. «Традиционная русская культура была осуждена как культура угнетателей» (Т. Мартин).
Даже русский гражданский алфавит объявлялся председателем подкомиссии по латинизации при Главнауке Н. Ф. Яковлевым «алфавитом самодержавного гнета, миссионерской пропаганды, великорусского шовинизма» – его планировали перевести на латиницу (к 1930 г. на латинский алфавит перешли уже 36 языков народов СССР). «До 1932 г. ни в одном официальном документе не найти указания на признание русской идентичности, а в советском Народном комиссариате по делам национальностей были представлены только нерусские» (Дж. Хоскинг). Русские не упоминались не только в союзных конституциях 1924 и 1936 гг., но и в конституциях РСФСР 1918, 1925, 1937 гг.
Естественно, никаких институтов национального государства русским не было дозволено. РСФСР не считалась русской республикой. «…У нас фактически нет Русской республики. Имеется Российская Федеративная Республика. Она не Русская, она Российская», – писал в 1930 г. Сталин. Во-первых, в ней было специально выделено множество автономных национальных образований: на закате советской эпохи насчитывалось 16 автономных республик, 5 областей и 10 округов. При этом в 1920-х гг., скажем, в Мордовской АССР население на 60 % состояло из русских (по переписи 1970 г., мордвы – 365 тыс., русских 607 тыс.), более половины населения они составляли в Карельской (по переписи 1970 г., карел – 84 тыс., русских – 486 тыс.) и Бурятской АССР (по переписи 1970 г., бурят – 179 тыс., русских – 597 тыс.), на 6 % меньше, чем татары, – соответственно 43 и 49 – в Татарской АССР (по переписи 1970 г., татар – 1 млн 536 тыс., русских – 1 млн 329 тыс.), в Башкирии вообще жило всего 23,7 % башкир (по переписи 1970 г. башкир – 892 тыс., русских – 1 млн 546 тыс.). Во-вторых, у русских не было своей национальной компартии, как у всех народов союзных республик («Мы не забыли [ее] создать, – объяснял позднее Молотов. – Просто для нее не было места»), своей особой столицы, Академии наук и т. д. «У них не было средств защищать собственные интересы, когда они сталкивались с интересами других национальностей» (Хоскинг).
Но диалектика истории полна парадоксов. И получилось так, что сугубые интернационалисты, мечтавшие «расплавить» даже памятник Минину и Пожарскому (такой призыв содержался в стихотворении 1930 г. пролетарского поэта Алтаузена), волею некоторых исторических обстоятельств внесли немалый вклад в русское нациестроительство. О том, как это происходило, хорошо рассказал современный американский историк Д. Бранденбергер в своей основанной на тщательной работе с архивами монографии «Национал-большевизм», посвященной культурной политике Сталина 1930-х гг.
Национал-большевистский поворот советского руководства к русскому патриотизму есть последствие неожиданного для вождей «первого в мире социалистического государства» зигзага истории. Первоначально сей поворот был делом тактики, а не стратегии. В конце 1920-х гг., когда возникла некая смутная угроза интервенции капиталистических держав против СССР, агентурные сводки секретных сотрудников давали совершенно чудовищные данные, что народ не хочет воевать за советскую власть, что идут разговоры: мол, и прекрасно, если придут иностранцы и свергнут ее, – и это практически всеобщее народное настроение. Таким образом, вся «пролеткультовская» культурная политика большевиков, направленная на создание у русских новой безнациональной идентичности советского человека, просто провалилась. Это посеяло панику в головах большевистских вождей, и они стали разрабатывать новые культурные стратегии.
Сначала попытались создать собственно советскую, пусть недлинную, историю (ранее историю, как таковую, упразднили вовсе) – революция, Гражданская война с соответствующим пантеоном героев; а параллельно с этим – реабилитировать какую-то часть русского национального прошлого. Эти два процесса развивались одновременно, у Сталина и его помощников сперва не было намерения проводить слишком мощную русско-патриотическую кампанию. Но затея по созданию пантеона героев революции и гражданской войны зашла в тупик, ибо во второй половине 1930-х последних постоянно отстреливали как «врагов народа», и приходилось все время что-то переписывать и переделывать. Только что издали некий том, где прославлены Блюхер и Якир, и вот уже их нет, и нужно эти имена вымарывать! Зато реабилитация русского дореволюционного прошлого сработала очень эффективно (что с полной очевидностью доказывает, насколько национальное чувство естественно и насколько противоестественен интернационализм). В конце концов, именно на нее и была сделана ставка.
Таким образом, совершенно не желая того, большевики создали некую старо-новую культурную идентичность – русско-советскую. И транслировали ее в широкие народные массы, «от Москвы – до самых до окраин». Говоря афористически, в массовом русском сознании Пушкин стал великим национальным поэтом именно в 1937 г., благодаря празднованию его юбилея на государственном уровне, когда из каждого радиоприемника, из каждого уличного репродуктора неслись пушкинские строки, а Александр Невский – великим национальным героем в 1938-м, благодаря всесоюзному прокату одноименного фильма Сергея Эйзенштейна. Посредством введения всеобщего среднего образования и активной просвещенческой политики в формально антинациональном (для русских) СССР культура русской элиты («нации») наконец-то стала достоянием низов («народа»).
И это касалось не только литературы или истории, но даже и таких уж вовсе «элитарных» вещей, как классическая музыка (вспомним, замечательный фильм 1940 г. с Сергеем Лемешевым «Музыкальная история», рассказывающий о том, как простой парень-таксист становится оперным певцом, приобщаясь к наследию Чайковского и Римского-Корсакова, – и ведь действительно было немало сходных реальных биографий). Понятно, что большевики сильно купировали дореволюционную культуру, а дозволенное стремились интерпретировать в духе своей идеологии, но у культурной рецепции своя логика – Суворов, Толстой, Глинка или Суриков из-за своего масштаба не могли быть просто «инструментами» режима, они начинали «работать» самостоятельно.
Произошла и определенная «русификация» всего СССР, в 1938 г. русский язык сделался обязательным предметом во всех школах союзных республик. К апрелю 1940 г. все национальные алфавиты были переведены на кириллицу.
Но ни материальное, ни социально-политическое положение русских эта «русификация» к лучшему не изменила. Они по-прежнему подвергались «позитивной дискриминации» в пользу нацокраин, по-прежнему были лишены каких-либо институтов, представляющих их национальные интересы. Наконец, именно русские преобладали среди репрессированных в конце 30-х годов: «Об этническом составе заключенных в сравнении с данными по населению страны можно судить по следующим цифрам (в числителе – доля данной этнической группы в составе заключенных, в знаменателе – в общесоюзной численности населения): русские – 60,3/58,0 %; украинцы – 16,8/16,3; белорусы – 4,8/3,0; узбеки – 3,5/2,8; евреи – 1,5/1,7; грузины – 0,5/1,2; армяне – 0,6/1,2 %. Доля других групп ниже 0,5 %» (С. А. Красильников).
Третья отечественная
Великая Отечественная война еще более усилила «национал-большевистскую» тенденцию, поскольку было ясно, что для спасения страны нужно обращаться не к интернационалистским химерам, а к русскому патриотическому чувству. Тем более, что в начале войны русские явно не горели желанием сражаться за советскую власть, о чем свидетельствует невероятное количество советских военнослужащих, оказавшихся за первые 5 месяцев войны в немецком плену, – около 3,8 млн, то есть 70 % от численности РККА на 22 июня 1941 г. И еще более тревожный сигнал: из числа этих пленных 800–900 тыс. человек перешли на сторону врага и поступили в немецкие вооруженные силы. Всего же, включая перебежчиков, полицаев и т. д. с оружием в руках против СССР воевали более миллиона советских граждан, среди них не менее двух третей составили восточные славяне – русские (300 тыс. и 70 тыс. особо выделявших себя казаков), украинцы (250 тыс.) и белорусы (70 тыс.). Такое количество «изменников Родины» – «явление… в русской истории небывалое» (С. Г. Пушкарев).
Кто знает, как бы сложился исход войны, поведи Гитлер более русофильскую политику. Но ни ужасающее обращение с русскими пленными, ни сохранение колхозов на «освобожденных территориях» для удобства их управления, ни нежелание создать некое авторитетное русское «правительство в изгнании» не могло вдохновить русское большинство на союз с Третьим рейхом. В сложившейся ситуации и РОА, и подконтрольные немцам территориальные образования с элементами местного самоуправления типа Локотской республики, и русский коллаборационизм в целом не имели возможности стать реальной «третьей силой». Поэтому русские все же предпочли откровенному иноземному порабощению тираническую власть компартии, которая к тому же заговорила с ними на языке национального патриотизма.
Сам глава партии и государства в ноябре 1941-го принялся апеллировать к еще недавно «контрреволюционной» русской истории: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!» А чего стоит знаменитое симоновское «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», опубликованное в 1943 г. в главной армейской газете «Красная Звезда», с его каким-то сакрально-заклинательным и количественно просто зашкаливающим использованием слова «русский» и полным отсутствием слова «советский»:
По русским обычаям, только пожарища На русской земле раскидав позади, На наших глазах умирали товарищи, По-русски рубаху рванув на груди. Нас пули с тобою пока еще милуют. Но, трижды поверив, что жизнь уже вся, Я все-таки горд был за самую милую, За горькую землю, где я родился, За то, что на ней умереть мне завещано, Что русская мать нас на свет родила, Что, в бой провожая нас, русская женщина По-русски три раза меня обняла.Или фильм Ивана Пырьева «Секретарь райкома» (1942), где финальная схватка партизан с нацистскими оккупантами символически происходит в православном храме. Изменения в официозном дискурсе были столь велики, что историк старой школы А. И. Яковлев, некогда репрессированный по Академическому делу, а ныне лауреат Сталинской премии, на заседании Наркомпроса 7 января 1944 г. позволил себе следующее предложение: «Мне представляется необходимым выдвинуть на первый план мотив русского национализма. Мы очень уважаем народности, вошедшие в наш Союз, относимся к ним любовно. Но русскую историю делал русский народ. И мне кажется, что всякий учебник о России должен быть построен на этом лейтмотиве… Этот мотив национального развития, который так блистательно проходит через курс истории Соловьева, Ключевского, должен быть передан всякому составителю учебника… Мы, русские, хотим истории русского народа, истории русских учреждений, в русских условиях». Предложение это тогда отвергли и осудили как идеологически вредное, но еще несколько лет назад такая лексика в Наркомпросе была просто непредставима. И как бы потом советская идеология ни пыталась отойти назад, «русоцентризм» (термин Бранденбергера) в ней сохранялся до самого конца СССР.
Тяжелейшая и самая страшная по потерям (официальная сегодняшняя цифра 27 млн, видимо, не окончательная) в истории России война была выиграна только благодаря русской силе и упорству. Воинские качества большинства других народов СССР, в пользу которых проводилась политика «позитивной дискриминации», оказалась более чем скромными. «Уже первые годы войны показали, что формирование воинских частей из местных национальностей в Закавказье, на Кавказе и в Средней Азии не оправдывает возлагавшихся на них советским военно-политическим руководством надежд: части эти отличались низкой боеспособностью, в них был велик процент „самострелов“, дезертирства, бегства с поля боя и перехода на сторону врага. Однако и в тех случаях, когда речь шла не о национальных воинских частях как таковых, но о пополнении частей действующей армии призывниками с Кавказа, Закавказья и Средней Азии, положение дел было не намного лучше. Официальные документы с фронта в 1941–1942 гг. буквально пестрят сообщениями о тех проблемах, с которыми приходилось сталкиваться командованию частей и подразделений Красной армии в их попытках сделать минимально боеспособными части и соединения, где значительную часть военнослужащих составляли призывники с Северного Кавказа, а также из Закавказья и Средней Азии» (Т. А. Дмитриев).
Так, например, прибыв на Крымский (до 28 января – Кавказский) фронт 20 января 1942 г. в качестве представителя Ставки Верховного главнокомандования, заместитель наркома обороны СССР, начальник Главного политического управления Красной армии Л. З. Мехлис просил дать ему «пополнение именно русское и обученное, ибо оно пойдет немедленно в работу» и недвусмысленно потребовал от командующего СКВО генерала В. Н. Курдюмова очистить части округа от «кавказцев» (выражение самого Мехлиса) и заменить их военнослужащими русской национальности.
Начальник политотдела Северной группы войск Закавказского фронта бригадный комиссар Надоршин доносил начальнику Главпура А. С. Щербакову: «В результате запущенности воспитательной работы с личным составом, плохого изучения и знания людей, в результате отсутствия элементарной работы по сколачиванию подразделений и подготовке их к участию в боях состояние большинства национальных дивизий до последнего времени было плохое. В частях этих дивизий имелись массовые случаи дезертирства, членовредительства и измены Родине. Две национальные дивизии – 89-я армянская и 223-я азербайджанская – по своей боевой подготовке и политико-моральному состоянию личного состава были признаны небоеспособными и отведены во второй эшелон. 223-я дивизия, не вступив еще в бой и только находясь на марше для занятия участка обороны, показала свою небоеспособность. На этом марше из частей дивизии дезертировало 168 человек одиночками или группами, унеся с собой оружие и боеприпасы. 89-я дивизия с первых же дней боев при незначительном столкновении с противником дрогнула, растеряла много людей, техники и оружия и также показала себя неспособной выполнить хоть сколько-нибудь серьезную задачу… Аналогичное положение вскрыто сейчас и в 392-й грузинской дивизии».
А вот воспоминания на ту же тему известного советского поэта Б. А. Слуцкого, с осени 1942 г. – инструктора, с апреля 1943 г. – старшего инструктора политотдела 57-й дивизии: «Оглядевшись и прислушавшись, русский крестьянин установил бесспорный факт: он воюет больше всех, лучше всех, вернее всех… Уже к концу первого года войны военкоматы выволокли на передовую наиболее дремучие элементы союзных окраин – безграмотных, не понимающих по-русски, стопроцентно внеурбанистических кочевников. Роты, составленные из них, напоминали войско Чингиза или Тимура – косоглазое, широкоскулое и многоязычное, а командиры рот – плантаторов и мучеников сразу, надсмотрщиков на строительстве вавилонской башни на другой день после смешения языков. Офицеры отказывались принимать нацменов. Зимой 1942 года в 108-ю дивизию подбросили пополнение – кавказских горцев. Сначала все были восхищены тем, что они укрепляли на ветке гривенник, стреляли и попадали. Так в то время не стрелял никто. Снайперов повели в окопы. На другой день случайная мина убила одного из них. Десяток земляков собрался возле его трупа. Громко молились, причитали, потом понесли – все сразу. Начались дезертирства и переходы. Провинившиеся бросались на колени перед офицерами и жалко, отвратительно для русского человека, целовали руки. Лгали. Мы все измучились с ними. Нередко реагировали рукоприкладством. Помню абхазца с удивительной японской фамилией, совсем дикого, который ни в какую не хотел служить. Трудно было пугать прокуратурой людей, не имевших представления об элементарной законности. Абхазец по-детски плакал, выпрашивал супу на дальних кухнях. Командиры рот в наказание получали его поочередно».
Как следствие, «большая часть (55,4 %) созданных на рубеже 1941–1942 гг. национальных соединений были расформированы, не успев принять участия в бою… Из среднеазиатских соединений были расформированы 80,6 % соединений»; в целом ряде дивизий «удельный вес военнослужащих кавказского происхождения целенаправленно сводился к минимуму путем перебросок личного состава, нередко очень масштабных… Из 61-й стрелковой дивизии в августе 1942 г. распоряжением Генштаба были предварительно изъяты 3736 армян, 2721 азербайджанец, 510 дагестанцев. Образовавшийся некомплект покрывался за счет русских, украинцев, белорусов…» (А. Ю. Безугольный).
Более того, «советское руководство было вынуждено пой ти на беспрецедентный шаг – полностью отказаться от призыва на действительную воинскую службу и направления в действующую армию военнообязанных из числа местного населения из республик Средней Азии, Закавказья и Северного Кавказа… Общее число национальностей СССР, не призывавшихся в армию, в конце 1943 г. достигло 43, что практически один к одному совпадало с числом (45 национальностей), не призывавшихся в армию в царской России…» (Т. А. Дмитриев).
Отсюда значительно более низкие боевые потери этих народов. Так, «потери осетин… в 1,7 раза ниже их удельного веса среди населения Советского Союза; кабардинцев и балкарцев – в 3,3 раза; дагестанцев – в 3,9 раза; чеченцев и ингушей – более чем в 11 раз. Напротив, это соотношение у русских составило 1,13:1. Существенно ниже относительные потери среднеазиатских и закавказских народов…» (А. Ю. Безугольный).
Растоптанная победа
Победа в войне возбудила надежды, что за ней последует либерализация режима. «Мне думается, что народ, способный на такой внемасштабный подъем, одерживающий такие победы, сумевший за два года так научиться воевать, должен исторически получить вознаграждение, должен сам выбирать формы своей жизни; он завоевал себе право на полную свободу, на уничтожение крепостного права, колхозов и пр.», – записала в дневнике в январе 1944 г. Л. В. Шапорина. Генерал-полковник В. Н. Гордов говорил жене, что когда он проехал по стране в качестве депутата Верховного Совета, то увидел, в какой нищете и лишениях там живут люди, понял, что Сталин «разорил Россию, ведь России больше нет», и «совершенно переродился»: «Я убежден, что если сегодня распустить колхозы, завтра будет порядок, будет рынок, будет все. Дайте людям жить, они имеют право на жизнь, они завоевали себе жизнь, отстаивали ее!»
Но после войны русские получили в красочной упаковке велеречивого сталинского тоста, где они были названы «наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза», только новый страшный голод, усиление колхозного рабства, репрессии против военной и партийной элиты. В 1946–1952 гг. были арестованы и привлечены к суду несколько маршалов, адмиралов, десятки генералов и офицеров, троих из них – маршала Г. И. Кулика, упомянутого выше В. Н. Гордова и генерал-майора Ф. Т. Рыбальченко, который тоже вел крамольные разговоры, – расстреляли. В опале оказался даже символ Победы – Г. К. Жуков.
30 сентября 1950 г. в Ленинграде были приговорены к расстрелу: член политбюро ЦК ВКП(б), заместитель председателя Совета министров СССР, председатель Госплана СССР Н. А. Вознесенский; секретарь ЦК ВКП(б), член оргбюро ЦК, начальник Управления кадров ЦК партии А. А. Кузнецов; председатель Совета министров РСФСР, кандидат в члены ЦК ВКП(б), член оргбюро ЦК ВКП(б) М. И. Родионов; первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), кандидат в члены ЦК ВКП(б) П. С. Попков; второй секретарь Ленинградского горкома ВКП(б) Я. Ф. Капустин; председатель исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся П. Г. Лазутин. С 1946 г. смертная казнь в СССР была отменена, но ради столь высокопоставленных подсудимых 12 января 1950 г. специальным указом президиума Верховного Совета СССР ее разрешили применять «к изменникам родины, шпионам, подрывникам-диверсантам». Затем по тому же Ленинградскому делу в Москве расстреляли еще двадцать человек (среди них – зампред Совмина РСФСР, председатель Госплана РСФСР М. В. Басов, замминистра морского флота СССР А. Д. Вербицкий, министр просвещения РСФСР А. А. Вознесенский, первый секретарь Крымского обкома партии Н. В. Соловьев). Несколько человек скончались во время допросов.
«Судебные процессы и моральные и политические расправы над… русскими руководителями по „Ленинградскому делу“ продолжались по всей стране вплоть до смерти Сталина. В Ленинграде на длительные сроки тюремного заключения были осуждены больше 50 человек, работавших секретарями райкомов партии и председателями райисполкомов. Свыше 2 тысяч человек были исключены из ВКП(б) и освобождены от работы. Тысячи руководящих работников были репрессированы в Новгородской, Ярославской, Мурманской, Саратовской, Рязанской, Калужской, Горьковской, Псковской, Владимирской, Тульской и Калининской областях, в Крыму и на Украине, в среднеазиатских республиках. Отстранены от должностей и понижены в должностях более двух тысяч военных командиров по всей стране. Всего (по позднейшим оценкам) по всему СССР, но в основном по РСФСР, репрессиям по этому „делу“ были подвергнуты более 32 тысяч этнически русских руководителей партийного, государственного, хозяйственного звена» (В. Д. Кузнечевский).
Одним из главных обвинений против «ленинградцев» было следующее: «Во вражеской группе Кузнецова неоднократно обсуждался и подготовлялся вопрос о необходимости создания РКП(б) и ЦК РКП(б), о переносе столицы РСФСР из Москвы в Ленинград. Эти мероприятия Кузнецов и др. мотивировали в своей среде клеветническими доводами, будто бы ЦК ВКП(б) и союзное правительство проводят антирусскую политику и осуществляют протекционизм в отношении других национальных республик за счет русского народа». И обвинение это имело под собой определенную почву. М. И. Родионов, например, будучи главой правительства РСФСР, ставил перед Сталиным вопрос о создании компартии, флага и гимна России, а ее столицей предлагал сделать Ленинград. Он даже заказал музыку гимна России Д. Д. Шостаковичу, а слова – С. П. Щипачеву, гимн заканчивался куплетом:
Славься, Россия – отчизна свободы! К новым победам пойдем мы вперед. В братском единстве свободных народов Славься, великий наш русский народ!Так был в зародыше уничтожен потенциальный политический субъект не декоративной только, а реальной, структурной «русификации» режима, которая высшим руководством компартии вовсе не планировалось, ибо, как и Российская империя, империя Советов стояла на фундаменте русского неравноправия. И любое поощрение русского чувства, мысли или дела «сверху» всегда преследовало исключительно прагматические, инструментальные цели. Было понятно, что с помощью только одного кнута все время держать русских в положении главной рабочей лошадки СССР не получится, нужны и пряники, но не слишком много, а то как бы лошадка не захотела ездить сама, «по своей глупой воле». Поэтому русский фактор «использовался в той мере и в тех пределах, в которых это укрепляло базовые принципы режима (монопольная власть партии, коммунистическая идеология) и способствовало осуществлению главных государственных приоритетов…» (Т. Д. Соловей, В. Д. Соловей). И вовсе не случайно, а совершенно логично коммунисты, одной рукой создавая очень важные предпосылки русской нации, другой – под корень ее подрывали. Коммунистическая политика самым радикальным образом лишила русских собственности и политической субъектности, без чего полноценной нации не может быть по определению.
Никаких институтов русской государственности в РСФСР так и не возникло. Как и прежде, русские не упоминались в союзной конституции 1977 г., в конституции РСФСР 1978 г. русские присутствуют, но без всякого правового статуса: «Образование РСФСР обеспечило русскому народу, всем нациям и народностям Российской Федерации благоприятные условия для всестороннего экономического, социального и культурного развития, с учетом их национальных особенностей в братской семье советских народов». «Таким образом, хотя, с одной стороны, в Конституции из всех народов упомянут лишь русский, с другой стороны, именно не упомянутые в ней народы дают имена различным автономиям в составе РСФСР» (А. Ф. Филиппов).
И ничего не изменил тот факт, что этнических русских в ЦК КПСС к началу 1980-х насчитывалось 67 %, а в конце 1980-х русскими были 8 из 10 членов политбюро и 10 из 11 секретарей ЦК. «В политике Кремля невозможно обнаружить хотя бы намека на приоритет русских интересов как интересов этнической группы» (Т. Д. Соловей, В. Д. Соловей). Политически отчужденная от народа власть не может быть национальной в принципе, сколь бы она ни была этнически с последним связана. Высшая партноменклатура стала своеобразной метрополией, эксплуатирующей колонию Россию, заменив в этой роли социально-политическую верхушку Российской империи.
«Русская партия»
Как видим, условий для развития русского политического национализма в СССР не было, ибо вся сфера политического там ограничивалась рамками компартии. Нелегальные организации русских националистов жестко подавлялись, так, в 1967 г. на разные сроки был осужден 21 участник подпольного Всероссийского социал-христианского союза освобождения народов, готовившего ни много ни мало свержение коммунистического режима (лидер ВСХСОН И. В. Огурцов получил 15 лет лагерей).
После этого деятельность националистов-диссидентов свелась почти исключительно к самиздату. Наиболее известны машинописные журналы начала 1970-х «Вече» и «Земля», душой которых был В. Н. Осипов, и «Московский сборник» Л. И. Бородина, выходившие тиражом не более ста экземпляров (а обычно – двадцать – тридцать). В этих изданиях не содержалось никаких призывов к борьбе с существующим строем, они занимались главным образом пропагандой русских исторических традиций и «государствообразующего» значения русского народа. «Ни для никого не секрет, что русские были и остаются фундаментом многонациональной державы… Вся многонациональная громада нашего государства вращается именно вокруг русского стержня, и если сейчас вырастающие центробежные силы готовы разорвать эту громаду, то следует думать, в первую очередь, об укреплении самого стержня», – писало «Вече» в 1973 г. в редакционной статье «Борьба с так называемым „русофильством“ или путь государственного самоубийства».
Но даже и эта более чем умеренная оппозиция влекла за собой суровые кары – Осипов в 1975 г. получил 8 лет «строгого режима», Бородин в 1982-м (правда, уже не за самиздат, а за тамиздат) – 10 лет. На грани ареста в начале 1980-х находился наиболее значительный интеллектуал националистического диссидентства – всемирно известный математик И. Р. Шафаревич. В 1974 г. был выслан на Запад А. И. Солженицын, высказывавший в «Письме вождям Советского Союза» (1973) определенно националистические идеи. Но количественное влияние сам– и тамиздатских текстов русских националистов было крайне невелико.
Гораздо больший резонанс имела легальная печатная продукция «системных» националистов, участников так называемой русской партии, возникшей в среде русской гуманитарной интеллигенции в середине 1960-х и действовавшей на основе структур Всероссийского общества охраны па мятников и культуры. Ее ядро составили литературоведы В. В. Кожинов, П. В. Палиевский, критики А. П. Ланщиков, М. П. Лобанов, О. Н. Михайлов, Ю. И. Селезнев, В. А. Чалмаев, историки С. Н. Семанов и А. Г. Кузьмин, публицисты В. Н. Ганичев и Д. А. Жуков, поэт С. Ю. Куняев, театровед М. Н. Любомудров, художник И. С. Глазунов и др. Под влиянием РП находились журналы «Молодая гвардия», «Наш современник», «Москва», издательства «Молодая гвардия», «Современник», «Советская Россия». К ней тяготели так называемые писатели-деревенщики – В. П. Астафьев, В. И. Белов, В. Г. Распутин, В. А. Солоухин, В. М. Шукшин и др. Идеология РП, прикрывающаяся официальным «национал-большевизмом», подспудно, однако, вносила в него принципиально новое содержание. Кратко говоря: если в «национал-большевизме» русское обретало легитимность как то, что породило советское, то в версии РП, напротив, советское оправдывалось как органическое продолжение русской истории.
Большинство публицистов РП были далеки от коммунизма и марксизма, они осторожно, но последовательно реабилитировали православие, русскую религиозную философию и, в общем, самодержавие (Солоухин демонстративно носил перстень с изображением Николая II). Обе революции 1917 г. воспринимались ими как катастрофа, период до середины 1930-х гг. отрицался как нигилистический и разрушительный, зато «национал-большевистский» поворот приветствовался как возвращение к истокам. Власть компартии трактовалась как меньшее зло по сравнению с «вырождающейся» западной демократией, предполагалось, что она может постепенно отказаться от коммунистической идеологии и стать просто традиционной русской авторитарной государственностью (весьма, впрочем, идеализированно представляемой), поэтому прямая политическая оппозиция по отношению к ней не приветствовалась.
«…Для нас не столько важна победа демократии над диктатурой, сколько идейная переориентация диктатуры, своего рода идеологическая революция. Такого рода революция может совершиться и бескровно, как победа христиан в Римской империи…» – декларировалось в самиздатском программном документе русских националистов, написанном публицистом А. М. Ивановым (Скуратовым), «Слово нации» (1970). Наиболее склонный из всех своих соратников к радикальным формулировкам С. Н. Семанов записал в дневнике в 1969 г.: «Законность власти определяется временем, привычностью к ней народа. То есть: восставать и бороться против Бланка [то есть Ленина] – это есть борьба за восстановление законной власти, а бунтовать против Иосифа Виссар[ионовича] и его наследников – деяние греховное. В России были и будут благими лишь преобразования, осуществляемые сверху».
Таким образом, степень нелояльности РП по отношению к правящему режиму была не столь уж велика, тем не менее гонения на ее адептов случались иногда нешуточные. Тот же Семанов в 1981 г., на основании секретной записки Андропова в ЦК КПСС, в которой русисты обвинялись в том, что «под лозунгом защиты русских национальных традиций они, по существу, занимаются активной антисоветской деятельностью», был не только снят с должности главреда журнала «Человек и закон», но и подвергся в следующем году допросу в Лефортовском следственном изоляторе КГБ в рамках дела арестованного за самиздат А. М. Иванова.
В сочинениях как диссидентских, так и системных русистов 1960—1980-х можно найти постановку очень важных проблем русской жизни, в частности, в «Слове нации» много говорилось о русском неравноправии в СССР: «Откуда-то всплыла и усиленно муссируется версия, будто русские являются привилегированной нацией. На самом деле все обстоит совсем наоборот… Сегодня нам ставится в вину, что русские, составляя 57 % населения страны, играют непропорционально большую роль. Мы бы сказали наоборот – непропорционально малую. Начать с того, что все так называемые союзные республики имеют свои коммунистические партии – кроме России. Результатом является действительно непропорциональное усиление самой мощной из региональных группировок – украинской. (Любопытно, что этот тезис находит подтверждение в дневниках предельно далекого от русского национализма А. С. Черняева: «Позавчера ПБ назначило несколько новых заместителей председателя Совмина и несколько новых министров… Все – украинцы, один ([И.И.] Бодюл) – молдаванин. В этой связи я с некоторым удивлением узнал, что и [Н.А.] Тихонов – хохол! Просто каток катит на Россию Украина» (запись от 19 декабря 1980 г. – С. С.)… Выдвигается обвинение в неэквивалентом обмене, в выкачивании богатств республик. Но кто из кого качает? Кому не известно, что закавказские республики превратились в чудовищный паразитический нарост на теле страны?.. В… РСФСР входит несколько чисто фиктивных автономных республик (Мордовия, Башкирия, Карелия)… Наш лозунг Единая неделимая Россия. Неделимость означает в нашем понимании территориальную целостность государства при полной свободе развития культуры всех народов, населяющих нашу страну, но без огромных затрат на роскошные атрибуты несуществующих культур, безразличных для тех народов, которым они якобы принадлежат… Народы России – равноправные хозяева в своем общем доме».
Солженицын предлагал «вождям Советского Союза» отказаться от безудержного внешнеполитического экспансионизма и заняться наконец-то обустройством России: «Не должны мы руководиться соображениями политического гигантизма, не должны замышлять о судьбах других полушарий… Руководить нашей страной должны соображения внутреннего, нравственного, здорового развития народа…»
В то же время даже в «самиздатских» или дневниковых текстах «русистов» практически невозможно найти утверждения основоположности таких элементов национального государства, как политические права и частная собственность (максимум по последнему вопросу – призыв к допущению «сильных индивидуальных хозяйств» на селе в «Слове нации»). Зато там обильно представлены симпатии к «сильной централизованной власти» и достаточно примитивная антибуржуазная риторика.
Единственное мне известное серьезное и ответственное размышление на политические темы, вышедшее из кругов, близких к РП, принадлежит, как ни странно, не дипломированному ученому-гуманитарию, а часто игравшему комических алкоголиков актеру Г. И. Буркову (в юности, правда, учившемуся на юриста), близкому другу Шукшина, записавшему в 1976 г. в дневнике: «Государство и государственные учреждения на Руси всегда были варяжьими. Даже в те исторические моменты, когда у власти стояли исключительно русские люди, государство было варяжьим, то есть отделенным от жизни народа. Власть на Руси всегда была вакантна, неустойчива. И какие только нации не пробовали управлять русскими людьми. А понять нужно было одно: со времен варягов русские люди хотят, чтоб государство было в услужении, а не правило, не угнетало, чтоб оно, государство, было направлено по устремлениям своим вовне, а не внутрь, то есть государство не имеет права переходить русскую границу. Служи. Охраняй границы. Не больше. Ясно, что мы, русские, будем кормить и одевать государство. Но не все же отдавать! А так именно и получилось. Из века в век». С моей точки зрения, этот пассаж перевешивает по своему политическому смыслу всю публицистическую продукцию русистов, вместе взятую. (Концепция А. Г. Кузьмина, продолжающая славянофильскую традицию, о дуализме «власти» и «земли» в русской истории, близка по смыслу этому рассуждению, но нигде в его трудах не выражена с такой простотой и ясностью.)
Главным врагом для РП стало не антирусское коммунистическое государство, которое она наивно надеялась перевоспитать, а еврейская либеральная интеллигенция, что имело своим рациональным основанием борьбу за «место под солнцем» между русскими и евреями практически во всех творческих союзах и научных и образовательных учреждениях. История этой борьбы еще ждет будущего кропотливого исследователя, ибо она касалась самых насущных вещей. «Евреи… претендуют на роль угнетенного русскими меньшинства, а между тем, проводя политику национального кумовства, они чуть ли не монополизировали область науки и культуры. Русская земля еще не утратила способность рождать Ломоносовых, но на их пути сегодня стоят очередные немцы, а бедные „привилегированные“ русские робко жмутся в сторонке», – утверждалось в «Слове нации». Заслуженный художник РСФСР скульптор П. П. Чусовитин, бывший в конце 1980-х – начале 1990-х членом парткома Московского отделения Союза художников РСФСР, рассказывал автору этих строк, что русско-еврейские баталии в этой организации шли постоянно и по самым различным поводам – прием новых членов, выделение мастерских, очередность проведения выставок, распределение путевок и продовольственных заказов и т. д. и т. п.
Несомненно и то, что в еврейских либеральных кругах процветали русофобские настроения, анализу и генезису которых была посвящена известная работа И. Р. Шафаревича. Но беда в том, что еврейская тема получила в головах многих идеологов РП совершенно мифологизированный характер в духе разоблачения «всемирного еврейского заговора», поиска повсюду «жидомасонских» козней и вычисления явных и тайных евреев (по критериям, заявленным в дневнике Семанова, «евреями являются: 1) собственно евреи, 2) полукровки, 3) лица, состоящие в браке с евреями, 3) лица, состоявшие в браке с евреями и имеющие от них детей»). А поскольку большинство евреев с 1960-х гг. стали апологетами политической демократии и рынка, и то и другое было объявлено «еврейскими штучками».
Таким образом, русисты сами отдали на откуп «бессмертной еврейской либеральной партии» те лозунги, под которыми и в странах Восточной Европе, и во многих союзных республиках в конце 1980-х пришли к власти местные националисты. И только в России образовалась роковая дилемма: антидемократический национализм vs антинациональный либерализм. Последний тем не менее оказался куда популярнее в русском обществе, давно уже жаждавшем кардинальных перемен, особенно среди наиболее социально активной его части – технической интеллигенции. Кроме того, традиционалистские ценности, пропагандируемые русской партией, мало соответствовали городскому образу жизни русского большинства.
В результате в годы перестройки русские националисты не только не создали массового политического движения, аналогичного Народным фронтам в Прибалтике, но и вступили в компрометирующий союз с правящим режимом и сокрушительно проиграли вместе с ним в 1991 г. А их противники, легко перехватив ту часть националистической программы, которая была близка и понятна массовому сознанию, – требование равноправия России, – успешно применили это поистине ядерное оружие, собравшее в себе гигантский заряд гнева и обид миллионов русских за несколько столетий, против союзного Центра, в борьбе с которым родилось новое суверенное государство – Российская Федерация.
Постскриптум. Вечное возвращение?
Распадом СССР и рождением РФ автор и хотел бы завершить основной текст своей книги. Он не находит в себе сил для исторического анализа постсоветской России. И не потому, что «ходить бывает склизко по камешкам иным…». А потому, что переживаемый ныне период русской истории еще не завершился, и выносить ему окончательный приговор рано. Но некоторые промежуточные итоги все же можно подвести, оговариваясь, однако, что делаются они без претензии на научную фундаментальность.
Думаю, всякому внимательному читателю этой книги очевидно, насколько традиционна оказалась «новая демократическая Россия».
Уже на третьем году ее существования исполнительная власть расстреляла власть законодательную. Конституция 1993 г. установила доминирование президентской «вертикали», с течением времени все более усиливающееся. То, что сегодня деятельность всех ветвей власти определяется не имеющей никакого конституционного статуса администрацией президента – секрет Полишинеля. Политическая жизнь имитируется несколькими «системными» партиями, курируемыми той же АП.
Не желая проводить внутри страны структурных реформ, российская власть наращивает внешнеполитическую активность, претендуя на роль геополитического игрока мирового уровня. В связи с этим ВПК – едва ли не единственный успешно развивающийся сектор отечественной промышленности.
Национальная политика РФ выстроилась практически один в один по советским лекалам. Несмотря на более чем 80 % русских, ни о каком русском национальном государстве, ни о какой русской нации в официальном дискурсе нет ни слова – «многонациональный советский народ» счастливо трансформировался в «многонациональный народ России». При этом внутри последнего де-факто и де-юре существуют политические нации и национальные государства большинства нерусских народов. Национальные автономии управляются на основе своих конституций и, следовательно, в качестве субъектов федерации обладают гораздо более весомыми правами, чем бесконституционные русские регионы. Многие национальные республики на 90 % дотируются Центром за счет русского большинства. Народы, не имеющие своих республик, получили право на самоорганизацию в виде культурно-национальных автономий; все, кроме одного – русского.
Таким образом, русские в РФ не являются политическим субъектом ни в каком виде. У них, как и прежде, нет никаких рычагов для защиты своих интересов, нет своей политической элиты. Русские так и не стали нацией, это видно даже по нашему этикету: до сих пор не установилось пристойного обращения людей к друг другу как равноправных «господ», подменяемого чудовищным гендерным дискурсом – «мужчина», «женщина».
С самоорганизацией русского общества ситуация хуже, даже чем в СССР накануне перестройки, где сформировался своеобразный советский вариант «среднего класса» с ядром в виде технической интеллигенции, которую из всех слоев населения «прессовали» значительно меньше. «Банковские вклады населения… в начале 80-х годов в сумме приближались к 500 миллиардам рублей (в ценах того времени)… Большинство опрошенных в 1992–1993 годах респондентов на вопрос о своем главном жизненном кредо ответило: „Быть самому себе хозяином“» (А. С. Панарин). Именно этот слой стал главной движущей силой августа 1991-го, и он же – его главной жертвой: в 1990-х новые «демократические» правители России с помощью гайдаровских «реформ» успешно стерли этот еще не слишком отвердевший «камень» в «песок». Сравнимых с ним по влиянию социальных групп русского населения в РФ нет и в помине. Так называемый средний и креативный класс есть просто социологические симулякры. Подавляющее большинство (70 и более процентов) российского социума полностью зависит от государственных подачек и в силу этого факта не является самостоятельной общественной силой. Основная единица русского социума – приватный человек, замурованный в частной жизни, говоря словами Токвиля.
Еще недавно социологи пророчили потенциальной партии русских националистов порядка 15 % голосов на выборах. Но сегодня положение русского национализма в РФ близко к катастрофическому. Практически все русские националистические организации либо официально запрещены, либо получили неоднократный отказ в регистрации; их лидеры по большей части или сидят в тюрьмах, или имеют «предупредительные» приговоры, или спасаются от судебных преследований за границей. И хотя, если судить по социологическим опросам, русские националисты вроде бы выражают чаяния миллионов, на практике их социальная база вряд ли превышает несколько десятков тысяч. Ожидать же отстаивания русских интересов от либеральной оппозиции не приходится, она «для себя лишь хочет воли».
Правда, в последнее время произошла некоторая «русификация» официозной риторики в духе сталинского «национал-большевизма», благо в обществе есть на такую риторику жадный массовый запрос. Как заметил некогда академик И. П. Павлов, русский ум больше реагирует на слова, чем на факты жизни. Нынешний всплеск массового «угарного» патриотизма не имеет никакого отношения к политическому русскому национализму, ибо не касается ни единой насущной русской проблемы, это просто эпидемия компенсаторной гордыни, бегство в иллюзии, как средство избежать отчаяния.
Итак, мы видим, что русская история, раз за разом, возвращается на круги своя, демонстрируя поразительную устойчивость социально-политических основ Российского государства, среди коих существование русской нации как суверенной политической общности как будто не предусмотрено. Но значит ли это, что это судьба? И что надо просто смириться с этой судьбой и полюбить ее? Автор этих строк полагает, что в истории нет никакого фатума, она рукотворна. Другое дело, что устоявшиеся веками институты действительно делаются своего рода «судьбой» – «силой сложившихся вещей», против которой трудно (но возможно) идти. Говорят – это наши исконные традиции. Но если следование традициям ведет народ к деградации и гибели (достаточно посмотреть на то, что происходит в сфере образования и здравоохранения), стоит ли за такие традиции держаться? Способны ли русские преодолеть почти шестисотлетнюю «силу сложившихся вещей», или, следуя ей, они станут удобрением для процветания других народов? Ответ на этот вопрос принадлежит будущему, которое еще менее чем настоящее находится в компетенции историка.
Краткая библиография
Введение
1. Бурдье Пьер. Дух государства: генезис и структура бюрократического поля // Он же. Социология социального пространства. СПб., 2007.
2. Вудс Томас. Как Католическая Церковь создала Западную цивилизацию. М., 2010.
3. Гастингс Эдриан. Национализм как христианский феномен // Вопросы национализма. 2014. № 1 (17).
4. Гринфельд Лия. Национализм: Пять путей к современности. М., 2008.
5. Грузинский А. Е. П. Н. Рыбников // Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Изд. 2-е. Т. 1. М., 1909.
6. Мур-младший Баррингтон. Социальные истоки диктатуры и демократии: Роль помещика и крестьянина в создании современного мира. М., 2016.
7. Ницше Фридрих. О пользе и вреде истории для жизни // Он же. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1990.
8. Святенков П. В. К вопросу о нации // Вопросы национализма. 2010. № 1.
9. Суриков И. Е. Солнце Эллады: История афинской демократии. СПб., 2008.
10. Федотов Г. П. Рождение свободы // Он же. Судьба и грехи России. Т. 2. СПб., 1992.
11. Фурсов А. И. Русская власть, история Евразии и мировая система (социальная философия русской власти) // Феномен русской власти: преемственность и изменения. М., 2008.
Глава 1
1. Алексеев Ю. Г. Псковская судная грамота и ее время. Л., 1980.
2. Борисов Н. С. Русская церковь в политической борьбе XIV–XV вв. М., 1986.
3. Ведюшкина И. В. О некоторых особенностях древнерусского самосознания // Религиозные и этнические традиции в формировании национальных идентичностей в Европе. М., 2008.
4. Вернадский Г. В. Киевская Русь. Тверь; М., 1996.
5. Вернадский Г. В. Монголы и Русь. Тверь; М., 1997.
6. Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. М., 2005.
7. Галкина Е. С. Русский каганат. Без хазар и норманнов. М., 2012.
8. Горский А. А. Русские земли в XIII–XIV вв.: Пути политического развития. М., 1996.
9. Горский А. А. Русское Средневековье. М., 2010.
10. Горский А. А., Кучкин В. А., Лукин П. В., Стефанович П. С. Древняя Русь: очерки политического и социального строя. М., 2008.
11. Горянин А. Б. Своими путями. Русские демократические традиции. Статья первая // Вопросы национализма. 2010. № 2.
12. Долгов В. В. Быт и нравы Древней Руси. М., 2007.
13. Древняя Русь. Город. Замок. Село. М., 1985.
14. Дьяконов М. А. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. СПб., 2005.
15. Живов В. М. Особенности рецепции византийской культуры в Древней Руси // Из истории русской культуры. Т. 1. (Древняя Русь). М., 2000.
16. Жих М. И. Народ и власть в Киевской Руси (до конца XI века) // Вопросы национализма. 2012. № 10.
17. Жих М. И. Народ и власть в Киевской Руси (с начала XII в. до монгольского нашествия) // Вопросы национализма. 2012. № 12.
18. Кленов Н. В. Несостоявшиеся столицы Руси: Новгород, Тверь, Смоленск, Москва. М., 2011.
19. Кривошеев Ю. В. Русская средневековая государственность. СПб., 2008.
20. Кузьмин А. Г. История России с древнейших времен до 1618 г. Кн. 1. М., 2003.
21. Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. М., 1984.
22. Лаушкин А. В. К вопросу о развитии этнического самосознания древнерусской народности («хрестеяни» и «хрестьяньскыи» в памятниках летописания XI–XIII вв.) // Средневековая Русь. Т. 6. М., 2006.
23. Лимонов Ю. А. Владимиро-Суздальская Русь: очерки социально-политической истории. Л., 1987.
24. Литаврин Г. Г. Славинии VII–IX вв. Социально-политические организации славян // Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. М., 1984.
25. Майоров А. В. Галицко-Волынская Русь. Очерки социально-политических отношений в домонгольский период. Князь, бояре и городская община. СПб., 2001.
26. Насонов А. Н. Князь и город в Ростово-Суздальской земле. (В XII и первой половине XIII вв.) // Века. Исторический сборник. Ч. I. Пг., 1924.
27. Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории древнерусского государства. М., 1951.
28. Назаренко А. В. Древняя Русь и славяне. М., 2009.
29. Неменский О. Б. Русская идентичность // Вопросы национализма. 2013. № 4 (16).
30. Петров С. А. Был ли в Древней Руси национализм? // Вопросы национализма. 2013. № 1 (13).
31. Петров С. А. Еще раз о русско-ордынском симбиозе // Вопросы национализма. 2013. № 3 (15).
32. Петрухин В. Я. Древняя Русь: народ, князья, религия // Из истории русской культуры. Т. 1 (Древняя Русь). М., 2000.
33. Пресняков А. Е. Княжое право в древней Руси. Лекции по русской истории. Киевская Русь. М., 1993.
34. Приселков М. Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X–XII вв. СПб., 2003.
35. [Рогов А. И., Флоря Б. Н.] Формирование самосознания древнерусской народности (по памятникам древнерусской письменности X–XII вв.) // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982.
36. Сапунов Б. В. Книга в России в XI–XIII вв. Л., 1978.
37. Севастьянов А. Н. Гонка цивилизаций: секрет лидерства. Статья вторая // Вопросы национализма. 2011. № 6.
38. Седов В. В. Древнерусская народность. М., 1999.
39. Сергеевич В. И. Древности русского права. Т. 1–2. СПб., 1908–1909.
40. Тихомиров М. Н. Древнерусские города. М., 1956.
41. Толочко А. П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. Киев, 1992.
42. Толочко П. П. Древнерусская народность: воображаемая или реальная. СПб., 2005.
43. Флоря Б. Н. Исторические судьбы Руси и этническое самосознание восточных славян в XII–XV вв. (к вопросу о зарождении славянских народностей) // Этническое самосознание славян в XV столетии. М., 1995.
44. Флоря Б. Н. О некоторых особенностях развития этнического самосознания восточных славян в эпоху Средневековья – раннего Нового времени // Россия – Украина: история взаимоотношений. М., 1997.
45. Флоря Б. Н. У истоков религиозного раскола славянского мира (XIII в.) // Он же. Исследования по истории Церкви. Древнерусское и славянское средневековье. М., 2007.
46. Флоря Б. Н. Представления об отношениях общества и власти в Древней Руси (XII – начало XIII вв.) // Власть и общество в литературных текстах Древней Руси и других славянских стран (XII–XIII вв.). М., 2012.
47. Фроянов И. Я., Дворниченко А. Ю. Города-государства Древней Руси. Л., 1988.
48. Хрусталев Д. Г. Русь: от нашествия до «ига» (30–40 гг. XIII в.). Изд. 2-е. СПб., 2008.
49. Хрусталев Д. Г. Северные крестоносцы: Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII–XIII вв. Т. 1–2. СПб., 2009.
50. Шабульдо Ф. М. Земли Юго-Западной Руси в составе великого княжества Литовского. К., 1987.
51. Щапов Я. Н. Государство и церковь Древней Руси X–XIII вв. М., 1989.
52. Янин В. Л. Очерки истории средневекового Новгорода. М., 2008.
Глава 2
1. Беляев И. Д. Крестьяне на Руси. М., 2002.
2. Бовыкин В. В. Русская земля и государство в эпоху Ивана Грозного: Очерки по истории местного самоуправления в XVI в. СПб., 2014.
3. Богословский М. М. Земское самоуправление на русском Севере в XVII в. Т. 1–2. М., 1909–1912.
4. Борисов Н. С. Политика московских князей (конец XIII – первая половина XIV века). М., 1999.
5. Борисов Н. С. Иван III. М., 2006.
6. Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI – первой половине XVII вв. Ч. I. М., 1996.
7. Бушкович Пол. Православная церковь и русское национальное самосознание в XVI–XVII вв. // Ab Imperio. 2003. № 3.
8. Бычкова М. Е. Русское государство и Великое княжество Литовское с конца XV в. до 1569 г. М., 1996.
9. Вальденберг В. Е. Древнерусские учения о пределах царской власти: Очерки русской политической литературы от Владимира Святого до конца XVII века. М., 2006.
10. Вернадский Г. В. Россия в средние века. Тверь – М., 1997.
11. Вернадский Г. В. Московское царство. Ч. 1. Тверь – М., 1997.
12. Веселовский С. Б. Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси. М., 1947.
13. Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963.
14. Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969.
15. Володихин Д. М. Иван IV Грозный. М., 2010.
16. Володихин Д. М. Царь Федор Иванович. М., 2011.
17. Горский А. А. Русское Средневековье. М., 2010.
18. Градовский А. Д. История местного управления в России. Т. 1. СПб., 1868.
19. Данилова Л. В. Сельская община в средневековой Руси. М., 1994.
20. Дмитриев М. В. Между Римом и Царьградом: Генезис Брестской церковной унии 1595–1596 гг. М., 2003.
21. Дмитриев М. В. Конфессиональный фактор в формировании представлений о «русском» в культуре Московской Руси // Религиозные и этнические традиции в формировании национальных идентичностей в Европе. М., 2008.
22. Ерусалимский К. Ю. Понятия «народ», «Росиа», «русская земля» и социальные дискурсы Московской Руси конца XV–XVII в. // Религиозные и этнические традиции в формировании национальных идентичностей в Европе. М., 2008.
23. Зимин А. А. Россия на пороге нового времени. М., 1972.
24. Зимин А. А. Россия на рубеже XV–XVI столетий. М., 1982.
25. Зимин А. А. В канун грозных потрясений. М., 1986.
26. Зимин А. А. Витязь на распутье. М.,1991.
27. Кленов Н. В. Несостоявшиеся столицы Руси: Новгород, Тверь, Смоленск, Москва. М., 2011.
28. Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. 2 // Он же. Собр. соч.: В 9 т. Т. 2. М., 1988.
29. Кобрин В. Б. Власть и собственность в средневековой России (XV–XVI вв.). М., 1985.
30. Кобрин В. Б., Юрганов А. Л. Становление деспотического самодержавия в средневековой Руси (к постановке проблемы) // История СССР. 1991. № 4.
31. Козляков В. Н. Борис Годунов. М., 2011.
32. Коллман Нэнси Ш. Соединенные честью: Государство и общество в России раннего нового времени. М., 2001.
33. Копанев А. И. Крестьянство Русского Севера в XVI в. Л., 1978.
34. Кром М. М. Меж Русью и Литвой: Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV – первой трети XVI в. М., 2010.
35. Кром М. М. «Вдовствующее царство»: Политический кризис в России 30—40-х годов XVI века. М., 2010.
36. Кузьмин А. Г. История России с древнейших времен до 1618 г. Кн. 2. М., 2003.
37. Кучкин В. А. Повести о Михаиле Тверском: Историко-текстологическое исследование. М., 1974.
38. Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней. М., 2007.
39. Лисейцев Д. В. Приказная система Московского государства в эпоху Смуты. М; Тула, 2009.
40. Любавский М. К. Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно. М., 1915.
41. Мишо К. Вокруг «Франсиады» Пьера де Ронсара // Религиозные и этнические традиции в формировании национальных идентичностей в Европе. М., 2008.
42. Национальная идея в Западной Европе в Новое время: Очерки истории. М., 2005.
43. Неменский О. Б. Протонационализм в западнорусской мысли первой половины XVII в. // Вопросы национализма. 2013. № 3 (15).
44. Нефедов С. А. История России: Факторный анализ. Т. 1. М., 2010.
45. Нольде Б. Э. История формирования Российской империи. СПб., 2013.
46. Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России (Изыскания о земской реформе Ивана Грозного). Л., 1969.
47. Панченко A. M., Успенский Б. А. Иван Грозный и Петр Великий: концепции первого монарха // Из истории русской культуры. Т. 2. Кн. 1. Киевская и Московская Русь. М., 2002.
48. Петров С. А. «Ненужные люди»: Правовое положение служилых татар в Московском царстве // Вопросы национализма. 2013. № 4 (16).
49. Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв. М., 1995.
50. Пресняков А. Е. Лекции по русской истории. Т. II. Вып. 1. Западная Русь и Литовско-Русское государство. М., 1939.
51. Пресняков А. Е. Московское царство // Он же. Российские самодержцы. М., 1990.
52. Пресняков А. Е. Образование Великорусского государства. Минск, 2012.
53. Савва В. И. Московские цари и византийские василевсы. Харьков, 1901.
54. Сергеевич В. И. Древности русского права. Т. 1–3. СПб., 1903–1909.
55. Синицына Н. В. Третий Рим: Истоки и эволюция русской средневековой концепции. М., 1998.
56. Скрынников Р. Г. Борис Годунов. Л., 1979.
57. Скрынников Р. Г. Царство террора. СПб., 1992.
58. Тихомиров М. Н. Россия в XVI столетии. М., 1962.
59. Филюшкин А. И. Василий III. М., 2010.
60. Филюшкин А. И. Изобретая первую войну России и Европы: Балтийские войны второй половины XVI века глазами современников и потомков. СПб., 2013.
61. Флоря Б. Н. Исторические судьбы Руси и этническое самосознание восточных славян в XII–XV вв. (к вопросу о зарождении славянских народностей) // Этническое самосознание славян в XV столетии. М., 1995.
62. Флоря Б. Н. О некоторых особенностях развития этнического самосознания восточных славян в эпоху Средневековья – раннего Нового времени // Россия – Украина: история взаимоотношений. М., 1997.
63. Флоря Б. Н. Иван Грозный. М., 2002.
64. Флоря Б. Н. О путях централизации русского государства (на примере Тверской земли) // Из истории русской культуры. Т. 2. Кн. 1. Киевская и Московская Русь. М., 2002.
65. Фурсов А. И. Русская власть, история Евразии и мировая система (социальная философия русской власти) // Феномен русской власти: преемственность и изменения. М., 2008.
66. Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI–XVII вв. М., 1978.
67. Чичерин Б. Н. О народном представительстве. М., 1899.
68. Эскин Ю. М. Очерки истории местничества в России XVI–XVII вв. М., 2009.
Глава 3
1. Аксенов А. И. Генеалогия московского купечества XVIII в.: Из истории формирования русской буржуазии. М., 1988.
2. Андреев И. Л. Алексей Михайлович. М., 2006.
3. Анисимов Е. В. Время петровских реформ. Л., 1989.
4. Багалей Д. И. Очерки из истории колонизации степной окраины Московского государства. М., 1887.
5. Бахрушин С. В. Исторический очерк заселения Сибири до конца XIX века // Очерки по колонизации Севера и Сибири. Вып. II. Пг., 1922.
6. Беляев И. Д. Крестьяне на Руси. М., 2002.
7. Беляев И. Д. Судьбы земщины и выборного начала на Руси. М., 2008.
8. Богданов А. П. Московская публицистика последней четверти XVII в. М., 2001.
9. Богданов А. П. Царевна Софья и Петр. Драма Софьи. М., 2008.
10. Богданов А. П. Несостоявшийся император Федор Алексеевич. М., 2009.
11. Бушкович Пол. Православная церковь и русское национальное самосознание в XVI–XVII вв. // Ab Imperio. 2003. № 3.
12. Бушкович Пол. Петр Великий. Борьба за власть (1671–1725). СПб., 2009.
13. Богословский М. М. Областная реформа Петра Великого. Провинция 1719—27 гг. М., 1902.
14. Богословский М. М. Земское самоуправление на русском Севере в XVII в. Т. 1–2. М., 1909–1912.
15. Вернадский Г. В. Московское царство. Ч. 1–2. Тверь; М., 1997.
16. [Волков В.А.] Национально-освободительная борьба русского народа и подъем земских учреждений в годы Смутного времени // Кузьмин А. Г. История России с древнейших времен до 1618 г. Кн. 2. М., 2003.
17. Володихин Д. М. Царь Федор Алексеевич. М., 2013.
18. Глинчикова А. Г. Раскол или срыв «русской Реформации»? М., 2008.
19. Голикова Н. Б. Астраханское восстание 1705–1706 гг. М., 1975.
20. Градовский А. Д. История местного управления в России. Т. 1. СПб., 1868.
21. Градовский А. Д. Трудные годы (1876–1880). М., 2007.
22. Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в формировании абсолютизма. М., 1987.
23. Дмитриев М. В. Конфессиональный фактор в формировании представлений о «русском» в культуре Московской Руси // Религиозные и этнические традиции в формировании национальных идентичностей в Европе. М., 2008.
24. Живов В. М. Культурные реформы в системе преобразований Петра I // Из истории русской культуры. Т. 3. М., 1996.
25. Загоровский В. П. Белгородская черта. Воронеж, 1969.
26. Загоровский В. П. Изюмская черта. Воронеж, 1980.
27. Зеньковский С. А. Русское старообрядчество. Т. 1–2. М., 2006.
28. Зуев А. С. «Конквистадоры империи»: русские землепроходцы на северо-востоке Сибири // Ab Imperio. 2001. № 4.
29. Иванов В. Н. Вхождение Северо-Востока Азии в состав Русского государства. Новосибирск,1999.
30. Каптерев Н. Ф. Характер отношений России к православному востоку в XVI и XVII столетиях. Сергиев Посад, 1914.
31. Ключевский В. О. Курс русской истории. // Он же. Собр. соч.: В 9 т. Т. 3–4. М., 1988.
32. Когут Зенон. Истоки парадигмы единства: Украина и создание русской национальной истории (1620-е – 1860-е гг.) //Ab Imperio. 2001. № 1–2.
33. Козляков В. Н. Василий Шуйский. М., 2007.
34. Козляков В. Н. Лжедмитрий I. М., 2009.
35. Козляков В. Н. Михаил Федорович. М., 2010.
36. Козляков В. Н. Герои Смуты. М., 2012.
37. Курукин И., Никулина Е. «Государево кабацкое дело». Очерки питейной политики и традиций в России. М., 2005.
38. Лавров А. С. Регентство царевны Софьи Алексеевны. Служилое общество и борьба за власть в верхах Русского государства в 1682–1689 гг. М., 1999.
39. Латкин В. Н. Земские соборы Древней Руси, их история и организация сравнительно с западноевропейскими представительными учреждениями. СПб., 1885.
40. Нефедкин А. К. Военное дело чукчей (середина XVII – начало XX в.). СПб., 2003.
41. Нефедов С. А. История России: Факторный анализ. Т. 2. М., 2010.
42. Никитин Н. И. Освоение Сибири в XVII веке. М., 1990.
43. Новосельский А. А. Борьба Московского государства с татарами в XVII веке. М.; Л., 1948.
44. Нольде Б. Э. История формирования Российской империи. СПб., 2013.
45. Очерки истории СССР. Т. 5. Период феодализма. XVII век. М., 1955.
46. Павленко Н. И. Торгово-промышленная политика правительства России в первой четверти XVIII века // История СССР. 1978. № 3.
47. Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ // Из истории русской культуры. Т. 3. М., 1996.
48. Петрухинцев Н. Н. Консолидация дворянского сословия и проблема формирования оформляющей его терминологии // Правительственные элиты и дворянство России во время и после петровских реформ (1682–1750). М., 2013.
49. Петрухинцев Н. Н. Внутренняя политика Анны Иоанновны (1730–1740). М., 2014.
50. Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв. М., 1995.
51. Платонов С. Ф. Москва и Запад. Борис Годунов. М., 1999.
52. Плохий Сергей. «Национализация» украинского казачества в XVII–XVIII вв. // Ab Imperio. 2004. № 2.
53. Пресняков А. Е. Московское царство // Он же. Российские самодержцы. М., 1990.
54. Саввин Д. В. Старообрядчество как модель развития русского гражданского общества // Вопросы национализма. 2010. № 2.
55. Седов П. В. Закат Московского царства: Царский двор конца
XVII века. СПб., 2008.
56. Соловей Т. Д., Соловей В. Д. Несостоявшаяся революция. Исторические смыслы русского национализма. М., 2009.
57. Тихомиров М. Н. Классовая борьба в России XVII в. М., 1969.
58. Тураев В. А. Хождение «встречь солнцу» в контексте проблем присоединения Дальнего Востока к Российскому государству (XVII–XVIII вв.) // Вестник ДВО РАН. 2013. № 1.
59. Три века. Россия от Смуты до нашего времени. Т. 1–4. М., 1912.
60. Трубецкой Н. С. К украинской проблеме // Он же. История. Культура. Язык. М., 1995.
61. Флоровский Г. В. Пути русского богословия. М., 2009.
62. Флоря Б. Н. Польско-литовская интервенция в России и русское общество. М., 2005.
63. Флоря Б. Н. Русское государство и его западные соседи (1655–1661 гг.). М., 2010.
64. Флоря Б. Н. Внешнеполитическая программа А. Л. Ордина-Нащокина и попытки ее осуществления. М., 2013.
65. Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Казань, 1914.
66. Хеншелл Николас. Миф абсолютизма: Перемены и преемственность в развитии западноевропейской монархии раннего Нового времени. СПб., 2003.
67. Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI–XVII вв. М., 1978.
68. Черников С. В. Военная элита России 1700–1725 гг.: меритократическая и аристократическая тенденции в кадровой политике Петра I // Правительственные элиты и дворянство России во время и после петровских реформ (1682–1750). М., 2013.
69. Чичерин Б. Н. О народном представительстве. М., 1899.
70. Чудинов А. В. Французская революция: история и мифы. М., 2007.
71. Шерстобоев В. Н. Илимская пашня. Т. 1. Иркутск, 1949.
72. Шунков В. И. Очерки по истории колонизации Сибири в XVII – начале XVIII веков. М., 1946.
Глава 4
1. Айрапетов О. Р. Внешняя политика Российской империи (1801–1914). М., 2006.
2. Александров В. А. Сельская община в России (XVII – начало XIX в.). М., 1976.
3. Ананьич Б. В., Ганелин Р. Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 2000.
4. Андреева Н. С. Прибалтийские немцы и российская правительственная политика в начале XX века. СПб., 2008.
5. Анисимов Е. В. Россия в середине XVIII века: Борьба за наследие Петра. М., 1986.
6. Анисимов Е. В. Россия без Петра: 1725–1740. СПб., 1994.
7. Анисимов Е. В. Дыба и кнут. Политический сыск и русское общество в XVIII веке. М., 1999.
8. Артемов И. В. Резня русских в Средней Азии: сто лет спустя // Вопросы национализма. 2016. № 2 (26).
9. Беляков С. С. Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя. М., 2016.
10. Берлин П. А. Русская буржуазия в старое и новое время. М., 1922.
11. Бовуа Даниэль. Гордиев узел Российской империи: Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793–1914). М., 2011.
12. Беккер Сеймур. Миф о русском дворянстве. Дворянство и привилегии последнего периода императорской России. М., 2004.
13. Вернадский Г. В. Начертание русской истории. СПб., 2000.
14. Виньковецкий Илья. Русская Америка: заокеанская колония континентальной империи, 1804–1867. М., 2015.
15. Выскочков Л. В. Николай I. М., 2006.
16. Градовский А. Д. Начала русского государственного права. Т. 1–3. СПб., 1875–1883.
17. Грибовский В. М. Государственное устройство и управление Российской империи (из лекций по русскому государственному и административному праву). Одесса, 1912.
18. Горизонтов Л. Е. Парадоксы имперской политики: Поляки в России и русские в Польше (XIX – начало XX в.) М., 1999.
19. Гурко В. И. Наше государственное и народное хозяйство. СПб., 1909.
20. Джераси Роберт П. Окно на Восток: Империя, ориентализм, нация и религия в России. М., 2013.
21. Долбилов М. Д. Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. М., 2010.
22. Дубровин Н. Ф. Русская жизнь в начале XIX века. М., 2007.
23. Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 2008.
24. Зайончковский П. А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 1978.
25. Западные окраины Российской империи. М., 2007.
26. Знаменский П. В. Приходское духовенство в России со времени реформы Петра. Казань, 1873.
27. Иванова Н. А., Желтова В. П. Сословное общество Российской империи (XVIII – начало ХХ в.). М., 2009.
28. Иванова Н. Н. Немцы в министерствах России XIX – начала XX веков // Немцы в государственности России. СПб., 2004.
29. Каппелер Андреас. Россия – многонациональная империя. М., 2006.
30. Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. 4 // Он же. Собр. соч.: В 9 т. Т. 4. М., 1988.
31. Корелин А. С. Дворянство в пореформенной России 1861–1904 гг. М., 1979.
32. Корнилов А. А. Курс истории России XIX века. М., 1993.
33. Куликов С. В. Российские немцы в составе Императорского двора и высшей бюрократии: коллизия между конфессиональной и национальной идентичностями в начале XX в. // Немцы в государственности России. СПб., 2004.
34. Курукин И. В. Бирон. М., 2006.
35. Курукин И., Никулина Е. «Государево кабацкое дело». Очерки питейной политики и традиций в России. М., 2005.
36. Курукин И. В., Плотников А. Б. 19 января – 25 февраля 1730 года. События, люди, документы. М., 2010.
37. Леонтьева Т. Г. Вера и прогресс: православное сельское духовенство России во второй половине XIX – начале XX вв. М., 2002.
38. Ливен Доминик. Аристократия в Европе 1815–1914. СПб., 2000.
39. Ливен Доминик. Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней. М., 2007.
40. Марасинова Е. Н. Психология элиты российского дворянства последней трети XVIII в. (По материалам переписки). M.,1999.
41. Миллер А. И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.). СПб., 2000.
42. Миллер А. И. Империя Романовых и национализм: эссе по методологии исторического исследования. М., 2006.
43. Мироненко С. В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989.
44. Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.) Изд. 3. Т. 1–2. СПб., 2003.
45. Нефедов С. А. История России: Факторный анализ. Т. 2. М., 2010.
46. Нольде Б. Э. История формирования Российской империи. СПб., 2013.
47. Петров Ф. А. Формирование системы университетского образования в России. Т. 1. М., 2002.
48. Петрухинцев Н. Н. Царствование Анны Иоанновны: формирование внутриполитического курса и судьбы армии и флота. СПб., 2001.
49. Петрухинцев Н. Н. Немцы в политической элите России в первой половине XVIII в. // «Вводя нравы и обычаи Европейские в Европейском народе». К проблеме адаптации западных идей и практик в Российской империи. М., 2008.
50. Петрухинцев Н. Н. Внутренняя политика Анны Иоанновны (1730–1740). М., 2014.
51. Правилова Е. А. Финансы империи. Деньги и власть в политике России на национальных окраинах. 1801–1917. М., 2006.
52. Пресняков А. Е. Александр I // Он же. Российские самодержцы. М., 1990.
53. Пресняков А. Е. Николай I. Апогей самодержавия // Он же. Российские самодержцы. М., 1990.
54. Проскурин О. А. Литературные скандалы пушкинской эпохи. М., 2000.
55. Расписание перемен: Очерки истории образовательной и научной политики в Российской империи – СССР (конец 1880-х – 1930-е годы). М., 2012.
56. Рахматуллин М. А. Екатерина II, Николай I, А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 2010.
57. Ремнев А. В. Россия Дальнего Востока. Имперская география власти XIX – начала XX веков. Омск, 2004.
58. Ремнев А. В. Самодержавное правительство: Комитет министров в системе высшего управления Российской империи (вторая половина XIX – начало ХХ века). М., 2010.
59. Романович-Славатинский А. В. Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права. Киев, 1912.
60. Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология. М., 2005.
61. Рыбаченок И. С. Закат великой державы. Внешняя политика России на рубеже XIX–XX вв.: цели, задачи и методы. М., 2012.
62. Северный Кавказ в составе Российской империи. М., 2007.
63. Сергеев С. М. Досоветская Россия (XVIII – начало XX века) // Мыслящая Россия: История и теория интеллигенции и интеллектуалов. М., 2009.
64. Сергеев С. М. Дворянство как идеолог и могильщик русского нациестроительства // Вопросы национализма. 2010. № 1.
65. Сергеев С. М. «Хозяева» против «наемников»: Русско-немецкое противостояние в императорской России // Вопросы национализма. 2010. № 3.
66. Сергеев С. М. Столетняя война с «воскресающими мертвецами»: Польский вопрос и русский национализм в XIX – начале XX в. // Вопросы национализма. 2011. № 6.
67. Сергеевич В. И. Крестьянские права и общинное землевладение в Архангельской губернии в половине XVIII века. СПб., 1907.
68. Сибирь в составе Российской Империи. М., 2007.
69. Соловей Т. Д., Соловей В. Д. Несостоявшаяся революция: Исторические смыслы русского национализма. М., 2009.
70. Суни Рональд. Диалектика империи: Россия и Советский Союз // Новая имперская история постсоветского пространства. Казань, 2004.
71. Тесля А. А. Соперник «Большой русской нации»: Украинское национальное движение 2-й пол. XIX – нач. XX в. // Вопросы национализма. 2015. № 1 (21).
72. Три века. Россия от Смуты до нашего времени. Т. 5. М., 1912.
73. Туманова А. С. Общественные организации и русская публика в начале XX века. М., 2008.
74. Уортман Ричард. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. 1–2. М., 2004.
75. Фирсов С. Л. Русская церковь накануне перемен (конец 1890-х – 1918 гг.) М., 2002.
76. Фойер Кэтрин Б. Генезис «Войны и мира». СПб., 2003.
77. Храмов А. В. Колониальная изнанка европейского костюма: Заметки о внутреннем колониализме в Российской империи (XVIII – начало XX вв.) // Вопросы национализма. 2012. № 10.
78. Христофоров И. А. Судьба реформы. Русское крестьянство в правительственной политике до и после отмены крепостного права (1830—1890-е гг.). М., 2011.
79. Хэфнер Люц. Civil society, burgrtum и «местное общество» в поисках аналитических категорий изучения общественной и социальной модернизации в позднеимперской России // Ab Imperio. 2002. № 3.
80. Центральная Азия в составе Российской империи. М., 2008.
81. Чистович Я. А. Очерки из истории медицинских учреждений в XVIII в. СПб., 1870.
82. Эткинд Александр. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. М., 2013.
Глава 5
1. Березкина С. В. «Немцы» против «Европейца» // Москва. 2009. № 3.
2. Бокова В. М. Эпоха тайных обществ: Русские общественные объединения первой трети XIX в. М., 2003.
3. Волошина С. М. Русский патриот, швейцарец, гражданин мира: Герцен и национальное // Вопросы национализма. 2015. № 2 (22).
4. Гинзбург Л. Я. Проблема личности в поэзии декабристов // Она же. О старом и новом. Л., 1982.
5. Дружинин Н. М. Декабрист Никита Муравьев. М., 1933.
6. Живов В. М. Чувствительный национализм: Карамзин, Ростопчин, национальный суверенитет и поиски национальной идентичности // Новое литературное обозрение. 2008. № 91.
7. Зорин А. Л. Кормя двуглавого орла… Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М., 2001.
8. Исаков С. Г. Остзейский вопрос в русской печати 1860-х гг. // Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 107. Тарту, 1961.
9. Кирьянов Ю. И. Русское собрание. 1900–1917. М., 2003.
10. Киянская О. И. Пестель. М., 2005.
11. Котов А. Э. Бюрократический национализм Михаила Каткова // Вопросы национализма. 2014. № 1 (17).
12. Лотман Ю. М. Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-политическая борьба его времени // Он же. Карамзин. СПб., 1997.
13. Майорова О. Е. Война и миф: Память о победе над Наполеоном в годы польского восстания (1863–1864) // Новое литературное обозрение. 2012. № 118.
14. Миллер А. И. Империя Романовых и национализм. М., 2006. С. 35–36.
15. Миллер А. И. История понятия нация в России // «Понятия о России»: К исторической семантике имперского периода. Т. 2. М., 2012.
16. Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века. М., 2013.
17. Найт Натаниэль. Наука, империя и народность: Этнография в Русском географическом обществе, 1845–1855 // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет. М., 2005.
18. Олейников Д. И. Классическое российское западничество. М., 1996.
19. Нольде Б. Э. Юрий Самарин и его время. М., 2003.
20. Парсамов В. С. Декабристы и русское общество 1814–1825 гг. М., 2015.
21. Рогов К. Ю. Декабристы и немцы // Новое литературное обозрение. 1997. № 26.
22. Сергеев С. М. Восстановление свободы: Демократический национализм декабристов // Вопросы национализма. 2010. № 2.
23. Сергеев С. М. Владимир Соловьев и Константин Леонтьев против русского национализма // Вопросы национализма. 2014. № 1 (17).
24. Соловей Т. Д., Соловей В. Д. Несостоявшаяся революция: Исторические смыслы русского национализма. М., 2009.
25. Стенник Ю. В. Идея «древней» и «новой» России в литературе и общественно-исторической мысли XVIII – начала XIX века. СПб., 2004.
26. Тесля А. А. Последний из «отцов»: Биография Ивана Аксакова. СПб., 2015.
27. Храмов А. В. «Ура, русские!»: национализм 1812 года // Вопросы национализма. 2012. № 11.
28. Ширинянц А. А. Русский хранитель. Политический консерватизм М. П. Погодина. М., 2008.
29. Щукин В. Г. Русское западничество: Генезис – сущность – историческая роль. Лодзь, 2001.
Глава 6
1. Айрапетов О. Р. На пути к краху: Русско-японская война 1904–1905 гг. М., 2014.
2. Брэдли Джозеф. Общественные организации в царской России. Наука, патриотизм и гражданское общество. М., 2012.
3. Будницкий О. В. Российские евреи между красными и белыми (1917–1920). М., 2005.
4. Булдаков В. П. Красная смута: Природа и последствия революционного насилия. М., 2010.
5. Булдаков В. П. Хаос и этнос: Этнические конфликты в России, 1917–1918 гг. М., 2011.
6. Булдаков В. П., Леонтьева Т. Г. Война, породившая революцию: Россия, 1914–1917 гг. М., 2015.
7. Волков С. В. Трагедия русского офицерства. М., 2001.
8. Гайда Ф. А. Либеральная оппозиция на путях к власти (1914 – весна 1917 г.). М., 2003.
9. Гайда Ф. А. Национализм в правительственной политике П. А. Столыпина // Вопросы национализма. 2015. № 1 (21).
10. Гайда Ф. А. Власть и общественность в России: диалог о пути политического развития (1910–1917). М., 2016.
11. Грациози Андреа. Большевики и крестьяне на Украине, 1918–1919 годы: Очерк о большевизмах, национал-социализмах и крестьянских движениях. М., 1997.
12. Зырянов П. Н. Адмирал Колчак, верховный правитель России. М., 2006.
13. Иванова Е. В. Александр Блок: Последние годы жизни. СПб., 2012.
14. Кавтарадзе А. Г. Военные специалисты на службе республики Советов, 1917–1920 гг. М., 1988.
15. Карпенко С. В. Очерки истории Белого движения на Юге России (1917–1920 гг.). 2-е изд. М., 2003.
16. Коцюбинский Д. А. Русский национализм в начале ХХ столетия: Рождение и гибель идеологии Всероссийского национального союза. М., 2001.
17. Куликов С. В. Российские немцы в составе Императорского двора и высшей бюрократии: коллизия между конфессиональной и национальной идентичностями в начале XX в. // Немцы в государственности России. СПб., 2004.
18. Люкшин Д. И. Вторая русская смута: крестьянское измерение. М., 2006.
19. Новикова Л. Г. Провинциальная контрреволюция: Белое движение и гражданская война на русском Севере 1917–1920. М., 2011.
20. Павлюченков С. А. Крестьянский Брест, или предыстория большевистского НЭПа. М., 1996.
21. Первая революция в России: Взгляд через столетие. М., 2005.
22. Расписание перемен: Очерки истории образовательной и научной политики в Российской империи – СССР (конец 1880-х – 1930-е годы). М., 2012.
23. Русаков Иван [Макурин И. И.]. Столыпин: незаконченная модернизация // Вопросы национализма. 2013. № 4 (16).
24. Саввинова Н. В. Антинемецкие настроения населения Российской империи в 1914–1917 гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2007. Сер. 2. Вып. 2.
25. Соболев И. Г. Борьба с «немецким засильем» в России в годы Первой мировой войны. СПб., 2004.
26. Туманова А. С. Общественные организации и русская публика в начале XX века. М., 2008.
27. Тюкавкин В. Г. Великорусское крестьянство и столыпинская аграрная реформа. М., 2011.
28. Уильямс Стивен. Либеральные реформы при нелиберальном режиме: Создание частной собственности в России в 1906–1915 гг. М.; Челябинск, 2016.
29. Ушаков А. И, Федюк В. П. Белый юг (ноябрь 1919 – ноябрь 1920). М., 1997.
30. Ушаков А. И, Федюк В. П. Корнилов. 2-е изд. М., 2012.
31. Федюк В. П. Белые: Антибольшевистское движение на юге России. 1917–1918 гг. М., 1996.
32. Хаген Манфред. Ленский расстрел 1912 года и российская общественность // Отечественная история. 2002. № 2.
33. Шацилло М. К. Российская буржуазия в период Гражданской войны и первые годы эмиграции. 1917 – начало 1920-х годов. М., 2008.
Глава 7
1. Баберовски Йорг. Красный террор: История сталинизма. М., 2007.
2. Белова Н. А. Повседневная жизнь учителей. М., 2015.
3. Безугольный А. Ю. «Источник дополнительной мощи Красной армии…» Национальный вопрос в военном строительстве в СССР. 1922–1945. М., 2016.
4. Бранденбергер Д. Л. Национал-большевизм. Сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания. М., 2009.
5. Быстрова И. В. Советский военно-промышленный комплекс. Проблемы становления и развития (1930—1980-е годы). М., 2006.
6. Вдовин А. И. Русские в ХХ веке. Трагедии и триумфы великого народа. М., 2013.
7. Верт Николя. Террор и беспорядок. Сталинизм как система. М., 2010.
8. Вишневский А. Г. Серп и рубль: Консервативная модернизация в СССР. М., 1998.
9. Владимиров В. Русская трагедия: советские люди на стороне Третьего Рейха, 1941–1945 // Вопросы национализма. 2015. № 3 (23).
10. Грациози Андреа. Великая крестьянская война в СССР. Большевики и крестьяне. 1917–1933. М., 2001.
11. Грациози Андреа. Война и революция в Европе: 1905–1956. М., 2005.
12. Даниелс Роберт В. Взлет и падение коммунизма в России. М., 2011.
13. Дмитриев Т. А. «Не возьму никого, кроме русских, украинцев и белорусов». Национальное военное строительство в СССР 1920– 1930-х гг. и его испытание огнем и мечом в годы Великой Отечественной войны // Вопросы национализма. 2013. № 2 (14).
14. Дэвис Роберт, Уиткрофт Стивен. Годы голода: Сельское хозяйство СССР, 1931–1933. М., 2011.
15. Дэвис Сара. Мнение народа в сталинской России: Террор, пропаганда и инакомыслие, 1934–1941. М., 2011.
16. Земсков В. Н. Спецпоселенцы в СССР, 1930–1960. М., 2005.
17. Зима В. Ф. Голод 1946–1947 годов: Происхождение и последствия. М., 1996.
18. Зима В. Ф. Человек и власть в СССР в 1920—1930-е годы: политика репрессий. М., 2010.
19. Зубок В. М. Неудавшаяся империя: Советский Союз в холодной войне от Сталина до Горбачева. М., 2011.
20. Истер Дж. М. Советское государственное строительство. Система личных связей и самоидентификация элиты в Советской России. М., 2010.
21. История России. XX век / Под ред. А. Б. Зубова. Т. 1–2. М., 2010.
22. Кен О. Н. Мобилизационное планирование и политические решения (конец 1920-х – середина 1930-х). М., 2008.
23. Кильдюшов О. В. Этнизация социалистического. Заметки о национальной политике в СССР // Вопросы национализма. 2012. № 12.
24. Кильдюшов О. В. Неудобное большинство. Этнополитический статус русских в СССР // Вопросы национализма. 2013. № 2 (14).
25. Козлов В. А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе. 1953 – начало 1980-х гг. М., 2009.
26. Костырченко Г. В. Сталин против «космополитов». Власть и еврейская интеллигенция в СССР. М., 2010.
27. Костырченко Г. В. Тайная политика Хрущева. Власть, интеллигенция, еврейский вопрос. М., 2011.
28. Красильников С. А. На изломах социальной структуры: Маргиналы в послереволюционном российском обществе (1917 – конец 1930-х гг.). Новосибирск, 1998.
29. Кузнечевский В. Д. «Ленинградское дело» и «русский вопрос» // Вопросы национализма. 2013. № 3 (15).
30. Кузнечевский В. Д. Миграционная проблема: ретроспектива и перспектива // Вопросы национализма. 2013. № 4 (16).
31. Курукин И., Никулина Е. «Государево кабацкое дело». Очерки питейной политики и традиций в России. М., 2005.
32. Литвинова Г. И. Старший или равный // Наш современник. 1989. № 6.
33. Мартин Терри. Империя «положительной деятельности»: Нации и национализм в СССР, 1923–1939. М., 2011.
34. Меерович М. Г. Наказание жилищем: Жилищная политика в СССР как средство управления людьми. 1917–1937. М., 2008.
35. Неменский О. Б. Страна победившего мультинационализма // Вопросы национализма. 2012. № 12.
36. Никонорова Т. Н. Конструируя роскошь: Бытовое пространство советской номенклатуры, 1940–1952 годы // The soviet and post-soviet review. 2016. № 43.
37. Осокина Е. А. За фасадом «сталинского изобилия»: Распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации. 1927–1941. Изд. 2. М., 2008.
38. Павлов Д. С. «Бандеровцы» и формирование национальной идентичности Западной Украины // Вопросы национализма. 2013. № 2 (18).
39. Павлюченков С. А. «Орден меченосцев». Партия и власть после революции. 1917–1929. М., 2008.
40. Петров Н. В. Свои люди в органах государственной безопасности // Режимные люди в СССР. М., 2009.
41. Попов В. П. Крестьянство и государство (1945–1953). Париж, 1992.
42. Святенков П. В. «Все против русских» // Вопросы национализма. 2010. № 4.
43. Симонов Н. С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920– 1950-е годы. М., 1996.
44. Солженицын А. И. Двести лет вместе (1795–1995). Ч. 2. М., 2001.
45. Соловей Т. Д., Соловей В. Д. Несостоявшаяся революция. Исторические смыслы русского национализма. М., 2009.
46. Филиппов А. Ф. Народ и «многонациональность» в Конституциях Российской Федерации // Вопросы национализма. 2015. № 3 (15).
47. Фильцер Дональд. Советские рабочие и поздний сталинизм: Рабочий класс и восстановление сталинской системы после окончания Второй мировой войны. М., 2011.
48. Фицпатрик Шейла. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: деревня. М., 2001.
49. Фицпатрик Шейла. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город. 2-е изд. М., 2008.
50. Хлевнюк О. В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2010.
51. Хлевнюк О. В., Горлицкий Й. Холодный мир: Сталин и завершение сталинской диктатуры. М. 2011.
52. Хлевнюк О. В. Патронаж Москвы и грузинский национализм накануне событий 1956 г. // Вопросы истории. 2013. № 12.
53. Хоскинг Джеффри. Правители и жертвы. Русские в Советском Союзе. М., 2012.
54. Храмов А. В. Российская Федерация как наследие Ленина-Сталина // Вопросы национализма. 2010. № 4.
55. Чеботарева В. Г. Россия: донор или метрополия // Материалы международного симпозиума «Куда идет Россия?». М., 1995.
56. Шубин А. В. От «застоя» к реформам. СССР в 1977–1985 гг. М., 2001.
57. Якушевский А. С. Будни военного времени // Великая Отечественная война 1941–1945. М., 1999. Кн. 4.
Примечания
1
М.: Скименъ, 2010.
(обратно)

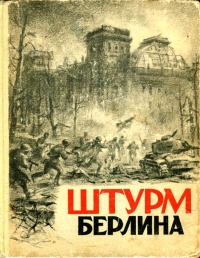

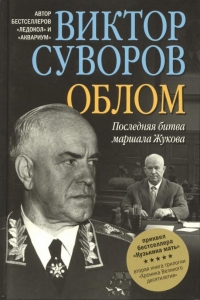

Комментарии к книге «Русская нация», Сергей Михайлович Сергеев
Всего 0 комментариев