Русское Народничество
Франко Вентури
Перевод liubitel
1. Герцен
Герцен был настоящим основателем народничества. Он пытался принести социализм в Россию Николая I, с полным энтузиазмом участвовал в интеллектуальной жизни Москвы до революции 1848 года, поддерживал революции в Италии и Франции. Фактически, народничество сначала выразило себя в жизни человека, а не идеологии. Несмотря на многочисленные произведения с глубоким политическим смыслом и прекрасные с литературной точки зрения, самая важная работа Герцена — это его автобиография «Былое и Думы». Личностный элемент остался свойством русского народничества, и движение всегда создавало личностей, а не догму. Когда сложившемуся народничеству 6о-х потребовалась доктрина, Герцен был практически забыт, так как он мог передать новому поколению только опыт критика и политического исследователя.
Это пренебрежение было причиной грусти и печали Герцена под конец его свободной и интеллектуальной жизни. Но народники были постоянно вынуждены повторять его опыт, заново открывая его идеи и оценивая различные занимаемые им позиции. И в 1881 году, когда закончился первый этап народничества, а его значение обсуждалось и оценивалось, Герцен снова появляется как «одноименный герой», настоящий создатель движения.
В его мемуарах и в других его произведениях, в которых автобиографические элементы постоянно вторгаются в политические, Герцен часто оглядывается назад на мир своей молодости, все-еще 18-го века по своему характеру. В своем собственном семейном кругу он смог застать последних старых представителей вольтерьянской эпохи времен Екатерины II. Это были те, кто пережили времена дворянского просвещения — эпоха, в которой русское дворянство пыталось оправдать свое существование, приобретая общественное сознание. Они также были представителями неоклассицизма, который, в постройке Санкт-Петербурга и многочисленных поместий, создал первую современную цивилизацию этой страны. Герцен вскоре отошел от этого, стремясь, со всей пылкостью юности создать барьер между собой и предыдущим поколением. Идеологически этот барьер принял форму сен-симонизма. Однако, Герцен был пропитан духом 18-го века, и когда позже он к нему вернулся, он почувствовал, что восстанавливает свою юность, время, которое является «самым лучшим и наиболее полным».
Ранний опыт Герцена был очень важен для него, потому что имел параллели в истории страны. Восстание 14 декабря 1825 года и его подавление сформировало желание свободной и просвещенной России, которое вдохновляло благороднейший дух 18-го века. Последним его всплеском было восстание декабристов. Подавление восстания положило конец такой деятельности, и в то же время превратило их в легенду несостоявшихся ранних надежд.
В те времена Герцен был ребенком, но он полностью почувствовал важность случившегося. «Рассказы о возмущении, о суде, ужас в Москве сильно поразили меня; мне открывался новый мир, который становился больше и больше средоточием всего нравственного существования моего; не знаю, как это сделалось, но, мало понимая или очень смутно, в чем дело, я чувствовал, что я не с той стороны, с которой картечь и победы, тюрьмы и цепи. Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души.» (А.И. Герцен «Былое и думы» Часть первая. Глава III. )
Его первой реакцией было продолжить дело этих героев, полностью посвятить себя тому делу за которое они пали. Однажды ночью, на Воробьевых горах, он и Огарев поклялись «пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу» (А.И. Герцен «Былое и думы» Часть первая. Глава IV. ). Через двадцать шесть лет он написал: «Сцена эта может показаться очень натянутой, очень театральной, а между тем через двадцать шесть лет я тронут до слез, вспоминая ее, она была свято искренна, это доказала вся жизнь наша.» (А.И. Герцен «Былое и думы» Часть первая. Глава IV. )
Это не было похвальбой. Глубокие чувства, вызванные в нем восстанием декабристов, стали началом его политической жизни.
Но эти чувства были «детским либерализмом», страстным желанием продолжить дело, которое, как он скоро понял, было мертво. Позже, хотя он и продолжал почитать движение декабристов как духовный импульс, как великую силу энтузиазма и легенды, он сознавал разрыв между славным прошлым и своей новой работой. На самом пике своей карьеры, чувство исторической справедливости и глубокое благоговение побудили его издать свои воспоминания об этих отцах революции, укрепить связь, после тридцатилетнего правления Николая I, с людьми 14-го декабря. Он больше почитал, чем желал связать себя с тем, что все еще оставалось важным и сегодня в декабристском движении. Декабристы должны были остаться для него отдаленным примером — примером, для создания которого он столько сделал.
Но можем ли мы принять на веру все то, что он рассказывает о своих отношениях с декабристами в своей автобиографии? Для того чтобы ответить на этот вопрос, мы должны знать содержало ли движение декабристов истоки народничества. Сам Герцен вряд ли это признает. Но продолжая исследовать эти истоки, мы можем прийти к мысли, что они существуют.
Идея «жертвенности» играла такую большую роль в идеологии декабристов, что она должна была повлиять на народничество, в котором понятие «обязанности» перед народом и «жертвование собой во имя народа» так много обсуждалось. Тайные общества, которые стояли за восстанием 14 декабря, состояли в основном из дворян. Многие члены принадлежали к знаменитым фамилиям, которые владели большим количеством крепостных. И несмотря на это, программа декабристов была направленна на освобождение крестьян. И хотя они и спорили о средствах, они все соглашались с конечной целью. Наверное поэтому, они казались людьми, готовыми пожертвовать собой из убеждений, за дело, которое не было их делом. Услышав о заговоре, граф Ростопчин поднялся со своего смертного ложа и воскликнул: «Во Франции сапожники взбунтовались, чтобы попасть в князья, а у нас князья взбунтовались, чтоб попасть в сапожники». (К. Душенко «Большой словарь цитат и крылатых выражений») Ростопчин был великим представителем старого порядка. Как губернатор Москвы, говорят, что он приказал поджечь Москву, чтобы помешать Наполеону, которого он прежде всего считал генералом Французской революции. Граф понял, интуицией исходящей от ненависти, один из важнейших аспектов революционеров-декабристов — попытку возложить на себя (даже до того как наложить на других) фундаментальные социальные реформы. Хотя и был прецедент ночью 4 августа 1789 года. Но тогда ситуация была другой. В России не было «великого страха». Дворянам не нужно было приносить в жертву то, что позже в любом случае рисковали потерять. Кроме того, даже для Французской революции этот жест остается ярким примером щедрости. Попытка русских бунтовщиков следовать своим убеждениям против своих собственных интересов должна была казаться еще более впечатляющей.
Позже историки, в частности Покровский, пытались доказать, что дворянство выгадало бы, если бы был положен конец крепостному праву. Они утверждают, что экономические условия того времени — увеличение внутренних рынков сельскохозяйственной продукции и рост международной торговли — на самом деле указывали на это. Но хотя это действительно проливает свет на один из аспектов политики 1825 года, мы не будем здесь это обсуждать. Однако это не влияет на идею жертвенности во имя народа, которую мы хотели бы подчеркнуть и которую декабристы приняли более чем любые современные им или похожие движения в Европе. Желание установить мост между просвещенной элитой и крестьянством при помощи самопожертвования оказалось многообещающим для будущего. Эта связь задумана была произойти за пределами власти абсолютистского государства и на самом деле была направлена против него.
Тоже самое можно сказать и об отношении между политическими и экономическими проблемами в движении декабристов. Этот заговор, который включал в себя конституционные и военные элементы, который во многом был похож на испанские, неаполитанские и пьемонтские движения того времени, столкнулся с исключительными социальными проблемами. Судьба миллионов зависела от того, каким способом и на каких условиях будут освобождены крестьяне. Обсуждения в тайных обществах естественным образом касались конституционных форм и социальной структуры государства, обсуждались проблемы либерализма и конституционализма, которые выдвинулись на первый план во времена Французской реставрации. Но эти дискуссии всегда заканчивались поднятием вопроса о еще более глубоких изменениях; и это превращало либеральное движение во что-то похожие на социальную революцию.
Другими словами, декабристы пересматривали проблемы не только Французской реставрации, но и социальные проблемы революции. Мы найдем, особенно у Пестеля, возвращение в атмосферу предыдущего века; читаются те же книги и обсуждения принимают ту же форму. Отчасти, это происходило потому, что русская культура 18-го века никогда не переживала насильственного разрыва — ни революции, ни настоящей наполеоновской оккупации, ни реставрации — и отчасти потому что условия, против которых выступали декабристы, не разрешали им останавливаться на либерализме. Именно это привело к тому, что более решительные среди них пришли к идеи республики в мире более или менее конституционных монархий. И именно это заставило их волей-неволей пересмотреть «аграрный вопрос». Именно тогда декабристы заложили основание в полемике, которая станет центральной для Герцена и для всей русской интеллигенции — должны ли крепостные быть освобождены «с землей» или «без земли»? В первом случае, им достанется довольно таки большая часть владений; во втором же случае они станут либо батраками, либо арендаторами. Каждое решение имело своих сторонников в разных группах, и споры, которые вели к изменению первоначальных позиций, продолжались годами. В целом, это была самая важная полемика ( в первой половине прошлого века ) , которая касалась социальной структуры российской деревни.
Обсуждение происходило с точки зрения практической экономики. Была сделана попытка приспособить теории английских и французских экономистов к ситуации в России. Было предложено предоставить решение естественным экономическим силам, которые сами собой поделят землю без вмешательства закона. Но проблема крестьянства в России была слишком фундаментальной для такого решения; поэтому произошел возврат к дебатам восемнадцатого века о происхождении и основе собственности. Предлагаемая земельная реформа подняла проблему распределения собственности и достижения равенства. Ситуация была похожа на ситуацию во Франции во время революции, хотя и в очень разных масштабах. В России, где большая часть земли периодически перераспределялась среди членов деревенской общины, впервые поднялась проблема отношений между желанием равенства и примитивным аграрным коллективизмом; между земельной реформой и общиной; между идеями небольшого просвещенного меньшинства и традициями русской деревни.
Личное развитие Пестеля, который стал одним из самых смелых и решительных заговорщиков, дает нам интересное представление об этом быстром углублении декабристских идей. В период с 1819 по 1820 год, под влиянием «Новых начал политической экономии» Сисмонди, Пестель написал серию коротких записок по экономическим и административным проблемам. Вопрос крестьянства уже тогда был большой, но он все еще думал об освобождении крестьян без земли. «Худшим решением», писал он, «было бы дать землю крестьянам. Агрономия — это не вопрос количества рабочих рук, а вопрос капитала и культуры, которых нет у крестьянства.» (Перевод с английского переводчика. Исходный русский текст «Красный архив» 1925 N6 (13) «Практические начала политической экономии» Пестеля) . Он также рассматривал положение фермеров, которых он называл «капиталистами крестьянских классов». Но прежде всего он рассматривал проблему экономического развития, как с сельскохозяйственной так и с промышленной точки зрения.
Однако, несколько лет спустя, завершая и обсуждая «Русскую Правду», которую он и его сподвижники рассматривали как основной документ заговорщиков, он отдал почетное место равному распределению и аграрному коллективизму.
«О сем гражданском разделении земель много было разсуждаемо, причем все сии рассуждения на два главные мнения разделены быть могут. Первое мнение объясняется таким образом: человек находится на земле, только на земле может он жить, только от земли может он пропитание получать. Всевышний сотворил человеческий род на земле и землю отдал ему в достояние, дабы она его питала. Природа производит сама все то, что к пище человека служить может. Следовательно, земля есть общая собственность всего рода человеческого, а не частных лиц и посему не может она быть разделена между несколькими только людьми за исключением прочих. Коль скоро существует хоть один человек, который никаким обладанием земли не пользуется, то воля всевышнего и закон природы совершенно нарушены, и права естественные и природные человека устранены насилием и зловластием. На сем соображении был основан известный поземельный закон римский, который устанавливал частное разделение земель между всеми гражданами. Второе мнение, напротив того, объясняет, что труды и работы суть источники собственности и что тот, который землю удобрял и оную способной сделал к произведению разных произрастаний, исключительное он должен на ту землю иметь право обладания. К сему суждению прибавляется еще и то соображение, что дабы хлебопашество могло процветать, нужно много издержек, которые тот только сделать согласится, который в полной своей собственности землю иметь будет и что неуверенность в сей собственности, сопряженная с частым переходом земли из рук в руки, никогда не допустит земледелия к усовершенствованию. Посему и должна вся земля быть собственностью нескольких людей, хотя бы сим правилом и было большинство людей от обладания землею исключено.» ( П.И. Пестель «Русская Правда»
)
Как же разрешить противоречия в этих мнениях? Пестель не собирался принимать ни одну из этих теорий. Он видел Россию, которая возникнет после революции, к которой обе теории будут равно применимы. Он поддерживал право на жизнь из первой теории, но признавал право заработка второй теории. «Наперед надобно помышлять о доставлении всем людям необходимого для жития, а потом уже о приобретении изобилия. На первое каждый человек имеет неоспоримое право, потому что он - человек, на второе имеет право только тот, который сам оное приобрести успеет.» ( П.И. Пестель «Русская Правда»
)
На практике же решением было разделение в каждой волости земель на две равные части:
«Сии средства состоят в разделении земель каждой волости на две половины по угодиям, как то в предыдущей главе объяснено было в статье о казенных крестьянах. Одна половина получит наименование земли общественной, другая земли частной. Земля общественная будет всему волостному обществу совокупно-принадлежать и неприкосновенную его собственность составлять. Она ни продана, ни заложена быть не может. Она будет предназначена для доставления необходимого всем гражданам без изъятия и будет подлежать обладанию всех и каждого. Земли частные будут принадлежать казне или частным лицам, обладающим оными с полною свободою и право имеющим делать из оной, что им угодно. Сии земли, будучи предназначены для образования частной-собственности, служить будут к доставлению изобилия. Земля общественная будет удовлетворять справедливым заключениям первого вышеобъясненного мнения, а земли частные - второго мнения...» ( П.И. Пестель «Русская Правда» )
Семевский, один из самых знающих исследователей русской крестьянской истории, пытается проследить истоки плана к брошюре аббата Антуана де Курнан времен французского революционного периода; к произведениям Чарльза Холла; и даже к влиянию карбонариев и других групп. Но нет смысла в определении этой связи, так как она и глубже и шире. Слова Пестеля — это результат его размышлений, размышлений человека, который думал над теориями всего французского 18-го века; над работами Мабли и физиократов.
Пестель внес свежий вклад в дебаты, привязывая «Аграрный закон» к традиционным обычаям российской деревни. «Ежели при первом взгляде», - пишет он, «покажется введение таковаго порядка сопряженным с большими трудностями то надлежит только вспомнить что сие постановление может большия затруднения встретить во всяком другом государстве но не в России, где понятия народныя весьма к оному склонны и где с давних времен уже приобыкли к подобному разделению земель на две части.» (П.И. Пестель «Русская Правда» ) (Помещичья земля всегда существовала вместе с общинной.) Он добавляет, что в любом случае общие земли должны периодически перераспределятся по традиционным обычаям аграрного коллективизма.
Таким образом эгалитарные идеи нашли привязку к реальной ситуации в России. Община, освобожденная от феодального общества, чей частью она была, должна была стать основой социального порядка, основанного на всеобщем праве человечества на жизненную необходимость.
Таким образом «Русская Правда» не была утопией. Это было предложение земельной реформы, основанной на уже существующих институтах и под влиянием европейских достижений. Через это осталась связь с менее решительными и менее революционными схемами других декабристов. Они тоже были знакомы с изменениями, происходящими в Европе в последние десятилетия и понимали последствия возможной ликвидации крепостного права. Они видели, что дать свободу без земли, означало посеять роковые семена пауперизма и пролетариата. В 1809 году, Сперанский, министр-реформатор Александра I, сказал: «Участь крестьянина, отправляющаго повинности по закону и имеющаго в возмездие свой участок земли, несравненно выгоднее, нежели положение бобылей, кокавы суть все рабочие люди в Англии, во Франции и в Соединенных Штатах.» («О коренных законах государства» М.М Сперанский) И декабристы часто упоминали его слова и планы.
Таким образом, боязнь создания рабочего класса и пролетариата заставила декабристов отклонить свободу «без земли» и отвернуться от примера Англии. Но и простое распределение участков земли, по примеру французов, также не казалось лучшим решением. Так как это тоже могло привести к созданию класса сельскохозяйственных рабочих.
По этой причине декабристы обращались к общине снова и снова, находя в ней гарантию стабильности и безопасности. Однако Муравьев и Якушкин, двое из руководителей восстания, поддерживали идею о том, что на втором этапе общинная собственность также должна быть поделена. Но вскоре Якушкин признал, что общинная собственность является гарантией против бедности. И с социальной точки зрения, общинная собственность приструнит чрезмерный индивидуализм, создавая коллективный дух: «Каждое действие отдельного человека внутри общины руководствуется духом всей общины.» (Перевод с английского переводчика. Оригинал из «Политические и общественные идеи декабристов» В.И. Семевский) Во французской версии «Русской Правды» Пестель сам говорит о «principe de solidarité», которыйм бы руководствовались сельскохозяйственные общины.
Поэтому декабристы вернулись к обсуждению возможности деления общинной земли, к дискуссии, которая была исчерпывающе развита в Европе в восемнадцатом веке. В самой России не было недостатка в защитниках общины, но хвала эта исходила от консерваторов. Периодическое распределение земли и предположительное отсутствие нищеты и рабочих, казалось доказательством превосходства русской системы собственности, включая конечно и ее краеугольный камень — крепостничество. Эти защитники древней традиции Отечества против западного влияния были первыми в прославлении общины. Среди них были Щербатов, может Ростопчин, и самый важный среди них — Болтин.
Сельскохозяйственные общины стали принимать другое значение. Они должны были сохраниться даже после уничтожения крепостного права и «principe de solidarité» Пестеля должен был защитить Россию от того зла в Западной Европе, о котором они узнали, читая Сисмонди. Община больше не казалась просто свойством российской традиции, но являлась ответом опыту Запада. Пестель не просто принял критицизм Сисмонди общества, возникшего из Французской и промышленной революциях, он составил план, который по своему характеру был социалистический.
Но восстание декабристов было подавленно, а Пестель был казнен. Его «Русская Правда», которая буквально была зарыта в землю, была откопана в результате расследования и была одним из фактов, убедившим Николая I в серьезности восстания. Действительно, царь признал документ настолько опасным, что даже не разрешил показать документ комитету для изыскания. «Правда» осталась под замком в архивах до конца прошлого века и была опубликована только после революции 1905 года. Но зерно социализма, в ней содержащееся, дало всходы у некоторых декабристов. Они продолжали обдумывать идеи (в Сибири), которые вдохновили их на поднятие восстания. Наверное самым важным из ссыльных был Н.А. Бестужев, один из немногих декабристов, который изучал экономику. Были и другие, такие как Н.И. Тургенев и М.Ф. Орлов, которым удалось избежать ссылки и казни и которые позже были тесно связаны с молодым Герценом.
Бестужев был убежденным сторонником свободной торговли. Он всегда боролся против любой формы монополии и протекционизма. Он изложил свое мнение в работе «О свободе торговли и промышленности», опубликованной в 1831 году. Но рассматривая ситуацию во Франции, Англии и Соединенных Штатах, он еще глубже разработал критику монополии, скорее всего из-за влияния Сисмонди. Теперь у него сложился пессимистический взгляд на концентрацию капитала и возникновение рабочего класса. Позже, он заинтересовался проблемой земельной собственности, за которой он следил по французским книгам, которые ему удавалось достать в Сибири. Он прочитал книгу Бушеза и Ру «Histoire de la formation de la nationalité française». Он почерпнул из нее идеи Клода Фоше, который поддерживал право всех людей на землю и обсуждал спартанский аграрный закон и юбилейные годы библии. Таким образом, Бестужев, в какой-то мере, пришел к тем же выводам, что и Пестель.
«Что важнее для сельского хозяйства большие поместья или малые участки? Есть пример Англии, где постоянный раздел позволил нескольким большим капиталистам владеть почти всей землей. С другой стороны есть пример Франции, где раздел удвоил производство. Опять же, есть пример России, где регулярное распределение земли до сегодняшнего дня смогло избежать создание безземельного пролетариата. И что же можно сделать? Разделить землю на частные владения? С какими результатами? Или пусть земля принадлежит государству, как в России? Но может ли земля принадлежать кому-то?» (Перевод с английского переводчика. Оригинальный текст из Н.А. Бестужев «Статьи и письма»)
Идеи Пестеля (также как и Герцена) выкристаллизовались революцией 1848 года. Они стали защитой русской традиции против Западной Европы и панегирик семенам коллективизма и демократии, которые можно найти в жизни российской деревни. Обсуждая книгу Н.И. Тургенева «La Russie et les Russes», опубликованную во Франции в 1847 году, Бестужев написал в феврале 1850 года:
«Давайте рассмотрим пролетариат. Он существует в Европе, потому что земля является неотъемлемой собственностью частных владельцев. Со временем, права распоряжаться землей приводит к ее концентрации в руках немногих. Даже в самых богатых странах, количество владельцев редко тысячная от населения. Все остальные становятся безземельным пролетариатом. Не говоря даже об Англии, давайте взглянем на Францию. После революции 89 года земля была распределена, и меньше чем через век, она была так поделена через наследство, женитьбы и так далее, что половина сейчас принадлежит монополистам, а другая половина не приносит доход. Опять же, тоже самое мы видим и у нашего дворянства. Половина принадлежит большим поместьям, а другая заложена банкам. По моему мнению, земля, воздух, вода, которых мы мы не можем создать, не могут нам принадлежать. Бог сказал Моисею: ' Земля моя, а вы лишь гости на ней' . Это было подтверждено аграрными законами Екатерины II и у нас не могут быть пролетарии. Каждый, даже самый бедный, всегда имеет право на клочок земли для своего пропитания, если у него есть силы и желание получить его. Община фактически является социальным коммунизмом на практике, в которой земля — средство для работы, тогда как французские коммунисты не представляют средства, а требуют прав. Право на труд без средств ведет к голоду.» (Перевод с английского переводчика. Русский оригинал в «Декабрист Николай Бестужев» М. Барановская)
Именно последняя ремарка придает этим идеям исторический интерес. Сначала Пестель, затем Герцен верили, что «социальный коммунизм» русской общины является прямым ответом на проблему экономического развития в Западной Европе. Теперь даже Бестужев отказался от свободной торговли и идей Сисмонди в пользу в каком-то смысле народнического социализма.
Похожие изменения взглядов произошли и у декабристов. После революции 1848 года, М.Ф. Фонвизин, который вырос на Монтескье, Руссо и Рейнале, написал статью «О социализме и коммунизме», в которой он называет себя христианским социалистом.
Для нашего исследования необходимо короткое рассмотрение развития политических споров до 14 декабря 1825 года. Действительно, Герцен и народники скорее всего были знакомы лишь с малой частью этих идей, для них декабристы главным образом были примером жертвенности и героизма в борьбе за свободу. Но этот малоизвестный фрагмент российской политической мысли дает связь, которая соединяет традиционную феодальную систему (где царь — владыка всей земли, государство управляет большей ее частью, где крестьянская община была обыкновенным явлением), к более позднему теоретизированию, к тому, что Бестужев называл «социальным коммунизмом».
Позже и Герцен намекал на это свойство движения декабристов: «Pestel le premier montrait la terre, la possession foncière et l'expropriation de la noblesse comme la base la plus sûtre pour asseoir et enraciner la révolution.» И в 1858 году он говорил: «Pestel va directement à son but, à la réorganisation complète et radicale du gouvernement sur des bases non settlement républicaines, mais socialistes.»
Насильственное подавление декабристского движения означало, что его дух социальной революции не мог развиться — действительно, позже его пришлось воссоздавать из других источников. Десятилетиями было невозможно обновление движения и формирование élite, которая постепенно начала формироваться в восемнадцатом и в начале девятнадцатого веков, глубоко повлияв на правление Николая I. Граф Уваров, министр народного просвещения, говорил, что его цель — задержать интеллектуальное развитие России на 50 лет, иначе страна будет разрушена, слишком быстро следуя примеру Западной Европы. Подавление Николаем I декабристов способствовало достижению этой цели.
Герцен живо вспоминает ужасные годы последовавшие после разгрома тайных обществ: «À la vue de la Russie officielle on n'avait que le désespoir au coeur. » Но также добавляет: « a l'intérieur il se faisait un grand travail, un travail sourd et muet, mais actif et non interrompu». В другом месте он говорит: «Нетерпеливый дух времени Александра I и дух надежды становился спокойнее, грустнее и серьезней. Факел, который боялся светить над землей, горел внизу, освещая глубины.» (перевод с английского переводчика)
Одним из ранних и наиболее важных признаков «travail sourd et muet» было создание в начале 30-х небольшой группы молодых людей, вдохновленной идеями Сен-Симона и возглавляемой Герценом, Огаревом и Сазоновым.
Я помню комнатку аршинов в пять,
Кровать, да стул, да стол с свечою сальной...
И тут втроем, мы - дети декабристов
И мира нового ученики,
Ученики Фурье и Сен-Симона -
Мы поклялись, что посвятим всю жизнь
Народу и его освобожденью,
Основою положим социализм,
И чтоб достичь священной нашей цели,
Мы общество должны составить втайне
И втайне шаг за шаг распространять.
(Н.П. Огарев «Исповедь лишнего человека»
)
Огарев здесь описывал все основные характеристики группы — романтическая, почти религиозная атмосфера, чувство того, что они являются детьми декабристов и попытка распространить идеи Фурье и Сен-Симона.
В коротком образном эссе под названием «Толпа», Огарев объясняет причины своей политической деятельности и «священные цели», упоминаемые в его поэзии. Смотря на красочную толпу, которая кишела на московской Красной Площади, и опираясь на перила перед храмом Василия Блаженного, он обсуждает со своим другом судьбу масс:
«Одушевить эту толпу хотя бы на один миг -- нет, Вольдемар, не говори, чтобы это было невозможно. ... неужели в этих остроумных физиономиях, в этой огромной способности понимать и производить, в этой оборотливости ума не заключается достаточных элементов, чтобы созиждить стройное гармоническое целое, чтобы человечеству показать чудный пример общественной жизни, выказать его прекрасное назначение? Верь, Вольдемар, природа недаром разбрасывает дары свои, недаром обрисовывает отличительные черты на лицах людей; так надежда примиряет меня с человечеством.» (Н.П. Огарев «Толпа» )
Июльская революция в Париже и польское восстание 1831-го года были мощными стимулами для группы. Новые идеи из Франции достигли их и воодушевили на действие.
«...первый шаг наш в области мышления», говорил позже Огарев, «был не исканием абстракта, не начинанием с абсолюта, а был столкновением с действительным обществом и пробудил жажду анализа и критики. Таким образом, в 14, 15 и 16 лет, состоя под влиянием Шиллера, Руссо и 14 декабря, мы занимаемся математикой и естественными науками, мы хотим чего-то положительного, хотя оно для нас еще совершенно неясно.» (Литературное наследство 1941 Огарев 39-40 стр 358)
Трудно точно определить насколько хорошо молодые люди знали Сен-Симона. Они могли больше знать о том, что было написано о культе Сен-Симона, чем о том что он действительно делал. Герцен, например, цитирует Олинда Родрига и главным образом упоминает памфлеты и суд над последователями Сен-Симона.
Наверное это были критицизм «Просвещения», философия истории и заря новой эры в органической науке и религии, которые в начале так поразили Герцена и его друзей. Это обсуждалось в некоторых произведениях Герцена конца 1832-го года, под названием «О месте человека в природе». Даже позже, он главным образом писал о религиозном аспекте сен-симонизма и о «réhabilitation de la chair» .
И хотя это было наиболее очевидное влияние сен-симонизма на Герцена, желание «палингенезии» уже было изменено его критическим духом. Он говорил, что если идеология сен-симонизма станет новым христианством, то она будет подвержена тому же риску, что и все религии, отхода от «чистых оснований» и «великого и возвышенного» к «невразумительной мистике». Еще в 1833 году развитие сен-симонизма подтвердило его сомнения. Он писал Огареву:
«Ты говоришь верно. Мы правы, что интересуемся этим. Мы чувствуем ( и я писал это тебе два года назад, когда идея была еще нова), что мир ожидает перерождения; что революция 89-го поломана и должна прийти новая эра через палингенез. Европейскому обществу должен быть дан новый фундамент, основанный на праве, морали и культуре. Это настоящее значение нашего опыта — это Сен-Симонизм. Но я не имею в виду его декаданс, как я называю его религиозную форму.» (перевод с английского переводчика)
По этим причинам Герцен не прекратил своего исследования социалистической доктрины Фурье и других. («Ее странность», говорил он, «оправдывается ее целями») Но он не ограничил себя этими теориями. Он был поглощен желанием получить знания и имел большие планы по чтению — Мишле, Вико, Монтескье, Гердер; римское право и политическая экономия Сэя и Мальтуса; обо всех них он пишет Огареву.
Но что же заставило Герцена искать в сен-симонизме основу своему романтическому видению? Для его дальнейшего развития это было даже важнее социализма. Это был его разрыв с французской революцией — его критицизм демократии, который он сам разработает после 1848 года, но который он уже нашел в основах сен-симонизма. Странно, что даже на этом раннем этапе мы находим следы духа Эбера в политических идеях Герцена. Дух, чей источник трудно проследить, но который наверно происходит, или по-крайней мере похож на ранние истоки сен-симонизма. Не случайно, что герой французской революции, который часто появлялся в его работах — это космополит Анахарсис Клоотс.
Но эти политические исследования в рамках романтической культуры были резко прерваны арестом Герцена и его кружка 21 июля 1834 года. Группа расширялась и ее члены планировали выпустить журнал. Их политические и социальные идеи стали отличать их от философских групп их современников.
Герцен оставался в тюрьме до апреля следующего года. Его приговорили к ссылке, сначала в Пермь, а потом в Вятку, на северо-востоке европейской России.
Его изоляция усилила религиозные и сентиментальные аспекты его романтизма. Его критика последователей сен-симонизма за искажение доктрины их учителя (критика, которая была наиболее личным вкладом его молодости) уступила форме романтизма, похожего на христианство. Для того чтобы жить более интенсивно и избежать убогой провинциальной атмосферы, окружавшей его, он стал интроспективным. Не случайно, что именно здесь он начал писать свою автобиографию, которую продолжит писать всю жизнь.
Романтическая интроспекция привела его, также как и многих его современников и друзей, к смирению и желанию принять действительное существование как рациональное. Однако это примирение с миром не содержало в себе доктринерскую ярость, которая позже появилось у Бакунина и Белинского. В Герцене преобладало желание внутреннего мира, потому что он понял, что бессильный и одинокий и отрезанный от знакомого общества его московских друзей, он ничего не сможет достигнуть.
Политически, это примирение выразилось в нескольких «Отдельных замечаниях о русском законодательстве» написанных в Вятке в 1836 году. В них он дал более благосклонное суждение, чем раньше или когда-либо даст в будущем, цивилизующей роли царского государства. Правительство, думал он, уже выполнило задачу просвещения и образования, и это может быть продолжено в будущем. Он видел плохое и хорошее, и продолжал критиковать привилегии дворянства и крепостничество. Но он рассматривал все это с точки зрения умеренного реформатора. Эти записки заслуживают внимания только лишь потому, что в тот самый момент примирения с миром они содержат намек на то, что будет интересовать Герцена больше всего — крестьянский социализм. При более спокойном рассмотрении ситуации в России, он видит периодическое перераспределение земли в крестьянских общинах. Он упоминает о своих идеях по этому вопросу в записи « Это lex agraria Юбилейный Год ».
Это был лишь намек. Чтобы продвинуться дальше, Герцен должен был стать ближе к социальной реальности. Он сделает это, когда покинет Вятку, и опять присоединится к интеллектуальным кругам Москвы и Санкт-Петербурга. Правду, которую он откроет заново, после того как отбросит свой религиозный романтизм, он назовет «реализмом».
Во Владимире в 1838 году, Герцен все-еще мог писать: «Современная немецкая философия [Гегеля] очень удобна; слияние мысли, откровения и концепции идеализма и теологии». (перевод с английского переводчика) Это было похоже на точку зрения Бакунина, который написал в это же время несколько длинных писем, в которых сочетались гегельянство и пиетизм. В течении последующих десяти лет Герцен избавился от этих «удобных гармоний» и нашел в политике также как и в философии их настоящие противоречия.
Его контакт со столицей был короткий. Почти сразу же его выслали в провинцию, в Новгород, за то что он осмелился критиковать в частном письме управление общественного порядка в Санкт-Петербурге. Но этот короткий контакт опять поставил его перед проблемой Государства и его функции в России. Он вернулся к исследованиям о Петре Великом, которые начал в ранние годы. Он больше не вдохновлялся юношеским преклонением, но желанием интерпретировать историю на базе знаний русских источников и современных ему французских историков — Тьерри, Мишле, Гизо. Его попытки понять Петра Великого убедили его в том, что тот период, который царь начал, сейчас уже заканчивался. «Его эпоха заканчивается с нами. Мы заканчиваем великую задачу гуманизации старой России. После нас придет эпоха органического развития, озабоченная содержанием, а не формой и поэтому чисто человеческая по своему характеру.» (перевод с английского переводчика)
Поэтому юношеские идеи «палингенеза» трансформируются в веру в начало новой исторической эпохи — эпохи, созревшей для развития и для замены деспотичной эпохи Николая I. Долг Герцена был подготовить себя к ней.
Принятие им того, что Россия должна быть подвергнута европеизации - процессу, который он рассматривал как начало новой эпохи — привело его к конфликту с двумя наиболее активными представителями русского гегельянства, с Белинским и Бакуниным. В 1837 году они приняли правильность теорий Гегеля в политическом и философском смысле и превозносили абсолютное Государство как воплощение «объективного духа». Они пришли к такому парадоксальному выводу в отчаянном поиске «реальности», в то время, когда правительство лишало интеллигенцию всякой политической активности. Герцен говорил об «отречении от прав интеллекта, непонятном и неестественном самоубийстве».
Белинский продолжал защищать свои теории до начала 1840 года, в открытом конфликте с Герценом и другими, которые верили в свободу. Белинский яростно поддерживал то, что сознание русского народа всегда находило полное выражение в действиях царя — воплощением русской цивилизации и свободы. Но эта ярость, которая казалась Герцену формой самоубийства, содержала элемент спасения, так как она раскрывала тот же политический дух, который дал современникам Белинского возможность поверить во французские утопии. Белинский лишь построил наиболее странную и наиболее интеллектуальную из всех утопий — абсолютизм российских императоров. Он не мог, конечно, долго оставаться сторонником этой позиции. Вскоре он тоже начал интересоваться западными теориями и нашел в них удовлетворение, которое он тщетно искал в абсолютизме. В итоге, пока Герцен и Огарев посвящали себя более или менее изучению Гегеля и немецкой философии, Белинкий начал знакомиться с более современными социальными теориями. Из сочетания философского и политического энтузиазма родилось западничество 40-х.
Это западничество было в прямом конфликте со славянофильскими тенденциями, которые (главным образом в Москве) развились в политическое движение. «Абсолютистский период» Белинского сам по себе был крайней реакцией на славянофилов; защита функции российского государства против сторонников чистого националистического духа церкви и деревни. Также как Белинский нелепо пытался видеть в правлении Николая I просвещенный деспотизм, так и славянофилы приняли в равной степени романтический взгляд на русский народ. Славянофилы обратились к далекому прошлому — к Фридриху II и Гердеру, к немецкой культуре 18 века и началу 19-го. Они были под глубоким влиянием немецкой интеллектуальной атмосферы и фактически были его поздним продуктом.
Но их обсуждения не могли оставаться привязаны к традициям Петра Великого и романтической идеализации российского прошлого. Это было бы слишком стерильно и непрактично; с одной стороны официальное оправдание абсолютизма, с другой — сентиментальная реакция на него. Это могло быть лишь академическим обсуждением философии русской истории и духа, и институтах, в которых это выражалось. Нужна была исключительна живая культура 40х, для того чтобы расширить это обсуждение. Это расширение заставило, по крайней-мере некоторых западников, скорее задуматься о развитии, чем об отрицании абсолютизма; в то время как славянофилы пытались лучше понять народ и прошлое, о котором они говорили.
Сам Герцен, человек блестящего интеллекта, играл немалую роль в этих изменениях. Он один появится с полной и эффективной политической программой.
В 1842 году он смог вернуться в Москву, которая стала центром его деятельности. Наконец-то он освободился из провинциальной ссылки; освободился и от чиновничьей карьеры, которой он занимался в ссылке, и в которой он почти преуспел. Он вступил во вторую молодость, более зрелую, но с таким же энтузиазмом и с таким же интересом к европейской культуре как и вначале. Он быстро избавился от смирения, скуки и религии, которые он приобрел во времена одиночества. В своем дневнике он оставил прекрасную запись освобождения от романтических мечтаний - возрождение более конкретных и политических и философских интересов. Запись духовного процесса, который он разделял со всей современной ему Европой — Европой , которая двигалась к революции 1848 года.
На первый взгляд идеи славянофилов кажется воплощают те самые идеи и эмоции, которые Герцен как-будто отрицает. «С славянофилами столько же мало можно говорить, и они так же нелепы и вредны, как пиетисты.» (из дневника Герцена 29 Июля 1842 ). Два года спустя в 1844 году он провел историческую аналогию со славянофильскими идеями.
«Славянофильство имеет подобное себе явление в новой истории западной литературы. Появление национально-романтической тенденции в Германии после наполеоновских войн -- тенденция, которая находила слишком всеобщею и космополитическою науку и мысль, шедшие от Лейбница, Лессинга до Гердера, Гёте, Шиллера. Как ни естественно было появление неоромантизма, но оно было не более как литературное и книжное явление без симпатии масс, без истинной действительности; не трудно было угадать, что через десять лет об них забудут. Точно такое же положение занимают славянофилы. Они никаких корней не имеют в народе, они западной наукой дошли до своих национальных теорий, это болезнь литературная и больше никакого значения не имеющая.» ( из дневника Герцена 10 декабря 1844 года )
Это заставило Герцена изучить немецкие истоки славянофильской культуры, и самому разобраться в идеалистической философии. Он следил за действиями левого крыла гегельянства в Берлине, и за новыми статьями в журнале Руге «Deutsche Jahrbucher». Он читал Фейербаха, но ему больше всего помогали личные размышления о Гегеле. «Нет ничего смешнее,», - пишет он, - «что до сих пор немцы, а за ними и всякая всячина, считают Гегеля сухим логиком, костяным диалектиком вроде Вольфа, в то время как каждое из его сочинений проникнуто мощной поэзией, в то время как он, увлекаемый (часто против воли) своим гением, облекает спекулятивнейшие мысли в образы поразительности, меткости удивительной. И что за сила раскрытия всякой оболочки мыслью, что за молниеносный взгляд, который всюду проникает и все видит, куда ни обернул бы взор!» (Дневник Герцена 15 сентября 1844 года ) Именно там он искал суть гегелевской мысли. Он пришел к выводу, что «философия истории» самая слабая часть системы, искусственная конструкция, которая скорее скрывает, чем раскрывает историю.
Он был поражен тем, что Гегель признавал существование внешнего духа над человеческими событиями. Гегель остался, как он писал тогда, «Колумбом для философии и человечественности». Но в чем же смысл, спрашивает он: «...что за странные два концентрические круга, которыми он определяет дух человечества: история -- это поприще духа, одействотворение его, его истина, его полное бытие; потом дух сам по себе, в своей области,-- эти круги то имеют одинакий радиус -- и тогда один круг, то радиус духа самого по себе получает какую-то бесконечную величину -- и тогда опять круг один, а он в обоих случаях считает два круга. Человечество знает дух -- так, как дух себя знает,-- во всем этом есть таутологическая бифуркация, затрудняющая смысл истины для того, чтоб ее высказать глоссологией века.» (Дневник Герцена 6 декабря 1843 года
)
Поэтому проблема была в том, чтобы освободить историческое развитие от теологии, в которую ее окутал Гегель. Но этого можно было достигнуть только ставя на первое место практическое действие, а не теорию.
«Гегель лишь намекнул, а не разработал теорию действия ... Он исследует области духа, он говорит об искусстве и науке, но забывает о действии, которое однако вплетено во все исторические события.» (перевод с английского переводчика)
Из-за своих сомнений Герцен не пытался переработать философию Гегеля, чтобы включить в нее эту новую проблему. Это стало пределом, после которого он уже не был больше настоящим гегельянцем. Вместо того, чтобы пересмотреть диалектику, он увидел ошибку в системе, которая возникла из-за исторического развития Германии, где наука была отделена от жизни, а философия от политики. Но презираемый мир действия отомстил. Это время пришло после смерти Гете и Гегеля. «Сфера практического не нема; когда пришло время она заявила о себе» (Перевод с английского переводчика)
«Буддистами в науке» называл Герцен людей, которые настаивали на созерцании в то время, когда надо было действовать.
«Они цепляются за каждый момент как за истину; какое-нибудь одностороннее определение принимают за все определения предмета; им надобно сентенции, готовые правила; пробравшись до станции, они - смешно доверчивые - полагают всякий раз, что достигли абсолютной цели и располагаются отдыхать.» (из статьи «Буддизм в науке» 1843г. #DIL04 )
То что осталось у него от философии Гегеля, так это вера в развитие, интерпретация диалектики не как философии истории, а как движение, которое имеет свою собственную ценность. Поэтому позже он говорил: «Эмбриология истории отличается от развития диалектики духа.»
По другому случаю, он описывает философию Гегеля как «алгебру революции».
Эти выводы были поэтому параллельны выводам, к которым пришли в тоже самое время левые гегельянцы в Германии. Герцен приветствовал симптомы политического и социального пробуждения. «Se muove, se muove» , - написал он по-итальянски, читая Deutsche Jahrbucher. «Германия двигается в сторону политической эмансипации.» Но он добавил: «И вот Германия, lancée {бросившаяся (франц.)} в эмансипацию политическую и с своим характером твердой мысли, глубины и притом квиетизма» (из дневников Герцена 15 августа 1842 года ) Как признак реакции против квиетизма, статья, подписанная французом Жюлем Элизаром, особенно порадовала его. Он еще не знал, что это был псевдоним Бакунина.
Его глубокая политическая страсть, его полное и революционное неприятие всего официального мира Российской Империи, могли отозваться в человеке, который как и он, лично был знаком с ситуацией в России. Превознося страсть разрушения, Бакунин выразил некоторые чувства самого Герцена. Немецкая культура, несмотря на всю ее энергию, уже не удовлетворяла его.
И для того чтобы противостоять немецкому идеализму, Герцен обратился к Франции 18-го века. Хотя Сен-Симон учил его рассматривать этот период как состоящий целиком из негативных и разрушающих сил, он и молодые гегельянцы в Германии заново открыли этот период. «Мы забыли XVIII век … При всем том эта ступень развития чрезвычайно важна и сделала существенную пользу.» ( из дневников Герцена 13 апреля 1842 года ) Это привело его обратно к научным исследованиям — к защите научного метода от Бекона до энциклопедистов и к повторному открытию политической и социальной силы Англии и Франции 18-го века, которую он не мог найти в романтизме и немецкой философии. Он видел в энциклопедистах людей, которые достигли идей, которые мучили его в Вятке, когда он писал: «Мысль без действия — это мечта». Сейчас он чувствовал, что годами он только мечтал. Он обратился к Вольтеру и Дидро как к стимулам к действию и к «реализму», а также к переоценке социалистических идей, которые волновали его в Москве в 1831 году.
Белинский пришел к похожему выводу после своей «абсолютистской» фазы. Как реакция против гегельянства (которая привела его к парадоксальному оправданию царизма), он принял социалистические теории, которые пришли из Парижа в работах Кабе, Фурье, Леру и Прудона. И поэтому от открыл для себя социализм на 10 лет позже Герцена. Но эти десять лет были очень плодотворны для них обоих. Русский социализм 40-х имел твердое основание в философии Гегеля и это придало ему очень специфический характер. Это больше не было романтическим импульсом к палингенезу, а было, или по крайней-мере стремилось быть, поиском философской и политической правды.
Один из истоков этого социализма до 1848 года лежал в интерпретации, многие из авторов интерпретировали гегелевскую философию по-своему. Для Белинского и Бакунина — хотя и по разному — это кажется было объяснение курса индивидуальных человеческих жизней, а не самой истории. «Метафизика разума и воли» как метко назвал это Анненков в своем замечательном эссе «Замечательное десятилетие 1838-1848». Мельчайшие детали частной жизни — любви, ненависти, вкусов, антипатий — казались симптомами и в каком-то смысле откровениями «Идеи». Эта метафизика философии имела очевидный религиозный характер. Частично это было взято из предшествующих русских мыслителей, которые пытались применить к индивидуальным человеческим судьбам сложную мифологию масонства и гностического мистицизма, которые преобладали в русских ложах. В каком-то смысле это был обновленный пиетизм. «Способ понимания целей и задач жизни, ею усвоенный, заключал в себе много фантастичного элемента, но, конечно, стоял неизмеримо выше того грубого способа их представления, который царствовал у большинства современников.» (Анненков «Замечательное десятилетие 1838-1848».) Такое исследование совести, которое было сделано с глазами обращенными к гегелевской «Идее», помогло сформировать интеллектуалов, которые в 40-х принесли первый духовный расцвет после декабристов.
Такое очень личное применение гегельянства привело к важному результату. С некоторыми исключениями (в основном, конечно, защита абсолютизма Белинским и Бакуниным), интеллектуалы хотели отказаться от слов «прекрасные души» и гамлетовских сомнений. Теперь они взглянули на реальность внутри себя. Они пытались пройти духовное обновление и занять позицию независимую от власти в рассмотрении этических отношений интеллектуалов к народу; они не пытались применить философию истории к народам, группам и классам. Короче, они предпочитали «метафизику разума и воли» «метафизике политике», которая была так популярна у левых гегельянцев в Германии и Польше.
Французский социализм начала 19-го века, который очень тесно был связан с проблемам психологии и морали (смотрите например Фурье и Леру), естественно удовлетворял их. Романы Жорж Санд представляют собой связь между французами и русскими. Мы можем проследить ассимиляцию французских утопических идей с ранних обсуждений в группе Белинского в Санкт-Петербурге до кружка Петрашевского. Эти идеи впитались людьми, которые в основном искали правду, которая бы направляла их жизни. Они оставили работу по созданию философии истории, которая должна была включить Россию, славянофилам ( тем самым консервативным последователям немецкой философии).
Хотя Белинский принимал участие в социалистическом движении, он также был настоящим психологом с пророческим прозрением в темы, которые могли содействовать плодотворным дискуссиям среди читателей и расширить интеллектуальную полемику. Как и Бакунин, он полагался на свои инстинкты, защищал творческую страсть, и искал во французском социализме и за его пределами способы развить русскую интеллигенцию. Его современники восхищались серьезностью его работы, безжалостной логикой, которой он подвергал свои идеи, процесс, который во многих других писателях угрожал превратиться в игру или теологические спекуляции. Для него, как говорил Герцен: «Les vérités, les résultats n'étaient ni des abstractions, ni des jeux d'esprit, mais des questions de vie ou de mort».
Но для Герцена социализм означал возвращение к идеям своей молодости, продолжение и критика своего раннего ученичества у Сен-Симона. Опять, как и десять лет назад, он не смог полностью принять французские книги, которые он так жадно читал.
Конечно, сенсимонисты и фурьеристы дали самые важные предсказания будущего, но чего-то не хватало. Фурье, несмотря на колоссальный фундамент, ужасно прозаичен, слишком озабочен мелкими деталями. К счастья, его последователи заменили его работы своими. Последователи Сен-Симона уничтожили своего учителя. Люди останутся апатичными, пока пророчества будут излагаться таким образом. Коммунизм, конечно, ближе к массам, но на данный момент кажется больше отрицанием, штормовое облако заряженное громами, которое как и суд Божий, уничтожит нашу абсурдную социальную систему, если человек не покается.
Под коммунизмом, конечно, Герцен имел в виду наследие Бабефа и швейцарского коммунистического движения возглавляемого Вейтлингом. «Места из его писаний, приведенные комиссией, красноречивы и сильны...слова Вейтлинга иногда поднимаются до апостольской проповеди; прекрасно определяют они свое отношение к либералам. Есть нелепости (например, теория воровства), но есть зато резкая истина.» (из дневников Герцена 4 Ноября 1843 ) Связь Бакунина с этим движением заставила Герцена еще тщательнее исследовать его. Но предсказаний Вейтлинга было недостаточно.
Коммунизм был проблемой, а не решением. Только в социализме был ответ коммунистическому отрицанию. Поэтому социальный анализ Консидерана сильно интересовал его. Его «Разбор современности превосходен, становится страшно и стыдно.» (из дневников Герцена 17 Июня 1844 ) Но из всех социалистических писателей, именно Прудон привлек его наибольшее внимание. В своем дневнике он пишет:
«Наконец, я достал брошюру Прудона "О собственности". Прекрасное произведение, не токмо не ниже, но выше того, что говорили и писали о ней. Разумеется, для думавших об этих предметах, для страдавших над подобными социальными вопросами главный тезис его не нов; но развитие превосходно, метко, сильно, остро и проникнуто огнем. Он совершенно отрицает собственность и признает владение индивидуальное, и это не яичный взгляд, а вывод логический и строгий, которым он развивает невозможность, преступность, нелепость права собственности и необходимость владения.» (из дневников Герцена 3 декабря 1844 )
Годом позже он читает «De la création de l'ordre dans l'humanité» Прудона - «человека, который написал о собственности». Чтение этой книги вернуло ему его основные сомнения во всем современном французском социалистическом движении. Оно ему казалось отдельными фрагментами какой-то будущей социалистической доктрины или собрание материалов какой-то возможной творческой работы, а не системы, которая может противостоять атаке и критике. Его исследование немецкой философии и размышления о Гегеле и Фейербахе ясно показало ему непосредственность - «niaiserie» - в этих французских писателях. «Сквозь это надобно пробиться, надобно это принять за дурную привычку, которую мы терпим в талантливом человеке, и идти далее» (из дневников Герцена 28 февраля 1845
)
Общие мысли Герцена о французском социализме представляют большой интерес. Начиная с коммунистической традиции и видя в ней отрицание существующего общества, требование, которое было близко сердцам масс, но не являлось решением, он искал ответ в работах тех писателей, которое наиболее полно анализировали общество. Таким образом он все с большей определенностью двигался в сторону прудонизма и начал судить его критически в свете своего собственного опыта и своих собственных философских идей.
Вооруженный этим, он обратил свое внимание на современную ситуацию в России. Он больше не находил возможным продолжать изучать эпоху Петра Великого или продолжать оценивать заново функцию государства в истории цивилизации его страны. Он сконцентрировался все больше на крестьянах и на жизни русских людей.
Они привлекли его внимания из-за планов реформ, которые рассматривались правительством. Правда это были очень осторожные планы, но впервые со времен непримиримой реакции, которая последовала после восстания декабристов, официально рассматривался вопрос крепостничества. У Герцена не было иллюзий. «Замечателен циркуляр министра внутренних дел, объявляющий, что в этом указе (который давно был ожидаем) ничего нового нет, что он относится к желающим и чтоб не смели подразумевать иной смысл, мнимое освобождение крестьян etc., etc. Ne réveillez pas le chat qui dort! {Не будите спящего кота! (франц.).}» (из дневников Герцена 15 апреля 1842 )
Официальный интерес был только симптомом возрожденного интереса к этой проблеме во всем обществе. Даже движение славянофилов, которое он сначала рассматривал как состоящее в основном из нео-романтиков и пиетистов, сейчас казалось ему важным примером текущей озабоченности. Больше недостаточно было критиковать их религиозную позицию, и видеть в славянофилии просто еще один продукт бесчисленных философий истории. Сейчас, полемика станет гораздо более детальной и более политической. Москва была естественным центром славянофилов, и это был дух Москвы, в противоположность духу Санкт-Петербурга, который они желали представлять. Герцен жил и работал в их столице и там установились те сложные отношения из любви и ненависти, противодействия и поддержки, которые в различных формах продолжались через всю его жизнь и которые в конце концов привели его к народничеству.
Движение славянофилов было симптомом политического возрождения, главным образом потому что оно пыталось придать содержание и смысл народности, которая была одним из лозунгов правления Николая I. Само слово народ, означающее одновременно и 'людей' и 'нацию' (как и немецкое слово Volk), было взято из Volkstum, и имело похожую политическую интонацию, реакцию против французской революции, против последовавших национальных и в то же время либеральных движений. В это время, то есть в 1843 году, Уваров, министр народного просвещения при Николае I, провозгласил официальную троицу самодержавия православия и народности, естественный синтез которых, как заявлялось, лежал в первом из них — самодержавии. Поэтому абсолютистская система нашла необходимым связать себя с христианством и национализмом, как-будто ища законное основание в религии и народе.
За такой маскировкой лучше было любоваться издалека. Эта была типичная директива деспотизма, большая опасность и из-за тех, кто отверг ее, и из-за тех, кто воспринял ее серьезно и пытался дать ей полезный смысл, именно то, что стремились сделать славянофилы. Они хотели использовать настроение, чтобы вернуть церковь к жизни и почувствовать себя ближе к русскому народу — к крестьянам и народной традиции, как отличной от государства. Они возвышали патриархальную форму жизни и отвергали современную систему, которая была менее национальна по своему характеру.
Но, как заметил Герцен, «правительство подыскивается и приготовляет ловушки славянофилам. Оно само поставило знаменем народность, но оно и тут не позволяет идти дальше себя: о чем бы ни думали, как бы ни думали — нехорошо.» ( Из дневников Герцена 14 января 1843 ) Герцен искал за границами фанатизма и эклектичных и реакционных свойств славянофильского движения, которые даже в эти дни он не уставал подчеркивать; и за пределами официальных лозунгов. Он искал живую силу, которая вдохновила эти идеи.
Он уважал личностные характеристики некоторых славянофильских писателей. Он считал Аксакова, Хомякова, Киреевского и Самарина людьми, которые искренне ищут правду и верят, что нашли ее. Не только из уважения к ним как к личностям, но прежде всего, из-за того деликатного уважения, которое так часто вдохновляло его суждения. «Таких людей нельзя не уважать, хотя бы с ними и был диаметрально противуположен в воззрении» ( Из дневников Герцена 23 ноября 1842 )
На Ивана Киреевского он смотрел как на человека, который «глубоко перестрадал вопрос о современности Руси, слезами и кровью окупил разрешение, -- разрешение нелепое, однако не так отвратительное, как квиетический оптимизм Аксакова.» (Из дневников Герцена 23 Ноября 1842 ) Из всех славянофилов именно Киреевский больше всех повлиял на Герцена.
И хотя личное уважение может и отсрочило его разрыв с группой славянофилов и может привело к занятию позиции не такой радикальной как у Белинского, но само по себе это не могло серьезно повлиять на его развитие. Кроме того, была гораздо более сильная связь: именно славянофилы предложили ему исследовать русскую деревню. И хотя это не выходило за рамки его интересов, оно не приобрело бы такой политической важности, если бы не расплывчатое, настойчивое, проникновенное проповедование славянофилов.
Эти люди, которые провозглашали себя представителями средневековой русской традиции и которые отвергали Петра Великого из-за того, что он создал государство, которое намеревался сделать современным, подчеркивали важность коллективного элемента в русской деревне. Ненавидя современный мир, они превозносили наиболее примитивные аспекты крестьянских общин, системы землевладения и распределения.
Нужно подчеркнуть, что их концепции были расплывчатыми и выражались в философских и религиозных терминах. Хотя и не без причины Хомяков мог хвалится в 1857 году, что с 1839 года славянофилы сконцентрировали свое внимание на общине «как рождающей новое духовное движение». И Самарин скажет в 1847 году, что «ответ на наиболее насущную проблему Запада (т.е. социализм) находится в старейших обычаях славян». (перевод с английского переводчика)
Но Герцен был прав, когда он в свою очередь заметил, что славянофилы были заинтересованны только этими проблемами (и особенно отношениями между русскими крестьянами и западным социализмом), потому что даже в России социализм уже обсуждался. Не говорил ли он сам о теориях Сен-Симона в начале тридцатых? Но функция славянофилов в развитии русского социализма не должна рассматриваться только под этим углом. Они действительно помогли преобразовать социализм: из интеллектуального размышления о проблемах Запада к вопросу, который был тесно связан с крестьянами в их собственной стране. К этому они конечно не стремились, но благодаря Герцену, их оппоненту, они к этому пришли. Сохраняя дискуссию о самых ранних формах сельских общин в России, которые появились в восемнадцатом веке и которые стали так важны уже декабристам, эти защитники отсталой и патриархальной сельской жизни подготовили почву для народничества Герцена.
В течении первых лет после возвращения в Москву, Герцен всё-ещё склонен был критиковать даже социальный аспект славянофильской идеологии. Ужаснувшись положению русских крестьян, он написал:
«Наши славянофилы толкуют об общинном начале, о том, что у нас нет пролетариев, о разделе полей -- все это хорошие зародыши, и долею они основаны на неразвитости. Так, у бедуинов право собственности не имеет эгоистичного характера европейского; но они забывают, с другой стороны, отсутствие всякого уважения к себе, глупую выносливость всяких притеснений, словом, возможность жить при таком порядке дел. Мудрено ли, что у нашего крестьянина не развилось право собственности в смысле личного владения, когда его полоса не его полоса, когда даже его жена, дочь, сын -- не его? Какая собственность у раба; он хуже пролетария -- он res {вещь (лат.).}, орудие для обработывания полей. Барин не может убить его -- так же, как не мог при Петре в известных местах срубить дуб,-- дайте ему права суда, тогда только он будет человеком. Двенадцать миллионов людей hors la loi {вне закона (франц.).}. Carmen horrendum {Страшный закон (лат.).}.» (20 Июня 1843 Дневник Герцена )
Поэтому общинные элементы крестьянской русской жизни казались ему результатом отсталого исторического развития. Он не предлагал, в отличии от того, что он скажет позже, развивать их по социалистическому принципу. Но даже на этом этапе он утверждал, что возможность дальнейшего развития лежит на пути полного освобождения от любых форм рабства. Только гражданские свободы смогут оправдать сохранение общинных элементов на более позднем этапе.
Поэтому славянофилы выполняли в России ту же роль, что и последователи Сисмонди поколением раньше или физиократы. Обе эти философии вначале рассматривались как оправдывающие стародавние времена, как объясняющие и защищающие земельную собственность аристократии, относительное отсутствие промышленного развития, а иногда даже и оправдывающие крепостничество. Сейчас славянофилия накладывала похожую интерпретацию на немецкую философию истории, с её глубокой привязанностью к примитивному, к корням, к «народу» за границами политики. Но похожие попытки оправдания, сделанные людьми искренне верящими и которые честно были убеждены западными идеями, всегда оказывались оружием для их оппонентов: сначала для просвещенного Радищева, потом для более радикальных декабристов, а сейчас для Герцена.
Однако маловероятно, что это сыграло бы такую важную роль в их жизни, если бы не прибытие к славянофилам прусского исследователя Гакстгаузена, который исследовал следы коллективизма, сохранившиеся в центральной части Пруссии и который начал систематическое и терпеливое исследование русской деревни, её традиций и обычаев в разных областях империи Николая I. Будучи ярым сторонником своего «открытия», он объявил о нем миру в трех огромных томах.
Даже этот аспект русской жизни должен был быть «открыт» иностранцем. Естественно русские изучали вопрос общины задолго до него и делали это в свете современных социальных направлений, так как им надо было увидеть отражение своих собственных проблем в Европе. Только тогда могли они рассматривать их целостно. В восемнадцатом и девятнадцатом веках, например, большая часть споров между западниками и патриотами была не более чем эхо впечатлений английских, французских и немецких путешественников и писателей. Сейчас книга Гакстгаузена служила тому же, поощряя обсуждение коллективистских аспектов русской сельской организации.
Герцен встретился с ним в 1843 году в Москве.
«Меня удивил ясный взгляд на быт наших мужиков, на помещичью власть, земскую полицию и управление вообще. Он находит важным элементом, сохранившимся из глубокой древности, общинность, его-то надобно развивать, сообразно требованиям времени etc.; индивидуальное освобождение с землею и без земли он не считает полезным, оно противупоставляет единичную, слабую семью всем страшным притеснениям земской полиции, das Beamtenwesen ist gräßlich in Rußland {чиновничество ужасно в России (нем.).}.» (13 Мая 1843 Дневник Герцена )
Эта была защита патриархальной жизни против вмешательства современного государства. Но сущность этой защиты находилась не в аристократии, а в крестьянской общине. И именно это привлекло внимание Герцена, хотя теория Гакстгаузена и не убедила его. Он размышлял над тем, сможет ли община долго противостоять силе Beamtenwesen (чиновничества). «Состояние общины», - писал он, «зависит от того, что помещик ее богат или беден, служит или не служит, живет в Петербурге или в деревне, управляет сам или приказчиком. Вот это-то и есть жалкая и беспорядочная случайность, подавляющая собою развитие.» (13 Мая 1843 Дневник Герцена )
Столкнувшись с идеями Гакстгаузена, Герцен увидел, что только если община сыграет свою роль в эволюции российского государства и общества, только тогда её возможное сохранение и развитие может быть оправдано. Его защита патриархальности постепенно превратилась в народнический образ будущего русской деревни.
Но этот образ сформируется только после контакта с Западом и поражения революции 1848 года. Перед иммиграцией Герцен главным образом был озабочен противостоянием славянофилам и созданию чувства духовной и политической независимости в противовес миру официоза. Он думал, что всё остальное должно отступить. Противопоставление народа правительству, которое провозгласили славянофилы как часть их философии, было полностью теоретическим, неспособным к активному политическому развитию, вряд ли побудило бы на глубокое исследование российского прошлого. Это была идеализация происхождения России, основанная на мифах. Это лишь способствовало этнографическим исследованиям, которые сопровождались появлением народничества и которое сыграло такую важную роль в русской культуре, не создавая даже политического движения. Самым важным свойством российской жизни 40-х годов является появление интеллигенции. Белинский обладал большим авторитетом, потому что он знал как возглавить движение, чьим лозунгом было «западничество». Герцен тоже, в годы перед самой иммиграцией, со своим «реализмом», научным взглядом и просвещением, выковал политическое сознание своего поколения интеллектуалов, он дал им глубокое чувство независимости перед властями и государством и это составило их настоящий raison d'etre.
В это время Герцен уже утвердился как писатель, под псевдонимом Искандер, псевдоним который он сохранил на всю жизнь. В 1845 году он прекратил писать памфлеты и «письма» на философские темы и начал свою первую важную литературную работу «Кто виноват?», за которой последовали три коротких рассказа и интересный философский conte Сочинение доктора Крупова О душевных болезнях вообще и об эпидемическом развитии оных в особенности.
Эти работы отличаются интеллигентным и тонким (иногда слишком тонким) равновесием между мыслью и чувством. Дискуссии и автобиографические признания неразрывно связаны. Ясный стиль наполненный поэзией являлся побочным продуктом острого, язвительного ума. Он принял такую литературную форму из-за желания духовной и социальной ясности и из-за необходимости построения новых и более правдивых отношений между собой и другими людьми. В своей автобиографии, написанной уже в зрелом возрасте, он будет менее сдержанным, а здесь он был более резким.
Белинский, после чтения «Кто виноват?», написал ему восторженное письмо, которое стоит процитировать, потому что оно открывает ту самую неопределенность, в которой выразился критик.
«У художественных натур ум уходит в талант, в творческую фантазию,-- и потому в своих творениях, как поэты, они страшно, огромно умны, а как люди -- ограниченны и чуть не глупы (Пушкин, Гоголь). У тебя, как у натуры по преимуществу мыслящей и сознательной, наоборот -- талант и фантазия ушли в ум, {Далее зачеркнуто: а сердце} оживленный и согретый, так сказать, осердеченный гуманистическим направлением, не привитым и не вычитанным, а присущим твоей натуре. У тебя страшно много ума, так много, что я и не знаю, зачем его столько одному человеку; у тебя много и таланта и фантазии, но не того чистого и самостоятельного таланта, который всё родит сам из себя и пользуется умом как низшим, подчиненным ему началом,-- нет, твой талант -- чорт его знает {Далее зачеркнуто: какой-то незаконнорожденный} -- такой же батард или пасынок в отношении к твоей натуре, как и ум в отношении к художественным натурам.» ( Письмо Белинского Герцену 6 апреля 1846 года)
И он призвал его больше писать и таким образом раскрыть природу своего таланта для самого себя.
Эти литературные работы Герцена действительно раскрыли что-то очень важное. Так как в них был раскрыт длинный процесс духовного исследования, скрытое озарение личности в поисках правды, весь психологический и религиозный анализ, который сформировал ядро философских дискуссий, которые продолжались более десятилетия. Всё это не было в форме философской системы, но нашло свой выход в литературе. Рассказы Герцена были одними из ранних, хотя и не самыми созревшими плодами урожая великой русской литературы прошлого века. Его книги, хотя ещё и не шедевры, но из работы, которая была побочным продуктом размышлений Искандера, Белинский смог угадать, что рождается что-то действительно великое — мир новой русской литературы. Решающий шаг не был герценовский, но перед тем как покинуть Россию, он помог в немалой степени создать новый интеллектуальный и художественный мир.
Политически, его последние годы в России были менее плодотворны. С возрастающим пылом он обсуждал возможность иммиграции из России и установления прямых контактов с западным миром, и когда он наконец решил иммигрировать - это было главным образом потому, что он почувствовал, что находится в тупике.
Это был риск, присущий всем в движении «западников», к которому он принадлежал и которое в Москве все больше и больше ассоциировалось с ним и с историками Грановским и Кавелиным и такими писателями как Боткин, Корш, Кетчер и другими. Анненков, который принимал участие в этом движении, объяснил лучше чем кто-либо другой основные причины политической импотенции и внутренний распад группы. «У них не было полной продуманной политической формулы. Они обращали внимания на проблемы по мере их поступления и критиковали и рассматривали только современные явления.» (перевод с английского переводчика) Они начали с оппозиции размытой идеологии славянофилов, но не хотели начинать борьбу о более важных проблем, касающихся внутренне-российских дел или культурных отношений России с остальной Европой. Они не хотели становиться пленниками философии истории. Но это «хорошее сознание» западников, как сказал Анненков, в конечном счете оставило их с «пустыми руками». Другими словами, эта группа людей, которая, за исключением Герцена, представляла зарождение русского либерализма середины века, была оторвана от любой политической деятельности, с одной стороны, осознавая моральные проблемы, которые возникнут при сотрудничестве в любом виде с правительством Николая I, а с другой стороны, слишком заучившаяся, слишком измученная попыткой избавиться от мифов и метафизики романтизма, для того чтобы создать новые, активные и эффективные политические идеалы. Таким образом она постепенно уходила все больше и больше в изучение истории, литературный критицизм и изучение обычаев. Безуспешность российского либерализма, даже после Крымской войны, коренилась именно в этом периоде конца 40х. Однако этот уход в исследования все же привел к одному важному результату. Он вдохновил пересмотр проблем российского государства и реформ Петра Великого (проблема, которая интересовала Герцена). Таким образом, это помогло избежать тупика славянофилов и перейти к концепции истории, которая, хотя и создала миф неразрывности и прогрессивной роли государства, тем не менее при помощи Грановсого, Кавелина, Чичерина и особенно Соловьева помогла заложить основу современной русской историографии.
Но Герцен был не больше историком чем писателем-романистом. В нем практичный политик чувствовал невозможность развития либерализма, которое основано на изучении истории. В газетных статьях и личных беседах он поддерживал и рекламировал первые лекции Грановского в Москве, Здесь была та интеллектуальная атмосфера, которую он хотел развить согласно своим убеждениям. Но хотя он многократно пытался, так как был связан чувствами и дружбой с этой группой российских друзей, он в конце концов нехотя решил, что невозможно вывести дискуссии на необходимый уровень.
Мы мало знаем о ранних дебатах 1846 года, главным образом из-за нехватки документов. Описание, данное Герценым в «Былое и думы» имеет большой человеческий интерес, но содержит более личного чем политического. Письма и описания других отрывочны.
Тем не менее, вероятнее всего, обсуждавшиеся проблемы можно свести к трем.
Первая, позиция относительно народа. Эти дебаты были похожи (хотя в России больше обсуждались обычаи и моральные проблемы) на дебаты в Берлине в то же самое время в среде левых гегельянцев, дебаты об взаимоотношениях между революционерами и народом. Они опять рассматривали проблему народности. Грановский говорил, что сочувствует позиции славянофилов. Таким образом он отказывал или в любом случае ограничивал дискуссии, которые с ними проводились. Белинский хотел придать народности значение близкое к «патриотизму» как оно понималось в Западной Европе. Боткин мудро резюмировал все эти идеи следующим образом:
«Славянизм не произвел еще не одного дельнаго человека: это — или цыган, как Хомяков, или благородный сомнамбул Аксаков, или монах Киреевский, это — лучшие! Но между тем славянофилы выговорили одно истинное слово: народность, национальность. В этом их великая заслуга... Вообще, в критике своей они почти во всем справедливы...Как только выступают они к положению, - начинаются ограниченность, невежество, самая душная патриархальность, незнание самых простых начал государственной экономии, нетерпимость, обскурантизм и проч.» («Анненков и его друзья: литературные воспоминания и переписка 1835-1885 годов» стр. 538 1892г )
В этой смеси понимания и критицизма, Боткин признается, что западники не решили и даже не начали рассматривать проблему интеллигенции и народа, которую романтические славянофилы по крайней мере признавали фундаментальной.
Второй и гораздо более важный вопрос был в роли буржуазии в будущей политической жизни России. Это была реакция на социализм, которая вдохновляла умы людей в начале 40х; признак зрелости, следуя за молодым и полным энтузиазма утопизмом тех лет. Но для Герцена, это неизбежно представлялось как отказ от тех самых идей, которые он сейчас пытался сформулировать. Западники на самом деле все более и более подпадали под влияние истории Франции и роли tiers état (третьего сословия). Их видение будущего политической жизни России было вдохновлено концепцией буржуазии, к которой Гизо, Тьерри и другие пришли разнообразными способами. Естественно, что именно Грановский, историк, критиковал утопизм западников. «Социализм», - говорил он, - «чрезвычайно вреден тем, что приучает отыскивать разрешение задач общественной жизни не на политической арене, которую презирает а в стороне от нея, чем и себя и ее подрывает» («Т.Н.Грановский и его время. Исторический очерк» Чешихин В.Е стр. 288)
Дискуссия чаще всего представляла собой столкновение различных идей, а не исследование ситуации. Но постепенно покрывая новую территорию, она стала предвидеть будущие проблемы. Члены группы фактически начали задаваться вопросом, хотя все-еще не совсем четко, стоят ли они перед буржуазным периодом или таким, в котором социалистические идеи могут быть реализованы.
Третья проблема в мемуарах Герцена по своему характеру философская. В своей борьбе против романтизма он пришел ко взглядом все больше похожим на взгляды Вольтера и Дидро. Это были главные имена в горячих дискуссиях с Грановским, который хотел сохранить веру в бессмертность души и спиритуализм, который нелегко было описать, но у которого были сильные эмоциональные корни. Поэтому неудивительно, что Фейербах вскоре стал камнем преткновения, из-за которого разделились западники.
Из-за этой атмосферы, Герцен чувствовал, что переезд из Москвы в 1847 году был в каком-то смысле освобождением. Позже он вспоминал этот формирующий период в России и плодотворные московские дискуссии, но эти года были как-бы покрыты туманом, как-будто дискуссии были слишком далеки от реальности и слишком литературны. Он чувствовал, что атмосфера 40-х в Москве слишком «доктринерская». Он боролся со славянофильской философией истории и с философией своих друзей, но его борьба успеха не принесла. Интеллектуальные партии как-бы окаменели в склерозе, славянофилы и западники все больше оглядывались назад, в прошлое средневековой России, а западники обращались к периоду Петра Великого. «Пора начать», - отвечал Герцен, - « и человечеству забывать ненужное из былого, то есть помнить о нем как о былом, а не как о сущем.» (18 Января 1844 Дневник Герцена )
Желание освобождения окрашивало все его идеи, когда он отправился в Париж. Это даже повлияло на его взгляды о будущем России, которое виделось ему полное великих надежд, из-за того, что Россия не обременена длинной историей, которая так дорога доктринерам. Уже в 1844 году он записал в своем дневнике строчки Гете, посвященные Америке, которые по его мнению еще больше подходят России.
Dich stört nicht im Innern
Zu lebendiger Zeit
Unnutzes Erinnern
Und vergeblicher Streit.
(эпиграф к «О развитии революционных идей в России» А.И. Герцен)
Эти строчки были формулой освобождения для Герцена.
Когда его друзья получили первые письма от него — на самом деле статьи, которые так и были опубликованы — они больше огорчились, чем удивились. Герцен не только продолжил критику всех форм западничества, которые уже стали намерено буржуазным, но и усилил ее.
Стоит обратить внимание на эти письма хотя бы из-за их четкого описания Франции перед революцией. В них еще нет углубления его идей, но в них содержится — как только он соприкоснулся с Западной Европой — их сжатое изложение. Франция Луи-Филиппа на грани взрыва, явно не нравилась Герцену. То, что действительно интересовало Герцена в Приже 1847 года, так это группировка сил противостоящая существующему режиму и понимание того, как широко распространились демократические и социалистические идеи.
Он считал, что власть буржуазии обречена. «Буржуазия не имеет великого прошедшего и никакой будущности. Она была минутно хороша как отрицание, как переход, как противуположность, как отстаивание себя...Наследник блестящего дворянства и грубого плебеизма, буржуа соединил в себе самые резкие недостатки обоих, утратив достоинства их.» ( «Письма из Франции и Италии» ПИСЬМО ВТОРОЕ Париж, 3 июня 1847 г.) Против нее уже поднялись дворяне и народ, идеалисты и пролетарии — все те, кто не хотел подчиниться «политической экономии» и искали решения социальных проблем, которые никакие прошлые революции не смогли решить. Поэтому он говорил, что после стольких восстаний, Европа все-еще была лишь у самого начала настоящей проблемы.
Первое соприкосновение с Парижем утвердило Герцена в своих социалистических стремлениях, даже если он не нашел новой политической силы, которую он искал эти 20 лет. Вокруг него были
«Благородное негодование, pia desideria (благие пожелания), и критика не составляют положительного учения, особенно для народа; нет ничего менее симпатизирующего с критикой, как народ: он требует готового, доктрины, верования; ему нужно знамя, ему нужна определенная межа, к которой идти. Люди, смелые на критику,-- были слабы на создание; все фантастические утопии двадцати последних годов проскользнули мимо ушей народа; у народа есть реальный такт, по которому он, слушая, бессознательно качает головой и не доверяет отвлеченным утопиям до тех пор, пока они не выработаны, не близки к делу, не национальны, не полны религией и поэзией.» ( «Письма из Франции и Италии» Письма из Avenue Marigny Письмо четвертое)
Поэтому отсутствие веры в немедленные возможности социализма, вместе с с радикальным недоверием в жизненность и будущность буржуазии, которая была у власти, окрашивала эти письма, как и все его тексты «перед бурей» и являлось предостережением глубокому разочарованию, которое он испытает при поражении революции 1848 года.
К концу 1847 года он уехал в Италию и там участвовал в первом действии европейской революции. Его наблюдения яркие, но журналистские, глубокие только местами. На его суждение сказывалось восхищение перед римлянами и перед формированием гражданской гвардии, и растущая оценка силы индивидуальности, которую он полюбил в каждом аспекте итальянской жизни. «Италия больше чем Рим. Это каждый маленький город и каждый отличается. Грановский, мой друг, мы по-настоящему так и не поняли Италию. Мы ошибались в деталях, как в общем мы ошибались насчет Франции.» (перевод с английского переводчика) Он был поражен на этом раннем этапе Risorgimento сложностью итальянского возрождения и на этом брожении, так отличном от централизованной Франции, он поставил свои симпатии и надежды.
Когда он вернулся во Францию, борьба между Национальным Собранием и клубами была в самом разгаре. В этом (под влиянием того, что он видел в Италии) он признал конфликт идеологий и классов, решающая борьба между традиционным централизмом французской политики и новыми силами, которые начала выявлять революция. В этом была оригинальность его точки зрения.
Это дало ему возможность понять сущность борьбы между Ламартином и Бланки. Он видел как Франция пытается перейти границы 1793 года и продолжить революцию с того места на котором ее оставил Робеспьер. В его глазах 15 Мая было продолжением, полвека спустя, 9 термидора. Но на этот раз революционеры не были под влиянием веры в национальное собрание, как был в свое время Робеспьер, не были готовы умереть если надо за него и поэтому не были более не способны обращаться к массам. В этот раз революционеры пошли против Собрания. «Чего не осмелился сделать Робеспьер 8 термидора, перед чем он, передовой человек революции 93 года, остановился и лучше хотел снести голову на плаху, и снес ее, нежели решился спастись противно своим началам, в силу которых самодержавие принадлежало одному Конвенту,-- то сделал парижский народ 15 мая.» Он добавляет: «Вот отчего консерваторы и либералы на старый лад опрокинулись с такой яростью на Барбеса, Бланки, Собрие, Распаля; вот отчего в этот день Собрание и исполнительная комиссия, ненавидевшие друг друга, бросились друг другу в объятия. Роялисты схватились за оружие для того, чтоб спасти Республику и Национальное собрание. Спасая Собрание, они спасали монархическое начало, спасали безответную власть, спасали конституционный порядок дел, злоупотребление капитала, а наконец и претендентов. По ту сторону виднелась не ламартиновская республика, а республика Бланки, т. е. республика не на словах, а на самом деле; по ту сторону представлялась революционная диктатура как переходное состояние от монархии к республике; suffrage universel {всеобщее избирательное право (франц.).}, не нелепо и бедно приложенный к одному избранию деспотического Собрания, а ко всей администрации; освобождение человека, коммуны, департамента от подчинения сильному правительству, убеждающему пулями и цепями. Собрание, опертое на Национальную гвардию, победило, но нравственно оно было побеждено 15 мая, оно держится, как все отжившие учреждения, единственно силою штыков и не дошло даже до того, чтоб журналисты говорили об нем без явного презрения.» ( «Письма из Франции и Италии» Письмо девятое Париж 10 июня 1848 года)
Это одни из лучших строк герценовского политического анализа. Они показывают, что социализм покидает царство Утопии и романтики и выходит на политическую арену.
Но 15 мая революционное восстание потерпело поражение. Почему? Чтобы понять это Герцен вернулся к истокам движения, к дням после 24 февраля. За несколько недель, революция, как ему казалось, перешла в защиту или даже в отступление. Она была недостаточно подготовлена. «Ламартин и люди "Насионаля" во главе движения были великим несчастием для Франции.» ( «Письма из Франции и Италии» Письмо девятое Париж 10 июня 1848 года) Никто не знал как извлечь пользу из периода сразу после 24-го февраля, в течении которого, согласно Герцену, могли свершиться чудеса. Республиканская партия оказалась слишком мала; выборы прошли в самом неподходящем виде, в самое неподходящее время.
Политически побежденное 15го мая, революционное движение было социально изолированно в начале июня. Партия, которую сам Герцен описывает как партию «коммунистов и социалистов и с ними парижских работников» была разгромлена. Для него, так же как и для многих европейских социалистов, эти события были важны из-за роли пролетариата. В 1847 году, ему казалось, хоть и на короткое время, что это модель достоинства и человечности, и сразу же привлекло сравнение с русскими крепостными — сравнение, которое едва ли льстило последним в моральном и материальном смысле. Сейчас парижский рабочий предстал в новом свете, как член революционного пролетариата. «Что за мощный народ, который, несмотря на то, что просвещение не для него, что воспитанье не для него, несмотря на то, что сгнетен работой и думой о куске хлеба, -- силою выстраданной мысли до того обошел буржуази, что она не в состоянии его понимать -- что она с страхом и ненавистью предчувствует неясное, но грозное пророчество своей гибели -- в этом юном бойце с заскорузлыми от работы руками.» ( «Письма из Франции и Италии»)
Он проследил начало пролетариата к восстанию в Лионе, рассмотрел формирование его под Луи-Филиппом с его «суровым, строгим» характером, который стал «одним классом во Франции с широким кругом политических идей, потому что стоял в стороне от замкнутого круга имеющих принятые идеи своего времени. Как класс он был исключительным, его друзья по несчастью — бедное крестьянство — стонут под тяжестью status quo в отличии от разнообразных действий промышленных рабочих.» (перевод с английского переводчика)
Июньские дни были для него решающими. Они ознаменовались искренним разрывом (который он позже по политическим причинам попытается скрыть) со всем либеральным буржуазным миром. Обсуждения этой проблемы двумя годами раньше в Москве, идеи друзей, которых он оставил в России, сейчас осветились ужасным светом.
«Июньские дни не имели прецедента в прошлом», - писал он в Москву. Террор после восстания просто ужасный. Это реакционный терор, окрашенный всеми страхами французской буржуазии, самым тупым классом всего европейского населения, для которого Кавеньяк — гений , потому что он не побоялся гражданской войны. И Тьер тоже гений, потому что у него нет чувства чести. Все защитники буржуазии, такие как вы, запачканы грязью.» (перевод с английского переводчика)
А в другом письме он говорил, что террор 1793 года был более масштабным, чем те три месяца осады парижских рабочих. Его постоянные отсылки к июньским дням одни из самых волнующих в герценовском калейдоскопическом дневнике революции 1848 года.
Был единственный луч надежды: «Быть может, Франция и вся Европа погибнут в этой борьбе, быть может, эта часть света впадет в варварство, чтобы обновить свои испорченные цивилизацией соки.» ( «Письма из Франции и Италии») Он чувствовал, что в народе все-еще была сила. После он скажет: «После июньских дней, что революция проиграла, но я все-еще верю в нее. Я верю в удивительную живучесть выживших, в их моральное влияние.» (перевод с английского переводчика)
Он рассматривал революцию 1848 года во всех ее главных компонентах как социалистическую революцию, неудачную с самого начала из-за незрелых идей и бессильных людей.
Он не верил в Луи Блана, который оставался в стороне от центрального политического движения и ушел из люксембургской комиссии, не оставляя себе свободу действия и признавая власть правительства Ламартина. «Он стал проповедником социализма. Он имел большое влияние на рабочих, но у него не были настоящего политического авторитета.» «На самом деле», - заключил он, «Луи Блан никогда не понимал социализма. Его хорошо известная книга «De l'Organisation du Travail» и несколько блестящих фраз установили его репутацию.» (перевод с английского переводчика)
Он рассматривал ateliers nationaux как уловку, примененную государством, напуганное безработицей. В люксембургской комиссии он видел лишь «раннюю христианскую церковь в древнем Риме», а в Луи Бланке «первым священником и проповедником новой церкви, а его заседания не более чем торжественные литургии юношеского социализма.» (перевод с английского переводчика)
Герцен гораздо больше уважал и восхищался Бланки. В какой-то момент он предложил необходимость временной диктатуры, чтобы восполнить пробел между монархией и республикой. Но его привлекло к Бланки, кроме его политических взглядов и революционной страсти, определенность, то, что тот не будет колебаться, когда столкнется с традиционными идеями, которые душили демократов.
«Бланки - революционер нашего века, он понял, что поправлять нечего, он понял, что первая задача теперь - разрушать существующее. Одаренный совершенно оригинальным красноречием, он потрясал массы, каждое слово его было обвинение старого мира и вызов на казнь его. Его меньше любили, нежели Барбеса, но слушались больше.» ( «Письма из Франции и Италии» Письмо Десятое 1 сентября 1848)
Тем не менее, Герцен больше всего симпатизировал Прудону. На его взгляд на революцию глубоко повлияли, как он сам же признавал, «прекрасные журналы» Прудона и Торе - «Peuple» и «Vraie République». И с ростом разочарования и с уменьшением уверенности в революцию, деятельность Прудона приобрела большую важность в его глазах. Почти год он поддерживал его материально и политически сотрудничал с ним, побуждая его на более активные действия. В августе 1849 года Герцен предоставил Прудону финансы для создания «La Voix du Peuple», сохраняя за собой право писать туда и направлять ее внешнюю политику. Борьба Прудона против Луи Наполеона была «настоящей поэмой гнева и презрения.» Именно Прудон заставил его понять ужасную опасность в приходе к власти президента Наполеона. Прудон, который пробудил в нем растущее недоверие к традиционным демократам, которые хотя и приобретали жизненность своей оппозицией к Наполеону, но на самом деле становились все более бессильными не только в своей непосредственной политике, но и в своей исторической функции.
Участие Герцена в демонстрациях 13го июня, из-за которых он должен был бежать в Женеву, было последней попыткой, исполнением долга. Его неудача подтвердила его отрицательное отношение к «Горе». «Демократическое течение», - писал он из Женевы в сентябре, - «или партийное движение потерпело поражение, потому что оно всегда совершало ошибки, потому что оно всегда боялось быть революционным в настоящем смысле, потому что оно нападало на Трон, лишь для того чтобы захватить себе власть.» (перевод с английского переводчика)
Но действительно ли революция закончилась? Герцен так не думал. Вдохновленный (как и многие европейские революционеры) надеждой на усиление движения, он обратил свое внимание на крестьян. В июне 1851 года он писал:
«Но революция не остановилась. Вместо неосторожных попыток и заговоров работник думает крепкую думу и ищет связи не с цеховыми революционерами, не с редакторами журналов, - а с крестьянами. С тех пор как грубая рука полиции заперла клубы и электоральные собрания, трибуна работников перенеслась в деревни. Эта пропаганда неуловима и глубже захватывает, нежели клубная болтовня. В груди крестьянина собирается тяжелая буря. Он ничего не знает ни о тексте конституции, ни о разделении властей, но он мрачно посматривает на богатого собственника, на нотариуса, на ростовщика; но он видит, что, сколько ни работай, барыш идет в другие руки, - и слушает работника. Когда он его дослушает и хорошенько поймет, с своей упорной твердостью хлебопашца, с своей основательной прочностью во всяком деле, тогда он сочтет свои силы - а потом сметет с лица земли старое общественное устройство. И это будет настоящая революция народных масс.» ( «Письма из Франции и Италии» Письмо тринадцатое 1 июня 1851 года)
Потом, когда coup d'état разразился 2 декабря во Франции, последняя возможность казалась открытой — надежда, которая всегда существует во времена насильственной реакции, что та не сможет решить проблем, поднятых революцией. Но когда и из этого ничего не вышло, по крайней-мере в начале, для него революция 1848 года закончилась. Теперь он мог сделать выводы и понять куда привела его его двойная реакция на Францию Луи-Филиппа и вторую республику. Реакция, которая была результатом с одной стороны индивидуального бунта против государственного централизма, а с другой социалистического бунта против правления буржуазии.
Индивидуализм, который был свойством русской культуры 30х и 40х, и инстинктивный бунт против Государства во имя народа, который был частью программы славянофилов, оба показали ему, что в монархиях как и в республиках, в абсолютизме как и в якобинстве, нужно бороться с единственным злом, с одним симптомом упадка — с тем чисто внешним порядком, который одержал победу в июне.
Он постоянно оглядывался назад пытаясь понять природу инстинкта свободы и независимости, которые он чувствовал, бурлят в российской культуре и которые он искал, но так и не смог найти в современных французах за исключением Прудона. Ему так и не удалось дать этому определение, потому что это было главным образом повышенная способность к самопознанию, в которой самообман не играл роли и которая позволила ему тщательно изучить живых людей, а не тени. Таким образом Герцен не обратился к теориям анархизма, как Бакунин, а сконцентрировался на противостоянии идеологии современного Государства, против традиции якобинства, против того, что он называл «демократической ортодоксией».
Он хотел нанести удар по этой идеологии, потому что он считал ее одной из разновидностей абстрактных спекуляций и религии, которые он преодолел, чтобы прийти к своему «реализму», еще одна из теней прошлого, которую хотел изгнать при помощи разума. Он оставил нам очень живое описание своей борьбы и то, как он достиг «несчастья знания».
«Внутри человека есть постоянный революционный трибунал, есть беспощадный Фукье-Тинвиль и, главное, есть гильотина. Иногда судья засыпает, гильотина ржавеет, ложное, прошедшее, романтическое, слабое поднимает голову, обживается, и вдруг какой-нибудь дикий удар будит оплошный суд, дремлющего палача, и тогда начинается свирепая расправа - малейшая уступка, пощада, сожаление ведут к прошедшему, оставляют цепи. Выбора нет: или казнить и идти вперед, или миловать и запнуться на полдороге. Кто не помнит своего логического романа, кто не помнит, как в его душу попала первая мысль сомнения, первая смелость исследования -- и как она захватила потом более и более и дотрогивалась до святейших достояний души? Это-то и есть страшный суд разума. Казнить верования не так легко, как кажется; трудно расставаться с мыслями, с которыми мы выросли, сжились, которые нас лелеяли, утешали,-- пожертвовать ими кажется неблагодарностью. Да, но в этой среде, в которой стоит трибунал, там нет благодарности, там неизвестно святотатство, и если революция, как Сатурн, ест своих детей, то отрицание, как Нерон, убивает свою мать, чтоб отделаться от прошедшего. Люди боятся своей логики и, опрометчиво вызвав перед ее суд церковь и государство, семью и нравственность, добро и зло, - стремятся спасти клочки, отрывки старого. Отказываясь от христианства, берегут бессмертие души, идеализм, провидение. Люди, шедшие вместе, тут расходятся, одни идут направо, другие налево; одни замирают на полдороге, как верстовые столбы, показывая,, сколько пройдено, другие бросают последнюю ношу прошедшего и идут бодро вперед. Переходя из старого мира в новый, ничего нельзя взять с собою.. Разум беспощаден, как Конвент, нелицеприятен и строг.» ( «С того берега» А.И.Герцен)
Все эти обвинения против «певчих революции», «профессиональных революционеров» и тех, кто хотел бы вернуться в прошлое имеют все тот же тон неумолимости и также безжалостны как был он безжалостен к себе.
Демократы «Монтаньяры» 1848 года казались ему самым убедительным примером того, что случается, когда внутренняя гильотина отказывается работать. Они думали, что являются республиканцами, а на самом деле просто следовали традициям монархического Государства. Они думали, что являются атеистами, но на самом деле являлись жрецами их собственной выдуманной религии и рабами устаревших символов. Они думали, что являются революционерами, а на самом деле были всего лишь консерваторами.
«Республика - так, как они ее понимают, - отвлеченная и неудобоисполнимая мысль, плод теоретических дум, апотеоза существующего государственного порядка, преображение того, что есть; их республика -- последняя мечта, поэтический бред старого мира. В этом бреду есть и пророчество, но пророчество, относящееся к жизни за гробом, к жизни будущего века.» ( А.И. Герцен «Письма с того берега» 1851)
Представленные так ясно и прямолинейно эти идеи не могли не иметь глубокого влияния на все движение русского народничества, так подозрительно относящееся ко всем общим демократическим идеям, так легко реагирующее на индивидуальные мотивы для бунта против Государства и поэтому инстинктивно противящиеся якобинской традиции.
В свете этой критики, его собственные политические идеалы не были разъяснены.
«Правительство — это не цель, а необходимость; не священное учереждение, обслуживаемое Левитами, а банк, канцелярия дел страны» (перевод с английского переводчика) Другими словами, максимум свободы, минимум наполеоновской централизации. Это туда, куда привела его революция.
Но Герцен был убежден, что достигнуть Республики можно лишь после «революционной диктатуры, которая не изобретет новый гражданский код или создаст новый порядок, а разрушит все остатки монархизма в коммуне, Отдел, Трибунал и Армию. Он сорвет маски со всех участников старого режима, сорвет с них одежды, их форму и эполеты, все символы власти, которые управляют людьми с такой силой.» (перевод с английского переводчика)
Теперь этот бунт принял точное социальное содержание. Также как и поражение 15-го Мая не заставило его потерять веру в революцию, которая превзойдет якобинцев, так и июньские дни лишь подтвердили его веру в социализм. В этом смысле, даже его критика традиционных форм нашла свое историческое оправдание. Он видел как была жива религия якобинцев в 1793 году, когда они знали чего хотели. Их последователи были однако в неопределенности, за их республикой стоял социализм.
«Режимы во Франции и других европейских государствах не соответствуют их лозунгам свободы, равенства и братства. Любая настоящая реализация этих идей означает отрицает современной европейской жизни и будет означать ее разрушение.» (перевод с английского переводчика)
Можно сожалеть о дворянстве, можно жалеть старый мир, но он приговорен, потому что уже достиг своих границ. «Работник больше не хочет работать на других.» Каждая республика, которая этого не понимает — умрет.
Поэтому революция 1848 года прояснила для Герцена одну вещь — Европа может быть спасена только своей внутренней социалистической революцией. «Но может ли истощенный европейский организм поддержать такой кризис и найти силы для перерождения? Кто знает? Европа очень стара. Ее силы недостаточны для поддержания своих собственных идей и у нее нет необходимой силы воли для достижения своих целей... У нее богатое прошлое, она жила долго, а в будущем ее наследниками могут быть с одной стороны Америка, а с другой славяне.» (перевод с английского переводчика)
По этой причине он сконцентрировал свое внимание на России, которой он хотел помочь учитывая свой опыт. Его пессимистический взгляд на будущее Франции и Европы в целом заставили его вспомнить решительные осуждения и пророчества славянофилов. Были ли они правы, когда говорили о испорченности Запада? Как и раньше, он отверг идею, к которой пришли славянофилы сравнивая примитивную, неисторическую Россию с остальной Европой. Сейчас надо думать о будущем. Россия может решить проблемы, которые истощили Западную Европу. И его надежды на будущее России росли, в то время как другие надежды разрушились.
Еще в 1849 году он сказал, что пришел самый подходящий момент «поднять русский голос». В мае того года он пытался организовать типографию в Париже. Он подготовил воззвание к русским для объяснения своих идей . «Франция», - говорил он, «напуганная будущем, погруженная в своего рода оцепение, сейчас отвергает все, что было добыто кровью и трудом за последние семьдесят лет.» Из-за этого люди Европы все больше обращаются к России. Консерваторы в надежде найти свой идеал сильного правительства, революционеры, потому что они усвоили идеи русских эмигрантов Бакунина, Сазонова и самого Герцена. Поэтому настало время для свободного голоса, для печатания тех работ, которые нельзя было печатать в России. Он заметил, что французы начали читать книгу Гакстгаузена и что отношения между российскими сельскохозяйственными общинами и западным социализмом были интересны людям, которые верили «что русские были социалистами по традиции».
Несколько раз он пытался установить связь польскими эмигрантами для того чтобы придать международный характер оппозиции Николаю I. Но реакция, которая последовала после 13-го июля 1849 года и бонапартизм, который он встретил встретил у поляков, положил конец его попыткам. Его план создания русского заграничного центра для публикации книг и газет возобновился лишь в Лондоне спустя несколько лет.
Когда российское правительство пыталось заставить его вернуться в страну, он отказался.
«Я остаюсь здесь не только потому что мне противно опять надеть наручники, как только я пересеку границу, но и потому что я хочу иметь возможность работать. Можно жить везде, если ничего не делать. Но для меня существует только одна цель здесь — наша цель.» (перевод с английского переводчика)
Несмотря на неудачные попытки поднять русский голос, надежда в великое будущее своей страны заставило его поверить, даже в худшее время европейской реакции, что его работа как эмигранта может быть важной и полезной. Он решил донести свои политические выводы до русских, а сама Россия до других народов. «Европейцы должны знать своего соседа», говорил он
«Сейчас они ее только боятся, но мы должны их заставить узнать чего они боятся.» (перевод с английского переводчика)
Отсутствие в России традиций, как он замечал раньше и в строках Гете является благом, сейчас казалось еще более ценным после опыта с французской политикой.
«Nous sommes moralement plus libres que les européens, et ce n'est pas seulement parce que nous sommes affranchis des grandes épreuves à travcrs lesquelles se développe l'occident, mais aussi parce que nous n'avons point de passé qui nous maîtrise. Notre histoire est pauvre, et la première condition de notre vie nouvelle a été de la renier entifcrement. II ne nous est resté de notre passé que la vie nationale, le caractfère national, la cristallisation de l'état: tout le reste est élément d'avenir.»
Но сейчас, эта идея свободы все больше прояснялась для Герцена. Россия была свободна от традиций и поэтому, писал он: «Je ne vois pas que la Russie doive nécessairement subir toutes les phases du développement européen.» Это означало, что западный социализм, импортированный в Россию найдет в сельских общинах такие подходящие условия для развития, что период буржуазных революций можно будет избежать.
Он написал Мадзини: «Je ne crois en Russie à aucune autre révolution qu'à une guerre de paysans», и он отсылал к Пугачеву. Это была революция, которая должна была ударить по «le despotisme glacial de Péersbourg». Уничтожит все связи которые привязывали деревенскую общину к дворянам и государству. Останется периодическое распределение земли, тем самым предотвращая возникновение пролетариата и голода. Разовьется внутреннее само-администрирование.
«Pourquoi la Russie perdrait-elle maintenant sa commune rurale, puisqu'elle a pu la conserver pendant toute la période de son développement politique, puisqu'elle l'a conservée intacte sous le joug pesant du tzarisme moscovite, aussi que sous l'autocratie à l'européenne des empereus?»
Но способна ли была Россия совершить революцию? Здесь тоже, его ответ не собирался быть пророчеством. Он лишь указывал дорогу на пересечение социалистических тенденций Западной Европы и возможностей, которые, как он верил, существуют в российской деревне.
Два фактора, однако, поощрили его дать утвердительный ответ на свой вопрос: сила русского крестьянина, который сохранил свою человечность несмотря на деспотизм, вместе с чувством независимости и отдаленности от власти; и больше всего духовная и интеллектуальная жизнь современной России. Потом он написал одну из своих лучших работ, для того чтобы объяснить тем, кто был побежден в Западной Европе во время борьбы 1848 года, что означает «развитие революционных идей в России».
И для будущих революционеров, для тех кто откажется быть «des révolutionnaires», Герцен писал: «Народ много страдает, ему тяжела жизнь, он многое ненавидит и страстно догадывается, что скоро будет перемена, но он ждет не приуготовленных трудов, а откровения того, что закрыто бродит в его душе, он ждет не книг, а апостолов, людей, у которых вера, воля, убеждение и сила совпадают воедино, -- людей, никогда не разрывавшихся с ним,-- людей, не выходящих из него, но действующих в нем и с ним, с откровенной, непотрясаемой верой и с ничем не развлекаемой преданностию. Кто чувствует, что он так близок с народом, так освободился от среды искусственной цивилизации и так переработал и победил ее, кто до того окончил с собою, что ему остается одно действие, и кто достиг целости и единства, о которой мы говорим, тому принадлежит речь, тот пусть говорит народу, да он и будет непременно говорить -- мы склонимся перед ним.» (А.И. Герцен «Письма из Франции и Италии» Письмо тринадцатое. Ницца, 1 июня 1851 г. )
Герцен, продолжая, говорил, что немногие будут к этому способны и становился весьма пессимистичным. Но этот параграф содержал идеал, который вдохновит народников.
Основные элементы русского народничества — недоверие ко всякой демократии, вера в возможное независимое развитие социализма в России, вера в будущие возможности крестьянской общины, необходимость создания революционеров — это были принципы на которых стоял Герцен после 1848 года, идеалы, которые он создал для следующего поколения.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
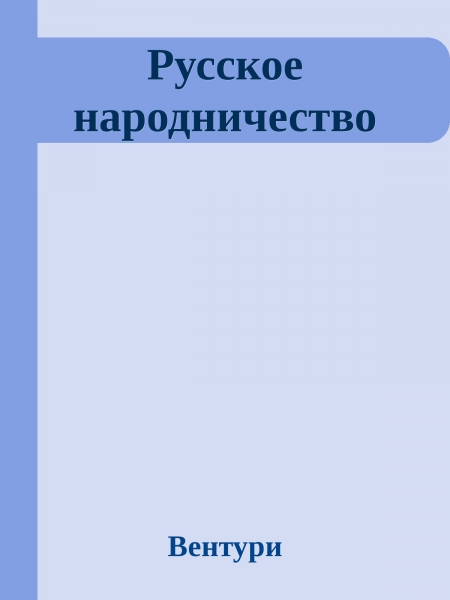


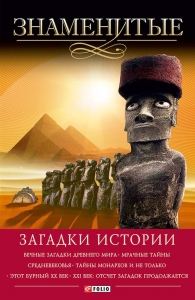
Комментарии к книге «Русское народничество», Франко Вентури
Всего 0 комментариев