Дмитрий Урнов РОБИНЗОН И ГУЛЛИВЕР Судьба двух литературных героев
Условия убедительности
Все произведение, несомненно, дышит правдой.
Вымышленный издатель «Путешествий Гулливера»Мы с детства знакомы с Робинзоном и Гулливером, однако известно немногим, что они литературные соперники.
Дефо уверял, что в «Приключениях Робинзона» каждое слово — правда; тогда, чтобы доказать, что все это ложь, написал «Путешествия Гулливера» Свифт. Свифт взялся повествовать с той же «правдивостью», доводя ее до невероятия, до пародии. Но результат получился неожиданный. В Гулливера поверили. Правда, один читатель сказал: «Кое-что все-таки маловероятно…». Это, должно быть, когда он прочел про летающие острова и страну говорящих лошадей, но вообще подлинность книги у него сомнений не вызвала.
В Робинзона и Гулливера верят, даже зная, что это выдумка, однако поддаются, как наваждению, невероятной достоверности рассказа. В чем же секрет? «Стоит только придумать огромных людей и малюсеньких, а все остальное сделать уже очень просто», — так судил об этом в свое время знаменитый критик[1]. Действительно, стоит поместить человека на необитаемый остров или в страну великанов, чтобы стало интересно: а что же дальше? Во времена Дефо и Свифта достаточно было выйти в море, а потом рассказать об этом, чтобы заставить себя слушать. Но ведь множество «Приключений» и «Путешествий» бесследно исчезли из памяти читателей, никто, кроме историков, в них теперь уже не заглядывает. Между тем увлекательность и убедительность «Приключений Робинзона» и «Путешествий Гулливера» сохранились, хотя написаны они были людьми, не испытавшими никаких чрезвычайных приключений. Кабинетным человеком был Свифт. А Дефо терпеть не мог плаваний: он страдал морской болезнью, и ему даже в лодке на реке становилось плохо.
Книг, равных «Робинзону» и «Гулливеру», в самом деле так немного, что чудом или парадоксом и, наконец, недоразумением объяснить судьбу таких книг было бы даже естественно. Разве не чудо, что «Робинзона» старались разоблачить (и не только Свифт!)[2], но «Приключениям Робинзона» по-прежнему верили, их читали. Книга Дефо осталась образцом общедоступного и увлекательного чтения.
Разумеется, «Робинзона» читали и читают по-разному. Дети читают его как «приключения», но из того же «Робинзона» была вычитана целая философская доктрина. Всякое время, всякий возраст и каждый народ читает «Робинзона» по-своему, но неизменно читает. «Дефо вовсе и не художник», — говорит новейшая критика Запада[3], полагающая, что искусство начинается там, где оно становится заметным. А как написан «Робинзон»? Да «никак». Рассказывается — и только: книга, которая одновременно легка и глубока, заключает в себе жизнь обычного человека, но в то же время и нечто небывалое. При каких же условиях возник Робинзон, а следом за ним Гулливер?
В коротком понятии «гений» заключен источник долголетия таких книг. Изъяснить их секрет до конца невозможно. Под силу это лишь такому всемогущему «критику», как время, которое своим объективным ходом раскрывает смысл шедевров. Как невидимка Уэллса становится видимым, когда уходит из него жизнь и утрачивается сила таинственного эликсира, так и в творчестве проступают со временем «швы», «колесики», «винтики», приемы, когда смысл этого творчества по существу исчерпан. Только содержание, еще недораскрытое, заставляет читать старые книги, а иначе зачем же совершать лишнее усилие?
Присмотритесь, как действует истинный писатель, если с первых и простых строк «Я родился в…» он гипнотизирует, не позволяя выпустить книгу из рук.
«Только бы уйти в море»
Перо может бежать свободно, описывая кораблекрушения, бури, схватки, битвы.
Сервантес. «Дон Кихот»Англия окружена морями, она словно корабле на волнах; в некотором смысле каждый англичанин — мореплаватель: прилив и отлив, ветер с моря, прибой — для британца живые понятия, даже если ни разу в жизни не ступал он на борт корабля. Однако от первых морских предприятий и первых книг о плаваниях шло столетие за столетием, прежде чем англичане прочли книгу о человеке, заброшенном среди океанских просторов.
Первую страницу книги о Робинзоне «написал» еще Колумб. «Разом прибавил тысячи миль к окружности Земли, — говорит Джозеф Конрад о выдающемся мореплавателе, — подарил новый громадный театр человеческой драме авантюр и исследований… Развернул гигантское полотно, которое географы, не покидая своих кресел, могли разрисовывать самыми причудливыми вариантами излюбленной теории…» Добавить к «нахлебникам» эпохального достижения остается еще писателей, получивших поистине неисчерпаемый материал.
Книга Дефо возникла на исходе эпохи великих географических открытий, охватившей не одно столетие и заразившей европейцев на века страстью, о которой Робинзон говорит с первых же строк своей исповеди: «Только бы уйти в море». А следом за ним скажет и Гулливер: «Я откладывал деньги, чтобы изучать навигацию и другие отрасли точных наук, полезных тем, кто намеревается путешествовать, ибо я всегда убежден был, что рано или поздно такова будет моя участь».
Страсть к морю и мечта видеть неведомые земли содержали в себе порыв исторический. Плавания были и исследованием, и средством обогащения, в них, морским языком выражаясь, найтовано — узлом стянуто — все разом, подобно тому как само слово «приключение», или. как тогда говорили, «авантюра», обозначало всякое смелое предприятие. Путь истории пролегал морем, и литература двигалась тем же путем. Поэтому, когда Робинзон или Гулливер говорят о своей «страсти» или «мечте» — «уйти в море», — это само собой мотивируется шире, чем только склонностями одного человека: время было такое, нельзя было поступать иначе! Решают ли они оставить родительский кров или строят себе лодку — это личность и вся нация, минута и история, сама история, накопившаяся за плечами у Робинзона и Гулливера, у «одного из многих», и вот нашедшая выражение в простых действиях: Робинзон ест и пьет, строит, пилит, копает, а Гулливер прямо у нас на глазах действует еще проще, и все получается у них естественно просто и естественно сложно, а в результате неистощимо интересно. Конечно, нужен вековой вклад в слово, чтобы оно действовало так сильно.
Отважные корабельщики держат «на Запад», умы устремляются в ту же сторону, литература «ложится этим курсом», и где-то на пути от берегов Нового Света к Дефо и Свифту возникает «Утопия» Томаса Мора — остров как место действия обозначен. Ни моря, ни кораблей нет еще, собственно, в этой книге, не то чтобы «сухопутной», но кабинетной, умственной. Там нет людей, есть «овцы, пожирающие людей», — разящий слог, символ, обозначивший волнения английской жизни.
Томас Лодж (кто помнит это имя!) на пути к Канарским островам пишет роман за романом, и усилия его имеют хотя бы тот результат, что сюжетами Лоджа воспользовался Шекспир и он же взял две строки из нашумевшей в ту пору книги сэра Уолтера Ралея.
Этот живописный деятель шекспировской эпохи сочинял стихи, принимал участие в делах государства и, кроме того, совершил дерзкие плавания к берегам Южной Америки в поисках легендарного Эльдорадо, страны золота. Эльдорадо обнаружено не было, но результаты экспедиции оказались все-таки очень значительными. Ралей описал все в книге «Открытие Гвианы», имевшей большой успех. Излагая события из первых рук, без лишних слов, точно и выразительно (так что до сих пор чувствуется лихорадка, трясшая спутников Ралея в долине Ориноко), Ралей произвел сильное впечатление на современников. Но память о его замечательной книге сохранилась лишь благодаря паре строк «о каннибалах, что едят друг друга», попавших на глаза Шекспиру и увековеченных им в «Отелло». Уцелело еще и, место действия — Ориноко: туда следом за Ралеем послал Робинзона Дефо. Совершаются и описываются, измышляются и описываются путешествие за путешествием, плавание за плаванием, чтобы проложить путь книге книг, названной «Приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка. Написано им самим».
Однако, очутившись на острове (на пятидесятой странице из трехсот), Робинзон ведет себя так, будто он никуда и не путешествовал: делает он все то, что совершает каждый ежедневно у себя дома. Если так можно выразиться— «совершает», потому что все это вещи обыденные. Но вот, следя за простыми действиями Робинзона, мы видим их заново. Нам вдруг делается интересно, как это человек надевает шляпу на голову или кладет в рот кусок хлеба. Сооружение мебели, если можно сказать тут «сооружение», описывается подробно, изготовление стула занимает страницу, а охота на льва упомянута где-то между прочим. И это есть обещанные «странные и удивительные приключения»?! Действительно, выходит странно и необычно после всевозможных «приключений и путешествий», где главное в чрезвычайном.
Выпуская первую часть «Робинзона», издатель приложил к ней, как и полагается ради рекламы, список книг, им уже опубликованных. И мы видим книжный поток, в котором появился роман Дефо, — «текущую литературу», унесенную безвозвратно временем. По отношению к этому потоку писатель-гигант занимает положение Гулливера, влекущего за собой лилипутский флот. Помните, Гулливер захватил лилипутские корабли, обрезал якорные цепи, и человечки думали, что он собирается пустить суда на волю волн. Нет, человек-гора потащил их за собой в противоположную сторону. Не делая демонстративных жестов, Дефо производит в сущности тот же маневр: в книге, обещающей, как и множество других похожих книг, «путешествия и приключения», пишет он не о том, о чем обычно писали в таких книгах. Он идет проторенным путем и в то же время против общего потока.
У Дефо Молль Флендерс (второй, после Робинзона, его знаменитый персонаж) о плавании в Америку даже подробностей сообщить не хочет. «Мы сели на корабль, взяв с собой много хорошей мебели для нашего дома, белья и других необходимых вещей, а также разного товара для продажи, и тронулись в путь», — говорит она с обстоятельностью в отношении белья и мебели, однако почти ничего не сообщает о бурях и пиратах: «Не входит в мою задачу». Это, разумеется, прием, сознательная уловка Дефо, властно заставляющего читателя интересоваться преимущественно бытовыми мелочами, умение извлечь интерес из предмета, казалось бы, не способного соперничать в увлекательности с пиратами. Уловка удается, однако, при известных условиях, от Дефо не зависящих, а лишь умело им используемых: пираты и бури достаточно уже известны читателям. Всем известно, и в то же время еще для всех увлекательно; испробовано, а все-таки манит и манит одного за другим все туда же; полным-полно робинзонов, можно сказать, как было сказано за десять лет до шекспировской трагедии «полным-полно гамлетов» (и каждый чувствует себя одиноким!); из множества робинзонов формируется один-единственный Робинзон, излагающий всем известное с таким видом, будто это доступно ему одному.
«Отношения между Робинзоном и вещами… просты и прозрачны», — отметил Маркс[4], смотревший на эти отношения, конечно, с точки зрения экономической, но выразивший и впечатление читателя. Литература всякий раз, в каждую эпоху подходит у вершин своих к границе естественности. Просто «я пошел», «я сказал», «я подумал» — и не больше того, что на каждом шагу мы видим вокруг себя, но понимаем через это простое воспроизведение простых действий жизнь целиком.
Критики в известной степени правы, когда говорят, что без видимой «техники», или «мастерства», развертывается у Дефо или Свифта увлекательный рассказ. Даже ценители не чувствуют гигантского усилия, создавшего прозрачную простоту.
Название этой простоте, этому особому качеству зрелого литературного искусства, есть давнее, оно существовало и в античности, найти его можно у Шекспира и у Сервантеса: они говорили об идеале «естественности», когда сама жизнь, или, как чаще по тем временам выражались, природа (натура), без усилия выражается в слове: следует лишь всего-навсего передать, что и как было. «Надо только подсказать мне слова, и я пишу» (Данте). «Естественная свобода простого и ясного письма», — называл этот идеал Дефо.
Знамениты слова Чехова о том, что писать надо просто, «… такими простыми фразами, как „зашло солнце“, „стало темно“, „пошел дождь“ или— „море было большое“». «Наибольшее счастье для литератора, — говорил также один французский писатель, — это, если идет дождь, написать: „Идет дождь“». Однако помещено это мнение среди «Опасных мыслей»[5], ибо ведь не так легко написать «идет дождь», чтобы в самом деле повеяло сыростью с книжной страницы. Убедительность возникает при неких особых условиях, какая-то пружина изнутри толкает слово за словом.
«Я родился в 1632 году в городе Йорке в хорошей семье, происходившей, впрочем, не из этих мест», — так начинает Робинзон. «Мой отец имел небольшое поместье в графстве Ноттингемшире; я был третьим из его сыновей», — приступает к делу Гулливер. Первые фразы, как и несколько последующих, мы еще читаем, но со второй страницы уже перестаем это замечать, погружаясь в мир Робинзона и Гулливера.
История Робинзона
Автор искренне думал, когда писал эту книгу, что ему не придется разъяснять ее, и он чистосердечно удивлен, поскольку нашлись причины, заставляющие его это делать.
Даниель ДефоОбъясняя, как он пишет, Дефо намекнул, что иносказательно или прямо повествует он большей частью о себе.
«Мой отец был в этих краях чужеземцем, родом из Бремена», — первые же строки «Робинзона Крузо» раскрывают биографию сочинителя: прадед Дефо прибыл в Англию как религиозный эмигрант. Если Крузо — прозвище от фамилии Крейцнер, то превращения с именем были и у самого автора. Совсем близко повествование подходит к жизни автора, когда рассказывается, как отец Робинзона мечтал видеть сына адвокатом, а тот ушел в море. Дефо по-своему «ушел в море», житейское, и ради того же, чего искал в океанских просторах Робинзон: удачи, невероятной удачи. А надо учесть, что слово «удача» означает по-английски и «богатство».
Не подчеркивая параллелей между своим героем и собой, Дефо все же направляет повествование по следам своей семейной предыстории.
Их так и звали — Дефо, происходили они из фламандцев, но континентальные имена трудно давались англичанам, и они по той привычке коверкать слова, о которой говорит Робинзон, стали называть их Фо. Ту же «привычку» описал Шекспир в одной из своих пьес: английский король сватается к французской принцессе и, выражаясь по-иностранному, сознается, что ему «легче было бы завоевать целое королевство, чем произносить эти слова» («Генрих V»). Но потому он и трудится, потому и ломает язык, что вместе с рукой принцессы нужно завоевать и еще одно королевство.
Слова словами, а за ними следовали перемены государственные. «Приключения» частицы «де», сначала из имени Даниеля Дефо отброшенной, затем ценой значительных усилий им все же восстановленной, отражают ни много ни мало, но переселение народов, религиозные распри, захватившие многие европейские страны, и жизнь человека, который свою судьбу считал прямым следствием совершившихся когда-то исторических событий, а себя — непосредственным участником борьбы, происходившей в его времена.
Отец Дефо был торговцем. Мать — дочерью сельского сквайра. Фактически — шекспировская среда, только сто лет спустя и соответственно передвинутая историей ровно на тот отрезок пути, который Шекспиру пришлось проделать самому, когда он покинул свой родной провинциальный Стрэтфорд и отправился на поиски удачи в столицу. Но Дефо родился и вырос в Лондоне.
Шекспира мы вспомним еще не раз. Сам Дефо вспоминал его. В судьбе Шекспира он видел образец, по которому складывалась его жизнь. И тот, и другой происходили из «вольных землепашцев и стрелков» (йоменов), особого слоя, давшего основу для столь же особого состояния страны, называемого «старой веселой Англией».
Было ли такое время и такие люди, отличавшиеся удивительной цельностью, воины и труженики, независимые граждане и патриоты или все это представлялось за дымкой лет таким? По крайней мере, Шекспир, говоря о йоменах, чеканил героические слова: гордые, доблестные, верные. Когда Гамлет рассказывал, как умение писать красиво спасло ему жизнь, он выражался символически: «Почерк послужил мне словно йомен». Дефо был внуком йомена и не забыл об этом. Какой англичанин, даже сейчас, если только может он припомнить что-нибудь подобное из своей семейной истории, не будет гордиться этим!
Когда Гулливеру представилась фантастическая возможность вызвать из прошлого исторические лица, герой Свифта, начав с античности, в конце концов решил посмотреть, каковы же были «английские поселяне старого закала», то есть йомены.
Уже Шекспир застал «старую веселую Англию» лишь в обломках и легендах. Для эпохи Дефо и Свифта все это тем более было в прошлом. Но трогательно-героическое предание осталось, хотя Дефо беспощадно развеивал всякие предания. Вступая в «битву жизни», он решительно объявил: «Лишь личной доблестью мы будем величавы!» Робинзон прежде всего обзавелся производством и хозяйством, однако мечты его оказываются парадоксально старомодны. Вот он спасся, выстоял, он укрепился и устроился на острове, и тогда пещеру свою Робинзон называет замком, себя воображает властелином обширных владений, есть у него и подданные — вассалы, хотя это всего лишь кошки, собака, попугай и козлята. Короче, будто большой ребенок, Робинзон играет в «старую веселую Англию». В поисках идеала сознание его обращается к исторической памяти нации, туда же, куда устремлял свои мысли Шекспир, и в них сказывается один голос: «Покажите силу полей, вскормивших вас» («Генрих V»). Дефо вспомнил тот же призрачный мирок патриархальной гармонии, память о котором вдохновляла Шекспира. «Самый мрачный философ не удержался бы, я думаю, от улыбки, если бы увидел меня с моим семейством за обедом», — говорил Робинзон. От Чосера через Шекспира и Дефо до Диккенса, через всю историю английской литературы сохраняется все та же улыбка, возникая каждый раз, когда предоставляется сказать «я с моим семейством». Хотя, конечно, каждый век смотрел все же своими глазами на этот идеал, окрашивая его по-особому.
Так что наследственно-исторически Дефо продолжал в английской литературе дело Шекспира. Собственно говоря, Шекспир, его «Буря», мудрец Просперо, оказавшийся на острове и преобразовавший саму природу, подали Дефо идеи, воплощенные в «Робинзоне».
Но есть между Шекспиром и Дефо существенное историческое различие — в их отношении к времени. Между ними всего сто лет, но когда после гамлетовских призраков и макбетовских ведьм вы начинаете читать о Робинзоне, то кажется, что перешагиваешь через тысячу лет. Робинзон — «современный человек», над которым тысячелетнее средневековое прошлое уже не имеет той власти, какую оно еще проявляло над героями Шекспира. В ситуациях, которые шекспировским персонажам (если только это не отрицательные персонажи) стоили бы мук или, по крайней мере, долгих размышлений, Робинзон действует быстро и просто. «Негодный мусор!» — его первая мысль, когда ему на затонувшем корабле попадаются деньги. А затем следует жест, который повторяется у Дефо из книги в книгу и служит опознавательным знаком его жизненной позиции. «Поразмыслив, — рассказывает Робинзон, — я завернул все деньги в кусок парусины и положил в карман». «По зрелом размышлении» действуют персонажи Дефо, здравый смысл помогает им соразмерить душевный порыв с условиями, не впадая в алчность или же истовую религиозность. Что деньги! Молитву о здравии Робинзон, руководствуясь все тем же разумным подходом к делу, подкрепляет достойной смесью рома с табачной настойкой и, поднявшись наутро бодр и свеж, позволяет приписывать свое выздоровление чудодейственной силе любого из средств, им использованных.
Испытывая всевозможные несчастья, впадая в искушения, терпя неудачи, Робинзон и другие герои Дефо собирают все свои душевные силы и разумно прикидывают, выбирая между «добром» и «злом», впрочем, между добром и злом без кавычек, без аллегорий и абстракций.
Соответственно и сам Дефо — «современный человек», «гражданин современного мира», как назвал его новейший и наиболее надежный биограф[6], в отличие от Шекспира, которого хотя и называют «нашим современником», но условно. «Современному миру» Шекспир разве что созвучен, а не современен: шекспировская эпоха осталась за гранью английской буржуазной революции XVII столетия. Другое дело — Дефо: это «современный писатель» в собственном, хотя и широком, смысле понятия «современный». Нынешний буржуазный мир — это и есть тот самый мир, рождение которого описал Дефо.
Скажем, современный театр по устройству и условиям работы ничем уже с шекспировским театром не связан. А издательство, выпустившее «Робинзона Крузо», хотя под другим названием и в другом, конечно, масштабе, существует до сих пор. Причем нельзя сказать, что оно всего лишь дожило до наших дней, как доживают у англичан свой век всякие столетние редкости, и их показывают на удивление современным людям. Это не какой-нибудь средневековый замок-музей, где хозяин сам же экскурсоводом работает. Нет, это живое дело, только теперь развившееся в полной мере из тех начальных форм, какие оно приобрело во времена Дефо.
Дефо был первым писателем-профессионалом. Иначе говоря, он зарабатывал на жизнь литературным трудом, который во времена Шекспира еще не мог служить средством существования. Дефо только начал зарабатывать как литератор-профессионал, он испробовал некоторые условия профессионального существования писателя (в основном он оставался все-таки торговцем), те условия, что в измененном, приумноженном и расширенном виде — но все же те самые условия! — стали на Западе нормой литературной жизни.
«Робинзон Крузо» не только первый классический английский роман современности, это, кроме того, первый роман, печатавшийся в журнале «с продолжением» из номера в номер. О таких мелочах существенно вспомнить, потому что они дают конкретное ощущение современности явления, от нас далекого: теперь едва ли не в каждом печатном органе можно найти что-нибудь «с продолжением».
Нельзя, разумеется, сказать, будто Дефо смотрел на мир так же, как современный англичанин. Однако в его мировоззрении имеется безусловная черта современного человека. Пусть жил Дефо уже почти триста лет назад, но к шекспировским временам он относился совершенно так же, как нынешние англичане: он знал, что эти времена ушли безвозвратно! Вот Шекспир, тот в этом смысле «нашим современником» не был. Вековое прошлое имело над ним необычайную власть. Оно еще жило, это средневековое прошлое, в эпоху Шекспира. А для Дефо, как и для нас с вами, оно сделалось уже только прошлым.
Есть в судьбе Дефо еще одна особенность, отличающая его от Шекспира, и настолько, что, если бы вдруг довелось им жить в одно и то же время, они могли бы оказаться врагами. Это все те же религиозные распри. Биографы не могут сказать определенно, какой веры держался Шекспир, однако пуританам, предкам Дефо, он не сочувствовал. (Да и как Шекспир им мог сочувствовать, если они были злейшими преследователями театра?)
Весь класс, к которому принадлежал Дефо, становился пуританским. Мелкие землевладельцы, торговцы средней руки, зажиточные ремесленники — это они составили главную силу в армии Кромвеля и пошли на «кавалеров», сторонников короля, начав в 40-х годах XVII столетия английскую буржуазную революцию.
Дефо рассказывал, что у его деда была свора охотничьих собак, которых поначалу он назвал именами генералов двух армий, враждовавших в междоусобной борьбе. Однако потом, говорит Дефо, «времена переменились и собак пришлось переименовать». Дефо шутит, но подчеркивает шуткой то, в чем он был серьезно убежден: история касалась его глубоко, до мелочей.
Рождение его также совпало с моментом, когда «времена стали не те…» Дефо появился на свет одновременно с крушением республики. Детство, юность и ранняя молодость Дефо — все это время среда, к которой он принадлежал, вынуждена была как бы заново отстаивать свои позиции, добытые в кровопролитной борьбе. К двадцати с лишком годам будущий создатель «Робинзона» сам становится в ряды борющихся.
Робинзон старше Дефо почти на тридцать лет, мы такой дистанции между ними не замечаем, нам автор и персонаж кажутся современниками. Но эти несколько десятилетий, едва различимые на расстоянии трех веков, насыщены событиями, перевернувшими страну.
Детство и юность Робинзона пришлись на пору гражданской войны[7], столкнувшей сторонников короля и республики. Родился он в Йорке и рос прямо на границе враждующих лагерей: рядом с Йорком развернулись основные бои. Юный Робинзон не участвовал в событиях и, кажется, даже не знал о них, однако в его жизнеописании специально сказано о символике чисел: повороты в судьбе Робинзона соотнесены с полосами революционной борьбы.
В год окончательного разгрома королевских войск и победы республиканцев Робинзон уходит в плавание. Вдали от родины он остается на время республики и кромвелевской диктатуры. Буржуазная республика терпит крах. Робинзон тем временем попадает на остров. Всю полосу Реставрации Робинзон переживает на острове. Возвращается он в Англию как раз перед новым переворотом, выражавшим торжество тех сил, к которым принадлежали он сам и его создатель. Историки именуют иногда этот переворот «славной революцией», а молодой Дефо назвал ее даже «великой», посвятив ей свой первый трактат.
Таким образом, история Робинзона — это предыстория Дефо, «заряд», заключенный в основе кипучей деятельности автора знаменитого романа. Когда уже немолодой Робинзон со значительными средствами, опытом и обширными деловыми планами высаживается на родном берегу, в эту самую пору в Лондоне уже действует 28-летний Дефо, купец с образованием, кормилец обширного семейства, вольный гражданин города Лондона, глава небольшой церковной общины, публичный оратор, склонный рисковать в торговых предприятиях, политической борьбе и, наконец, в игре на скачках и петушиных боях. Торгуя вином, табаком и трикотажем, он, кроме того, проповедует, агитирует устно и печатно. А во время волнений эпохи Реставрации его видят в рядах бунтовщиков на коне и с оружием в руках.
За что же боролся Дефо? Есть у него одна книга, забытая и, конечно, второстепенная, но, как бывает со второстепенными книгами, она «выдает» автора, хотя по обыкновению Дефо он скрыт у него под маской беспристрастного рассказчика. Это так называемая «Беспристрастная история царя Петра Алексеевича», то есть Петра Первого. Рассказ в ней ведет английский офицер, служащий в русской армии[8]. Но из-под маски «беспристрастия» прорывается личное отношение Дефо к Петру. Как он сочувствует государственному деятелю, который, «дробя стекло, кует булат»! Эти всем нам известные слова приходят при чтении «Беспристрастной истории» не случайно. Можно прямо, хотя, конечно, условно, сказать, что в отношении Дефо к своему герою есть что-то пушкинское — понимание исторической оправданности позиции Петра.
Конечно, тут много личного. Но ведь и далекую историю, и текущую политическую борьбу Дефо рассматривал как нечто, лично его касающееся.
Не последнюю роль в этом сочувствии сыграло то обстоятельство, что глава могущественной державы отправился изучать ремесла на родину Дефо. А Дефо всегда гордился тем, что это его соплеменники, бежавшие от религиозных преследований в Англию, научили англичан обрабатывать шерсть, делать сукно, что и принесло Англии мировую «силу и славу». Так и на все, что совершает Петр, автор «Истории» при всем объявленном «беспристрастии» смотрит с восхищением.
В Петре ему нравится многое. Например, что, невзирая на условности, диктуемые его положением, Петр, когда ему было нужно, отправился странствовать под чужим именем. О, как понимал это Дефо, которому скрываться пришлось значительную часть жизни… Но главное — позиция, историческая позиция прогрессивного деятеля.
В довершение ко всему на голове у Петра, по описанию Дефо, оказывается «монмаутский картуз», — в тексте даже другим шрифтом подчеркнуто. Просто политический сигнал! Это ведь вроде шляпы «Боливар», демонстративный головной убор. Был или нет у Петра такой картуз, когда ездил он в Голландию, вычитал это Дефо откуда-то или от кого-то из очевидцев слыхал[9], но, во всяком случае, он, мастер детали, подчеркнул это не без умысла. Ведь было время, когда в мятежном войске герцога Монмаутского действовал молодой Дефо. Так называемого герцога, потому что в точности неизвестно, кем был этот человек. Биографы Дефо, во всяком случае, рассуждают так: кем бы он ни был, к нему присоединялись все, кто хотел свергнуть с престола короля-тирана, короля-католика Якова II. Первыми на сторону мятежника поднялись лондонские подмастерья. Но Монмаут оказался человеком легкомысленным, лживым, непоследовательным, и дело его было вскоре проиграно. Сторонники его, которым не удалось скрыться, жестоко пострадали. Дефо, видимо, бежал за границу, во всяком случае, на этот раз наказанию не подвергся.
С тех пор не прекращалась его бурная политическая жизнь, составившая длинную цепь подъемов и падений. Дефо о себе говорил: «Тринадцать раз становился богат и снова беден». Каждая смена правления, которых на веку Дефо совершилось пять, отражалась на его судьбе. То славу, то позор приносила ему служба различным министерским кабинетам, враждовавшим между собой. На порог тюрьмы приводил его не раз деловой риск. Одно заключение — это известно наверное — Дефо перенес и тогда же был приговорен к гражданской казни у позорного столба. Преследованиям, долговым и политическим, подвергался он неоднократно, причем спасением часто служила ему обнаженная шпага.
Как-то неподалеку от Лондона в прошлом веке, когда уже существовали железные дороги, прокладывали рельсы. На место работ вдруг приехал некий джентльмен и стал внимательно осматривать окрестности, хотя он не имел к железнодорожному делу никакого отношения. Заинтересовали его кирпичи, случайно обнаруженные рабочими в земле. «Откуда здесь кирпичи?» — спросил он у строителей. Но задаться этим вопросом никому и в голову не приходило. «Знайте же, — сказал тогда незнакомец, — что кирпичи эти были некогда изготовлены тем, кто написал „Робинзона Крузо“». Джентльмен оказался историком литературы, и он поведал собравшимся вокруг него землекопам, что как раз в этом месте находилась построенная Дефо фабрика кирпича и черепицы. А было время, он мускусных кошек разводил (мускус употреблялся в парфюмерии)!
Если на самом деле произвести в биографии Дефо некоторые подсчеты, то окажется, что, отдавая силы предпринимательству, политике и литературе, он прожил по меньшей мере три жизни. Каждая из сторон деятельности Дефо насыщена до такой степени, что в отдельности ее хватило бы на целую жизнь незаурядного человека, посвятившего себя только какому-нибудь одному занятию. Дефо делал все сразу и поэтому, может быть, терпел неудачи; но, безусловно, во всем он проявлял даровитость натуры. Возможно, Дефо сказал о себе, только устами Робинзона: «Голова моя наполнялась планами, проектами, совершенно несбыточными при тех средствах, какими я располагал». Что ж, это в духе того времени, когда «приключение», или, говоря иначе, «авантюра», понятие для нас ироническое, означало безо всякой усмешки некое смелое предприятие.
О том, каков был Дефо, мы знаем от его врагов, Неприязненный взгляд смотрит пристрастно, однако остро. Учтем пристрастность — и что же останется? Невысокий смуглый человек с крючковатым носом, и слева на щеке возле рта бородавка или родинка. Бугорок этот, судя по всему, производил впечатление, или, лучше сказать, окончательно выводил из себя. Он отмечен на всех портретах, означен в описаниях, он средоточие, символ, суть Дефо, как понимали его недруги.
«Что за противный вид у этого субъекта, надо ж иметь такую гадкую и страшную физиономию! Совесть у него, разумеется, темна не менее, чем рожа. Нечто трупное, черное, синее и зеленое, — непригодное для всеобщего обозрения. Глаза мерзкие, сальные, выпученные, нос длинный и под стать ему огромный рот, губы толстые, челюсть баранья, весь в бородавках, морщинах, желваках и прочих отметинах; бородка тощая, шея шелудивая, одежда — тряпье», — так разрисовали Дефо ненавистники, когда предстояло ему явиться у позорного столба. «Кидай в него чем попало!» — подначивал толпу автор этого «портрета».
Конечно, было множество людей, которые смотрели на те же бородавки совсем иначе. Не обманчиво, однако, впечатление от личности Дефо, изливается ли оно в ненависти или одобрении. Крупность и подвижность черт, заметные даже по злой карикатуре; сила, дающая себя знать хотя бы через сопротивление, ей оказываемое, — это подтверждается уже с большей или меньшей беспристрастностью, когда биографы, подсчитывая, сколько раз судьба подымала и бросала вниз этого человека, сколько раз он фактически начинал жизнь заново, сколько он объездил, сколько написал, сколько имел детей и, наконец, сколько прожил, подводят баланс: «Фонтан энергии».
«Силой Дефо» обозначают писательскую энергию, подобно тому как Ампер или Кулон служат мерой электрического тока. Причем современники не оказались близоруки до того, чтобы не различить этой силы. У Дефо ведь была прижизненная слава с молодых лет. Крупную фигуру признали фактически сразу, как обычно бывает, и столь же закономерно совершалась координация этой фигуры с эпохой, с окружением, — далеко не сразу и неполностью.
Как имел обыкновение говорить в минуты житейских невзгод Чехов, «беллетристу все полезно»: несчастия оказываются нередко счастливым материалом творчества. Так обстоятельства, погубившие деловую карьеру Дефо, сделали его писателем. Опозоренный, отторгнутый от политики, он поневоле замкнулся в своем доме в пригороде Лондона. Для Дефо-политика это был крах, а творческому сознанию в самом деле все полезно. «Тоску и грусть, страданья, самый ад — все преобразить в красоту», — говорил Шекспир. «Действительность, материал, второй Мертвый дом», — успокаивал себя Достоевский под угрозой долговой тюрьмы. Чума, которую мальчиком помнил Дефо, «заставила» одного его прославленного современника сделать открытие: эпидемия выгнала из Лондона Ньютона, и, поневоле уединившись в стороне от города, он преобразовал законы математики; до этого, занятый преподаванием, Ньютон не успел сделать ничего выдающегося. Провал деловых предприятий Дефо, тишина и пустота, образовавшиеся вокруг него, были заполнены «Робинзоном».
Дефо принадлежит более трехсот пятидесяти произведений. Литературная слава пришла к нему рано, значился он среди известнейших публицистов и сатирических поэтов своего времени. Но из всех его сочинений, список которых сам по себе составляет целый том, все знают одно название, одну книгу. Причем это даже не книга, не литературный герой, а нечто большее: человек-миф.
«Умный сочинитель книги, известной под названием „Робинзон Крузо“, описывает истинное происшествие, только дело было совсем не так…»[10]. Верно, однако ничего особенного в этом нет — истинные происшествия, попадая в художественную книгу, как правило, преображаются. Но вышло еще вот что: Робинзон, созданный Дефо, превратился в легенду; реальный человек, увековеченный в Робинзоне, благодаря этому стал также легендой; две легенды пересекаются, создавая облик будто бы «подлинного Робинзона».
Вспоминая человека, послужившего моделью для Робинзона, обычно говорят: «шотландский матрос». Нет, история, положенная в основу «Приключений Робинзона Крузо», случилась не с простым матросом, а с офицером, помощником капитана. О том, кто его герой, у Дефо определено с точностью, и столь же последовательно среда и воспитание Робинзона сказываются на протяжении книги. Другое дело, что в последующие времена существенные подробности его облика стерлись. Подобно тому как шекспировского, страдающего полнотой и одышкой, Гамлета время превратило в романтического, «изящного и нежного» героя, так и Робинзон обобщился до робинзонады— условной схемы «естественного человека»[11].
Известно, что даже Фенимор Купер своих «индейцев» представлял себе очень приблизительно, вычитав их главным образом из книг, да еще к тому же книг французских. Дефо тоже вычитал дальние страны, дикарей и многое другое, кроме одного, что знал нутром и столь же натурально хотел представить читателям: обычного человека, пробивающегося к самосознанию и признанию его достойным человеком. Этого человека, с точностью выписанного Дефо, последователи незаметно выдавали просто за «человека», помещаемого в столь же надуманные «условия».
«Робинзонада» быстро разрослась в конце XVIII столетия, после того как книгу Дефо прочел и по-своему истолковал Руссо. Мало того, что тогда же по рецепту Руссо было написано несколько десятков «Новых Робинзонов» и чуть ли не в каждой стране вышла книга про своего, отечественного, Робинзона[12],— нашлись любители «поробинзонить» (слово Руссо) на самом деле. «Робинзонада» перешагнула рамки литературы, сделавшись особым образом жизни. В Западной Европе, Америке и Австралии целые семьи становились робинзонами, устраивались колонии по воспоминаниям о простой и праведной жизни Робинзона на острове[13].
Робинзон превратился в робинзонаду тогда же примерно, когда и Гамлет сделался гамлетизмом, — в конце XVIII в.: как шекспировского героя понимают следом за Гете скорее, чем за самим Шекспиром, так Руссо был настолько влиятелен, что он заслонил Дефо. И, как случилось это с Гамлетом, давшим имя для умонастроения гамлетизм, робинзонада, отделившаяся от Робинзона, начала оказывать на героя Дефо обратное воздействие. «Приключения Робинзона Крузо», а следом за ними и другие книги Дефо стали воспринимать через распространенное представление о робинзонаде.
Конец XVIII столетия — высокий перевал в истории; явления более ранние рассматриваются с этого перевала. Но как выглядели эти явления в их истинном свете? (Разумеется, робинзонада не наивное заблуждение. Когда один литератор назвал суждения Руссо о «Робинзоне» чуть ли не «простодушными», Белинский напомнил ему, что возле имени Руссо стоит по праву понятие «великий», а потому даже ошибкам его должна быть особая мера.)
Руссо жил в другое время и в другой стране, чем Дефо, и отсюда, естественно, особенности его взгляда на знаменитую книгу. Главное заключается даже не в различии места и времени, но в разных фазах исторического развития, современниками которых оказались соответственно Дефо и Руссо. Англия только что пережила буржуазную революцию, когда формировался автор «Робинзона»; Франция в эпоху Руссо ожидала переворота; Дефо подводил итоги общественного переустройства, Руссо пророчил его. Иллюзии, уже развенчанные, Дефо видел в том, что Руссо рисовал идеалом будущего. Вопросы о человеке и условиях, человека формирующих, о возможностях человека в соотношении с определенными условиями — эти вопросы Дефо ставил, имея перед глазами некую практику их решения. А для Руссо это был предстоящий эксперимент. В Робинзоне Руссо увидел не исторический урок, но абстрактный пример становления человека, самим же Руссо идеализированного.
Следом за Руссо, учившим, что вся правда в жизни простой, что называется, «естественной», роман Дефо так и воспринимали призывом к простоте, природе. Многочисленные робинзоны заново переписывали роман Дефо или устраивали свои робинзонады, удаляясь от людей, отказываясь от благ цивилизации, следуя авторитету Руссо, а не книге о Робинзоне. Не замечалось, что Руссо перетолковал Дефо, направил пафос его сочинения в противоположную сторону. Дефо в природу вносит ремесла, удобства — словом, человеческие условия. Не опроститься и одичать, а, напротив, не опуститься самому и вырвать дикаря из так называемой простоты и природы старается Робинзон.
Как ни внушительны достижения Робинзона на острове, они все омрачены одиночеством. Между тем энтузиазм робинзонады строится на искусственном извлечении человека из общества.
В середине прошлого века американский философ и публицист Генри Торо, сделавшись робинзоном по собственной воле, правда, не в океане, а в лесу, описал свой опыт. Это наиболее значительный из «новых Робинзонов». В споре с торгашеским преуспеянием, страсть к которому охватила его соотечественников, Торо развернул критику буржуазной цивилизации. Оспаривая блага, даваемые богатством и комфортом, он доказывал, что человек способен во имя своей же пользы обойтись очень немногим. Беда, однако, в том, что американский робинзон обходился и без человеческого общества. А проблемы по-настоящему только начинаются на том рубеже, которым ограничился Торо, — с общения между людьми.
Но Дефо заочно, как бы заблаговременно начал полемику с робинзонадой. Он подчеркнул, что остров и одиночество в судьбе его героя не самое существенное. Робинзонов Остров Отчаяния, затерянный в океане, имеет координаты во времени: оторванный от родных берегов, Робинзон остался современником глубокого социального переустройства, переживаемого страной. Робинзон — результат этого переустройства.
«Нам многое чуждо в Робинзоне», — отметил Корней Чуковский, рекомендуя книгу в своем пересказе детям. Естественная точка зрения в расчете на детей полагала «чуждое» вовсе ненужным, но это — для детей. Напротив, зрелому читателю нужно увидеть и Робинзона, и других героев Дефо реально, ибо речь у Дефо идет о формировании человеческой личности не на пустынном острове и не в случайном одиночестве.
Как бы продолжая полемику с будущими робинзонадами, Дефо предложил вслед за «Робинзоном» «приключения» других лиц, выдаваемые все также с убедительностью за «подлинные записки». Толпа персонажей Дефо не так пестра, как это может показаться. Автор «Робинзона» последовательно интересуется похожими судьбами, или, по его выражению, «историями»: все это робинзоны, хотя они выступают не в одиночестве, а в гуще людской, все это деятельные современники своей эпохи. Каждый по-своему проникнут запросами времени, каждый в меру своих сил стремится ответить на них.
Насколько герои Дефо в самом деле добиваются своего, вернее, чего-то совсем другого, по сравнению с тем, что они собой представляют или что о них думают, об этом часто судили опять-таки схематически и условно, прямо как указано у Дефо хотя бы в заголовке «Молль Флендерс»: «Родилась в тюрьме… была двенадцать лет содержанкой… столько же — воровкой, восемь лет ссыльной, но… под конец разбогатела, стала жить честно и умерла в раскаянии». Не так-то прямолинейно быстро складывалась, на взгляд Дефо, человеческая судьба, то есть характер и его участь. Нет, менее, чем кто-либо из английских писателей, Дефо попрекал бедностью, уравнивал бедность и порок. Дефо ведь, собственно, и открыл в литературе мир бедноты, он же первым исследовал его. Он дал устрашающие картины нищеты как социального зла. Дефо на себе, наконец, знал крайности человеческого состояния, от благополучия до бедности; его интерес сосредоточен на человеке, испытывающем всевозможные передряги. Он показал, до чего сложно, противоречиво соотносится человеческая натура с условиями, благоприятствующими или, напротив, враждебными ей, как трудно человеку в самом деле стать «другим».
Упрекали Дефо в морализаторстве за то, что, приведя своих персонажей-преступников к покаянию, он их делает затем пристойными и зажиточными гражданами. Осознание себя пропащим в сущности человеком и вдруг — покаяние. Действительно, противоречие, однако не у Дефо, а в судьбах, наблюдаемых Дефо. Излагает он свои наблюдения, надо признать, до того искусно и обстоятельно, что мы не успеваем уследить за ним. Нам уж хочется, чтобы преступника покарали или простили, но Дефо засвидетельствовал иное: он проследил, как с некоего момента пират Боб или воришка Джек, «знаменитая» Молль или авантюристка Роксана получают возможность считаться «другими людьми». Насколько же в действительности они сделались «другими», об этом читателю дано судить по «истории» каждого из них, составленной в самом деле с точностью и подробностью документальной. Уникальность позиции Дефо в том и заключается, что во взгляде на различных робинзонов он не впал ни в одну из крайностей, свойственных позднейшим робинзонадам. Разумеется, есть и у него страницы надуманные, наивные, ложные и лишние. Все же взгляд Дефо движется сквозь время, как пронизывает века всякое однажды совершившееся «точное попадание».
Замечательным в наблюдениях Дефо было его представление обо всех этих искалеченных жизнях как о своего рода «историях», то есть о процессе сложном и длительном, который не просто меняет течение свое.
Когда Дефо очутился в тюрьме Ньюгейт, он увидел страшную близость болотно-зыбкой среды всевозможных перекати-поле к миру, считающемуся Нормальным и устойчивым. Он сам, сидя за решеткой, ожидал визита к себе в камеру чуть ли не премьер-министра. А некий вожак чудовищной банды головорезов, заключенный в Ньюгейте, диктовал условия и грозил разоблачениями мэру Лондона. Кажется, он обещал к тому же «исправиться». Безусловно, он бы «исправился», если бы вместо казни его помиловали да еще заплатили хорошенько за услуги, о которых он грозился напомнить. Его решили отправить все же на тот свет, а так мог бы явиться на этом свете новый предприниматель или преуспевающий торговец. И вот натура, развращенная до основания, принарядившись, начала бы действовать в новом одеянии, но как? И почему с ним все-таки связан не кто иной, а сам лорд-мэр? Подробно ответил Дефо на эти вопросы в своих романах.
Дефо был, конечно, первым из литераторов, кто присмотрелся близко и пристально к отверженным. Он выявил лица, натуры, судьбы в той среде, которая, скажем, Шекспиру виделась мутно-шевелящимся скопищем. Выводя па сцену «многоголовое чудище», городскую толпу, Шекспир и не искал в ней здорово-надежных народных основ, его Англия, народная Англия, была там, где «зеленые поля», «под деревом зеленым».
Дефо взялся описывать из демократической среды не какой-либо устоявшийся слой, не крестьянство или ремесленничество, но бродячую и постоянно бродящую прослойку. Кого видел Дефо вокруг себя? Отверженных по несчастью, закоренелых преступников и тех, кто, подобно самому Дефо, очутился за решеткой, влекомый авантюрным духом времени. «И все оттого, что меня одолевало жгучее желание обогатиться скорее, чем допускали обстоятельства», — скажет Робинзон, называющий, между прочим, свой остров тюрьмой. Наблюдал Дефо два полюса, образующихся как бы по инерции общественного развития: привилегированная верхушка, которая существует в доставшихся ей даром условиях, и «дно», по-своему паразитически пробавляющееся за счет деятельной части общества. Тех и других чуждался Дефо, демократ и труженик по натуре. Но если на первых, верхних, он, что называется, махнул рукой, притом махнул с презрением и гневом, то состояние тех, кто внизу, он старался объяснить и исследовать.
Зачитывались книгами Дефо в свое время такие же робинзоны, люди того же склада и судьбы, не обязательно испытавшие или желающие испытать «приключения», но знающие по себе те же страсти, надежды, порожденные временем. «Уйти в море», отправиться на поиски невероятной удачи и вернуться «другим человеком» — вот импульс эпохи, действующий в книге о Робинзоне с первых строк. Формирование «другого человека», вернувшегося из заморского плавания или поднявшегося со «дна» моря людского, Дефо показал с такой трезвостью, что она многим истолкователям показалась в самом деле ненужной, неоправданной и в лучшем случае парадоксальной. Различные робинзонады рассматривали все это уже значительно скоротечнее: дайте человеку начать все сначала, и он станет другим. Иногда даже говорится, что Робинзон еще не настоящий «робинзон», потому что начинает не с пустого места — ему повезло, ему достался весь скарб с разбитого бурей корабля. Но ни при каких условиях Робинзон не начинал бы с пустоты, ибо всегда с ним весь груз его личности: этим «запасом» он пользуется так же, как сеет случайно уцелевший овес и питается матросскими сухарями.
Робинзон начинает свою исповедь с перечисления преимуществ, отпущенных ему судьбой, — благополучие, образование, приготовленное поприще… «Ничего этого мне не нужно было, — говорит Робинзон, — а только бы уйти в море». И это, разумеется, не порыв романтического юноши, а каждому без слов в то время понятный расчет: в море искали несметных богатств.
Судьба Робинзона или шотландского моряка не такая уж редкость для тех времен, и остров, на котором высадили шотландца, не был первозданным уголком. Прежде там жили колонисты-испанцы, они-то и развели на острове коз, служивших пропитанием шотландцу и соответственно Робинзону. По мере того как Испания завладевала Южной Америкой, колонисты перебрались на материк. На островах же моряки не раз оставляли неугодных членов команды. Один англичанин, не ладивший с экипажем, прожил еще раньше шотландца на том же острове пять лет, другой, индеец, — три года.
«В семь утра, — рассказывал капитан Вудс Роджерс о дне 31 января 1709 года, — мы подошли к островам Хуан-Фернандес». Это три острова. Выбрали самый крупный — Мас-а-Тьерра, и на берег сошла команда за пресной водой. Вернулись они, приведя с собой человека, одетого в козлиную шкуру. «Он выглядел более диким, чем рогатые первообладатели этого одеяния», — отметил капитан. Человек этот прожил на острове четыре года и пять месяцев. Корабль из флотилии знаменитого адмирала Дампьера, на котором он шел помощником капитана, дал течь. С капитаном он поссорился, и его высадили, оставив одного. Корабль назывался «Пять портов», а его имя Александр Селькирк, родом из Ларго в графстве Файф, с детства мечтал стать моряком. Когда, повздорив с капитаном, решил он сойти на берег, его не удерживали и, оставив ему ружье, порох, табак, постель, одежду, Библию и прочие предметы первой необходимости, покинули па Мас-а-Тьерра. В последнюю минуту Селькирк, не ожидавший, что дело зайдет так далеко, стал проситься назад. Однако корабль поднял паруса…
«Я вспомнил, — пишет Роджерс, — что Дампьер говорил мне об этом человеке, считая его лучшим из команды».
Надо это «вспомнил» оценить на фоне бушующего океана, который и расширял свои горизонты перед отважными мореходами, и одновременно становился все более «домашним», обитаемым.
«Мой родственник», — говорит о самом Дампьере Гулливер, подобно тому как намекал Дефо, что происходит от знаменитого мореплавателя Уолтера Ралея: мир, что называется, тесен! Все это, конечно, намеки, исполненные смысла. Такие, как Дампьер, Роджерс или Селькирк, а в свое время Ралей, были не «одним из…», а центральными фигурами эпохи, их руками создавался национальный престиж. Это продолжатели дела «морских соколов» шекспировской поры, но со всеми особенностями своего времени, когда уже не «сокол», а Джон Буль, то есть Бык, становится символом англичанина. Экспедиции шекспировских современников, разумеется, не бескорыстные, все же овеяны ореолом подвига, между тем жизнеописания таких людей начинаются прямо со слова «пират». Люди, по-своему универсальные, ходившие по всему свету, много сделавшие и для науки, и для литературы («Путешествия» Дампьера были образцом, который использовали и Дефо, и Свифт), они делали все это попутно. Основным же их занятием были в сущности морской разбой, полуузаконенный, на который правительство смотрело сквозь пальцы или даже поощряло до тех пор, пока такие, как Дампьер или Роджерс, грабили чужих, а не своих. До тех пор, пока «джентльмены удачи» держались в своих действиях известных границ, они и не считались пиратами. Капитан, высадивший Александра Селькирка в архипелаге Хуан-Фернандес, и капитан, подобравший его там четыре года спустя, назывались «каперами», они шныряли по морям в поисках испанских и французских кораблей, за счет которых можно было бы поживиться. И таким путем к англичанам прибывала львиная доля богатств в эпоху раннего промышленно-торгового подъема Англии.
«В те дни, — напоминает историк, — граница между сделкой и воровством или между коммерцией и пиратством была еще весьма неопределенной». Действительно, роман Дефо, специально пиратам посвященный, называется «Приключения и пиратства славного капитана Синглтона», однако разобрать, что там «приключения», а что разбой, не так-то просто. И Дефо, который одно время сам был пайщиком во владении судном и даже написал впоследствии «Всеобщую историю пиратов», дает разработанную классификацию «джентльменов удачи» с точки зрения дозволенности их промысла. У него есть и пираты-романтики, предки байронических корсаров, которые ищут в море не выгоды, но исключительно воли и основывают страну Свободию с идеей всеобщего равенства[14]. Но абсолютное большинство, подобно Селькирку, отправлялось в море не за свободой, а за «удачей». Между тем на берегу их ждали толстосумы из лондонского Сити, которые считали прибыльным вкладывать денежки в чисто пиратские затеи. Капитан Кидд, сделавшийся впоследствии столь легендарным и воспетый Стивенсоном, пользовался поддержкой кабинета министров. Кончил он свои дни на виселице, но не потому, что пиратствовал, а потому, что награбил недостаточно и не мог рассчитаться со своими пайщиками. Купцами же был предан и знаменитый капитан Эвери, который, как гласит предание, «обворованный» и всеми покинутый, умер от горя и гнева. Процветающая Тихоокеанская компания фактически занималась гигантским по тем временам грабежом под вывеской солидного коммерческого предприятия.
Для времен Дефо морские разбойники не случайные и не книжные персонажи (хотя по своему обыкновению Дефо черпал сведения о них из различных пиратских жизнеописаний, полудействительных-полуфиктивных), они играли видную роль в английском обществе той эпохи. Это целый круг, целый класс людей, которым уже не приходится брезговать никакими средствами до тех пор, пока «сила и слава» не будут у них в руках. Причем уже в то время вокруг понятия «пират» успел образоваться романтический ореол. У Дефо, напротив, это не смельчаки-головорезы, а прежде всего люди дела, им не нужны абордажи, они всегда готовы уйти от схватки, если только в ней нет выгоды. Насколько пиратские занятия считались почтенными? Во всяком случае, были достаточно обычными. «Уйти в море» (уж известно зачем!) — это нечто вроде того, как впоследствии уезжали в колонии, чтобы, прослужив там определенный срок, вернуться «состоятельным и уважаемым человеком».
Так, адмирал Дампьер с двумя кораблями, «Святой Георг» и «Пять портов», отправился тогда в очередное дерзкое и далекое плавание. «Пожалованный милостью поцеловать королевскую руку капитан Дампьер взял курс на Вест-Индию», — писали газеты. На самом деле курс был взят не на запад, а к югу — в Тихий океан.
Дампьер был человек бывалый и Незаурядный, однако это плавание не задалось. На кораблях ссорились, самого адмирала видели то и дело пьяным, с подчиненными он не ладил. Корабли потеряли друг друга. Оставшись один, Дампьер пытался атаковать торговое судно, а в результате сдал часть своей команды в плен. Эти члены экипажа были доставлены в Англию как преступники. Среди них оказался некто, давший огласку позорным подробностям плавания. Когда к родным берегам подошел Дампьер, его уже ожидал разоблачительный отчет, опубликованный в качестве очередного тома «Путешествий». Адмирал пробовал оправдываться в свою очередь печатно, но неубедительно, вяло по сравнению с прежними своими же сочинениями. Положим, краски могли быть сгущены и в трусости адмирала упрекать не следовало, но факт — дисциплина была ужасной, с кораблей бежали, нескольких человек высадили насильно, а штурман «Пяти портов» Александр Селькирк решил остаться на берегу по собственной воле. Что стало с этим Селькирком, автор отчета, вышедшего в 1707 году, разумеется, не знал, но благодаря ему имя, вдохновившее многие годы спустя знаменитую книгу, появилось в печати.
Тогда на сообщение о Селькирке, который истинным робинзоном сидел на острове, особого внимания не обратили, но вся история Дампьера наделала шуму. Судовладельцы отказали ему в доверии. Выручил адмирала капитан Роджерс, взявший его в свою флотилию лоцманом. Роджерс никогда не плавал в Тихом океане, да и команда у него подобралась, словно на смех, из людей сухопутных: портные и торговцы-лоточники решили попытать удачи в море. Скорее обремененный, чем поддерживаемый таким экипажем, Роджерс поэтому и не пренебрег услугами опального адмирала, великого знатока коварных течений и ветров. Рад он был и штурману Селькирку, подобранному на острове. Дампьер и Селькирк, получивший свое прежнее место помощника капитана, опять очутились под одним флагом. А когда в плен было захвачено судно, Селькирк стал его капитаном. Через два года экспедиция закончилась, доставив в Англию значительную добычу, и Александр Селькирк вернулся на родину вполне обеспеченным человеком.
Еще через год Роджерс рассказал о Селькирке в своих записках. Рассказал о нем и капитан Кук, шедший во флотилии Роджерса. О Селькирке заговорили. Роджерс, имевший знакомства в кругах образованных, представил его блистательному публицисту Ричарду Стилю. В журнале «Англичанин» Стиль напечатал свой очерк о Селькирке (1713) и создал ему славу.
На страницах газеты «Обозрение», редактируемой Дефо, о Селькирке не появилось между тем ни строчки. Хотелось бы думать, что редактор этой газеты с ним все-таки виделся, но свидетельств этому нет. Встреча Селькирка с Дефо, претензии к Дефо из-за «дневника Селькирка», так же как слова Селькирка об авторе «Робинзона Крузо»: «Пускай пользуется за счет бедного моряка», — вымыслы более позднего времени[15].
Обвиняли Дефо и в использовании брошюры «Превратности судьбы, или Удивительные приключения Александра Селькирка, написанные его собственной рукой». Но дело в том, что брошюра эта сама по себе заимствована: кроме нескольких строк, она дает перепечатку из книги капитана Роджерса. Дефо задумал свой роман, скорее всего, под впечатлением записок Роджерса, а «Превратности судьбы» если и подали ему какие-то мысли, то разве что «собственной рукой».
Итак, одну и ту же историю человека на острове рассказывали около двадцати лет, прежде чем она была запечатлена в «Робинзоне Крузо». Дефо взялся за общеизвестный факт. Переменил имя героя и до известной степени род его занятий (Робинзон уходит в море, но все-таки он торговец, а не пират). Перенес место действия из Тихого в Атлантический океан. Отодвинул время действия лет на пятьдесят назад. Умножил срок пребывания героя на острове во много раз, а само повествование увеличил против прежних описаний на сотни страниц.
Все эти перемены сделаны тоже, конечно, неспроста. Выше уже говорилось о том, какое значение имеет время действия в романе, — это эпоха революции. И место действия было выбрано не случайное.
Как человек практический, торговый, Дефо зорко следил за тем, в каких направлениях расширяет свои географические границы мир. Не говоря о Тихом океане и Америке, он вместе со своими героями совершил воображаемое путешествие — в Центральную Африку, хотя в его времена в эту сторону еще и не смотрели. У него пираты Находят остатки экспедиции и записку: «Мы шли к Северному полюсу…». Символично, что, описав этот эпизод с запиской о путешествии к Северному полюсу, Дефо как бы забыл его, не увязав с общим развитием действия в романе «Капитан Синглтон». Эпизод повис в воздухе. Осталась какая-то недоговоренность, но, кажется, этого неопределенного впечатления Дефо и добивался: он чувствовал, что туда, к полюсу, еще пойдут, но когда, как и зачем, на эти вопросы ответить под силу было только самому времени.
Атлантический океан, Южная Америка, в особенности Бразилия и устье реки Ориноко, «обживались» англичанами со времен Уолтера Ралея, и Дефо, выражаясь современным языком, считал это направление чрезвычайно перспективным. Нельзя сказать, чтобы цель у Дефо была прямо рекламная, когда он отправил Робинзона в устье Ориноко, где как раз тогда начала действовать крупная табачная фирма. И все же чисто практический смысл в идее Дефо, безусловно, был.
Все это важно учесть, чтобы представить, какой насыщенностью обладает простое по видимости слово Дефо. Что ж, известно: все цвета спектра дают в итоге просто белый…
«Спорили семь городов о рождении чудном Гомера», — точно так же несколько островов оспаривают честь считаться «робинзоновыми». На Мас-а-Тьерра, на скале, укреплена памятная доска с именем Селькирка, ее поставили моряки. Но в сущности и эта доска, и статуя возле отеля «Робинзон» (в Шотландии) — памятник тому незабываемому впечатлению, которое множество людей вынесло из книги Дефо.
«Я, разумеется, посетил наблюдательный пункт на вершине горы, где Селькирк провел много дней, всматриваясь в морскую даль в ожидании судна, которое в конце концов пришло», — рассказывает знаменитый навигатор-одиночка Джошуа Слокам, прошедший под парусами вокруг света. «Пещера, в которой обитал Селькирк, находится в самом начале бухты, называемой теперь бухтой Робинзона Крузо, — продолжает Слокам. — Войдя в пещеру, я нашел ее сухой и годной для жилья».
Моряк смотрит на жилище Селькирка сквозь страницы «Робинзона Крузо». Дефо умел заставить видеть, и не только то, что видел сам. «Пещера, в которой обитал Селькирк…» У Селькирка пещеры ведь не было, жил он в хижине. Но ищут пещеру, равно как высматривают множество других примет робинзонова быта, о которых Селькирк просто не мог рассказать Дефо, даже если они и встречались. Дефо их почерпнул, показали исследователи, из различных книг. Да, Робинзона Дефо в значительной степени вычитал. Второе издание записок капитана Роджерса, вышедшее в 1718 году, вернуло его к истории Селькирка, которую в свое время он не заметил. В самом начале 1719 года у Дефо был готов роман.
Лондонские издатели единодушно отвергли рукопись, хотя, как свидетельствует современник, они знали цену автору. Его поэмы и памфлеты расходились огромными по тому времени тиражами… Но почему-то в эту рукопись не верили, и для Дефо сложилась особая ситуация: ему «знают цену» и его не признают. Действует некая инерция моды или общего вкуса, которую даже Дефо не в силах преодолеть.
Рукопись взял издатель Вильям Тейлор, чья контора действовала под знаком «Корабля». Выпустив «Робинзона», Тейлор увеличил свое дело вдвое: такой успех, немедленный и всеобщий, выпал на долю приключений моряка из Йорка, «написанных им самим». «Робинзон» по стоимости равнялся полному мужскому костюму или составлял треть хорошей лошади. Любители чтения специально копили деньги, чтобы купить эту книгу. Спрос на «Приключения Робинзона» был так велик, что без ущерба для своих коммерческих выгод автор и издатель, помимо выпуска отдельной книги, печатали роман в журнале. Ущерб денежным интересам Дефо нанесли «пираты», но не те, что разбойничали в море, а сухопутные пираты — издатели, самовольно выпускающие книги. Но это было своего рода бременем популярности.
Долги, дрязги, неудачи, публичный позор — обстоятельства, при которых Дефо писал книгу о Робинзоне, были мрачны, и вдруг жизнь сочинителя, имевшего известность преимущественно скандальную, озаряется настоящей славой. Правда, имени истинного автора приключений, «описанных самим Робинзоном», пока не знают, да и не хотят знать: книга гипнотизирует подлинностью. Тиражи «Приключений Робинзона» неизвестны в точности, но судить о них можно хотя бы по тому, что ради «Робинзона» издатель дополнительно нанимал наборщиков, труд которых дорог, однако еще дороже было, как видно, успеть за требованиями читателей. Тейлор трижды тиражировал первую книгу о Робинзоне, пока Дефо писал вторую.
Явившись на свет, Робинзон пережил ту же судьбу, которую до него испытал Дон Кихот, а после него Гулливер, члены Пиквикского клуба или Шерлок Холмс: читатели не хотели расставаться с Робинзоном, читатели требовали продолжения! Отвечая на читательский спрос, Дефо и его издатель ждать себя не заставили. Месяца два создавалась первая книга о Робинзоне, а через четыре месяца публика уже читает «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо». Однако уже не с той доверчивостью, как в первый раз, читатели верили «моряку из Йорка». Тогда год спустя после «Дальнейших приключений» Дефо выпускает «Серьезные размышления в течение жизни и удивительные приключения Робинзона Крузо». Успеха эта книга вовсе не имела[16].
Три части одной книги о Робинзоне начали почти одновременно движение сквозь время, но силы их были неравны, что не замедлило сказаться на их судьбе. Последняя часть оказалась буквально последней, она едва тронулась от типографского станка к читателям и осталась па месте. Вторая часть тянулась за первой, но тоже недолго, а вот первая часть не только не остановилась, даже не только продолжала жить, но и с каждой новой эпохой переживала новое рождение: от века к веку о Робинзоне на острове читают по-новому, понимают его по-новому. Робинзон почти буквально сошел с книжных страниц, стал существовать самостоятельно, независимо от книги Дефо, как бы сам по себе, испытывая новые приключения, обрастая легендами.
«Моряк как моряк, прилагал все усилия, чтобы остаться в живых», — это в сущности все, что нашел нужным сказать о судьбе Селькирка капитан Кук. Капитан Роджерс взглянул, правда, на ту же историю уже гораздо глубже, и литературным произведением, хотя и небольшим, стала история Селькирка под пером Ричарда Стиля. Но только у Дефо получилась все о том же книга. О чем же, собственно?
Достижение Дефо можно ясно увидеть, так сказать, от противного — на примере его неудачи, когда во второй и третьей частях он будто бы продолжал рассказывать все о том же Робинзоне, однако без прежнего эффекта.
История Робинзона была закончена в первой книге, то есть стал ясен характер, урок судьбы, и никакие «дальнейшие приключения» ничего существенного о Робинзоне сообщить уже не были способны. Дефо и писал в дальнейшем не о Робинзоне, но о приключениях. Иначе говоря, все то, о чем рассказано в первой части на нескольких страницах, растянулось во второй на всю книгу, тесня самого героя.
«С необитаемого острова он никуда не торопился», — заметил критик о Робинзоне первой части[17]. Во всяком случае, Дефо как повествователь не торопился сменять события в жизни Робинзона, интересуясь всякой мелочью, случившейся с героем. Важно ведь было не что происходит, а с кем происходит. Важен был Робинзон. Во второй части Дефо сделался «тороплив», он заставил Робинзона переезжать с места на место, отправил его в кругосветное плавание, и роман встал, таким образом, в ряд множества книг о путешествиях, где и без Робинзона было тесно. И тут уж Дефо конкуренции не выдержал. В последней книге о Робинзоне Дефо взялся читать нравоучения, но кого мог увлечь угрюмо-наставительный тон?
Овладевавший вниманием читателя обычно исподволь, как бы между прочим, тут Дефо стал действовать прямо, да еще с нажимом, обещая нечто «серьезное». Кроме того, книга обещала «размышления», а способа мыслить, для Робинзона естественного, у Дефо не получилось.
Дефо потерпел неудачу именно в том, что так удалось ему в первой части. Ведь с книжных страниц потому и сошел живой Робинзон, что думал и повествовал он как Робинзон, — была выдержана естественная мера литературности: не более того, на какую мог быть способен «моряк из Йорка».
Почему он рассказывает о себе? Почему возникла у него потребность писать? Александр Селькирк, когда нашли его на острове, говорил с трудом, речь не слушалась его. Потом, освоившись, он начал рассказывать, и Ричард Стиль, беседуя с ним, отметил: «Слушать его было любопытно до чрезвычайности, ибо, как человек со смыслом, давал он отчет о различных поворотах духа за время столь долгого одиночества». Этим наблюдением Стиль ограничился. Как в самом деле работала мысль его удивительного собеседника, он не передал. Трудно было передать, должно быть. А есть предположение, что «повороты духа» журналист выдумал, чтобы обойти вопрос, на который Селькирк ответить как раз не мог. Писать об этом было соответственно нечего, а между тем читатели прежде всего интересовались: как же все-таки чувствовал себя удивительный отшельник? И все прочие, кто описывал судьбу Селькирка, сообщали о нем всевозможные подробности, за исключением одной, все тех же «поворотов духа». Сумел написать об этом один Дефо.
Несколько раз на протяжении первой книги «Приключений» Робинзон мотивирует свои занятия делом, для него в общем-то необычным, не свойственным, — писательством. Выдерживая убедительность характера, Дефо не делает Робинзона ни литератором, ни мыслителем. Робинзон ведь не мыслит, в особенности если сравнить его с Гулливером, он соображает всего-навсего, насколько это могло быть под силу человеку его среды и воспитания. Если же Робинзон все-таки касается умозрительных вопросов, требующих гибко разработанной мысли, абстрактной мысли, что называется умственного труда, то он обязательно пояснит, что раньше над этим ему не приходилось задумываться.
Робинзон думает как Робинзон, рассказывает как Робинзон, словом, нет в повествовании ничего, что от Робинзона слышать было бы неестественно и надо было бы объяснять вмешательством литератора-профессионала. Наполовину вычитанный, наполовину вымышленный, Робинзон потому и получился достовернее настоящих робинзонов, что только от него узнали подробности робинзонова самочувствия.
Плавал Дефо мало, но написал о море так, что морская соль чувствуется на страницах. Он умел, говорит биограф, дать достоверный отчет о событиях, но, если событий никаких не было, он мог столь же достоверно их выдумать. Как издатель, Дефо запросто беседовал с читателями все тем же тоном знающего и уверенного в правоте своих слов человека. Потом, когда ему потребовалось, он описал тем же способом и путешествие на Луну, и невероятную бурю.
Дефо составил книгу «Ураган». То было собрание документов, разумеется, весьма сомнительной подлинности, но давали они внушительную картину стихийного бедствия, вдруг обрушившегося на Англию. Тут были частные письма, официальные сообщения, списки погибших, перечни материального ущерба, были даже обрывки молитвенных стихов, что в крайней горести шептали потерпевшие. Все было помещено большей частью в отрывках, сообщая изложению порыв бури, разметавшей корабли на море и крыши жилищ на суше. Мало сказать: документы собраны в книгу. Книга была создана как отчет. Если ему было нужно, Дефо даже полемизировал публично сам с собой — под разными масками, разными голосами! — и складывалось впечатление спора жесточайших противников. Правда, один раз «противник» оспорил Дефо до такой степени убедительно, что беднягу потащили к позорному столбу. Дефо перестарался. Но в конце концов это лишний раз подтвердило надежность такого способа убеждать читателей.
Дефо о чуме слышал разве что в детстве, однако стоило ему взять перо, в книге возник ужас «черной смерти». О привидении он сообщает репортерски: явилось в платье, на ощупь — шелк. На вопрос «видны ли из рая мучения ада?» он отвечал через газету так деловито, будто его спрашивали о ценах на рынке; он описывал все до того достоверно, словно сам побывал на небесах и в преисподней. «Как мужья должны обращаться с женами?», «можно ли королеву называть мадам?» — он авторитетно отвечал, и ему нельзя было не верить. Такова была сила этого человека, называемая единодушно одним и тем же словом — убедительность. Острова Атлантики, африканские джунгли, снега Сибири, муки ада, события самые свежие или времена вековой давности — все получалось у него доподлинно. Записки будто бы государственных лиц, составленные все тем же Дефо, принимали за настоящие мемуары даже люди, искушенные в политике. Путешественники готовы были допустить, что земли и воды, ими исследованные, еще раньше посетил автор «Робинзона Крузо».
Среди всевозможных версий, отрицающих авторство Шекспира и приписывающих его произведения философу Бэкону, государственным мужам Пемброку или Оксфорду и даже королеве Елизавете, есть и такая: Шекспира написал Дефо. В сущности это отражает все те же представления о Дефо: он способен был прикинуться и Шекспиром!
Сознавал ли Дефо, как он пишет? Понимал ли творец «Робинзона» что-нибудь в собственном искусстве? А если получалось это у него действительно «само собой», то можно ли считать такой рассказ «искусством»?
Насколько Дефо понимал себя сам, видно из предисловия к последней части «Робинзона». Намеками, иносказательно, от имени своего героя, но все же вполне внятно говорит он о соединении вымысла и действительности, о символическом и непосредственном значении рассказанной им истории. Он настаивает на слове «история» (то есть событие, имевшее место реально), говорит: «Это и аллегория», — но понятия «художественный вымысел» все-таки избегает… Способ, который помогает Дефо быть правдоподобным, — это документальность, конечно лишь видимая, почти всегда поддельная и тем больше требующая умения, чтобы создать видимость документа.
Оценить место Дефо в повествовательной традиции поможет литературная параллель, проведенная им самим. Была одна книга, перед которой он преклонялся. Это «Дон Кихот», то есть «Удивительные, достославные и т. п. приключения…» «Робинзона» сравнивали с «Дон Кихотом» как выдумку. «Критик хотел оскорбить меня этим, на самом деле он мне только польстил», — говорит Дефо.
Что удалось сделать в своей книге создателю «Дон Кихота», Дефо понимал прекрасно как писатель, тем более что свои намерения Сервантес тоже изложил в предисловии, понятном каждому, кто хоть сколько-нибудь умеет читать между строк.
Сервантес описал себя, автора, как он сидит с пером в руке над завершенной рукописью и не знает, выпускать ее в свет или нет. В чем задержка? Автор не убежден, что ему поверят. Дело в том, что он «сам выдумал» Дон Кихота, между тем как автор должен был только «передавать правдивые истории». Шекспир в конце концов в этом смысле не «написал» ни одной пьесы, он только «переделывал» старые. А Сервантес заявляет, что Дон Кихот — дитя его вымысла и что в то же время это правда.
Если посмотреть первые страницы «Дон Кихота», то станет видно, как в самом деле вчитывался в эту книгу автор «Робинзона Крузо», как он ей следовал, причем иногда даже до такой степени, которую можно счесть подражанием. «Говорили, — пишет, например, Сервантес о своем герое, — что назывался он Кихада или Кесада, но, по наиболее вероятным догадкам, имя его было, кажется, Кихана». «Я был назван Робинзоном Крейцнером, — скажет своим чередом герой Дефо, — но англичане по своей привычке коверкать слова…» — и дальше следует нам уже известная игра с именем Крузо. Это именно «игра», умелая и серьезная литературная игра в правдоподобные детали ради достижения цели, о которой в «Дон Кихоте» сказано: «Впрочем, все это неважно, главное, чтобы рассказ ни на шаг не отдалялся от истины».
Дальше, однако, пути Робинзона и Дон Кихота, а точнее, Сервантеса и Дефо, расходятся. «Ваше сочинение, — говорит в предисловии к „Дон Кихоту“ друг автора, с которым автор, как видно, согласен, — имеет целью разрушить доверие, которым пользуются рыцарские книги». А Дефо пишет в ту пору, когда доверие к «рыцарским книгам» и вообще ко всяким книгам, если только они не поучительны и не достоверны, уже подорвано и это доверие надо, напротив, восстанавливать.
«В этой книге нет и капли вымысла», — скажет Дефо в своем предисловии от «редактора». Он убеждает читателя, что все «правда», и не решается в отличие от Сервантеса заявить, что «правду» эту он создал.
Дефо, разумеется, не первому из английских писателей пришла мысль писать правдиво и просто. «Произведения художественной литературы, которые особенно нравятся нынешнему поколению, — это, как правило, те, что показывают жизнь в ее истинном виде, содержат лишь такие происшествия, что случаются каждый день, отражают только такие страсти и свойства, что известны каждому, кто имеет дело с людьми», — писал Сэмюэль Джонсон в середине XVIII столетия, подводя итоги развития английской прозы за полвека. «Правда» против «вымысла» — это, собственно говоря, основной стимул движения литературы нового времени, реакция на средневековый рыцарский роман и поэзию, полные чудес, фантазии, небывальщины. И это не значит, конечно, что в этих произведениях содержалась «неправда» в бытовом смысле слова. Задачи такой не ставилось — отражать обыденность. Напротив, творец создавал что-то совсем непохожее на «каждый день». Еще в шекспировскую эпоху не очень-то увлекались «правдой». Публика из самых разных слоев общества предпочитала невероятное, чрезмерное, потрясающее, героическое и вместе с тем освященное ореолом предания как нечто, что «было». Пуританская традиция, которая становилась в английской духовной жизни господствующей, все это отвергала. И если учесть, сколько же из предшествующей литературы с этой позиции нужно было отвергнуть, как «вымысел» и «вред», то получалась фактически художественная литература как таковая, которая и обозначается по-английски словом «вымысел» (fiction). Пуритане преследовали театр, не признавали романов. Читали Священное писание, а также литературу деловую, документальную, «достоверную». Но потребность в «художественном» тоже брала свое. Развивался новый роман.
Еще в шекспировскую эпоху было в известной степени уже написано то, что напишет в самом деле Дефо. Не только мир дальних странствий был освоен писателями способом «приключений», но мир близлежащий, будничный, мир улиц, мастерских, кабаков, само «дно», — литература затронула все, о чем можно было бы написать, что могло бы стать Литературой. Второстепенные литераторы шекспировской эпохи начали присматриваться к городскому люду: в английской драме и прозе появились ткачи, башмачники, мелкие торговцы, появились также и некие «без гроша за душой» — предки персонажей Дефо. Были намечены судьбы и лица среди тех, кто если и выходил на сцену в драмах Шекспира, то толпой.
Существенно, что Дефо о предшественниках знал. На его забытых страницах историки литературы обнаружили свидетельство того, что ему был известен один малозаметный прозаик шекспировской поры[18]: уменьшенный Дефо, модель Дефо, предвосхищающая его свойства, за исключением дарования. Этот автор, как и Дефо, из ремесленников, писал о ремесленниках, преисполненный гордости за свое сословие. Просвещенные литераторы над ним посмеивались, как, впрочем, будут посмеиваться над Дефо. Обращал ли внимание на него Шекспир, мы не знаем, но, чтобы представить себе, как мог он смотреть на такого собрата по перу, надо вспомнить самые смешные сцены «Сна в летнюю ночь»: ткач, плотник и другие мастера-профессионалы, они же актеры-любители, ставят спектакль. Заботясь больше всего о наивном правдоподобии, они не соблюдают основных законов искусства, — с точки зрения Шекспира, эта среда еще как бы не созрела для искусства, поэтому все, что ни пытаются изобразить старательные лицедеи, оказывается вне пределов творческой естественности, которая служила Шекспиру мерой артистизма.
Действительно, минул еще целый век, прежде чем Дефо подвел итог ранним и слабым усилиям своих предшественников. Нет, не Дефо первым решил писать «правдиво и просто». Едва ли не каждый прозаик его поры говорил о том, что стремится «представить людей такими, каковы они есть». Но именно Дефо был первым состоятельным, то есть последовательным до конца, создателем простоты. Он осознал, что «простота» — это такой же предмет изображения, как и любой другой, как черта лица или характера. Разве что наиболее сложный для изображения предмет.
Поэтому известную трудность создания «простоты и правдивости» он слагает с себя. Пишет он, конечно, роман, но вообще романом в его времена считался «неподдельный рассказ о занятном приключении». «В последнее время публика привыкла к романам», — говорит Дефо, намереваясь привлечь внимание «историей подлинной жизни», которая, однако, превосходит по «удивительности» (так он говорит) любой вымысел.
Перо без лишних слов, пояснений и предисловий гипнотизирует простым сообщением: «Я родился в…», — и все та же притягивающая простота изложения распространяется на целый роман. Для этого нужна, конечно, изначальная энергия, «разбег» с расстояния, которое и не укладывается в жизнь одного автора. Косвенными путями автор увеличивает дистанцию между материалом, собой и читателем до такой степени, чтобы все нужное было видно отчетливо сквозь магический кристалл повествования.
Первый способ создать видимость достоверных записок, а не вымысла, — это исчезновение автора. Дефо и приписал «Робинзона» и «Синглтона» морякам, «Молль Флендерс» и «Роксану» — женщинам легкого поведения, а «Дневник чумного года» якобы составлен хозяином шорной мастерской[19].
Но важнейшая причина, по которой автор не обнаруживал себя, заключена в традиции повествования как предания, которое, конечно, не измышляется каким-то одним человеком, а передается от рассказчика к рассказчику. И ко времени Дефо эта традиция еще не выветрилась.
Кто верит выдумкам? Можно ли вообще верить некоему болтуну, который говорит «я» и сообщает все о себе? Где гарантии достоверности рассказа? А вот если предупредить, что все изложенное выше слышано от «людей», «верных людей» разумеется, вообще всем давно известно и только пересказывается, передается так, как ты это слышал, тогда еще стоит и тебя послушать. Не рассказчик ведь, собственно, говорит, а в его словах сказываются «дела давно минувших дней». Сказители (не сочинители!) почитались со времен древности, ибо им внушено свыше, известно издревле, а не придумано ими. Шекспир ведь не сочинял, он переделывал по большей части старые пьесы, потому что пьесы и вообще всякие старые истории, сюжеты, имели авторитет предания, того, что «было», то есть правды.
У Дефо дистанция между преданием и повествователем сократилась до минимума: «история подлинной жизни», документ, и тот, кому этот документ попал в руки. Все-таки, спрятавшись за персонажа, «настоящего виновника этих записок», за «историю подлинной жизни», автор заставляет работать на себя именно предание, инерцию авторитета, власть уже известного публике, наконец, силу славы.
О романе «Полковник Джек» он так и сказал: «написано автором Робинзона Крузо», — но чаще использовал Дефо авторитет общеизвестного. «…Прозванная графиней Винтельштейн в Германии, известная как леди Роксана во времена Карла II» — то есть нечего и убеждать в достоверности этой особы. Подкидыш, воровка Молль Флендерс именуется «знаменитой». Уже после того, как этот роман был издан, Дефо печатает в газете заметку «Племянница Молль Флендерс» и рассказывает про какую-то Молль Кинг, промышлявшую кражей карманных часов, большей частью по церквям. Она-де, эта Молль, пойманная, назвалась племянницей той самой, «знаменитой», Молль Флендерс. Выпустив роман, Дефо продолжает заботиться о самом главном в репутации своей героини — о достоверности. А себя Дефо даже «рассказчиком» не называет, он, как указано в предисловии к «Роксане», всего-навсего «передал» рассказ: подправил слог и отнес в типографию. Тщательно прилаживает Дефо маску «редактора». Предваряя первую часть «Робинзона», он посвящает читателей в свои «редакторские» сомнения. Исповедь моряка из Йорка до того искренна, что редактор подумал, не сократить ли кое-что… Нет, пусть уж будет все как есть!
Еще одна существенная причина, заставлявшая автора прятаться, состояла помимо прочего и в общественном положении писателя. Писательство не считалось делом особенно почтенным. Разве что для поэтов делалось исключение. Но строчить изо дня в день, печатать и получать за это деньги — и недостойно, и даже просто немыслимо, что-то вроде актерства, клоунства, комедиантства. Известно, что со времен Шекспира лицедеи, не имевшие вельможного покровительства, приравнивались к бродягам и «упорным нищим»: поставить у столба и сечь кнутом или же просто повесить — такова со всем этим «сбродом» расправа. Предубеждение против всех «развлекательных» (мы бы сказали творческих) профессий оставалось распространенным, собственно, до конца прошлого века хотя бы потому, что профессией, то есть узаконенно признанным способом зарабатывать себе на жизнь, и актерство, и писательство, и вообще любое художественное творчество сделалось всего каких-нибудь сто лет назад. Существовал профессионализм в искусстве всегда, но распространился и был признан этот профессионализм совсем недавно. Актеры играли как актеры, однако значились они «слугами королевского величества» или же «людьми лорда-адмирала». Писателю не платили, а «оказывали покровительство». Литератор Сэмюэль Джонсон, младший современник Дефо и Свифта, фактически первый прямо сказал о том, что существует писательским трудом. Приходилось признаваться в том и Дефо, но именно приходилось, оправдываясь. «Надо быть дураком, чтобы писать не ради денег», — спокойно говаривал Джонсон, формулируя ту диалектику творческого труда, о которой у нас скажет Пушкин: «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать». Однако сам Пушкин терпеть не мог, если называли его «сочинителем». Миновала еще целая эпоха, прежде чем выработались общепринятые условия писательского существования. Тогда уж прятаться сочинителю стало и трудно, и, главное, невыгодно. Напротив, как всякий предприниматель, автор спешил поставить клеймо своего производства на самом видном месте: «Я, это я написал», — от обложки до последней страницы, кажется, кричит теперь всякая книга. Даже если еще не написал, а только собирается написать, хотел бы написать, пробовал написать, да вот не удалось — все равно тот, кто значится писателем, ставит об этом в известность читателей. Мы современники творческого профессионализма, развившегося в некоторых отношениях до предела, Дефо же знаменует этап ранний, хотя энергией и производительностью он затмит любого позднейшего профессионала. Заделавшись романистом, бывший владелец черепичной фабрики, поставляет роман за романом, как кирпичи, делая их быстро, прочно, одного размера. Только все это так, между прочим, между делом. Разве «делом» можно назвать писательство? Дефо и не называет, он и себя не называет «автором». Вокруг Дефо ведь и легенда существовала, по которой «Робинзон» появился случайно, как-то вдруг, а до этого Дефо будто бы писал бездарную чепуху и т. д.
Да, ему было под шестьдесят, когда он выпустил «Робинзона». Шестьдесят было и Свифту — автору «Гулливера». И точно так же на шестом десятке начал писать их современник Ричардсон, создавший Ловеласа, сохранившегося если не в круге нашего чтения, то в повседневном языке так же прочно, как Робинзон и Гулливер. Кажется, появились они на свет случайно и существуют сами собой, но это только так кажется, и кажется потому, что вызвал их к жизни профессионализм пера, действующий безотказно и движимый гением. Положим, Ричардсон вовсе и не писал до преклонных лет, но он же был сам издателем, десятилетиями вращалась вокруг него книжная машина, исподволь вырабатывая из него писателя. Дефо и Свифт, прежде чем создать «Робинзона» и «Гулливера», написали фактически все, чтобы сделаться известнейшими публицистами своего времени, им оставалось написать еще кое-что и для вечности. Пусть к тому времени, когда взялся стареющий Дефо за «Робинзона», имя его в известных кругах служило чуть ли не бранной кличкой: ему не верили, хотя бы и поэтому ему лучше было скрыть свое авторство. Но выучка-то была, образцовая литераторская мускулатура была наработана в многолетней и ожесточенной печатной борьбе.
«Робинзон» появился из-под пера Дефо быстро, роман, живущий вот уже третий век, написан был наскоро. Но, присмотревшись к известным обстоятельствам появления этой книги, мы видим опять-таки как бы само собой складывающиеся нужные условия и в нужную минуту вокруг гения. Что стоило ему, автору сотен названий, выпускавшему единолично в течение восьми лет газету, за два-три месяца написать книгу в триста страниц! А между тем вся английская литература готовилась к этому веками, пока не наступила пора «спокойствия, трудов и вдохновенья» (пусть вынужденного!), лондонская зима Дефо 1719 года.
* * *
Итак, основное впечатление от прозы Дефо — правдоподобие, и главный признак этой правдивости — простота. Робинзон ведет свой дневник: «Сегодня шел дождь, взбодривший меня и освеживший землю. Однако сопровождался он чудовищным громом и молнией, и это до ужаса напугало меня, я встревожился за свой порох». Если бы в самом деле бесхитростно было сообщено «шел дождь», в книжке его не чувствовалось бы ни капли, дождь тогда бы казался ни к чему — неинтересен, как надоедает всякое описание, перегруженное излишними подробностями. Нет, не только дождь, но и порох. Вовсе не просто, а обязательно с зацепкой, психологической зацепкой — заинтересованностью самого Робинзона в происходящем.
Так автор вызывает и наш интерес на каждом шагу, звено за звеном нанизывая цепь, приводящую в движение весь повествовательный механизм. Вещи невероятные — через обыкновенные подробности. «Ночь я провел на дереве, опасаясь диких зверей. Все же спал я крепко, хотя всю ночь лил дождь». Едва ли сам Дефо ведал, каково это — бояться диких зверей и как спят на дереве. Но что значит попасть под ливень, известно каждому. Робинзон, однако, не проснулся, хотя лил дождь, к тому же спал он на суку, да еще опасался быть съеденным… Так убедительность одной точной подробности распространяется на весь рассказ.
Дефо дотошен, ничего не забывает и не упускает из виду, все у него подсчитывается и указывается точно: долгота, широта, течение, названия птиц, животных, деревьев. А если что-то ему неизвестно, он признается открыто: «Не знаю». Однако критики сразу же разглядели, что достоверность и дотошность «Робинзона Крузо» — фикция. У Дефо одна только видимость достоверности, но иллюзия до того убедительна, что читатели и не желали в ней разуверяться, хотя бы автор и противоречил у них на глазах самому себе. Робинзон, например, повествует, по своему обыкновению со всей основательностью, как он уже на острове, увидев затонувший корабль, решил побывать на нем; совершенно разделся и пустился вплавь. С такой же тщательностью перечисляет он все полезные для себя вещи, найденные на корабле, которые он постарался доставить на берег, и в частности говорит, что сухарями он… набил карманы. Почему такие погрешности не нарушают общей иллюзии правдоподобия?
Несуразностей, неточностей у Дефо обнаруживается не много, меньше, скажем, чем у Шекспира. В «Приключениях Робинзона» их и перечислить нетрудно. В начале книги Робинзон, кажется, путает двух мавританских мальчиков, а во второй части — двух русских князей. Говорит, что в турецком плену не встретил соотечественников, и тут же оказывается какой-то «английский плотник». Он ошибается в испанских словах. Если бы у Робинзона в самом деле был редактор, он указал бы ему на мелкие расхождения между дневником и предшествующим рассказом о тех же событиях. Но такие мелочи даже естественны, они есть и в «Войне и мире». Не исключено, что у Дефо некоторые ошибки допущены сознательно, не без оглядки на Сервантеса, который, делая ошибки, говорил: «Это неважно, главное — не отступать от истины».
Вообще, исторические и географические факты Дефо старался не путать[20].
Во всем, где требовалась достоверность, он пользовался книгами, и очень основательно: Сибирь в «Робинзоне» описана на уровне новейших сведений того времени[21]. Но иногда фактическая достоверность ему не важна или даже была помехой, и вот тогда Дефо «лгал достовернее правды». Дефо действовал быстро, просто, рискованно, однако результативно. Он отвлекал читателя разными подробностями, идущими и не идущими к делу. Автор заставляет нас, говоря попросту, развесить уши. И мы доверяемся ему во всем, что только он ни скажет. Это как у фокусника: делаются таинственные приготовления, и, когда внимание публики достаточно отвлечено, платок перекладывается из одного кармана в другой. Убеждая разными бытовыми мелочами, Дефо накапливает избыток убедительности, которая по инерции выручит его и не даст читателю заметить оговорки, ошибки или пропуска, когда дело дойдет до экзотики, которой Дефо не видел своими глазами.
Власть саморазвивающегося вымысла действует по-ноздревски. Излагая залихватские россказни Ноздрева, Гоголь говорит: «Сами собой представились такие интересные подробности, что удержаться не было никакой возможности». И Ноздрев начал выдумывать и рассказывать. Он перебарщивает. Если бы Ноздрев способен был выдержать меру, то именно благодаря «интересным подробностям» достоверность обрели бы все его выдумки.
Почти всему верят перепуганные чиновники, что ни скажет Ноздрев. И тому, что замышлялось похищение губернаторской дочки и что Ноздрев был в том главный соучастник: он ведь предоставил для этого свою бричку. Мало этого, Ноздрев пускается в сугубые уточнения: «поп, отец Сидор, деревня Трухмачевка, за венчание 75 рублей». Ноздрев, казалось бы, разоблачает сам себя, допуская мелкие несоответствия и вызывая вопрос: «Кому же, наконец, ты отдал бричку — попу или лабазнику?» Однако вопрос обозначает ту же степень доверия рассказчику, когда читатель, завороженный небылицами про лилипутов и великанов, оказывает робкое сопротивление: «Кое-что малодостоверно». Ноздрев, известно, не писатель. Он обладает лишь долей дарования ко «вдохновенной лжи», к тому «нас возвышающему обману», без которого настоящее творчество также не обходится. В творчестве «обман» под контролем. Робинзон или Гулливер, фантазируя, не дадут читателю застать себя врасплох каким-нибудь неудобным вопросом. Капитан Гулливер сам, опережая вопрос, ответит, почему не захватил с собой нескольких лилипутов и почему не укажет он путь в удивительные страны. У Дефо это называлось «правдивой ложью». Робинзон по мановению Дефо расскажет больше и прежде того, чем успеет о том же подумать и спросить читатель. «Помните мою собачку?» — вдруг спросит он, заботясь о репутации правдивого рассказчика. И будет толковать про собаку до тех пор, пока наш внутренний голос не признается: «Верю всему!»
Дефо точно чувствует меру читательского доверия. Молль Флендерс плывет через океан и рассказывает вместо бури про белье. И это естественно по характеру Молль Флендерс. Но когда Робинзон, отправляясь в третьей части живым на тот свет, отказывается сообщить местоположение ада и рая, говоря: «Не мое дело», — уловка не удается Дефо, и все по той же причине: не таков Робинзон, чтобы не определить, хотя бы приблизительно, долготы и широты, даже если речь идет о преисподней. Робинзон на том свете потому и не получился у Дефо, что это был не Робинзон. Если в первой части Робинзон чего-то не знал или не мог, это была умелая игра автора в неумение героя.
Замечено: легко и просто, в двух словах, удается Робинзону все, чего не умел Дефо. Напротив, в чем Дефо хорошо разбирался, тому Робинзону пришлось учиться: Дефо мог это хорошо показать. Долго не получалась у Робинзона глиняная посуда: Дефо затевал в молодости черепичную фабрику и знал глиняный обжиг как специалист. «Я уже говорил, — рассказывает в другой раз Робинзон, — что у меня сохранялись шкурки убитых мной животных. Каждую шкурку я просушивал на солнце, растянув на шестах. Только вначале я по неопытности слишком долго держал их на солнце, поэтому первые шкурки были так жестки, что едва ли могли на что-нибудь пригодиться…» Такой ошибки не совершил бы бывалый купец Даниэль Фо, через руки которого прошло много всякого товару. Когда ему повествовательно нужно было, он ведь сразу определил, из какого материала платье носило привидение: чистый шелк. Наконец, шляпа готова. «Я сделал ее мехом наружу, чтобы она не боялась дождя». А мы уже давно поверили в сообразительность Робинзона, в его сметку, верим вообще во все его действия и, следовательно, верим в шапку, тем более что на нее затрачено столько лишних усилий. Лишние с точки зрения скорняжного искусства, те же усилия повествовательно необходимы.
Точно запущен механизм выбранного автором характера, и дальше повествование движется как бы само собой.
Следует указать и на предел правдоподобия, который Дефо не преодолевает. Ясно, что лишь на расстоянии в целый океан мог Дефо сделать интересным каждый шаг Робинзона. А чтобы заинтересовать персоной Молль Флендерс или проходимцем Джеком, их надо опустить на «дно» людского моря. Дистанция оказывается необходимой. О белье рассказывается на фоне бушующего океана. А если такой возможности Дефо не видит, он вовсе уклоняется от подробностей. «Не могу сообщить ничего особенного, — замечает Робинзон, пересекая всю Францию с юга на север, — ничего, кроме того, о чем рассказывали другие путешественники, и притом гораздо интереснее, чем я».
Эго момент принципиальный. Ничего примечательного не находит Робинзон на том отрезке своего пути, который мог быть в действительности пройден самим Дефо. Ведь в молодости он, как представитель торговой фирмы, бывал в континентальных европейских странах, предпочитая передвигаться именно так, как это делает под конец книги Робинзон: грузы идут морем, а он — сухим путем, и лишь там, где морской переезд неизбежен, он садится на корабль. Для Робинзона, рисковавшего пускаться в океан на утлом челноке, это, конечно, странно, и он этой странности вразумительно не растолковывает. Что же касается Дефо, то возможную причину его робости перед морем биографы ищут, опираясь на те страницы его книг, где весьма натурально и прочувствованно изображаются муки «морской болезни». Положим, это способно объяснить, почему воздерживался Дефо от морских путешествий, но почему не описывал он тех мест, какие все же видел собственными глазами, понять труднее. Даже его «Путешествие по Великобритании» основано в значительной мере не на личных впечатлениях, а на литературных источниках, хотя по своей стране он исколесил тысячи миль в поисках сведений для высоких патронов. Сколько «материала» попадалось ему на дороге! Лица, пейзажи, всевозможные бытовые мелочи, эпизоды и целые сюжеты — все это использовал Дефо в своих книгах сравнительно скупо. Как ни странно, именно способ повествования, им избранный и вообще наиболее развитый в его время, то есть «путешествия», не позволял ему быть подробным. Путешествуя и повествуя, легче «ездить далеко», а чем ближе к «дому», тем автору становится все труднее. Речь идет не о каких-то острых предметах, от которых Дефо предпочитал держаться подальше. Имеются в виду буквально различные бытовые мелочи, столь занимательные на острове, они у родных берегов утрачивают всякий интерес. То ведь не цензура чинила препятствия — литература сама по себе еще не способна была стать ближе к обыденному быту, чтобы извлечь из него материал для искусства.
Вот, кажется, с могильщиком в «Дневнике чумного года» читатель встречается лицом к лицу…
Шекспир холод смерти создал по контрасту: роя могилу, человек с заступом в руках поет песню о любви, а Гамлет, наблюдая его, произносит: «Неужели он не чувствует, чем занят?» Горацио высказывает соображение о привычке, притупляющей чувствительность. «Пожалуй, — откликается Гамлет, — стало быть, рука, мало делающая, более восприимчива». Этот случай, как и все окружающее, Гамлет примеривает, конечно, к своему состоянию: подобная логика ему, если так можно выразиться, на руку. Повествовательное же искусство, всегда находящееся в известном смысле в положении гамлетовском, то есть между замыслом и выполнением, мыслью и делом, предпочитает по природе своей междудействие. «Действуя, ведь уже не задумываются!» — так говорят, считая, что перу и зацепиться не за что, когда человек занят делом, не требующим к тому же особенной духовной работы. Но вот Дефо перед этой трудностью не остановился. И не пользуется он никакими резкими тонами и переходами. Шекспир рассматривал своего могильщика несколько свысока хотя бы потому, что Гамлет стоит на краю смертной ямы, а могильщик на дне ее. У Дефо же повествователь встречается с кладбищенским возницей лицом к лицу…
Желая и читателя поразить этой встречей, Дефо ничем этого желания не обнаруживает и нигде в сущности не действует в повествовательном отношении напрямую. Внешность, конечно, не описывается. Названо имя. Род занятий. Впрочем, оговорено, человек этот числится не только могильщиком, но и… Рассказано, что входило в его обязанности. Возить… нет, не обязательно возить, но помогать возить мертвых. Словом, следуют специфические уточнения. Тон простой и вместе с тем заправский. Подробно излагаются трудности процедуры: надобно прежде вытащить тело из дома да погрузить на тележку, а тележка в том месте, где работал этот возчик, не всюду могла проехать из-за узких улиц, так что тела приходилось тащить волоком, тащить надо было далеко и долго, потому что улицы были не только узкие, но и очень длинные и было их порядочно, — следует перечисление улиц. Все излагается до того деловито, как если бы надо было научить читателя тому же занятию. И, не видя вовсе этого возчика, читатель втягивается в круг его интересов и верит в него, мрачного возницу телеги мертвых, движение которой сопровождается звоном сигнального колокола, привязанного к ней.
Сам возница вовсе не мрачен, но и не беззаботен. Дефо умеет без нажима показать человека дела, вот это он знал по себе! С умением ставит он в центр стихийного бедствия простую фигуру, спокойно и мужественно выполняющую свое дело. И смерть его не берет! Дефо никакого чуда в этом не видит. Не берет — и все тут.
Но Дефо знает также, что есть мера читательского доверия, и он это доверие эксплуатирует с расчетом. Как только мы поверили в могильщика, он тут же отводится на второй план и сам служит опорой для убедительности еще одного персонажа. Это от него, от могильщика, ведет рассказ шорник, слышали о некоем дудочнике… «Представьте себе, этот дудочник играл в то время» и т. п., — казалось бы, естественно именно так приступить к рассказу. Но это и есть все равно, что просить читателей: «Верьте мне!» Никогда этого не станет делать Дефо, читательского доверия он не заискивает, но лишь не упускает случая подкрепить его.
«Говорят, дудочник был слепой, но я-то слышал от того могильщика, что он вовсе не был слепой, а просто то был темный, хворый бедняк, ходил он обычно часов около десяти вечера со своей дудкой по улицам, люди приглашали его с собой в кабаки, где его хорошо знали, подносили ему выпить и закусить, а бывало и деньгами давали, а он за это играл, пел и забавлял всех немудреной болтовней; так он и жил. Ну, в то время, как я вам уже изложил, дела обстояли так, что не до развлечений было, но дудочник все-таки шатался по улицам, как обычно, хотя он еле держался на ногах от голода, а если его спрашивали, как он живет-может, отвечал, что пока его на кладбище не свезли, но сказали, что на следующей неделе захватят». И вот как-то дудочник заснул прямо на улице от чрезмерного угощения: то ли слишком полную чарку ему поднесли, то ли живот он себе набил слишком и с непривычки наедаться до отвала заснул. Могильщик решил, что он-таки умер, положил его на тележку и повез обычным путем на кладбище. По дороге еще подбирали мертвых и клали поверх казавшегося бездыханным дудочника. Помню, заметит шорник, ехали они на кладбище у Мельничного холма. Так, между прочим он это уточнит, на всякий случай, но все-таки скажет, чтобы умели мы вообще ценить правдивые слова, когда речь ведут люди сведущие.
Ужасный груз могильщик хотел было уже свалить в яму, и тут дудочник проснулся. Выбравшись из-под груды тел, он спросил: «Эй, где это я?» Могильщик с напарником порядочно перепугались, но все же могильщик заметил: «Помилуй бог, тут есть и не совсем еще мертвые!» «Кто ты такой?» — спросил тогда смелее помощник у дудочника. Этот парень и сказал: «Я бедный дудочник. Да где я?» «Как тебе сказать, — отвечал ему могильщик, — ты ведь на телеге мертвых, а мы уж собрались хоронить тебя». «Я вроде и не умер?» — спросил дудочник, чем несколько развеселил их.
Ни урока, ни поучения не станет извлекать из этого эпизода Дефо, но лишь позаботится о том, чтобы в рассказанное поверили. Для убедительности им все сделано, и так, на всякий случай он добавит: «Рассказывают, будто дудочник, как слез с повозки, так сразу заиграл на дудке. Нет, про дудку могильщик ничего не сказывал. Он говорил просто, что живого дудочника везли на кладбище. И я ему вполне поверил», — скажет от себя шорник. А что остается сказать читателю?
Читателю не надо упускать из виду расстояния во времени: желая напугать лондонцев чумой, Дефо с придуманной им позиции очевидца изложил события более чем шестидесятилетней давности. Робинзон родился в начале 30-х годов XVII века — читали об этом почти столетие спустя. «Написано в 1683 году» — датирована исповедь Молль Флендерс: сорок лет разницы между временем действия и эпохой, когда появилась книга. В узком смысле слова Дефо и не написал ни одного «современного» романа.
Таким образом, положение рассказчика у Дефо всегда несколько осложнено; непосредственного соприкосновения с предметом в сущности нет. Всесильная мощь пера, способного схватить будничную жизнь, накопится лишь к исходу XIX века, когда, например, Чехов возьмет в руки пепельницу и скажет: «Хотите, завтра будет рассказ — заглавие „Пепельница“?» Нет, в руки взять во времена Дефо писатель еще ничего не мог. Приходилось «ездить далеко», чтоб заставить читателей видеть обычный предмет. Повествование движется с места на место, иначе автор и читатель с ним вместе попадет в положение Гулливера, разглядывающего великанов вблизи: сплошная кожа, даже не кожа, а какие-то отвратительные волдыри и язвы, и не волдыри, а вовсе бесформенные бугры и провалы. «Не написано, а наворочено», — скажет критик, наблюдающий нагромождение бытовых подробностей, остающихся потугами на правдоподобие. Но такого мнения о прозе Дефо и держался Свифт.
Естественно вспомнить Дефо и Робинзона, а потом Свифта и Гулливера, однако Свифт сказал о Дефо… трудно даже повторить, но Свифт о создателе «Робинзона Крузо» сказал: «Безграмотный писака».
Записки капитана Гулливера
Запамятовал я, как его звали.
Свифт о ДефоСоперничество столкнуло, таким образом, две крупнейшие литературные величины своего времени, хотя они невольно прокладывали дорогу друг другу. Их обоих формировала журналистская среда, запросы периодики оттачивали их приемы и стиль. Они начинали фактически вместе, в одном и том же органе, называвшемся «Афинский Меркурий, или Казуистическая газета». Газета пользовалась спросом, читали ее люди простодушные, любившие чтение поучительное и вместе с тем забавное. Именно с этими читателями беседовал Дефо обо всем на свете — о страшном суде и о семейной жизни, сохраняя внушительный тон, хотя в сущности он шутил. Этот тон воспринял от него Свифт, подкрепив его ученостью, игрой в ученость. Дефо, который был старше и, главное, держался другого направления, со своей стороны пробовал и подражать ему, и смеяться над ним. Ни то, ни другое ему не удалось. «Это тип, что стоял у позорного столба, я забыл его имя», — решил уничтожить соперника Свифт. Однако и ему победа не далась так легко. «Обозрение», которое редактирует, вернее, пишет из номера в номер от начала и до конца Дефо, имело вес. Газета Дефо и журнал «Зритель», пока в нем сотрудничал Свифт, представляли равновеликие полюсы.
Причину ссоры биографы толкуют так: не кто иной как Свифт, начал теснить Дефо в авторитете перед правительством. Историки считают возможной даже такую символическую картину: когда в приемной государственного секретаря встречают доктора Свифта, в это же время через запасную дверь из его кабинета выходит «наемный писака» Дефо.
Объясниться и найти общий язык мешали им, возможно, качества личные, натуры в самом деле безудержные. Однако, взяв за скобки личное, мы все же получим конфликт принципиальный, исторический. С презрением Свифт отмахнулся от Дефо, и в этом сказалось его высокомерие, нетерпимость, его дурной характер. Однако был тут и не случайный жест великого ума, опасавшегося движения «дна» кверху, натиска «низов».
Понятие «ум» в этом смысле принесено было эпохой Возрождения и обозначало как раз природную сообразительность, личное преимущество, в противовес сословно-наследственным достояниям. Со временем все чаще этот Ум писали с большой буквы, возвышая его над умом собственно, признавая его исключительно с особой просвещенностью, разносторонними познаниями, остротой, гибкостью — «игрой ума». С высот такого Ума, силой и сверканием которого Свифт приводил современников в трепет, он и постарался сокрушить Дефо.
В средоточии шекспировской эпохи уже оформился этот конфликт, хотя и между друзьями: Шекспир и Бен Джонсон. Шекспир в отличие от Дефо был доброжелателен, а Бен Джонсон в отличие от Свифта, глядевшего на Дефо свысока, не мог так взглянуть на Шекспира. К чести своей, он понимал это. Они были друзьями-соперниками, приятелями-противниками, воплощая разные принципы творчества и разные социальные начала. Бен Джонсон, у которого достало дружеского достоинства, проницательности и слов сказать о значении Шекспира для своего века так, что этого хватило на все времена, Бен Джонсон все же выразил великому собрату претензию, совершенно ту же самую, что Свифт Дефо, только спокойно:
Хотя твои писанья, признаюсь, Достойны всех похвал людей и муз,— То правда. Но по этому пути, Хваля тебя, я б не хотел идти, Не то пойдет невежество за мной. Пер. В. Рогова«Шекспиру не хватало искусства», — говорил Бен Джонсон, так же как сказал он о том, что Шекспир «знал мало по-латыни и еще меньше по-гречески». То не педант упрекает истинного творца, не Сальери завидует Моцарту, хотя есть тут, конечно, противостояние, нам понятное из пушкинской «маленькой трагедии». Все же Бен Джонсон доказал свое благородство в отношении к Шекспиру. «Не хватало искусства» он говорит с интонацией «О, если бы этому гению еще и отделку!» Неистовая гениальность Шекспира представилась ученому другу лишь стихийной одаренностью, силой непросвещенной и, подобно всякой «темной» силе, настораживала его.
Как ни хотел быть Бен Джонсон объективным в хвале и критике, у него все же не нашлось столько проникновенности, чтобы вполне охватить шекспировский масштаб и увидеть, насколько сам Шекспир пристально и настороженно наблюдал за игрой «природы». Ведь им создан Отелло, невольно обнаруживающий источник своей трагедии в том, что «любил не мудро». Ведь среди последних строк Шекспира, воспринимаемых как завещание, слышен и устрашающий вопль дикаря Калибана: «У-у, свобода! У-у, свобода!» Шекспир ли не говорил постоянно о «музыке в душе», о начале облагораживающем, без которого все «бесчувственно, сурово, бурно» и человек «способен на грабеж, измену, хитрость, темны, как ночь, души его движенья». Кто же, если не Шекспир, исследовал до глубин «темноту души»!
Исследовал Шекспир и силу Ума.
Не принадлежа, безусловно, к такого рода Умам, Шекспир имел их в виду, когда советовал слушать суд знатока. Он даже обозначил в меру требований таких Умов идеальное создание, образцовую пьесу, где «сцены прекрасно отобраны и сделаны столь же сдержанно, сколь и мастерски». Ни одной броской строки нет в этой пьесе, ничего, что давало бы повод упрекнуть автора в искусственности. «То был, — заключает Шекспир, — честный метод, от начала и до конца выдержанный, изящный, скорее просто приятный, чем изысканный».
Однако сам Шекспир подобных пьес не писал, и понятно почему: их никто не хотел смотреть. Эту образцовую пьесу, припоминает Гамлет, поставили, кажется, всего один раз. Зрители зевали, если только их критика не выражалась каким-нибудь более чувствительным способом. Нет, хозяин театра «Глобус» писал так, что партер, где помещалась публика попроще, неистовствовал от восторга. Еще бы! По сцене расхаживал, отпуская шуточки, сам Джон Фальстаф с дружками. Завсегдатаи лож, законодатели вкусов, внимательно вслушивались. Актеры играли с удовольствием: исполнители и публика как бы подзадоривали друг друга[22]. Положим, какой-нибудь знаток морщился, находя в пьесе шероховатости и несообразности, в особенности по части истории и географии. Но, как говорили о Шекспире, «он писал для народа», сразу для всех, всякий находил в его творениях что-нибудь по своему разуму и вкусу. Королевский двор требовал целую пьесу о Фальстафе, которого так полюбил простой партер. Шекспир, как и всякий гигант, писал, выполняя программу, обозначенную символом его театра: Геркулес подымает земной шар.
Спор между стерильным совершенством и живым творением всегда в конечном счете разрешают исполины. Цельность традиции устанавливается в масштабах истории. Современникам, даже выдающимся, такой мерой пользоваться трудно, и они, оказываясь рядом в веках, при жизни часто сталкиваются, как это было между Дефо и Свифтом. Тут возможна ситуация, которой историки придают символический смысл: приходит Свифт, уходит Дефо.
Метавший громы и молнии в защиту простого люда, Свифт, конечно, и подумать не мог о том, чтобы снизойти в своих писаниях до более или менее широкой публики. Он презирал Дефо даже за его популярность. Но «Путешествия Гулливера» прочли все, кто тогда мог и имел привычку читать. То был решительный шаг Свифта к сближению с Дефо, не в личных отношениях, конечно, но в принципе, в истории, в перспективе литературного развития: по одному пути пошли моряк из Йорка Робинзон Крузо и корабельный врач Лемюэль Гулливер.
Свифт хотел смести с лица земли все эти россказни о «приключениях», в том числе робинзоновых. Прекрасно понимая, как это делается, он взялся писать «Путешествия Гулливера» с той же, так сказать, «достоверностью». «Все произведение, несомненно, дышит правдой», — обещает на первой странице «Гулливера» фиктивное лицо, вымышленный издатель. Под его пером все тот же повествовательный способ начал действовать как бы сам собой, и в Гулливера поверили, как верили и в Робинзона.
Припомните для примера шляпу Гулливера. Ведь Свифт взялся играть мнимой достоверностью мелочей, чтобы разоблачить такую достоверность. Простодушно-доверчивых он терзает видом подробностей вовсе излишних. Но, говорит Гулливер, поступить иначе он не может, коль скоро им взята на себя роль правдивого рассказчика. Лилипуты доказаны, через множество последовательных мелких ощущений и замечаний выстроен лилипутский мир и в нем — Гулливер, пропорционально, материально-достоверно. Уже составлена лилипутами опись всех предметов по карманам Гулливера, и завершилась эта процедура особенно убедительно опять-таки «обратным ходом»: лилипуты осмотрели все досконально, за исключением, правда, одного заднего кармана Гулливеровых брюк, куда не сочли возможным их пустить, там лежали очки и еще некоторые предметы, существенные для надобностей обычного человека и не представлявшие вместе с тем никакого интереса для лилипутов. Чего же еще? Какой еще убедительности нужно? Мы уже готовы, веря всему, всмотреться пристальнее в лилипутскую жизнь, обретшую в наших глазах объем, цвет, движение, словом, жизнь, как вдруг: найден черный округлый предмет неподалеку от того места, где незадолго перед тем нашли лилипуты спящим самого Гулливера. «Я сразу понял, о чем идет речь… Моя шляпа».
Конечно, Робинзон и Гулливер — люди разные, хотя одна и та же эпоха, поставив на них свою печать, сделала их похожими. Гулливер на протяжении всей книги не меняется, он лишь постепенно, от плавания к плаванию, показывает, что он за человек — отважный, спокойный, пристальный наблюдатель. Иное дело Робинзон, который, как и все герои Дефо, пройдя жизненный искус, делается другим или, по крайней мере, хочет стать другим. Оба повествуют о своих злоключениях довольно невозмутимо, только у Гулливера позиция заведомо прочная с самого начала. Себе самому Гулливер ничего не доказывает, он лишь сверяет путевые впечатления со своим ясным, глубоким взглядом на вещи, изначально дарованным ему судьбой, общественным положением. Сын состоятельного джентльмена, прошедший выучку на нескольких европейски прославленных факультетах, Гулливер отправляется путешествовать, понимая свою участь, осознавая судьбу. Совершив несколько плаваний и обзаведясь капиталом, Гулливер покупает в Лондоне дом и женится на дочери состоятельного торговца трикотажем — в точности такого, как Дефо[23]. О, для Дефо Гулливер был бы желанным зятем! Дефо был счастлив, когда любимую дочь ему удалось выдать за книготорговца, образованного и даровитого молодого человека: ступень в достижении жизненной цели Дефо. Он мечется, ищет, добивается, утверждает себя, и тем же намерением утвердить себя, доказать всему свету, каков ты, движимы герои Дефо. А Гулливер таких людей рассматривает спокойно, вроде как лилипутов, лапутян или, еще хуже, иеху. Человек-пигмей перед ним или великан, образованный тупица или дикарь, Гулливер прежде всего зажимает нос и принимает прочие меры предосторожности, чтобы не оказаться к этому существу в чрезмерной близости.
Но мизантропия Гулливера не односторонняя, она имеет своим источником необычайно требовательную меру во взгляде на человеческий материал. Просмотрев панораму истории, Гулливер выбрал ровным счетом шесть истинно достойных фигур — ядро разума, чести, доблести, немногочисленную, но отборную фалангу героев, начинаемую республиканцем Брутом и завершенную (ко времени Свифта) Томасом Мором, автором «Утопии», который поднимаясь за свои убеждения на эшафот, подбадривал палача.
Та же требовательность является и подоплекой поступков Гулливера и создает двойственность впечатлений от них: легкость, ненатужность, с какой делает все Гулливер — берет ли в плен целый флот или рассуждает, — и в то же время его постоянная несвобода.
Психологи, точнее, психоаналитики, для которых Свифт — благодатный материал, разобрали до наивозможных подробностей его натуру, но почему-то не обратили внимания на постоянство этого мотива в книге: Гулливер все время привязан или, по крайней мере, соединен множеством связей с окружающим. В комментариях отмечается лишь, что у Гулливера на левой ноге, когда его приковали к стене, «тридцать шесть висячих замков»: по числу политических группировок, в пользу которых Свифту пришлось писать свои памфлеты[24]. Но ведь прикованным, привязанным, связанным на разные лады Гулливер оказывается во множестве случаев. «Я хотел встать, но не мог пошевельнуться, — рассказывает он о своем пробуждении у лилипутов, — я лежал на спине и чувствовал, что мои руки и ноги с обеих сторон крепко привязаны к земле и точно так же прикреплены к земле мои длинные и густые волосы; а все мое тело, от подмышек до бедер, опутано целой сетью тонких бечевок». Чтобы перевезти Гулливера с морского берега в город, лилипуты тянут его бесчисленными канатами на телегу и привязывают к ней. Точно так же и лапутяне поднимают неутомимого путешественника на свой летающий остров с помощью веревок и блоков. Дважды Гулливер оказывается в руках у морских разбойников, и они скручивают его по рукам и ногам. Великанам незачем связывать ничтожное существо, однако у них, в Бробдингнеге, Гулливер ежеминутно подвергается опасности быть стиснутым, прибитым, раздавленным; он тонет в молоке, вязнет в коровьем помете, великанский карлик запихивает его в обглоданную кость; с самого начала сажают его в ящик, а в итоге Гулливера страшит перспектива, что ему подыщут супругу, женят и детей их, словно диковинных зверушек, будут показывать в клетках. У великанов, в огромном мире, Гулливеру в сущности так же тесно, как и на улочке лилипутской столицы.
Все это путы, тиски буквальные, видимые, а сколькими обстоятельствами, обязательствами Гулливер связан символически, формально, какое давление, пусть нематериальное, но могучее и всестороннее, он испытывает! Постоянный надзор, толпы любопытных, угрозы нападения, интриги; его могут или отравить, или ослепить, или съесть. У лилипутов Гулливер «получает свободу» на основе договора из девяти пунктов, где с той же определенностью, что и длина цепи, означено: «Человек-гора не имеет права… должен… обязуется…» Опасности, да и небывалые звуки, запахи, новизна впечатлений, которые накапливаются у Гулливера во время удивительных странствий, держат его зрение, обоняние, слух, нервы в постоянном и до крайности повышенном напряжении. Наконец, Гулливеру суждено испытать неудобство и стыд еще от одной связи — его уличают в очевидном родстве с ужасными йеху. И это сходство тяготит его настолько, что он, вроде Мюнхаузеновой лисицы, только добровольно, готов выскочить из собственной шкуры и отречься от своего естества.
Однако если оставить пока в стороне этот последний, особенный случай, то надо сразу же признать, насколько просто и мужественно переносит Гулливер всевозможные стеснения. Стрелы тучей летят в него, выпущенные лилипутами, и жалят булавочными уколами. Характерен в этот момент жест Гулливера: он поднимает руку, стараясь сберечь глаза. Ни напряжения, ни отчаяния нет в его движении, он держит ладонь у лица так, словно решил заслониться от чересчур резкого солнца всего-навсего, а не спасти себя от тысячи чувствительных уязвлений. Свою историю Гулливер излагает обстоятельно и методически, мы тем более верим всему в его устах, что он не забывает ни событий, ни мелочей. Как проходило плавание, как очутился он в неведомой земле, как мог спастись, объясниться с туземцами, как он ел, пил и пр. В то же время Гулливер ни о чем особенно, прежде всего о своих лишениях, не распространяется и всякий раз с тактом опускает подробности, которые могут причинить читателю хотя бы подобие им самим испытанных неудобств, так же, как великодушно освобождает он от веревок отданных ему на расправу лилипутов. Выразительный, однако немногословный в речах, Гулливер не указывает прямо на источник такой нравственной выдержки. Но, кажется, можно догадаться, где он: в глубоком сознании своего положения — судьбы Гулливера, если взять это имя в значении, сделавшемся нарицательным. И вот Лемюэль Гулливер, корабельный врач, а потом капитан, подымается, как настоящий «Гулливер», как гигант, во весь рост, несмотря на то, что, таким образом он становится удобной мишенью для стрел, для насмешек, хотя ему и приходится, раз он Гулливер, влачить за собой груз бесчисленных обязанностей, долженствований, забот. Ни о прощении, ни о сочувствии, даже терпя позор, Гулливер не просит читателей, полагая, что его, по крайней мере, поймут, как вполне понимает совершающееся с ним он сам, Гулливер.
Человек-Гора должен тянуть разом все, отзываясь каждым нервом, каждым мускулом на новые и новые контакты с окружающим. Нужда, обстоятельства, наконец, страсть к путешествиям гонят Гулливера в очередное плавание, тоска по родине и семье зовет его обратно — домой, а между этими полюсами, там, в неведомых странах, он под натиском новизны едва успевает поворачиваться, чтобы во всяком случае встретить неожиданность, злую или добрую, лицом к лицу. Мысль его пульсирует четко и без устали. Вот какая-то невероятная сила подняла Гулливера в игрушечном домике над землей. Гулливер осмотрелся, прислушался, подумал: «Должно быть, орел…» И тотчас, едва успел он, насколько возможно, освоиться с новой сферой своего движения, все изменилось: наверху раздался шум, удары (Гулливер еще раз удостоверился: «орел»), и ящик со страшной быстротой начал падать. Оглушительный всплеск, мрак, потом вновь подъем и — в окнах свет. «Тогда я понял, — отмечает Гулливер, — что упал в море». Он подумал и понял, а между тем дважды кряду от немыслимого подъема и падения у него, как он сам говорит, захватывало дух. Мало ли что! Гулливер должен успеть обо всем подумать — еще одно бремя Гулливера. На протяжении книги Гулливер не однажды поддается несколько неопределенному колебанию чувств, однако он вскоре овладевает собой и обдумывает происходящее.
Упрекнуть в рационализме и сухости его нельзя, через два с половиной месяца после великанов отправившегося на поиски новых приключений! И, заметим, в каждой чудесной стране Гулливер обращает внимание на все стороны жизни: он наблюдает за всем, ему все любопытно, все находит у него отклик и суждение. Другой вопрос, что в меру странной судьбы изящная, лирическая часть чувств оказывается для Гулливера практически недоступна. Ему остается страх, отчаяние, робость и т. д. — чувства слабости, а он, Гулливер, не может позволить себе ослабеть ни на минуту. И все усилия, умственные, нервные и физические, он переносит как само собой разумеющееся, ибо едва попробует он жаловаться, как естественность его положения Гулливера, человека-горы, обратиться в позу и утратит свой смысл.
«Нормальный человек, брошенный в мир безумия и нелепости, единственно реальный мир», — такова философско-психологическая концепция «Гулливера»[25]. Для самого Свифта так. Но Гулливер эту концепцию нарушает. Прежде всего он дает себе труд соразмерить свои усилия со всяким новым для него окружением. Вернувшись из Бробдингнега, страны великанов, и проезжая по дорогам Англии, Гулливер заботливо кричит соотечественникам, чтобы они посторонились: привыкший к другим масштабам, Гулливер боится их раздавить. Свифт действовал иначе.
«Это было очень трудно», — говорит о домашней беседе со Свифтом скромный его современник, миссис Пилкингтон, жена священника в дублинском соборе св. Патрика, где Свифт был деканом. «Правда, — продолжает миссис Пилкингтон, — старик был в хорошем настроении, но приходилось все время думать, как бы не попасть впросак». Известно, «никто не герой в глазах своего лакея»: обывательский взгляд и великана способен представить ничтожеством, измельчив его фигуру в естественных и бесчисленных человеческих слабостях. Однако подобная точка зрения, безусловно, содержит и свою достоверность; соотнеся должным образом показания «лакея» с тем, что во всем объеме о великане известно, можно получить существенный результат для суждений о нем. То, что простая память Никифора Федорова сохранила о Пушкине, то, что Сергей Арбузов сумел записать о Толстом, стоит в ряду лучших мемуарных портретов, сделанных с наших величайших писателей. Как, например, раскрывается Толстой, когда, подделавшись под мужика и остановившись на ночлег в третьеразрядной монастырской гостинице, он велит Арбузову, чтобы сосед по номеру не храпел, не беспокоил его, — это мог видеть только слуга. И он смотрит на это без дальних мыслей, как на должное для графа и своего господина, давая возможность людям понимающим поставить непредвзятое свидетельство в систему общих представлений о Толстом, писателе-гиганте.
«Да, с ним очень трудно!» — вздыхает миссис Пилкингтон, и ей нельзя не сочувствовать. Странные, просто дикие вопросы, странные приемы обхождения, то грубость в лицо, то чересчур замысловатый комплимент — «ужасный старик, доктор»! Зачем же он мучает этих людей, зачем он их-то держит в напряжении? Разве так поступал Гулливер?
Что миссис Пилкингтон и ее супруг! Вот свидетельство более авторитетное — создатель «Робинзона Крузо» Писал о Свифте: «Мне известно, что этот человек свободно говорит по-латыни, что он ходячий свод книг, что все библиотеки Европы содержатся у него в голове, но… в то же самое время по образу своего поведения он циник, по нраву — ненавистник, невежлив в разговоре, оскорбителен и груб в выражениях, безудержен в страстях…» Таково было мнение Дефо. На это могут заметить, что, во-первых, Дефо судил о Свифте, скорее всего, понаслышке, во-вторых, Свифт в ту пору не был еще создателем «Гулливера» и вообще неприязнь между Дефо п Свифтом развилась из-за политических, религиозных распрей и не касалась их великих книг. На закате своих дней Дефо еще раз набросал портрет «ученого доктора С.» (то есть Свифта): «Он способен читать проповеди и молитвы поутру, писать всякие пакости пополудни, понося небо и веру, и сочинять глупости по ночам, а утром вновь проповедовать и т. д. в соответственном коловращении крайностей». Что ж, хотя это и написано уже после того, как «Путешествия Гулливера» не только были изданы, но успели прославиться, все-таки надо признать, «Гулливер» и Свифт «Гулливера» здесь не затронуты. Тем лучше, тем яснее видно очерченное безошибочным пером все то, что Свифт сумел перебороть, переработать в себе, чтобы создать «Гулливера».
«Истинный гений приходит в мир, и его явление сразу становится заметным по тому, как все дураки ополчаются против него», — так сказал Свифт, отбросив бичом своего слога толпы педантов и насмешников. На кого он тратил силы? Он, кто видел к себе добро и участие, жертвенную верность в любви, перед кем заискивали вельможи и даже короли; он, кого так чтили друзья, невзирая на тяжелый его характер, кого поддержали дядя Стерна и дед Шеридана (в ту пору, когда будущие знаменитые писатели еще не явились на свет); он, кого все, с чьим мнением следовало считаться, без оговорок еще в молодости признали гениальным. На кого же он копит злобу?
«Вы глупы, Пилкингтон!» — сказал Свифт рядовому коллеге; «Безграмотный писака», — определил он идейного противника, который оказался Даниелем Дефо, — вот последовательность натуры. И это натура Свифта, написавшего «Гулливера».
Рукопись «Путешествий» утеряна. Известно только, что Свифт вынашивал свой шедевр долго, трудился над ним тщательно и что главный период работы над книгой пришелся на крайне тягостную пору в личной жизни Свифта. Последнее обстоятельство опять-таки очень показательно.
В другую эпоху, почти через полтораста лет после Свифта, его соотечественник, хорошо нам известный Р. Л. Стивенсон, написал небольшую, но глубокую повесть о природе человеческой. Он искусно разобрал некий «странный случай» с доктором Джекилем, который задался дерзкой целью определить, сколько же в нем, благородном и гуманном человеке, содержится зла? Опыт удался, и Джекиль воплотил свою подлость в маленьком, отвратительном существе — мистере Хайде. Свифт, можно сказать, проделал над собой иную операцию: созданием замечательной фигуры Гулливера он исторг из себя добро, все лучшее. И Гулливер, хотя, строго говоря, он человек нормальных размеров, в читательском мнении по справедливости стал гигантом.
Разве, однако, «Путешествия» не злая книга? Злющая. Дураки, подлецы, вообще вся нечисть, большая и малая, на которую равно тратил свою ненависть Свифт, беспощадно здесь выставлена. Но на тех же страницах на глазах у читателей злоба как начало преодолевается. Она преодолевается прежде всего простым и добротным складом натуры Гулливера. Его мнение, мысли, чувства, все его состояние целиком подчинены внутреннему рисунку, ясно выступающему вначале. Много часов Гулливер пролежал, по рукам и ногам связанный, и вот наконец его доставили в лилипутскую столицу, приковали к стене, обрезали веревки… Гулливер поднялся. На душе у него донельзя мрачно. И понятно: ноют затекшие члены. И взгляд его мрачен. Крики толпящегося где-то внизу и потрясенного народа еще больше усугубляют мрак. Гулливер прошелся, размялся, посмотрел вокруг и — «должен признаться, — говорит он уже совсем иным тоном, — мне никогда не приходилось видеть более привлекательного пейзажа. Вся окружающая местность представлялась сплошным садом…», и Гулливер стал совсем другим, он забыл недавние тяготы своего положения, он всматривается в новый для него вид, который правильным чередованием садов, полей и перелесков, наверное, напоминает ему в миниатюре родную Англию. Мрак рассеялся — открылась перспектива.
Лишь однажды кажется, будто Гулливер в злобе на человечество доходит до предела. Это когда он попадает к йеху. От этих двуногих тварей исходит сплошной смрад. Недаром, однако, есть сведения, что эту часть «Путешествий» Свифт написал во время длительной поездки верхом. Как и Дефо, заядлый лошадник[26], великолепный ездок, которому в молодые годы предлагали с успехом служить в кавалерии, Свифт не бросился от мизантропического отчаяния в образцово устроенную страну, какую-нибудь механическую республику (над этим он успел посмеяться, он также в это не верит). Нет, Свифт сделал противовесом йеху — гуигнгнмов, лошадей, то, что было близко ему самому, что составляет у англичан национальную страсть. Не где-то, в абстрактных построениях и принципах, ищет он жизненной опоры, но все там же, в родной почве. Ведь каждый раз Гулливер все-таки возвращается домой, хотя его создатель, «ученый доктор С.», имел как-то непростительность воскликнуть:
сбежать бы из страны глупцов, Страны рабов и подлецов!Именно особам, объятым такой гордыней, Гулливер, завершая свои «Путешествия», не советовал попадаться ему на глаза. Да, позиция Гулливера столь великодушна и величественна, что и сам Свифт не всегда оказывается способен дотянуть до нее.
Автор «Гулливера» думал, что «закроет» жанр «путешествий». Много стараний приложил Свифт, чтобы, выдавая от лица вымышленного издателя книгу, которая якобы «дышит несомненной правдой», издеваться над точностью и достоверностью всяких путевых записок. А ему поверили, почти поверили! Избыточная сила достоверности и убедительности действовала со страниц «Гулливера».
Робинзон, а следом за ним Гулливер остались непревзойденными. Минула впоследствии не одна эпоха «великих открытий», которые заставляли человека испытывать совершенно новые для него состояния. Однако никто из писателей не сумел так подробно и в то же время монументально передать поведение и переживания в неимоверных условиях, как сделали это Дефо и Свифт, завершая эпоху, постигшую, что Земля — шар и что по ту сторону морского простора лежит еще один Свет. Литературе требуется время, и она еще освоит и воплотит через личность какого-то нового Робинзона овладение океаном небесным или же проникновение в тайны времени и вещества.
Конечно, появились с тех пор и капитан Немо, и невидимка-изобретатель, и героические авиаторы, однако и на них заметна тень, отбрасываемая все той же фигурой, которая меряет дни зарубками на столбе или бежит в страхе от следа на песке. Тень от фигуры Робинзона, падающая на всю последующую литературу о приключениях, поисках, о достижении новых рубежей, потому так длинна, что — если мерить масштабами истории — Западная Европа еще не вышла из полосы «нового времени», начавшегося с буржуазных революций XVII столетия. Огромный пласт, как обвал, ушел в пропасть истории прямо за плечами у Робинзона — века феодализма. А перед ним будущее, остающееся и теперь современностью.
«Естественная свобода простого письма»
Увлекательнейшими страницами мне кажутся те, где описывается, как Робинзон перевозил с погибшего корабля на остров провиант, вещи, всякие запасы. (Автор дает точнейший список продуктов с указанием количества, веса, штук и пр.)
Юрий Олеша (1934)После Дефо литература, продолжая свое движение вместе со временем, не раз возвращалась к автору «Робинзона», как бы сверяясь с нормой.
Среди энтузиастов Дефо были свои пристрастия. Большинство ставило вне сравнения, конечно, Робинзона, но иногда говорили: «И без Робинзона…» А некоторые даже считали, что вовсе не книга о Робинзоне — высшее достижение Дефо как первого мастера английской прозы. Что же тогда? Зависят эти суждения от того, что ищут в Дефо. Робинзон — роман о современнике, о его странствиях и борьбе. Понятно поэтому, что этот роман и привлекал тех, кто размышлял о «детях века». Но вот, например, Вальтер Скотт, романист исторический, интересовался больше хроникой Дефо о чуме, видя в ней открытие жанра, классиком которого сделался он сам. А, скажем, для Вирджинии Вулф это был автор «Молль Флендерс» и «Роксаны». Вполне объяснимо: ведь это ранние опыты психологического портрета, а Вулф считалась одним из мэтров новейшей психологической школы.
Разумеется, так читали Дефо преимущественно писатели, они вычитывали в нем некоторые предвидения современного литературного ремесла[27]. Ничего равного первой части «Приключений Робинзона» у Дефо, безусловно, нет; однако есть у него в других книгах страницы или хотя бы строки, где в самом деле он шагнул дальше повествовательной «техники» Робинзона и своего века вообще, по крайней мере, наметил, куда можно бы шагнуть. Ясно, в начале нашего столетия «Роксана» читалась как роман современный, потому что стоит убрать из некоторых признаний «удачливой возлюбленной» точки и запятые, как получится внутренний монолог, похожий на такие же, внутренним голосом произносимые, признания из современного романа.
Вот поцелуй, он занимает несколько страниц. Нет, Роксана лишь коснулась щеки своей дочери, и длится поцелуй мгновенье, однако за это мгновенье человек успевает столько передумать, что хватит, пожалуй, и на целую главу. Дефо еще не удается передать многих оттенков мысли, а все-таки не мысли, так соображения, их перекрестный и прихотливый ход, уже прослеживаются. В подробности поведения, даже очень мелкие и, казалось бы, случайные, Дефо всматривается с таким вниманием, придает этим подробностям такое значение, так ценит их, как литература долго еще не могла научиться ценить. После чтения «Роксаны», появившейся в 1724 году, Вирджиния Вулф вышла на улицу Лондона 1919 года и вдруг поймала себя на том, что видит прохожих глазами Дефо. «Как же он действует двести лет спустя!» Дефо гипнотизирует, заставляя и современного человека смотреть его глазами, хотя бы потому, что он и в свое время не только описывал, но умел изобразить. Чтобы показать некую женскую фигуру, он отметит, как падал свет и сколько примерно стоило платье, — удивительно правдоподобные провалы и прыжки восприятия, известные, конечно, давно, однако литературой освоенные вполне совсем недавно. Взгляд, брошенный украдкой, как-нибудь из-за плеча, мысль на полдороге — этим уже интересуется Дефо, автор «Роксаны», хотя истинным первооткрывателем всевозможных психологических полутонов явился младший современник Дефо — Лоренс Стерн: его-то Пушкин и назвал за чрезмерную даже психологическую дотошность «несносным наблюдателем». Уж он с полным самоотчетом поставит своего героя на пороге и, вынудив секунду задуматься, так и продержит его до конца главы.
Дефо присматривался не столько к мысли, сколько к морали, он, может быть, и не подозревал, как близко подошел к поистине бездонной пропасти «нашего темного я», если выражаться языком психоаналитиков. Роксана и ее компаньонка Эми попали на корабле в шторм. На коленях, в страхе близкой гибели они молятся о своих прегрешениях. Дефо рассматривает эпизод взглядом моралиста, он лишний раз убеждается в том, насколько же шатки духовные основы ходячей нравственности: обе авантюристки, истово восклицая, все же не дают голосу совести прозвучать так громко, чтобы их услышало небо и тем более окружающие. Однако глаз у Дефо точен и перо послушно точности наблюдения, получается живая психологическая зарисовка: схвачены существенные сложности в расчете человека с самим собой, отмечены границы самопризнания, дальше которых человек не намерен, не хочет или просто не может двигаться.
Словом, мастерству Дефо, которое не разглядели, не оценили критические авторитеты его времени, признавшие за автором «Робинзона» лишь стихийное дарование, было воздано должное. Образцом простоты и убедительности начинают почитать Дефо среди законодателей повествовательного искусства. В прозе Дефо нашли пример безыскусного мастерства, идеал естественности.
Иногда даже слишком, в меру одной только моды на «простоту» новейшие эстеты восхищались у Дефо тем, что не признавали утонченные ценители его времени.
Прозаик новейшего времени смотрел на протокольную простоту Дефо уже с некоторой завистью, потому что в пору непрерывных разговоров о «простоте», «объективности» и «невмешательстве» автора повествование становилось чем «проще», тем манернее. Устранившийся, казалось бы, автор в итоге мозолил читателям глаза своим присутствием в каждой строчке. «И я пошел завтракать, я просто пошел завтракать», — в 1900-х годах писал Джозеф Конрад, еще добиваясь живого контраста между обычным занятием (завтрак) и совсем не простым, нервозным, состоянием рассказчика. Позволяя герою сказать «я просто пошел», автор вызывал у читателей доверие к ситуации хотя бы тем, что этот «я», бывалый капитан, сам до известной степени чувствовал, насколько все не просто. Но чувствовал он это все-таки не до конца, оставляя пространство, достаточное для того, чтобы в нем умещались и авторский намек, и читательское додумывание. Все же и эта недоговоренность заключала в себе манерное умолчание, нарочитую сдержанность. Неполный выход повествовательных сил был вынужденным, то была экономия средств повествования из-за нехватки естественной содержательности; приходилось усиленно нагнетать значительность. А еще лет через двадцать Юрий Олеша вспомнил простодушный стиль Дефо, желая проверить, как же это получалось одно только перечисление предметов просто и значительно, ибо сделалось уже вовсе невозможно «просто пойти»: каждый шаг выглядел нарочитой поступью, нечто подразумевающей. У Конрада человек делал вид, будто идет завтракать, а на самом деле он вовсе не просто шел завтракать. Позднее же в многозначительной прозе образовалось дурное противоречие: человек просто завтракает, а вид делает, что это совсем не просто. Восхищаясь простым перечислением вещей в «Робинзоне», Юрий Олеша отметил это как «обдумывание приема», что нашел он и у Толстого в похожем перечислении. Но на что прежде всего обращал внимание в книге Дефо Толстой?
Толстой всю жизнь размышлял над судьбой Робинзона. Думал он и о собственном произведении, действие которого развертывалось бы «на фоне робинзоновской общины». В записях Толстого стоят рядом имена его задушевного героя Нехлюдова и Робинзона. Робинзон, «русский Робинзон», однажды даже приснился Толстому. Незадолго до смерти Толстой ставит в дневнике: «Робинзон» — и пишет, что обдумывал «самое старое», то есть занят был одним из постоянных предметов своей мысли.
Робинзон, как говорит Толстой, — это «нормальный человек». В частности, сказывается это в том, что ему, по словам Толстого, не «приходилось придумывать себе занятий». Не надо долго разъяснять, насколько автобиографический адрес имеет это замечание в устах Толстого, конечно же занимавшегося постоянным придумыванием занятий себе (помимо литературы). Как глубоко вообще затрагивала Толстого эта проблема, говорит сопоставление Тушина и Пьера в «Войне и мире»: служебно-деловое, а потому естественное положение Тушина и добровольно на себя взятая экспериментально-наблюдательская, в сущности придуманная позиция Пьера. Точно так же Толстой видел разницу, которую, впрочем, в своих попытках «робинзонить» не всегда мог устранить, — разницу между положением Робинзона и многочисленных робинзонов, старавшихся повторить его опыт[28]. Именно опыт, эксперимент!
Разница эта отчетлива в судьбе Дефо-малого: писателя, который творил в традиции «Приключений Робинзона», но только не в тех масштабах. Речь идет, разумеется, о Стивенсоне, создателе «Острова сокровищ». Вот кому удалась литературная игра в море, бури, корабли, пираты и пр.[29] Это квинтэссенция литературности, до совершенства отделанная одна грань наследия Дефо. Более того, это игра живая — без умствования, характерного для позднейших «интеллектуальных игр». Жизненность стивенсоновской позиции объясняется тем, что пусть в пределах детской, библиотеки и кабинета, однако неподдельно, по-своему насыщенно, безо всякой надуманности жил Стивенсон. Потому так заразительны его «игрушечные» книги. Но едва только пытался он выйти за положенные ему пределы, как и на его сочинениях возникала выморочная печать.
Стивенсон мечтал создать на своей, шотландской, основе характер, который встал бы рядом с Робинзоном. «Я, Дэвид Бальфур, вышел 25 августа 1751 года около двух часов дня» и т. д. — начинает «Катриону» Стивенсон, ступая на тот повествовательный путь, который был некогда открыт строками: «Я родился в 1632 году в городе Йорке…» Но как получить столь же естественное и весомое «я»? Сила Дефо в причастности, в осознанной причастности к истории, в умении видеть момент современный исторически. Естественно, что сила Дефо в его гении, но гению и бывает такое чувство причастности свойственно, меньшая натура не вместит то же чувство. Разве у Стивенсона не было причастности, у него, кто, «издавая клич своего клана, потрясал копьем на пограничной земле»? Добавить надо: «как бы потрясал», — и не потому только следует это добавить, что «потрясал копьем» Стивенсон исключительно в собственном воображении, а потому, что игра воображения в этом случае была слишком условной, придуманной. Она была тем, что сам Стивенсон называл «героической бутафорией». Была у него наследственная гордость, но была также игра в историю, в предков, в «пограничную землю», в то, во что уже играть нельзя так, как можно играть в «приключения» и пиратов. И когда с оглядкой на Дефо и Робинзона Стивенсон старался начать эпически: «Я, Дэвид Бальфур…» или «Мне хочется начать рассказ о моих приключениях…» («Похищенный») получался всего-навсего еще один вариант литературной игры, великолепно Стивенсону удавшейся однажды, но тогда же, в «Острове сокровищ», исчерпанной.
Стивенсон не только вчитывался в «Робинзона» («Хотел бы я писать, как Дефо!» — говорил он), он, кроме того, пробовал практически «робинзонить» (по Руссо) и к тому же еще толстовствовать. (В принципе, все та же линия, восходящая через влиятельных истолкователей к Дефо.) Это «не детская» и малоизвестная сторона деятельности Стивенсона. Иногда даже говорят, что в ней-то и раскрылся истинный, «серьезный» Стивенсон. Но «серьезность» в данном случае, как и претензии на «пограничную землю», определяется худосочной мерой потуг, а не достижений. Вполне серьезное по намерениям, робинзонство Стивенсона не было воплощено творчески серьезно, если считать, что творческая серьезность достигается при гармонии замысла и выполнения (как получалось у Стивенсона в самых легких, «игрушечных», «несерьезных», по видимости, вещах).
Дарование само по себе измеряется основательностью жизненной позиции, глубиной корней, какие могут быть, конечно, и у человека, творческого дарования лишенного, однако дарования без корней не существует. Точнее, такая литературная способность без корней и выражается поверхностно. На большее она не способна. Случайный, как бы нахватанный материал так и остается, так и выглядит нахватанным. Стивенсон проверил это на собственном опыте, на всем том опыте, который он, помимо опыта органического, старался экспериментально освоить.
В «Острове сокровищ» мы не чувствуем ни нахватанности, ни даже заимствований, хотя уже эта книга почти целиком вычитана: от острова до попугая, которого вместо «Бедный Робин Крузо!» научили кричать «Пиастры! Пиастры!» (У Робинзона только что карты не было, зато она имелась у Гулливера.) Но в том-то и дело, что Стивенсон не нахватал все вдруг, откуда попало, а глубоко знал, содержал этот книжно-вымышленный мир в своем сознании. Пусть он, подобно Дефо и Робинзону, изменил до известной степени семейной традиции и, вопреки желанию отца, не стал строителем маяков, однако о бурях и рифах пишет он пером потомственно морского человека. Отсюда и черпает убедительность «правдивая ложь».
«Мама, — сказал однажды маленький Стивенсон, подойдя к матери с каким-то собственным рисунком, — тело я уже нарисовал. Хочешь, я теперь нарисую душу?» Этот мальчик, когда вырос (на «Робинзоне Крузо»), и написал «Остров сокровищ». Но когда тот же мальчик, сделавшись взрослым, пробовал робинзонить, из него получался не путешественник-первооткрыватель, а в лучшем случае турист. На таком искусственно сочиненном пути его подстерегали реальные опасности, был даже риск для жизни, и все же изначальная надуманность сказывалась и само страдание получалось всего лишь экспериментом.
Вот он, «эмигрант-любитель» (так у Стивенсона названа целая книжка), плывет в Америку с настоящими переселенцами. Он разделяет с ними, казалось бы, все тяготы пути и все-таки лишь играет в «тяжелое плавание». Как человеку болезненному и слабому физически, эмигранту-любителю приходится, может быть, даже тяжелее, чем эмигрантам поневоле. А все-таки это судьба для них, для него игра, они живут, он экспериментирует, И (к чести Стивенсона, надо сказать) видит разницу, Стивенсон писал о своих спутниках: «Такие жизни обладают в своих масштабах притягательностью „Робинзона Крузо“, ибо все в них голос самой судьбы и жизнь человеческая открывается во всей своей обнаженности, до крайних пределов своей сущности».
Строки эти — принципиальный момент в истории литературы, хотя они, как и вся книга «Эмигрант-любитель», в свое время опубликованы не были. Но важно, что они были все-таки написаны, что была осознана и выражена позиция, с которой отчетливо видна разница между приключением в том старинном, робинзоновском, смысле и «приключением» — забавой новейших времен. Вместо «приключения» можно сказать «жизненный опыт», вкладываемый писателем в творчество.
Стивенсон — действительно новый Дефо, меньшего масштаба и другого времени, однако занимающий то же положение «первого» во многих отношениях. Стивенсон — вообще фигура принципиальная, хотя его, как и творца «Робинзона Крузо», часто представляют себе по-детски. Неважно, что книги его изящны и легки, как игрушки, это модели, с превеликим умением и тщанием сделанные модели «больших книг». Стивенсон, как и Дефо, — один из первых писателей-профессионалов, стоящих уже непосредственно у истоков нашего века, когда «литературная жизнь» приняла в буквальном смысле слова «современный» облик. У него, в частности, практическое робинзонство приобрело характер «творческого поведения»; оно стало приемом, способом добычи материала, средством поисков ответа на вопрос, столь существенный для писателя-профессионала: «О чем писать?»
Но бывает, что практический эксперимент слишком уж поглощает писателя. «Охота к перемене мест», «приключения» и вообще постоянное придумывание себе «жизни» заполняют паузы в творчестве, а само творчество становится дневником, который пишется в погоне за ответом на вопрос: «О чем писать?» Но паузы все равно не заполняются «без швов», материал, добытый подчас с риском для самой жизни, все равно лишь суррогат, он расходуется быстро и требует все новых рискованных экспериментов. А читатель оказывается в странной позиции: вместо произведения писатель предлагает ему «поведение», легенду собственной жизни.
Стивенсон на себе проверил, что такую легенду создать возможно и как полноправный том в собрании сочинений она будет действовать на читательское воображение[30]. Но он же понял, что никакие рискованные эксперименты не способны воссоздать «голоса самой судьбы». И для нас это существенно, потому что понято это было Стивенсоном на фоне «Робинзона Крузо» и судьбы Дефо.
Когда в 70-х годах прошлого века Джозеф Конрад ушел в матросы, это было уже только личное, в самом деле лишь страсть и прихоть, эксперимент над собой и обстоятельствами. Как бы глубоко ни внедрился Конрад во флот, насколько бы он в действительности ни стал моряком, дослужившись до капитана, море сжалось для него до экспериментальной площадки. Поэтому все, что ни испытал он даже с крайним риском для жизни и ни описал потом с превеликим мастерством, несет на себе печать прихоти, придуманности, нарочитого конструирования «проблем» и «сложностей». Лишь иногда, в нескольких небольших вещах изо всего им написанного, интонация делается естественной и глубокой, когда проблемы не экспериментально поставлены, но истинны.
Искусственность Конрад чувствовал. Из книги в книгу, от своего собственного лица или через героев, повторял Конрад символическую ситуацию: он в юности смотрит на карту Африки, где еще не прошел Ливингстон и оставались неизведанные края, стучит по карте пальцем и произносит своего рода клятву: «Вырасту и побываю здесь!» И вот ценой неподдельных опасностей, лишений, подлинного мужества прокладывает Джозеф Конрад путь к исполнению мечты, своего намерения. Он достиг цели и все же не исполнил задуманного, ибо не было в этом истории, а только личная дерзость, все та же прихоть — эксперимент, игрушечность. Получилось тускло. «Очарование пропало». Все было Конрадом выстрадано, кажется, всего-навсего затем, чтобы убедиться, что делать этого и не нужно было. Конрад имел, однако, мужество осознать и описать это. «… Жалкий пароходик, которым я командовал, стоял на причале у берега африканской реки… Поодаль, в середине речного потока, на черном островке, приютившемся среди пены взвихренных вод, слабо мерцал маленький огонек, и я благоговейно произнес про себя: „Вот оно, то самое место, о котором хвастался мальчишкой“. Огромная печаль охватила меня. Да, это было то самое место. Но…».
А следом, в конрадовском фарватере, не обращая внимания на силу и значение уничтожающего «но», а может быть, и потому, что иного выхода все равно не было, шло целое поколение писателей Запада 20-х годов XX века — на экспериментальные поиски «момента истины» и «точного слова» с готовностью «выстоять хотя бы в поражении»… Их постигало то же самое разочарование с той разницей, что не у всех в отличие от Джозефа Конрада хватало сил сознаться. Они еще более упорствовали в надуманности и экспериментальности, даже ценой жизни. Видимо, другой выход чреват был кое-чем пострашнее случайной смерти — самоуничтожением.
Простое и магнетически увлекательное перечисление вещей в «Робинзоне» Юрий Олеша заметил как раз в ту пору, когда это было рецептурно прописанным всей литературе приемом с известной дозой «простоты» и «сложности», прямо сказанного и подразумеваемого: «только одна восьмая над водой…» Не замечали, да и сам Хемингуэй, давший формулу, не особенно прояснял результат сильнодействующего повествовательного средства. Между тем он симптоматичен не менее, чем конрадовское «но». Ведь признано все-таки, хотя и между прочим: «Тогда все опущенное будет действовать так же сильно, как если бы художник сказал об этом». Всего-навсего так же сильно, — ради чего же предпринимать лишние повествовательные усилия, если подтекст фактически равен тексту? Отчего не сказать сразу, если недоговоренность скрывает не в самом деле еще нераскрытый смысл, но только манерное умолчание? Ведь Дефо выговаривается из последних сил, не считая, разумеется, умолчаний, вынужденных мотивами политическими или религиозными. Но такой «подтекст» действует временно, минутно в сравнении с вечной силой всей книги. Подтекст умолчаний проясняется мгновенно, а остается между строк лишь то, что высказать не хватило сил.
Подобно тому как Робинзон пилит, строит, соображает самозабвенно настолько, насколько хочется ему остаться в живых, то есть с полной самоотдачей, в ту же меру пишет и Дефо, пробиваясь к живому существованию книги. Обстоятельства требовали от Робинзона такого напряжения, что на сколько-нибудь позерскую «многозначительность» у него не осталось сил. У него действия просты, как просты те жизненные нужды, без которых, однако, нет жизни. Робинзон говорит и действует ничего не подразумевая. Даже Дефо ничего, собственно, не подразумевает. Подтекстом оказывается — не больше и не меньше — сама история, накопившаяся за плечами Робинзона и выразившаяся, насколько у Дефо хватило сил, через уникально точное соединение личного и исторического. Поэтому получается все естественно просто и естественно сложно — содержательно и в результате неистощимо интересно.
«Мы говорили о море и о делах его… И мы говорили о старых кораблях, о происшествиях на море, кораблекрушениях, о сломанных мачтах и о человеке, который доставил целым и невредимым свое судно с временным рулем с реки Плейт в Ливерпуль. Мы говорили о крушениях, об урезанных пайках и о героизме, или, по крайней мере, о том, что газеты называют героизмом на море, о проявлении добродетелей, отличном от героизма первобытных времен. А изредка мы все смолкали и глядели на реку», — это из Конрада, последние возможности такого «говорения», когда предмет, о котором беседуют, все еще говорит сам за себя — корабли, происшествия на море — уже интересно. Но то последние судороги таких перечислений, проделавших долгий вековой путь хотя бы от любого из названий романов Дефо, которые нам известны в двух словах: «…О том, как был он покинут на побережье Мадагаскара, как устроился в этих местах, с описанием страны и ее обитателей… о великих богатствах, которые он там нажил, и как он возвратился в Англию и также о том, как капитан Сингльтон вновь пустился в плавание, с рассказом о многочисленных его приключениях и пиратствах со славным капитаном Эвери и другими». Полный титул «Робинзона» несколько короче, но в свою очередь состоит из многообещающих посулов читателям: «о том, как» и т. п.
Отпали пространные заглавия, естественные и необходимые в свое время хотя бы потому, что не все то, что читали у Дефо тогда, читаем мы теперь. Ясно, что про Мадагаскар читать у Дефо не будем, даже и про пиратов не будем, а прочтем то, что отстоялось и умещается в двух словах: «Робинзон Крузо» или «Молль Флендерс». Интереснее оказалось читать не о том, о другом, третьем, а лишь об одном — о Робинзоне. Нет, нужно бы предлог «о» убрать вовсе, чтобы обозначить непосредственность читательского союза с Робинзоном: мы не читаем о нем, мы читаем летопись его жизни; не рассказ о том, как и что сделал он, а сами по себе его действия перед нами на книжной странице.
Общедоступным стал способ описания вещей невероятных через обыкновенные подробности, как некогда это делал Дефо устами Робинзона.
Подобный повествовательный секрет не являлся уже, собственно, секретом ко времени Стивенсона и был доступен всякому пищущему на уровне крепкого умения. Не нужно, чтобы изобразить волнение на море, гнуть мачты и качать корабль, достаточно упомянуть, что у капитана с головы чуть было не слетела шляпа. «У того, кто изведал горечь океана, навсегда останется во рту его привкус», — говорит Джозеф Конрад. Но даже он, в самом деле водивший корабли, прежде чем взяться за ремесло романиста, знал, что впрямую не докажешь читателю достоверность выстраданного жизненного опыта. И если самый настоящий «морской волк» будет слишком заправски кричать: «Полный вперед!» — получится фальшиво, неубедительно. Поэтому капитан у Конрада — с зонтиком, который он к тому же не умеет как следует свертывать. Зато, когда капитан встает у руля, уже не зонтик чувствуется в его руках. Рулевое колесо чувствуется читателем как нечто особенное. «Соль океана» — пустые слова до тех пор, пока не сказано, что обычному человеку в прибрежной харчевне есть противно: каждый кусок отдает водяной затхлостью.
Такой путь убеждения читателей сделался торным: заставь поверить хотя бы в одно, и это будет залогом убедительности всего прочего в повествовании. «Он всегда сжимал своим сильным волосатым кулаком ручку элегантного зонтика, — изображает Джозеф Конрад своего капитана, — этот зонтик был самого высшего качества, но обычно не бывал свернут». Право, ни корабли, ни море в этой «морской» вещи не будут так подробно описаны, однако мы поверим и в них, если уж поверили в зонтик.
И все же не всякий убедительный миг растягивается на произведение от начала и до конца. Можно написать об одном, другом, или в духе высшего писательского профессионализма, умеющего создать «всамделишную» предметность, лучше выразиться так: можно написать одно, другое, третье, но ведь надо написать всю книгу целиком. «Хотел бы я…» — вздыхал Стивенсон, достигший из множества своих книг лишь однажды истинной непроизвольности повествования — в «Острове сокровищ», конечно. Положим, сам Дефо добился ее вполне тоже лишь один раз— «Робинзоном». В других его книгах повествование поскрипывает, нуждаясь в усилиях рассказчика и читателя. Но Дефо был первым! С тех пор повествовательная техника удивительно усовершенствовалась. «А все же, — признает Конрад, — то, что „выходит само собой“ в работе писателя, всегда кажется очень важным и ценным, потому что оно берет свое начало в более глубинных источниках, чем, скажем, логика продуманной теории или уроки, извлеченные из проанализированной практики».
Получалось ли у Дефо все «само собой» — это другой вопрос, но, по крайней мере, читатель оставался при том убеждении, что книга о Робинзоне возникла как живое создание, являя идеал всесильности автора. Во всеоружии изощренной писательской техники об этом мечтают одни, вспоминая старого Дефо, а другие, вспоминая его же, скрежещут зубами от бессильной зависти, успокаивая себя: «Что ж, „Робинзон Крузо“ вовсе и не роман».
«Дефо — замечательный писатель… Однако у него и притязаний не было на то, что называется „искусством романа“, а влияние, им оказанное, ничтожно».
Да, так пишет кембриджийский профессор Ф. Р. Ливис[31], но дело не в частном мнении, хотя оно и принадлежит крупному критическому авторитету, и даже не в Дефо. Это система художественных ценностей, и в ней не находится места такому писателю, как автор «Робинзона Крузо». И когда так, между прочим, мы читаем, что не в «Робинзоне», собственно, источник современного английского романа[32], то перед нами та же в сущности критическая система, тот же подход к прозе, то же понимание «искусства романа», хотя, быть может, и неосознанное, которое в «Робинзоне»-то и не видит «искусства».
От Ливиса тут нет, безусловно, никакой зависимости. Хотя о нем и говорят, что нет «ни одной кафедры английской литературы во всем Соединенном Королевстве, где не было бы его учеников», но тенденция, им выражаемая, распространена еще шире, и восходит она не только к Ливису. Это, собственно говоря, влиятельнейшее направление в англо-американском литературоведении, которое, стремясь установить надежную систему ценностей, добилось одного парадоксального результата: крупнейшие писатели, начиная с Шекспира и кончая Диккенсом, не отвечают требованиям этой системы, что называется, «недотягивают». Вообще у каждого писателя, исследуемого приемами этой школы, на знамени которой начертаны такие притягательные слова, как «серьезность» и «сознательность», особенно существенными оказываются второстепенные произведения. И в литературном процессе соответственно выдвигаются фигуры средние, забытые или по каким-либо причинам оставленные без внимания. Именно они, а не вершины чаще удовлетворяют стандартам и нормам — мере ценностей, положенной в основу этой критической системы.
Ф. Р. Ливис следом за другой влиятельнейшей фигурой, Т. С. Элиотом, начал с переоценки, с перестановки в историко-литературной иерархии. Некоторые в самом деле недооцененные величины были поставлены в должный ряд (Джон Донн, Генри Джеймс, Джозеф Конрад, Д. Г. Лоуренс). Не без принижения великанов — Шекспира, Мильтона, Дефо, Диккенса или Толстого — производилась эта переоценка, но в свое время подобный перекос можно было объяснить полемикой. Прежде чем изменить или пополнить шкалу ценностей, нужно было изменить способ и даже терминологию оценок — в противовес романтическим[33] оценкам. Точнее, романтическому произволу, потому что восторги и порицания, расточаемые критикой XIX в., основоположники этой новейшей критики отказывались принимать за серьезную систему.
«Такие убеждения могут тронуть, если, конечно, считать их убеждениями, а не безразличием и цинизмом», — писал Ф. Р. Ливис позднее, воспроизводя свою давнюю излюбленную мысль, отрицающую «чисто романтическое представление о творческой личности»[34]. Отсюда у Т. С. Элиота подчинение таланта традиции, печально знаменитая его фраза: «Великие поэты крадут», — поэтому Ф. Р. Ливис не признавал Дефо художником, а Диккенса «достаточно серьезным». Здесь начало последовательного стилистического снижения, а по существу перестройки критических оценок, которые исходят из того, что писатель рассматривается не как творец и художник, но мастер и даже ремесленник, и, вместо того чтобы сказать «произведение создано», решается вопрос, «как оно сделано»[35].
С тех пор, как была выдвинута эта критическая система, прошло достаточно времени, чтобы прояснились в ней и полемика, и действительные принципы. Почему — если судить по многочисленным работам последователей Т. С. Элиота и Ф. Р. Ливиса — перекос, естественный временно и полемически, закрепился, стал позицией, методом? Нет ли тут некоего органического свойства, в силу которого всякий раз, словно запуская старинный часовой механизм с фигурками, получают все тот же менуэт, — не только оценивают по заслугам Генри Джеймса, но так же последовательно вынуждены «Гамлета» признать «неудачной пьесой», оставить за пределами истинного творчества Дефо и вне «великой традицию» Диккенса? К чему тогда все эти многотрудно сочлененные колесики и винтики, если они показывают заведомо неверное время?
А «механизм» этот, особая критическая машина, или, лучше сказать, некая периодическая система писательских имен, действует. Открываем очередной обзор истории английской литературы и видим характерную картину: Дефо, в особенности «Робинзон», рассматривается как бы между прочим, зато основной центр тяжести перенесен на Ричардсона, автора исторически значительных, но давно уже не читаемых романов[36]. Почему это так сделано? Ответ: Ричардсон «начал психологический роман, достигший вершин у таких его представителей XX в., как Генри Джеймс, Джозеф Конрад, Д. Г. Лоуренс»[37].
Итак, все упирается в Генри Джеймса, который и сказал, что «Робинзон Крузо» вообще не роман[38]. Опять-таки вопрос не в Генри Джеймсе персонально, а в тенденции, одним из основоположников которой он явился и которая завоевала ныне влиятельное положение. Позиция Генри Джеймса (не только у нас почти неизвестного, но вообще преимущественно исследуемого учеными, а не читаемого читателями) кратко может быть выражена так: оправдание собственной неудачи. В самом деле, очень серьезный конструктор прозы Генри Джеймс балансировал на той опасной для писателя грани, некогда прочерченной Вольтером: «Все в искусстве хорошо, кроме скуки». Желая все-таки привлечь читателей к своим произведениям, Генри Джеймс и развернул в сущности теоретическое обоснование «скуки». А поистине легкое и живое, такое, как «Робинзон», он объявлял «несерьезным». Диккенс был для него «наивен». «Искусство романа», по Джеймсу, начиналось с видимых усилий автора, которое должен был оценить читатель. Если читатель находит это скучным, тем хуже для читателя! Стало быть, и он «несерьезен».
Конечно, у Джеймса это выражено все куда более осторожно и оговорочно, но, повторяем, дело не в нем, а в тенденции, от него пошедшей и сведенной в конечном счете именно к этому, к оправданию литературы нетворческой. Мерой оказываются авторские намерения, а не достижения, замысел, а не исполнение. Словом, мера претензий, а не достоинств, и, таким образом, в этой критической системе ущемленное авторское самолюбие может торжествовать с избытком: потуги, творчески неполноценные, сходят за чрезмерное бремя «сложного» замысла. Читателю же предлагается разделить с писателем тяжелую ношу, «понять» автора, надломившегося под бременем. А понять — значит простить, то есть согласиться принять некую словесную конструкцию за подлинную прозу. Если же читатель попробует зевнуть и закрыть книгу, критика, «серьезная и сознательная» в той же мере, как и та проза, которая по этим критическим рецептам построена, тут же упрекнет читателя в том, что невосприимчив он к «новому читательскому опыту». Читать трудно? А писать разве было легче?! Это в прошлом, скажут читателю, во времена Дефо или Диккенса, так было, что писатель писал, а читатель читал и только. Теперь же «читатель ставится в положение соавтора»[39].
Куда как заманчиво, однако, на самом деле это — критическая уловка, логическая, или, вернее, историко-литературная, передержка. А иногда просто ошибка, причем та же самая, какую допустил Свифт, намереваясь сокрушить Дефо, как «безграмотного писаку».
Желая разоблачить «подлинность» записок Робинзона, Свифт просчитался, если так можно сказать о человеке, который именно в результате «просчета» создал великую книгу. Но Свифт, как первый, кто решил сокрушить Дефо, действительно просчитался, когда повел атаку на «Приключения Робинзона» с той стороны, откуда они были как раз неуязвимы. Свифт хотел посмеяться над «подлинностью», над тем то есть, над чем уже посмеялся сам Дефо, взявшись вести литературную игру в «подлинность». Свифт попался, как попались те наиболее наивные читатели его собственных выдумок, которые, читая «Путешествия Гулливера», говорили: «Кое-что все-таки малодостоверно». Да в том-то и секрет, что не «кое-что», а от начала и до конца все недостоверно в смысле буквальном, зато все от начала и до конца является умело созданной видимостью «достоверности». Поэтому когда «подлинность» Робинзона пробовал разоблачить и пародировать даже Свифт, то все, что ему удалось сделать, так это создать конгениального Гулливера. Будь записки «моряка из Йорка» в самом деле подлинными, от них, конечно, не осталось бы и следа. Но творчески созданная «подлинность» несокрушима.
Ошибся в отношении Дефо и Диккенс, когда он говорил, что Дефо — «бесчувственный» писатель, иными словами, не умеет изобразить чувства. В пример Диккенс приводил смерть Пятницы, которая описана в самом деле до того между прочим, что мы, конечно, не успеваем пережить ее. Но сделано это во втором, неудачном, томе «Робинзона». Однако Дефо действительно «бесчувствен», ибо все, и даже самый чувствительный эпизод, когда видит Робинзон на тропе след ноги, написано именно так, между прочим. Все бесчувственно кратко, ибо написано о человеке, или, вернее, человеком, который 28 лет выдержал в одиночестве! Мог ли он выжить иначе, имея больше чувствительности? Таким образом, и «бесчувствие», как и «подлинность», — это не чувствительность фактическая, а творчески созданная. Но Диккенс, как и Свифт, был сам гений, поэтому его «ошибка» имела тот же результат, что и «ниспровержение», задуманное Свифтом: следом за Дефо (за романом «Полковник Жак») Диккенс создал «Оливера Твиста», одну из чувствительнейших книг в литературе.
Такого же рода «ошибку» парадоксальную совершил и выдающийся критик Лесли Стивен, современник Диккенса, который в споре со своим братом, тоже незаурядным литератором, Фитцджемсом Стивеном, доказывал, что Дефо умел всего-навсего «правдиво лгать». «А это еще не искусство!» — писал Стивен, предвосхищая позднейшие мнения о том, что у Дефо не было «искусства романа». Но когда с присущей ему тонкостью Стивен разобрал, как «обманывал» читателей автор «Робинзона» и почему они ему верили, он невольно показал, в чем же состоит подлинное искусство убеждать читателей.
Наконец, уже в нашем веке Джойс в романе «Улисс» решил пародировать один за другим классические стили, но когда, двигаясь по истории английской литературы от древних хроник, дошел он до XVIII столетия, то «вместо пародии создал нечто достойное по выразительности Дефо и Свифта»[40]. Почему так получилось? Потому, что пародировать достигнутый результат невозможно. Пародировать можно неудачу, смеяться над автором можно во всем том, где у него превратные представления о себе самом. Но до тех пор, пока автор творит в меру своих сил и понимает сам себя, он неуязвим. Можно пародировать «простодушие» «Капитанской дочки»? Нет, потому что это созданное «простодушие», как была искусно созданной «подлинность» у Дефо.
В этом смысле все «за» и «против» Дефо очень наглядно изложил крупный английский мастер прозы Джордж Мур, которого следовало бы скорее назвать знатоком прозы, «писателем для писателей», потому что он, конечно, в большей степени понимал, как надо писать, чем мог написать сам. Как обычно с такими людьми бывает, Мур, понимая многое в писательском деле до тонкостей, в то же время говорит вещи, подчас удивительно безвкусные. Когда, например, он вздыхал: «Бедный Стивенсон! Пытается выдать за приключенческий роман всего лишь цепь происшествий», — то это было сожаление деланное, плохо скрывающее неподдельную зависть. Напротив, можно сказать: «Бедный Джордж Мур, умевший написать удивительную строку, фразу, но… не книгу целиком». Словом, это один из «сознательных мастеров» в духе Генри Джеймса. Голсуорси, когда Джеймс умер, так и говорил, что его. место занял Джордж Мур.
Рассуждения о Дефо Мур написал в форме спора с самим собой, только своим «вторым я» сделал он одного своего литературного друга. В отличие от Джеймса Мур считал «Робинзона» романом, и романом классическим, однако он говорил о том, как можно было бы еще лучше написать эту книгу, в частности ее конец. Например, смерть самого Робинзона. Но на это его воображаемый собеседник сказал: «Но тогда потребовалась бы еще одна пара глаз»[41]. И этим все сказано. Одиночество Робинзона — вот что безупречно написал Дефо. Можно было бы и еще что-то о Робинзоне написать, то есть поставить перед собой новые повествовательные задачи, но Дефо сделал до конца, по крайней мере, то, что задумал.
Опыт одаренных и даже конгениальных литераторов, вступавших в единоборство с Дефо, является в сущности безошибочным ответом на вопрос, было или нет у создателя «Робинзона» «искусство», если, конечно, измерять «искусство» великой творческой силой, обладающей способностью цельного создания. Иначе понимает «искусство» критическая система, перекладывающая ответственность за художественный эффект на читателя, который то ли «поймет», то ли «не поймет» автора.
Конечно, со времен Дефо и Робинзона читательская публика изменилась, сделавшись прежде всего гораздо более обширной и разной. Писать в этом смысле стало действительно труднее, то есть писать так, чтобы «все поверили». Но и преувеличивать этой трудности не следует. Существовала она и во времена Дефо. Ко всем достижениям Дефо надо прибавить еще и создание читателя. Автор «Робинзона» не только создал книгу, он, заставив читать небывалое до тех пор число людей, создал читающую публику. Причем читали «Робинзона» буквально все, и весьма разные люди: те, кто в «Робинзона» верил буквально, и те, кто прекрасно понимал, что с ними ведется умелая литературная игра. Стало быть, роль соавтора не только новейшими «сознательными мастерами» возлагается на читателя.
От эпохи к эпохе искусство повествования менялось, предлагая читателям новый опыт, новые роли, но то были роли, которые, как истинные роли, всегда только разные маски, умело надеваемые автором (и только автором!) на одно и то же лицо — читателя. В сущности автор и читатель оставались на своих прежних местах. Автор был автором, читатель — читателем, хотя последнему и предлагалось играть то доверчивого, то скептика и т. д. Можно предложить читателю и роль соавтора, но при условии, что и эта роль создана самим автором в границах повествовательной иллюзии, тех же границах творческой условности, в которые укладывается «подлинность» Робинзона.
А происходит у новейших мастеров другое. Они возлагают на читателя не условную, ими выполненную, а как раз, напротив, натуральную, им самим не удавшуюся задачу— исполнение «сложного замысла». Читатель жалуется, что ему трудно. Писатель отвечает: «А писать мне было легко?» И к тому же на помощь ему приходит критика. Нехватку творческой силы они оправдывают тем, что нет конгениального читательского усилия. Чтение подменяется «постижением замысла», равно как демонстрация «искусства романа» отождествляется с творчеством собственно. И ни от автора, ни от критики не может читатель добиться ответа, с чем же имеет он дело: с искусным созданием или же всего-навсего с искусственно придуманной конструкцией.
Короче, просчет все тот же, свифтовский, только результат другой: ниспровергается «Робинзон», однако «Гулливера» рядом с ним не возникает.
Примечания
1
Samuel Johnson (1775). Gulliver’s Travels. Penguin Glassies, 1938, p. 10.
(обратно)2
Тогда же появилось сочинение некоего Чарльза Гилдона, который указывал на всякие неточности и несуразности в «Робинзоне».
(обратно)3
F. R. Leavis. The great tradition (1948). Longmans, 1972, p. 10.
(обратно)4
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т, 23, стр. 87.
(обратно)5
Paul Valery. Oeuvres completes. Paris, 1959, p. 222.
(обратно)6
G. Moore. Daniel Defoe. Citizen of the Modern World, Univ. of Minn. Press, 1962.
(обратно)7
Которую Дефо описал в «Записках кавалера». Эта книга как раз начинается 1632 и заканчивается 1651 годом. До конца XIX столетия книга Дефо еще числилась среди исторически достоверных источников. Маркс обратил внимание Энгельса на некоторые места этого сочинения, отмечал их документальное значение (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 32, стр. 253–254).
(обратно)8
Он участвует в боях русско-шведской войны, в том числе под Полтавой. В подробностях, какие только мог почерпнуть Дефо из книжных источников, описывается знаменитая битва. Полтавский бой Дефо описал также, притом два раза, в «Истории Карла XII», которая излагается от лица шотландца, служившего у шведов. Два раза потому, что сначала шотландец рассказывает о битве сам, а потом приводит донесения.
(обратно)9
В Голландии Петр был, как известно, в 1697 г., а затем второй раз в 1716 году. Хронология жизни Дефо не позволяет считать, что он сам мог оказаться в Голландии, когда там находился с посольством Петр, хотя на континенте Дефо бывал неоднократно. Есть, однако, сведения, что Дефо знал немного русский язык, хорошо знал русских купцов, торговавших в Лондоне, вообще он очень интересовался Россией, много писал о ней и в конце концов отправил туда своего Робинзона.
(обратно)10
А. Разин. Настоящий Робинзон (1865). СПб., 1903.
(обратно)11
Об иллюзорности робинзонады говорится у К. Маркса (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 12, стр. 709–710). Робинзон и робинзонада сопоставлены А. Аникстом в статье «Робинзонада» («Литературная энциклопедия». М., 1935, т. 9, стр. 718–723) и А. А. Елистратовой в кн. «Английский роман эпохи Просвещения» (М., «Наука», 1966, стр. 103, 116–117, 123).
(обратно)12
Толстовство формировалось не без «Робинзона», тем более что юный Толстой играл в Робинзона, а много лет спустя в журнале «Ясная Поляна» был помещен пересказ робинзоновских приключений, выполненный по заданию Толстого и показывающий, что в первую очередь книга Дефо интересовала Толстого под влиянием Руссо.
(обратно)13
Первые переделки романа Дефо, а также первые подражания ему появились сразу же, следом за первой частью романа. К исходу прошлого века насчитывалось около семисот изданий «Робинзона Крузо», включая сокращенные варианты и переделки для детей. Возникло, кроме того, около 50 различных «Новых Робинзонов», и Робинзона стали толковать с точки зрения Руссо, а не Дефо.
(обратно)14
Эта пиратская коммуна не выдумка Дефо, она действительно существовала. Дефо принадлежит самостоятельное истолкование причин гибели Свободии: несовершенство природы человеческой (см. Я. Маховский. История морского пиратства. М., «Наука», 1972, стр. 7).
(обратно)15
Селькирк вернулся в отчий дом, откуда некогда он сбежал, решив таким образом спор между своими родителями. Его отец-башмачник прочил сына (седьмого по счету) себе в преемники, мать одобряла его тягу к морю. «Она хотела видеть сына ученым», — мягко поясняли ее мотивы в книжках прошлого века, излагавших историю «подлинного Робинзона» для детей. Средства, добытые им в плавании, Селькирк не пустил, однако, ни в какое предприятие, некоторое время по возвращении он просто бездельничал. Потом все-таки собрался в плавание. Умер Селькирк капитаном в 1721 году, видимо, на борту судна в разгар славы «Робинзона Крузо».
(обратно)16
«Только ясный и легкий стиль напоминает нам Дефо». — Александр Аникст. Даниэль Дефо. М., Детгиз, 1957, стр. 106.
(обратно)17
Виктор Шкловский. Художественная проза. Размышления и разборы. М., «Советский писатель», 1959, стр. 242.
(обратно)18
Томас Делони, автор романов «Джек и Ньюбери» и «Томас из Рединга» (русский перевод, М., 1928). — А. Елистратова. Английский роман эпохи Просвещения. М., «Наука», 1966, стр. 115. Правда, высказывалось предположение, что Дефо знаком был не с «Джеком из Ньюбери» Делони, а с героем одноименной баллады. Во всяком случае, Дефо знал об этой традиции, о литературе английских ремесленников.
(обратно)19
Двумя буквами подписан «Дневник»— Г. Ф. Это Генри Фо, дядя писателя, действительно шорник, который был очевидцем чумы и многое рассказал племяннику. Дефо поставил на своем произведении клеймо семейное, что имело для него значение традиции.
(обратно)20
Первый же русский переводчик Дефо с английского (самый первый русский «Робинзон» был переведен с французского, 1769) П. А. Корсаков (1843) отметил неточности. Однако надо учитывать, как подчеркнул новейший исследователь (М. П. Алексеев), что ошибки Дефо были не всегда его собственными, а принадлежали в целом представлениям того времени.
(обратно)21
М. П. Алексеев. Сибирь в романе Дефо. Иркутск, 1928.
(обратно)22
Эта обстановка шекспировского театра замечательно воскрешена Лоуренсом Оливье в фильме «Генрих V» (1945).
(обратно)23
Доказано, что это у Свифта намек на Дефо. Таким образом, Гулливер — родственник автора «Робинзона» и Дампьера.
(обратно)24
Подмечено, что иносказания, скрытые в символах у Свифта, можно понимать и не понимать: «Соль не в них». — В. Муравьев. Джонатан Свифт (М., «Просвещение», 1968, стр. 137). Символика Свифта разобрана у нас также В. Дубашинским в книгах «Путешествия Гулливера» (М., «Просвещение», 1969) и «Памфлеты Свифта» (Рига, «Звайгзне», 1968).
(обратно)25
Мих. Левидов. Путешествие в некоторые отдаленные страны, мысли и чувства Джонатана Свифта. М., «Советский писатель», 1939, стр. 336.
(обратно)26
Это обстоятельство сыграло в судьбе Дефо немаловажную роль. Как раз в его время скачки сделались в Англии спортом национальным. Не случайно поэтому персонажи Дефо — из «выскочек» — непременно говорят о себе, что собираются на скачки в Ньюмаркет: это признак «хорошего тона». Сам король Карл II скакал жокеем. Премьер-министр лорд Годольфин был в сущности основоположником чистокровного коннозаводства в Англии, и на этой почве с ним нашел общий язык Дефо. В «Путешествии по Великобритании» Дефо дал первое классическое описание скачек, после чего скачки стали своего рода пробным камнем для английских прозаиков вплоть до Голсуорси.
(обратно)27
«Его проза бросает свет на будущее романа: Джейн Остин, Джордж Элиот, Марк Твен, Д. Г. Лоуренс, Эрнест Хемингуэй». — Mark Schorer. The World we imagine, 1965, p. 12.
(обратно)28
Надуманность новейшего робинзонства отметил, собственно, еще Лермонтов. В «Герое нашего времени» описан некто Раевич, московский франт, игрок: «Это видно тотчас по золотой огромной цепи, которая извивается по его голубому жилету. А что за толстая трость: точно у Робинзона Крузоэ! Да и борода кстати, и прическа a la mougik (под мужика)». Налетом ложного опрощенчества, который после Руссо остался на облике Робинзона, объясняется, возможно, отсутствие интереса к знаменитейшему роману у Пушкина. В отношении к Дефо, который вообще безусловно его привлекал, Пушкин держался линии Вальтера Скотта, Колриджа и английских литературных журналов. В пору размышлений над собственной прозой, движимый идеей, что «писать надо просто», Пушкин обращается к исторической прозе Дефо. Историческая проза самого Пушкина, его, по словам Гоголя, «мастерские пробы романов», то есть «История села Горюхина» и «Арап Петра Великого», нуждаются в сопоставлении с «Дневником чумного года», который имелся в библиотеке Пушкина (H. Я. Яковлев. Об источниках «Пира во время чумы». — «Пушкинский сборник». М.—Л., 1922).
(обратно)29
Был возле него даже свой миниатюрный Свифт-соперник, но безо всякой Свифтовой злости. Это Райдер Хаггард, который, прочитав «Остров сокровищ», сказал: «Книга эта вовсе не так хороша, как думают». И взялся сам писать в том же ключе «правдивой лжи». Хотя Стивенсон и Хаггард — писатели разного достоинства, но игра в достоверность автору «Копей царя Соломона» по-своему удалась, причем настолько, что после его книги один энтузиаст снарядил экспедицию на поиски Соломоновых сокровищ.
(обратно)30
«Легенда о Стивенсоне» — о нем как о персонаже собственных книг — была создана при жизни писателя и не без его участия, но в особенности приобрела она значение после его смерти для наследников. Капитан Джошуа Слокам оставил в этом смысле интересное свидетельство: идя в одиночестве под парусами вокруг света, он с острова Робинзона (Хуан-Фернандес) двинулся к острову Стивенсона (Самоа). Самого Стивенсона в живых уже не было. Слокам застал в Вайлиме (так назывался дом Стивенсона) одну легенду. И он описывает, как вкрадчиво, однако последовательно стали его делать участником Стивенсоновой саги. Дальше Слокам пошел своим курсом, но исторически от Вайлимы прямая дорога была бы к Вихии — дому Хемингуэя.
(обратно)31
Кроме уже названной книги Ф. Р. Ливиса «Великая традиция», это мнение высказывалось и на страницах журнала, выходившего под редакцией Ливиса (A Selection from Scrutiny, vol. I, p. 24).
(обратно)32
Three centuries of the English Prose, p. 232.
(обратно)33
«Романтизмом», по словам Т. С. Элиота, у сторонников строго научного подхода к литературе условно называлось все характерное в духовной жизни за последние 150–200 лет. Особенным же пороком старой критики «новая критика» считала «разбор не самих произведений, а впечатлений от этих произведений» (Т. S. Eliot. The use of poetry and the use of criticism (1932). L., 1964, p. 121).
(обратно)34
A Selection from Scrutiny, vol. I, p. 182.
(обратно)35
Percy Lubbock. The craft of fiction (1921). N. Y., 1957, p. 274.
(обратно)36
Gilbert Phelps. A Survey of English Literature. L., 1965.
(обратно)37
Там же, стр. 147.
(обратно)38
В письме к Герберту Уэллсу (1911). — Henry James and Н. G. Wells. L.,1959, p. 128.
(обратно)39
Leon Edel. The modern psychological novel. N.Y., 1964, p. 15.
(обратно)40
William Powell Jones. James Joyce and the common reader. University of Oklahoma Press, 1953, p. 144.
(обратно)41
George Moore. Avowals (1919). N. Y., 1926, p. 12–21.
(обратно)



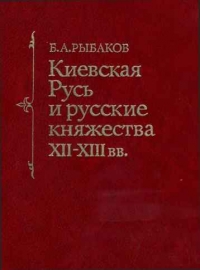
Комментарии к книге «Робинзон и Гулливер», Дмитрий Михайлович Урнов
Всего 0 комментариев