Ярослав Шимов МЕЧ ХРИСТОВ. Карл I Анжуйский и становление Запада
Автор выражает глубокую признательность:
руководству Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара и прежде всего В.А. May, а также Валерию Анашвили и сотрудникам Издательства Института Гайдара — за саму возможность выхода моей книги, а также за ту оперативность, с которой рукопись прошла все издательские стадии подготовки и увидела свет, историку и литератору Кириллу Кобрину — за многочисленные полезные советы при работе над книгой, моей жене Михаэле — за понимание и терпение и острову Сицилия — за то, что он есть.
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ: кто и почему
ЭТА КНИГА — версия одной давней необычной судьбы. Любая написанная биография — всего лишь версия, поскольку немногие считают должным при жизни объяснять мотивы своих действий. Историкам приходится реконструировать характеры персонажей былых времен по их поступкам и свидетельствам других. Ведь даже те, кто все-таки берет на себя труд объясниться, чаще всего делают это из соображений честолюбия или самозащиты. Одни пытаются за что-то оправдаться, другие — остаться в памяти последующих поколений в возможно более выгодном свете. Мало на свете жанров столь лживых, как исторические мемуары.
Герой этой книги оправдаться не стремился. Хотя было за что: уже один момент его биографии — казнь двух юношей королевских кровей после разгрома в битве и сомнительного суда — снискал ему репутацию хладнокровного чудовища. А ведь на своем жизненном пути человек, о котором пойдет речь, срубил не только две этих головы, разорил и сжег не один город, бросил в заточение и уморил там не одного своего противника… Впрочем, наш герой, вздумай он таки оправдываться — пли отвечать за свои дела там, куда его поместил Данте в «Божественной комедии»[1], — мог бы пожать плечами и посоветовать высокому суду посмотреть на людей его времени и его круга, дабы найти среди них безгрешных и милостивых. Быть может, даже старший брат нашего героя, заслуживший от церкви высшие почести в виде канонизации, не прошел бы действительно строгий тест. Ведь ремесло правителей, сколь бы благочестивы они ни были, редко дает им возможность не запачкаться.
Но тот, о ком пойдет речь, был человеком действия, и у него не оставалось времени ни на оправдания, ни просто на размышления о прошлом, тем более что смерть застигла его посреди ожесточенного конфликта. Об исходе этого столкновения он прежде всего и заботился, даже обращаясь к Богу. Об этом говорит приписываемая ему фраза, якобы сказанная после полученного известия о мятеже, которому суждено было оборвать его карьеру: «Коль скоро Тебе, Господи, было угодно повернуть колесо Фортуны против меня, да будет Тебе угодно также, чтобы мое падение было медленным»{1}. Это разговор с Богом человека, не лишенного христианского смирения, но знающего себе цену.
Цена эта — по крайней мере, в том, что касается социального статуса, — была высокой с самого начала. Принц из французского королевского рода, младший брат Людовика IX Святого («самый заводной и небесталанный»{2} из многочисленной родни святого короля) — уже это положение, доставшееся ему по праву рождения, гарантировало нашему герою далеко не последнее место в Европе XIII века. Однако благодаря собственной энергии и честолюбию он достиг еще больших высот, а его влияние было сопоставимо с ролью наиболее выдающихся государственных деятелей той эпохи. Пора наконец назвать этого человека по имени: Карл I, король Сицилии, Неаполя и Албании, титулярный король Иерусалимский, герцог Апулийский, принц Капуанский, граф Анжуйский и Мэнский, граф Прованский, князь Ахейский (Морейский), в разные годы — римский сенатор и генеральный викарий Священной Римской империи в Тоскане, основатель собственной династии, представители которой правили в XIII–XV веках Неаполем, Хорватией, Далмацией, Венгрией и Польшей.
Карл Анжуйский был фигурой, стоявшей на перекрестке исторических дорог. Вернее, не стоявшей, а действовавшей, ибо всю жизнь этот беспокойный человек провел в движении, воюя, отдавая приказы, захватывая, расширяя и укрепляя свои владения, снаряжая экспедиции и подавляя мятежи, заботясь о сооружении крепостей и обустройстве городов. Флорентийский летописец Джованни Виллани, родившийся за девять лет до смерти Карла, воздал ему должное: «Карл был мудр и благоразумен, суров и отважен на войне, великодушен и высок в своих помыслах. Все короли мира трепетали перед ним, в своих грандиозных начинаниях он был тверд, верен своим обещаниям, немногословен, но деятелен… Его всегда снедал жар приобретения любой ценой новых владений и богатств, чтобы покрывать расходы на свои военные нужды»{3}. Тем не менее главным героем своей эпохи Карл не стал, оставшись в исторической памяти фигурой хоть и крупной, но стоящей в тени по меньшей мере двух современников. Одним был его собственный брат, король Людовик, другим — император Фридрих II Гогенштауфен, для ближайших потомков которого Карл Анжуйский оказался Немезидой и палачом в самом буквальном смысле слова.
Если сравнить политическую историю той эпохи с шахматной партией, то Карл представляется в ней фигурой наподобие ладьи, сильной и грозной, но прямолинейной и тяжеловесной боевой башни. И все же Карл заслуживает особого внимания в силу нескольких обстоятельств. Во-первых, его жизнь отличалась лихим сюжетом, заманчивым для любого историка, и потому удивительно, что фигура Карла за семь с лишним веков, прошедших после его смерти, не слишком часто привлекала внимание биографов. Ведь история как непрерывно осмысляемое прошлое никогда не перестанет быть прежде всего повествованием. History — это очень часто story, а редкая story может быть увлекательнее биографии выдающегося человека на фоне его эпохи. Во-вторых, жизнь нашего героя переплелась и стала частью множества важнейших исторических сюжетов позднего Средневековья — крестоносной эпопеи, формирования Французского королевства как ведущей европейской державы, конфликта папства и императорской власти, западной колонизации европейских окраин, взаимоотношений католического Запада с православным и мусульманским Востоком…
Карл Анжуйский, проживший неполных 58 (по другим данным — 59) лет, «был везде». И лично, оставив свой след на полях битв от Фландрии до Туниса и от Прованса до Египта, и посредством своей политической воли, приводившей в действие властные и дипломатические рычаги в Париже и Марселе, Неаполе и Риме, Константинополе и Иерусалиме. Это пространственное измерение его жизни. Измерение же временное помещает Карла в центр эпохи, которая оказалась чрезвычайно важной для европейской истории и во многом определила ее ход на века вперед. Вторая половина XIII столетия, на которую пришлась основная часть политической и военной деятельности Карла Анжуйского, — важнейший этап европейского Высокого Средневековья. И сам Карл, если поместить его жизнь и деятельность как во временной, так и в пространственный контекст, предстает фигурой, которой досталась важная и необычная роль: он закрывает эпоху.
Его время — пик Средневековья и предвестие его заката. Это период, когда Европа стремительно менялась, становясь более устойчивой и зажиточной, основывая города, торгуя с заморскими странами, осваивая новые земли, задаваясь вопросом о праведности светской власти и ее отношениях с властью духовной. Писалась последняя глава перед кризисом, которому суждено было обрушиться на Старый Свет в XIV столетии. Карлу Анжуйскому пришлось написать в этой главе несколько важных фраз, без которых наше представление о европейской истории было бы недостаточно полным.
Судьба Карла Анжуйского — это тройная история, каждая из частей которой неотделима от двух других. Во-первых, это история собственно человека по имени Карл — французского принца, который взнуздал собственную судьбу, став уже в зрелом возрасте королем на юге Италии, гордого, властолюбивого, умного, жестокого, упрямого, вспыльчивого, деспотичного, верного, отчаянного и несчастного. Во-вторых, это яркая история о человеке и власти, ядовитое обаяние которой Карл испытал на себе. В-третьих, это повествование о Европе, которую он помогал создавать, не рассуждая и не думая о ней так, как можем думать и рассуждать мы сегодня. Но ведь известно, что очень многие значительные и долговечные вещи создаются как бы случайно и по наитию.
Если коротко, то все нижеследующее — именно об этом. О Европе, о власти, о выдающемся человеке в контексте своей среды и времени. При этом, конечно, автор далек от наивной мысли о том, что ему удастся воссоздать облик реального короля Карла. Подобная задача непосильна для любого биографа, поскольку биография — это не воссоздание человека и его жизни, а, скорее, их интерпретация и в каком-то смысле изобретение заново. К людям, жившим в столь давние времена, как герой этой книги, сказанное относится вдвойне. Ведь при всем стремлении историка не отступать от известных фактов, подтверждаемых источниками, этих фактов относительно немного, источники же нередко односторонни, предвзяты или полны фантазий, а других попросту нет. Так что задача здравого домысливания своего героя становится неизбежной частью работы биографа. Это похоже на переход реки вброд по камням, которые выглядывают из-под воды или лежат под самой ее поверхностью. Перейти такую реку можно, даже не зная всех деталей рельефа ее дна. Вот и мне остается надеяться, что вместе с читателем нам удастся добраться до другого берега, кое-что узнав и поняв. Ведь, как заметил Марк Блок, «судить — не дело историка, его дело — понимать».
ПРОЛОГ: Европа, Карл, XIII век
КАКОВ же был облик Европы времен Карла Анжуйского? На какой сцене ему довелось играть свои роли? (Именно так, во множественном числе, поскольку ролей этих было несколько.) Попробуем по возможности кратко описать и сцену, и характер ролей.
Роль первая: младший принц, человек короля
В XIII веке феодализм, эта иерархическая система личных отношений власти и подчинения, пронизывающая западное общество, достигает пика своего развития и являет первые черты упадка. С одной стороны, отношения личной зависимости/защиты (сеньоры и вассалы — в «верхах» общества, зависимые от них крестьяне — в «низах») становятся действительно вездесущими, а свободные (аллодиальные[2]) землевладельцы — весьма редким явлением. Как отмечает Робер Фотье, «вся политическая система в действительности висела на цепочке вассальных отношений, ведущей от скромнейшего арендатора к крупному феодалу, который был непосредственным вассалом короля»{4}.
С другой стороны, заметно усиливается королевская власть, пережившая на европейском Западе после распада империи Каролингов (IX — начало X века) период глубокого упадка. До подлинной централизации еще далеко, но во Франции, Англии, на юге Италии, в королевствах Пиренейского полуострова куда прочнее становятся связи между различными этажами феодальной иерархии. Права короля как высшего сюзерена превращаются из почти эфемерной формальности, какой они были, к примеру, во Франции при первых Капетингах, во вполне ощутимую политическую реальность. Складывается единый государственный аппарат — в виде чиновников (сенешалей, бальи), которых монарх направлял в провинции и которые несли ответственность лично перед ним. Усиливаются судебные полномочия короны, что однажды почувствовал на себе и Карл Анжуйский. Один из его французских вассалов, мелкопоместный рыцарь, которого Карл за какую-то провинность бросил в заточение, подал на него жалобу в королевский суд. Дело дошло до самого Людовика IX, и тот сурово отчитал брата, чьи действия счел неправомерными: «Во Франции может быть лишь один король… Не думай, что, поскольку ты мой брат, я стану защищать тебя перед правосудием»{5}. Являясь членом королевской семьи, Карл Анжуйский стал непосредственным участником процесса превращения рыхлого конгломерата почти независимых феодальных владений в государственное образование, в котором феодальные отношения играли связующую, а не разъединяющую роль. Будучи связан с королем кровным родством и личной преданностью, Карл, возможно, в большей степени, чем кто-либо еще из тогдашних французских баронов, олицетворял ситуацию, характерную для Франции той эпохи: «…Бароны все были людьми короля и его друзьями[3], так же как [в более раннюю эпоху] рыцари, несшие охрану замка, были друзьями его владельца. Король же находился на высшей ступеньке феодальной лестницы»{6}.
Людьми короля, естественно, были и его братья, получившие по завещанию отца в апанаж[4] крупные земельные владения (подробнее см. главу I). Таким образом, первая по времени историческая роль, которую довелось сыграть Карлу, — роль младшего члена королевской семьи и своего рода смотрителя (в качестве одновременно крупного вельможи и «человека короля») графств Анжу и Мэн, не входивших, как и многие другие земли Франции, непосредственно в королевский домен[5]. Брак с наследницей графства Прованского, лежавшего на юге страны, который лишь в первой половине XIII века оказался под сюзеренитетом династии Капетингов, дал Карлу возможность, укрепляя собственную власть, одновременно способствовать расширению влияния французской короны в этом регионе.
Карл, даже обзаведясь впоследствии собственным королевством и основав династию, никогда не забывал о своем происхождении, о том, что он — член французского королевского дома. Хотя его отношения со старшим братом не всегда были простыми, Карл Анжуйский никогда не демонстрировал открытого неповиновения Людовику IX и всегда почитал его не только как государя, но и как образец христианских добродетелей. Незадолго до смерти Карл стал одним из основных свидетелей, которые давали показания папской комиссии, собиравшей материалы для канонизации покойного короля. Характерно, что при этом Карл выразил надежду на то, что, помимо Людовика, будут причислены к лику святых и два других его брата — Роберт, граф д'Артуа, погибший во время крестового похода в 1250 году, и Альфонс, граф де Пуатье, скончавшийся при возвращении из другого крестового похода, двадцатью годами позже. Неизвестно, что думал Карл о себе, но своих братьев он считал достойными наивысших христианских почестей: «Святой корень произвел святые побеги, вначале короля, затем графа д'Артуа, мученика своими деяниями, но также и графа Пуатье, мученика по склонности мысли (affectu)»{7}. Роберт и Альфонс канонизации, правда, не дождались, тем не менее Карл Анжуйский стал не только братом, но и дедом святого. Его внук Людовик, епископ Тулузский, прославившийся безгрешной жизнью и умерший в 1297 году в возрасте всего 23 лет, был позднее канонизирован папой Иоанном XXII.
Достаточно близкие отношения связывали Карла с его племянником Филиппом III, вступившим на престол Франции после смерти Людовика Святого. В этом случае можно говорить о стремлении Карла влиять на родственника в собственных политических интересах. Ведь поддержка Франции была для короля Сицилии жизненно важна в борьбе вначале с многочисленными противниками в Италии и на Балканах, а затем — с сицилийскими мятежниками и стоящим за ними Арагонским королевством. Влияние Карла на молодого короля одно время было столь велико, что Маргарита Прованская, мать Филиппа III (и свояченица самого Карла), возненавидела могущественного родственника. В то же время отношения племянника и дяди нельзя толковать исключительно как подчинение слабой натуры более сильной. Об этом говорит хотя бы тот факт, что Филипп III продолжал свой проанжуйский курс и после смерти Карла I, — правда, он сам пережил его лишь на 10 месяцев. Более того, «Филипп III собирался после успешного завершения Арагонского крестового похода[6] лично возглавить кампанию по отвоеванию Сицилии. Он явно был убежден в том, что поддержка прав его дяди — в интересах Франции»{8}.
Как бы то ни было, общий вывод не подлежит сомнению: Карл Анжуйский всю жизнь чувствовал себя Капетингом и, став королем Неаполя и Сицилии, во многих отношениях не перестал быть французским принцем.
Роль вторая: правитель
В XIII веке в основном завершается процесс трансформации средневекового западноевропейского общества, начавшийся двумя столетиями ранее, — некоторые историки с долей условности называют его начало «переменами 1000 года». Стереотипные представления о «мрачном Средневековье» если и имеют под собой какие-то основания (ведь и самые неуютные средневековые времена вряд ли могут конкурировать в этом отношении, скажем, с периодом 1914-1945 годов), то к XIII столетию их можно отнести в наименьшей степени. В отличие от эпох предыдущих, а равно и последующих — невеселых XIV и XV столетий с их хозяйственным упадком, опустошительными эпидемиями чумы и затяжными войнами, — век XIII представляется периодом относительно благополучным. В это время бурно растут города, открываются новые торговые пути, меняется структура общества и само восприятие европейцами окружающего мира. По выражению Жака Ле Гоффа, «в XIII веке рождается “прекрасная Европа” с городами, университетами, схоластикой, соборами и готикой»{9}.
Окончательно оформляется рыцарство, которое «все более четко осознавало себя как особую социальную группу, отделяясь от общей массы “невооруженных” и ставя себя выше нее»{10}. По отношению к власти крупных государей — императора, королей, владетельных князей, герцогов и наиболее могущественных графов — рыцарство выступает, в зависимости от обстоятельств, в роли то важнейшей опоры, то возмутителя спокойствия и даже прямой угрозы. К тому же меняется многое в самой рыцарской среде. Слой дружинников на службе крупных феодалов превращается в конгломерат вассалов, обладающих собственными земельными владениями. В условиях экономического и демографического подъема, характерного для XII–XIII веков, эта социальная группа растет количественно и преобразуется качественно.
Так, преобладающим правилом наследования становится примогенитура — наследование по праву первородства, когда старшему потомку отходит все наследство или его львиная доля. В результате в католической Европе возникает довольно многочисленная группа младших сыновей рыцарских семей, которые в погоне за славой и богатством могли рассчитывать лишь на собственные способности и удачу. Это явление распространяется до самого верха социальной иерархии — княжеских и королевских родов. В XIII веке мы видим целый ряд младших европейских принцев, стремящихся схватить свою жар-птицу за хвост, коль скоро по наследству им перепало немногое[7].
Отчасти к числу подобных рыцарей-авантюристов принадлежал и Карл Анжуйский. Как мы увидим, во владение графствами, доставшимися ему в наследство от отца, наш принц вступил лишь волею случая (благодаря преждевременной смерти двух старших братьев). Позднее Карл участвовал в междоусобице во Фландрии, где борьбу за наследство вели сыновья графини Маргариты от двух ее браков. Участвовал в расчете на то, что окажется на стороне победителей и по итогам распри будет вознагражден солидным ленным владением. Но только брак с Беатрисой Прованской вознес Карла на более высокую ступень в иерархии владетельных сеньоров: отныне он стал — jure uxoris[8], но в этом не было ничего необычного, — настоящим государем. А поскольку в Провансе молодому графу противостояла пестрая компания противников — от собственной тещи, Беатрисы Савойской, до ряда могущественных вассалов и городских коммун, то Карл быстро приобрел уникальный политический опыт. К тридцати годам он успел познать тогдашнюю политику с разных сторон. Последующая сицилийская эпопея и почти 20-летнее правление на юге Италии значительно расширили этот опыт.
Таким образом, Карл Анжуйский был одним из тех деятелей, чью судьбу определили силовые линии европейской политики XIII века. Они соединяли основные социально-политические полюса того общества, отношения между которыми складывались крайне непросто. Это была усилившаяся монархическая власть; крупные феодалы, чьи интересы заставляли их вечно колебаться между верностью монархам и противостоянием им; мелкое и среднее рыцарство, все громче заявлявшее о своих правах в качестве привилегированного сословия; городские коммуны с их быстро развивавшимся торговым сословием, правовой автономией и стремлением к политической самостоятельности; и наконец, римско-католическая церковь, чья политическая роль пережила в XIII веке существенную трансформацию. Роль государя оказалась главной жизненной ролью Карла Анжуйского, но к ней он пришел не сразу. Превращение младшего сына аристократического рода, с характерной для этой группы психологией рыцарей-авантюристов, в правителя крупной державы стало одной из главных коллизий его жизни.
Надо заметить, что Карлу при этом повезло: его жизнь пришлась на завершающие десятилетия эпохи, когда формировалась национальная и государственно-политическая карта Европы, точнее, ее основные детерминанты, во многом сохранившиеся до наших времен. «Франция», «Италия», «Германия», «Испания» — эти понятия, безусловно, были известны людям Средневековья, но, конечно, их содержание было совсем иным, почти лишенным тех национально-культурных коннотаций, которыми оно наполнено для нас сегодня. Более того, окраины Европы — Пиренейский полуостров, значительная часть Средиземноморья, северо-восток, прилегающий к побережью Балтийского моря, отчасти также Британия и Ирландия — были пограничными зонами, где пересекались и сталкивались различные культуры, религии, правовые и политические традиции. Относительная примитивность и неустойчивость государственных механизмов вели к тому, что именно там зачастую образовывались «вакантные места», сулившие массу возможностей смелым и предприимчивым завоевателям.
Дело осложнялось (или, наоборот, облегчалось — в зависимости от того, какие обстоятельства рассматривать и с чьей точки зрения) неоднозначностью представлений об источниках легитимности власти государя. Путаница в этих вопросах была во многом следствием растянувшейся на два столетия (со второй половины XI до середины XIII века) борьбы между двумя ведущими политическими авторитетами христианского Запада — папством и империей. Карл Анжуйский, выступив по наущению папы в поход за сицилийской короной, фактически завершил традицию королей, завоевавших высшую власть силой оружия. После него подобных случаев в европейской истории Средних веков и раннего Нового времени больше не будет. Победители междоусобиц в рамках одной страны и одной династии (вроде целой череды английских королей XV века, от Генриха IV до Генриха VII) не в счет, поскольку и способ их прихода к власти, и его социальный контекст, и идеологическое обоснование были совсем иными,
В качестве правителя Карл проявил себя как человек, который, похоже, интуитивно чувствовал, куда дует ветер истории. В доставшемся ему Сицилийском королевстве он продолжал традиции предшественников — нормандских правителей и династии Гогенштауфенов, которые стремились к централизации власти и созданию развитого по тем временам бюрократического механизма, рычаги управления которым держит в руках государь, являющийся одновременно первым феодалом в своем королевстве. В своих французских владениях — Анжу и Провансе, где социальная структура была более сложной, Карл по мере сил лавировал между различными политическими силами и социальными группами, стараясь, тем не менее, создавать такие ситуации, когда решающее слово в политических вопросах оставалось за ним. Он был человеком власти и стремился к концентрации власти в своих руках. В этом был залог его успехов, но одновременно и причина тяжелого поражения, которое он потерпел на закате жизни в результате восстания, которое вошло в историю как «Сицилийская вечерня». Оно лишило Карла островной части его владений и надолго изменило расстановку сил на юге и юго-востоке Европы.
Карл Анжуйский никогда не стеснялся в средствах для достижения своих целей. Как мы увидим, он умел быть и щедрым, и милостивым, в том числе к поверженным врагам, но в целом, если судить по сохранившимся фрагментам переписки и распоряжений короля, доминирующими чертами Карла как политика были строгость и непреклонность. Возможно, ему во многом не повезло. Свое королевство младший принц из дома Капетингов не унаследовал, а завоевал; как напишет несколько столетий спустя один хитроумный флорентинец, «новый правитель всегда хуже старого… Завоеватель угнетает новых подданных, облагает их различными повинностями и обременяет их постоями войск, чего невозможно избежать во время завоевания. И так он наживает себе врагов среди тех, кого обидел, и лишается дружбы тех, кто помогал ему в завоевании, так как не в состоянии наградить их в той мере, которая соответствовала бы их ожиданиям…»{11}. Неизвестно, думал ли Макиавелли при написании этих строк о Карле Анжуйском, память о котором в Италии в те времена была еще относительно свежа, но фактически его описание можно назвать краткой психологической историей «Сицилийской вечерни» 1282 года.
Карла Анжуйского, кстати, несмотря на весь его прагматизм и нередкую неразборчивость в средствах, нельзя назвать «макиавеллистом до Макиавелли». Для этого он был еще слишком средневековым деятелем, одновременно человеком власти и человеком миссии. Бог для него еще не стал политико-идеологической условностью, как для многих князей ренессансной эпохи, давно утративших веру, а оставался вполне реальной силой, вершащей судьбы людей и царств. При этом Карл принадлежал к тому типу политиков, которые не разграничивают земное и трансцендентное, когда дело касается их самих. Они отождествляют собственные политические цели и замысел Провидения, видя в самих себе орудие высших сил. И даже терпя поражение, они считают его испытанием, но не приговором. В этом смысле Карл удивительно современен, ведь и новейшая история знает немало политиков, принадлежащих к этому типу.
Роль третья: воин-гвельф
Европа XIII века — это прежде всего Европа христианская. В эту эпоху «увеличивается число сословий, общество становится более сложным, меняется характер религии, которая во все большей мере принимает земной мир, перенося [религиозные] ценности с неба на землю, причем средневековый человек не перестает быть глубоко верующим и озабоченным спасением своей души…»{12}. Эта комбинация земного и небесного имела несколько весьма значительных политических последствий.
XIII век открылся понтификатом Иннокентия II (1198–1216), наиболее выдающегося последователя теократического курса, начертанного в конце XI века другим знаменитым папой — Григорием VII. Иннокентий, который считал себя не только наместником Христа, но и главой христианского мира, превратил иерархию римско-католической церкви в стройную пирамиду, увенчанную им самим — всесильным понтификом. Эта церковь уже не зависела от светской власти, достигнув тем самым цели, к которой безуспешно стремился в свое время папа Григорий. «Возвышаясь над грешным миром, церковь стала своеобразным государством, в котором епископы играли роль послушных служащих, губернаторов провинций и послов своего папы… Лишение светской власти прав патронажа над церковью, которыми она ранее пользовалась, стало окончательным и было закреплено папскими легатами, которые в качестве уполномоченных папы стояли выше, чем даже архиепископы.., светская же власть была не в состоянии даже протестовать против положения, в котором она оказалась, лишенная всех прав надзора за церковью»{13}.
Усиление духовного доминирования и рост политического господства церкви были при Иннокентии III тесно связаны между собой. Первое нашло свое выражение в гонениях на последователей ряда ересей (прежде всего вальденской[9] и альбигойской[10]), главным образом на юге Франции, в Лангедоке, где эти ереси получили наибольшее распространение. Крестовый поход против альбигойцев (1209–1229), организованный церковью, привлек под свои знамена многих крупных феодалов и отдельных государей. Но в результате многочисленных перипетий, подробности которых здесь нет возможности описывать, главным победителем оказалась даже не церковь, а французская монархия, которой в конечном итоге достались земли графов Тулузских, обвиненных в поддержке еретиков. Отец нашего героя, Людовик VIII, был одним из руководителей этого крестового похода на его поздней стадии.
Борьба с еретиками показала, что политика церкви по отношению к светским властителям не остается неизменной. Прежде всего, изменилась сама суть крестоносного движения. Изначально, в конце XI — начале XII века, эти походы были главным образом духовными предприятиями, направленными на борьбу с иноверцами и отвоевание главной христианской святыни — Гроба Господня. Однако позднее папство превратило крестовые походы в инструменты своей политики уже в пределах самой Европы. При этом если борьба с катарами и вальденсами, при всей ее непомерной жестокости, еще могла быть оценена в понятиях того времени как духовная миссия, направленная на объединение западного христианства на основах «единственно правого» католического вероучения, то другие папские предприятия уже никак не вписывались в эти рамки.
Речь не только о скандальном Четвертом крестовом походе (1202–1204), завершившемся взятием и разгромом столицы восточного христианства — Константинополя. (Это деяние Иннокентий III решительно осудил, хотя западному миру оно принесло ощутимые материальные выгоды.) Были и более мелкие операции вроде похода против регента Сицилийского королевства Маркварда из Анвайлера (1198–1202), которого папа отлучил от церкви, а участникам военных действий против него предоставил привилегии, близкие к тем, которыми пользовались участники «настоящих» крестовых походов. И если при папе Иннокентии с его колоссальным духовным и политическим влиянием подобное измельчание крестоносной идеи еще не слишком сильно било в глаза, то при его преемниках этот процесс стал очевиден. Укреплению авторитета церкви он явно не способствовал. «Новая концепция церковного врага была тем опаснее, что давала простор для весьма гибких и растяжимых толкований и незаметными путями сплеталась со сложной домашней политикой, с личной и политической интригой…»{14} Главной такой интригой в XIII веке было обострившееся с новой, невиданной со времен Григория VII силой противостояние папской и императорской власти.
О фигуре Фридриха II Гогенштауфена, короля Сицилии (1196–1250) и императора Священной Римской империи (1220–1250), нам придется еще немало говорить. Здесь лишь отметим, что этот государь, еще при жизни заслуживший прозвище Stupor mundi[11], стал главным двигателем борьбы с теократическими притязаниями папства и, в свою очередь, олицетворением альтернативного проекта универсальной монархии, опирающейся на традиции античного Рима и христианских империй Константина и Карла Великого. Изматывающая борьба, которую несколько десятилетий вели сменявшие друг друга папы и император, при жизни Фридриха не принесла решающей победы ни одной из сторон. Эта борьба имела сразу несколько измерений — политическое, социальное и даже религиозно-философское. Главным же ее итогом явилось взаимное ослабление императорской власти и папства. Империя после смерти Фридриха II быстро пришла в такой упадок, от которого ей уже не суждено было оправиться[12]. Папство же оказалось в положении, при котором оно было вынуждено все более полагаться на своих союзников из числа европейских монархов (прежде всего французского короля) и итальянских городских республик.
Конфликт гвельфов и гибеллинов[13], сторонников папы и императора, на несколько веков стал характерной чертой европейской, прежде всего итальянской, политики. Этот конфликт использовали в своих интересах различные политические силы и лидеры. Одним из них стал в 1265 году Карл Анжуйский, откликнувшийся на призыв папы, который стремился положить конец власти последних Гогенштауфенов на юге Италии. В конечном итоге борьба пап и императоров, вступившая в XIII веке в завершающую стадию, привела к краху обоих проектов, теократического и светского, стремившихся объединить под своей властью весь христианский мир. В выигрыше оказались западноевропейские королевства, оставшиеся в той или иной степени в стороне от схватки преемников святого Петра с наследниками Карла Великого. Эти королевства, в первую очередь Франция, получили возможность укрепить свои позиции — до такой степени, что послы Людовика Святого в 1240 году дерзко заявили императору Фридриху: «Мы воистину полагаем, что наш государь король Франции, который как отпрыск королевской крови поставлен править Французским королевством, превыше всех императоров, которые выдвигаются лишь благодаря произвольному выбору»{15}.
Согласно доктрине Иннокентия III, «власть королей над церковью должна быть упразднена, свободу же церкви [монархам] следует защищать неустанно. Такая защита и есть признак доброго государя»{16}. Исходя из этой доктрины, папы и раньше стремились превратить королей в своих ленников, пусть даже формально, — и к XIII веку им удалось сделать это в отношении Швеции, Дании, Венгрии и Сицилийского королевства. Папа Иннокентий расширил список, добавив к нему Англию, Португалию, Арагон, Польшу и на какое-то время даже Сербию. Теоретически папы и вовсе считали себя сюзеренами целого Запада, пользуясь в качестве обоснования своих претензий «Константиновым даром». Этот документ, якобы подписанный Константином Великим, первым христианином на императорском троне, передавал большую часть земель тогдашней Римской империи под высшую власть папы как Христова наместника и преемника святого Петра. «Константинов дар» был фальшивкой, изготовленной, скорее всего, в VIII веке, но до его разоблачения во времена Карла Анжуйского оставалось еще двести лет.
С Францией, которая пользовалась статусом «любимой дочери церкви», ситуация, однако, была неоднозначной. С одной стороны, Капетинги стремились поддерживать с папством добрые отношения, с другой — бдительно следили за сохранением собственных прерогатив. Они удерживали достаточно сильное влияние на церковные дела в своем королевстве и одновременно не давали Риму втянуть Францию в прямой конфликт с империей. Дед Людовика IX и Карла Анжуйского, Филипп II Август, помогая Иннокентию III в истреблении еретиков, тем не менее, пресек попытки папы выступить в роли арбитра в его конфликте с английским королем Иоанном Безземельным. Папе «нет никакого дела до того, что происходит между королями»,{17} заявил посланцам Иннокентия III король Филипп. Тот самый Филипп, который при других обстоятельствах провозгласил, что «скорее предпочтет терпеть урон, чем затевать скандал со Святой Церковью»{18}. В рамках, обозначенных двумя этими высказываниями, и колебалась церковная политика монархии Капетингов — по крайней мере до Филиппа IV, внука Людовика Святого, вступившего на рубеже XIII–XIV веков в открытый конфликт с папством.
Эта гибкая политика принесла свои плоды, особенно при Людовике IX, чье неоспоримое христианское благочестие и крестоносное рвение сделали его популярной фигурой в Европе. По мере того как положение Франции укреплялось, а папство, наоборот, истощало свои силы в борьбе с Гогенштауфенами, менялось направление политического вектора в отношениях «любимой дочери церкви» с ее «матерью». В коллегии кардиналов становилось все больше французов, и во второй половине XIII века они — в лице Урбана IV, Климента IV и чуть позднее Мартина IV — сменяли друг друга на престоле св. Петра. Медленно, но верно римская курия попадала под все более сильное влияние Французского королевства, правящей там династии и ее интересов, выходивших все дальше за пределы собственно Франции. Карлу Анжуйскому, воину-гвельфу (вот еще одна роль, в которой ему пришлось выступать), как мы увидим, довелось быть одной из главных фигур в этом процессе, имевшем далеко идущие последствия для католической церкви и всей Европы.
Роль четвертая: крестоносец-колонизатор
Перемены в христианской Европе, которые принес XIII век, не исчерпывались изменением роли церкви. Развивалась и сама Европа — как пространство общей культуры, религии, социальных и политических институтов, наконец, как единый рынок, пронизанный торговыми путями, пестрящий россыпью растущих городов… «Мир раннего Средневековья был миром многообразия локальных культур и обществ. История XI, XII и XIII столетий — о том, как на смену этому многообразию во многих отношениях пришло единство»{19}.
Чтобы оценить масштабы этого процесса, придется мысленно переместиться еще на пару столетий назад.
В X и начале XI века Западная и Центральная Европа, за исключением средиземноморских областей, берегов Рейна, Фландрии, севера Франции и некоторых районов Англии, оставалась слабо освоенным и по большей части довольно диким пространством. Попытка Каролингов возродить европейское единство, воссоздав подобие былой универсальной империи, Roma Aeterna[14], оказалась недолговечной, хотя и оставила заметный след в сознании западных христиан и их социальных практиках. Отдельные части европейского пространства были очень слабо связаны между собой, а путешествие, к примеру, из Лондона в Рим или из Парижа в Константинополь представляло собой многомесячное и опасное предприятие. Западноевропейский мир был удручающе беден; византийские и арабские хронисты пишут в этой связи о «западных варварах» и их примитивной жизни. Скажем, византийский император Никифор II, известный своим полководческим искусством, в 966 году высказал прибывшему в Константинополь епископу Кремоны Лиутпранду такое мнение о качествах западного войска: «Воины твоего государя[15] не умеют ни ездить на конях, ни вести пеший бой. Их длинные копья и огромные щиты, тяжелые панцири и каски мешают им в сражениях… Им мешает их обжорство, их бог — чрево, они пьяницы и трусы!»{20}
За два с половиной последующих столетия ситуация изменилась кардинально. Христианский Запад перешел в военное, экономическое и культурное наступление, хотя процесс этот был стихийным и в целом никем не координировался. Почву для начала этого наступления создало прекращение опустошительных набегов агрессивных иноземцев. Вначале венгры, этот бич Запада в X веке, после ряда поражений от войск германского императора (зря все-таки издевался над ними его византийский коллега!) осели на плодородных равнинах древней Паннонии. Там при короле Стефане (Иштване) Святом они приняли христианство и вскоре создали державу, которая успешно боролась со слабеющей Византией за доминирование на юго-востоке Европы. Затем норманны, грозные скандинавы, не знавшие, если верить хронистам IX–X столетий, «ни Бога, ни милосердия», понемногу вписались в конгломерат западноевропейских княжеств, обосновавшись в той области па севере Франции, за которой закрепилось их имя — Нормандия.
Осев там, это беспокойное племя через некоторое время продолжило экспансию. Одна группа нормандских рыцарей, искателей земель и приключений, обосновалась на юге Италии, где постепенно создала одно из самых любопытных государств тогдашней Европы — Сицилийское королевство. Оно пестрело многообразием культур, языков и религий и в то же время было весьма крепко спаяно жесткой властью своих нормандских повелителей. Другая группа, под началом Вильгельма, бастарда из нормандского герцогского рода, переправилась в 1066 году через Ла-Манш и завоевала Англию. Если прибавить к этому активное участие норманнов (или нормандцев, как некоторых из них будет правильнее называть с момента обретения ими во Франции «второй родины») в крестовых походах на Ближнем Востоке и в Испании, а также в делах Византии и русских княжеств, то не будет преувеличением сказать, что в XI веке нормандцы взяли Европу в кольцо. При этом незаметно для самих себя они стали неотъемлемой частью той западнохристианской Европы, грозой которой еще недавно являлись.
Но не нормандцами едиными и их новыми владениями прирастала тогдашняя Европа. В XII–XIII столетиях происходит перелом в многовековой борьбе христиан и мусульман на Пиренейском полуострове: христианские королевства и княжества — прежде всего Кастилия, Леон, Наварра и Арагон — все решительнее теснят на юг арабских эмиров, некогда переходивших со своими войсками через Пиренеи. Одновременно на другом конце Европы, в населенных славянами и балтийскими племенами областях Восточной Европы, развивают свой Drang nach Osten немецкие государи и рыцарские ордена.
Они действуют в одних случаях огнем и мечом, в других — с помощью дипломатии и брачных союзов (многие знатные прусские и бранденбургские роды — потомки смешанных германо-славянских браков) и почти везде используют экономическую заинтересованность немецких крестьян и купцов, которые тысячами переселяются на слабозаселенные берега Одры, Вислы, Влтавы и Мазурских озер. Так формируется та часть Центральной и Восточной Европы, чей многонациональный и мультикультурный славяно-угро-балто-германский характер оставался неизменным до середины XX века, несмотря на частые перемещения государственных границ.
Наконец, на юге Европы, в ее средиземноморской колыбели, тоже произошел поворот военной и экономической экспансии. Арабские нападения на побережье Италии, юга Франции и Балкан сменились контрвыпадами европейцев, атаковавших арабские города Северной Африки. Завоевание Сицилии нормандцами во второй половине XI века и постепенное отступление Византии, которая потеряла владения на юге Италии и испытывала все большее давление на свои северо-западные границы на Балканах, означали окончательное утверждение западных христиан в Центральном и Восточном Средиземноморье. Оно сопровождалось впечатляющей экспансией итальянских торговых городских республик — Венеции, Генуи, Пизы, Амальфи, чьи флоты доминировали в Средиземном море и чьи колонии распространились в XII-ХIII столетиях от Константинополя и Иерусалима до Каффы (Феодосии) в Крыму и Таны в районе нынешнего Азова. Наконец, крестоносная эпопея принесла латинянам, как их называли греки, недолговечное господство над рядом областей Ближнего Востока, а после 1204 года — над столицей восточного христианства, Константинополем, и рядом земель материковой и островной Греции.
Но именно во времена Карла Анжуйского этот расширяющийся во все стороны Запад наталкивается на границы своей экспансии. С Востока накатываются две мощные и опасные волны воинственных кочевых народов — монголов и турок-сельджуков. Первая из них затронула Запад лишь отчасти: разгромив в 1242 году Венгрию, монголы по внутренним причинам повернули обратно, прервав поход «к последнему морю». Со второй волной пришлось вплотную столкнуться крестоносцам на Ближнем Востоке — и в конце концов проиграть. Крепость Сен-Жан-д'Акр, последний оплот латинян в Святой земле, пала в 1291 году, через шесть лет после смерти Карла, который успел побывать, пусть и, скорее, номинально, королем Иерусалимским. Правда, сам Иерусалим к тому времени давно находился в руках мусульман, а претензии Карла на иерусалимскую корону были признаны далеко не всеми европейскими дворами.
Во многом решающим становится XIII век для взаимоотношений католического Запада с православным Востоком — прежде всего с Византийской империей. Раскол западного и восточного христианства принято относить к 1054 году, когда произошел конфликт между патриархом Константинопольским Михаилом Керуларием и прибывшими во «второй Рим» папскими легатами. Его итогом стало взаимное отлучение глав католической и православной церквей. В действительности это событие вряд ли имело столь роковое значение, какое ему часто приписывают. Впоследствии обе церкви не раз предпринимали попытки сближения, которые неоднократно заканчивались соглашениями об унии — каждый раз, правда, недолговечными. Ближе всего к восстановлению единства христианской церкви стороны подошли в 1270-е годы, во время так называемой Лионской унии (к этим событиям мы обратимся в главе IV). Однако непростая история взаимоотношений греческого и латинского мира, прежде всего разгром Константинополя крестоносцами и полвека существования там «Романии», или Латинской империи, сделали уровень взаимного недоверия столь высоким, а политические интересы сторон — столь разными, что надежды па объединение рухнули очень скоро.
Ретроспективно эти события можно назвать трагическими для всего христианского мира. Сохранявшийся раскол отделил Византию от Запада. А между тем после ряда поражений греков на Востоке лишь ненавистные латиняне могли быть для слабеющей империи ромеев единственным потенциальным источником военной и экономической поддержки в борьбе с турецким нашествием. В заметной мере события XIII века, когда пути католичества и православия разошлись окончательно, предопределили и дальнейшую трагическую судьбу Византии, и последующие несколько веков борьбы Запада с Османской империей, когда чаши весов не раз склонялись то на одну, то на другую сторону. Результатом всех этих процессов стало то, что «грандиозная цезура, разрыв между Восточной и Западной Европой, который ощущался со времен Римской империи, в Средние века получил новое обоснование — это был разрыв лингвистический, религиозный и политический»{21}.
Борьба греков и латинян на Балканах и в Восточном Средиземноморье ослабляла обе стороны, делая их — в первую очередь византийцев — беззащитными перед угрозой с Востока. Важной частью этой борьбы стало противостояние Карла Анжуйского, к 1270 году прочно утвердившегося на троне Неаполя и Сицилии, с византийским императором Михаилом VIII Палеологом. Последний изгнал в 1261 году латинян из Константинополя, восстановив тем самым, по крайней мере формально, прежнее величие Византии. Уже средневековые хронисты — большинство из них, правда, было по разным причинам враждебно настроено к Карлу, — а вслед за ними и многие современные историки приписывают Карлу Анжуйскому планы создания некоей колоссальной империи в Восточном Средиземноморье. В ее состав, согласно этой версии, вошли бы, помимо юга Италии, восстановленная «Романия», включающая Константинополь и ряд балканских провинций, земли в Северной Африке (куда был направлен последний крестовый поход Людовика Святого в 1270 году) и владения крестоносцев в Святой земле. Как отмечал греческий летописец XIV века Никифор Григора, «Карл, ведомый не малым, но великим честолюбием, посеял в своем разуме, как семя, решимость овладеть Константинополем. Он думал, что, став хозяином [этого города], он восстановит, можно сказать, всю империю Юлия Цезаря и Августа»{22}.
К вопросу о том, был ли Карл Анжуйский в действительности таким мегаломаном, мы вернемся в соответствующем месте. Пока же ограничимся двумя замечаниями. Во-первых, став повелителем юга Италии, Карл не мог не руководствоваться той же военно-политической логикой, что и его предшественники на сицилийском троне — нормандцы из рода Отвилей, а затем Гогенштауфены. Эта логика подразумевала создание опорных пунктов на Балканах и максимальное ослабление Византии, которая никогда не забывала о своем былом господстве в нижней части «итальянского сапога». Будучи честолюбивым государем, Карл стремился использовать каждую возможность для расширения своих владений. Но можно ли с уверенностью говорить о том, что в его планы входило покорение всего востока Средиземноморья? По мнению современного биографа Карла, «причиной его кампаний 1280 и 1281 годов против Михаила VIII Палеолога была решимость защитить Ахайю и Дураццо»{23} — те самые ранее занятые им опорные пункты на Балканах. Константинополь оставался для Карла манящей целью, но достижение этой цели ставилось им в зависимость от множества других обстоятельств, о которых нам предстоит поговорить позднее.
Во-вторых, действия Карла Анжуйского трудно понять, не учитывая одно обстоятельство: он был не просто королем, а королем-крестоносцем. Опыт участия в первом крестовом походе Людовика Святого в 1248–1250 годах наложил отпечаток на всю его деятельность. В какой-то мере Карл, как и его старший брат, являл собой ходячий анахронизм в эпоху, когда крестоносный энтузиазм шел на убыль, а вместо «мечты найти свою долю за синими волнами Средиземного моря, у подножия Ливанских гор, вырастало решение ковать ее дома, в повседневном труде и борьбе за переустройство жизни»{24}. Однако Карл нашел «свою долю» так, как находили ее крестоносцы предыдущих поколений, — хоть и не в Святой земле, а на юге Италии, но в борьбе с Гогенштауфенами, которых церковь официально провозгласила своими врагами, в походе, приравненном к крестовому.
«Очарование карьеры Карла, — отмечает его биограф, — по крайней мере отчасти заключено в том ощущении, которое она вызывает, — возникающего напряжения между замыслом и действием»{25}. Если для его старшего брата, Людовика Святого, политика являлась способом воплощения в жизнь принципов и основ христианской веры, которым этот король был предан всей душой, государство и церковь — инструментами такого воплощения, а царствование — своего рода духовной миссией, то мировоззрение Карла было более простым и безыскусным, свойственным рыцарям той поры: «Отождествление служения Всевышнему со службой сильному, щедрому и благородному феодальному сеньору, поклонение Деве Марии, понимаемое как служение даме сердца в ее небесном подобии, поиск Бога через паломничество в Иерусалим, готовность к мученичеству, а также верность товарищам по оружию и уважительное отношение к неприятельским воинам… — вот [идейные] основы рыцарства эпохи крестовых походов…»{26}
В отличие от брата, Карл всегда видел в крестовых походах (к которым приравнивался и его собственный поход за сицилийской короной) прежде всего политический феномен, пусть и освященный религиозными целями. Людовик IX искал у Бога ответа на мучившие его вопросы, жаждал вдохновения и мира — через поход против врагов христианства, то есть через войну, но для католика того времени в этом не было противоречия. Карл Анжуйский был далек от столь высоких идеалов, он вполне удовлетворялся своей миссией gladius Christi, меча Христова, которая позволяла ему связать воедино собственные политические цели, волю римской церкви и замысел Провидения. Старший брат пытался придать новый смысл и новое содержание роли монарха и самому королевству, доставшемуся ему от предков. Младший для начала должен был завоевать свое королевство, а потом отстоять его. При всем различии этих задач обе они были двумя сторонами единой исторической миссии — завершения строительства средневековой Европы, Сицилийский поход Карла Анжуйского (1265–1266), равно как и его участие в двух крестоносных эпопеях (1248–1250 и 1270), дали ему возможность стать одним из видных участников процесса оформления Запада, который пришелся на XIII век. Если присмотреться повнимательнее, станет ясно, что рубежи западного мира в Европе с тех пор изменились не слишком сильно. Границы обществ, которые принято считать западными, с соседними, порой близкими, но все же культурно и исторически отличными обществами и сегодня проходят примерно там, где остановилась экспансия западного христианства в XIII веке. Это (с севера на юг) балтийские страны, Польша, Венгрия, Балканы и северное побережье Средиземного моря. Карл Анжуйский оказался одной из последних исторических фигур, определявших, где будут стоять эти незримые пограничные столбы Запада, — хотя, конечно, не подозревал об этом.
* * *
Итак, французский принц, европейский государь, католический воин и крестоносец, определявший границы Запада на исходе Средневековья. Все эти роли совместились в рамках одной беспокойной жизни продолжительностью в неполных 60 лет. Понять, как нашему герою удалось сыграть их и насколько успешен был он в каждой из своих ипостасей, невозможно вне более широкого контекста. А это значит, что биография Карла Анжуйского, чья жизнь оказалась связана с несколькими крупными историческими процессами, не обойдется без их хотя бы краткого описания. И поэтому каждая глава этой книги, посвященная одному из этапов жизни короля Карла, открывается «картиной» — небольшим обзором того исторического процесса, в котором нашему герою довелось участвовать в той или иной из своих жизненных ролей. Для удобства и наглядности каждая «картина» сопровождена краткой хронологией, облегчающей ориентацию во множестве давних событий, явлений и лиц.
ГЛАВА I. Младший принц
…Пусть же позаботится король так вершить правосудие своему народу, чтобы сохранить сим любовь Господа, дабы не лишил его Бог королевства до конца его жизни.
Гуго де Динь, проповедник, — Людовику IX, 1254 год{27}Картина первая. Капетинги и рождение Франции
«КОРОНУЙТЕ герцога. Он превосходит всех своими деяниями, своим благородством, своими силами. Трон не достается [только] по праву наследства; никого не следует возводить на престол, если он не обладает не только высоким происхождением, но и достоинствами души»{28}. Так, если верить свидетельствам хронистов, в 987 году от Рождества Христова говорил вельможам и прелатам Западно-Франкского королевства влиятельный архиепископ Реймсский Адальберон, убеждая их избрать новым королем Гуго Капета, герцога Франции (dux Franciae). Название «Франция» не должно вводить в заблуждение: в то время оно относилось лишь к небольшой области в районе Парижа, за которой позднее закрепилось наименование Иль-де-Франс. Сам же королевский титул, о котором шла речь, звучал как «король франков», rex Francorum. До описываемого момента он принадлежал потомкам Карла Великого, франкского государя, объединившего в конце VIII века под своей властью большую часть Западной Европы и коронованного в 8оо году в Риме императорской короной.
Тогда Карл, а затем и его преемники стали наследниками Западной Римской империи — в противовес константинопольским «василевсам ромеев»[16], чьи владения охватывали восточную часть римской Ойкумены. Четырьмя столетиями ранее эта Ойкумена распалась под ударами варваров. И вот теперь вождь потомков салических франков — одного из варварских племен, обосновавшихся некогда на севере римской Галлии, — претендовал на наследие Вечного Рима. Правда, здание повой империи, возведенное Карлом, оказалось непрочным. Уже в 843 году его недружные сыновья и внуки разделили наследство великого императора на три части. Людовик II, прозванный позднейшими историографами Немецким, получил земли, лежавшие к востоку от Рейна, Карл Лысый — к западу. Старшему из трех родственников, Лотарю I, достались императорский титул, север Италии (бывшее королевство лангобардов[17]) и относительно узкая полоса, которая тянулась от нынешних Нидерландов к Лазурному берегу. Эта территория (часть ее позднее стала отдельным королевством, получившим по имени Лотаря название Лотарингия) в будущем станет ареной соперничества между западными и восточными франками. Что же касается королевств Людовика Немецкого и Карла Лысого, то принято считать, что первое из них стало предшественником современной Германии, из второго же постепенно «выкристаллизовалась» Франция.
Это толкование, конечно, упрощает процессы, которые длились не один век и не имели никакого заранее предопределенного конца. Франции, как и Германии, и Италии, какими мы их знаем сегодня, только предстояло родиться — и, сложись те или иные обстоятельства несколько по-другому, эти страны не появились бы в их привычном для нас виде, а может, и не возникли бы вовсе. Появление Франции как географического понятия, выходящего далеко за пределы Иль-де-Франса, понятия политико-правового и, наконец, государственного в том смысле, который мы придаем слову «государство» сегодня, относится к эпохе Капетингов — третьей франкской (или, если угодно, французской) королевской династии. Ее началом и стало избрание в 987 году королем западных франков Гуго Капета. Агитация архиепископа Адальберона в пользу Гуго имела успех, хотя в тот момент еще были живы несколько отпрысков предыдущей династии — Каролингов. Это были родственники последнего ее представителя на западнофранкском престоле — Людовика V, ничем не примечательного юноши, который правил (сугубо формально) всего год и погиб, неудачно упав с коня на охоте.
По мнению французского историка Ива Сассье и многих его коллег, избрание Гуго Капета, пользовавшегося к тому времени большим влиянием среди франкских вельмож, стало «логическим следствием расстановки сил, существовавшей уже не один год»{29}. Но это вовсе не означало, что власть нового короля действительно распространялась на все территории, чьи хозяева номинально находились в вассальной зависимости от него. В реальности Гуго (и его преемники в течение по меньшей мере полутораста лет после воцарения новой династии) обладал реальной властью лишь в своих наследственных владениях, том самом герцогстве Франция, которое представляло собой «сравнительно небольшую полоску земель по Сене и Луаре, тянущуюся от Компьеня до Орлеана и стиснутую со всех сторон феодальными княжествами — герцогствами Нормандия, Бургундия, Бретань, графством Шампань, во много раз превосходившими по своим размерам территорию [королевского домена] еще в XII веке»{30}.
И тем не менее за королем стояли авторитет и традиция. А это был, выражаясь современным языком, такой символический капитал, который в руках умелого правителя мог быть постепенно обращен в капитал политический. Ведь «король мог быть слабым. Он мог быть даже слабее, чем некоторые из его крупнейших вассалов. Тем не менее эти вассалы были обязаны приносить ему оммаж и, что важно, делали это»{31}. Капетинги понимали это — и быстро научились пользоваться выгодами такого положения.
* * *
Без трудностей, впрочем, не обошлось. Прежде всего на Капетингах лежала легкая тень узурпации. Ведь вступление Гуго Капета на престол было небезупречным с точки зрения права. Гуго, как уже говорилось, был избран королем на собрании влиятельных вельмож и прелатов[18]. Таким образом, его воцарение стало торжеством принципа выборности, характерного для ранних этапов развития франкской государственности, но при Каролингах, казалось, уступившего место наследственному принципу. И хотя впоследствии право династии Капета на французский трон никем всерьез не оспаривалось, сами Капетинги, похоже, чувствовали себя на нем не совсем уверенно. Во всяком случае, каждый из них, вплоть до Людовика VII (1137-1180[19]), еще при жизни организовывал коронацию своего наследника, чтобы тому после смерти предшественника не пришлось доказывать свои права на престол. Надо заметить, что Капетингам сопутствовала удача: с 987 по 1316 год ни один король из этой династии не умер, не оставив сына, и лишь дважды на престол вступил ребенок. В первый раз это случилось в 1060 году, когда после смерти своего отца Генриха I корону унаследовал восьмилетний Филипп I. Во второй — осенью 1226 года, о которой мы еще поговорим подробнее[20]. Эта почти непрерывная цепочка мирного наследования короны взрослыми мужчинами стала одним из важных факторов, укрепивших монархию.
Другим фактором было отсутствие серьезных расколов в королевской семье. Нет, далеко не все Капетинги были идеальными отцами семейств. Роберт II Благочестивый (996-1031), сын и наследник Гуго Капета, не избежал интриг при дворе, когда под влиянием его жены часть вельмож встала на сторону младшего сына Роберта, попытавшись лишить наследства будущего Генриха I, среднего сына короля (старший, Гуго, умер в юности). В последние годы жизни сам Роберт конфликтовал с обоими сыновьями. У Людовика VI (1108–1137) были непростые отношения с его отцом Филиппом I (1060-1108). Семейная жизнь Людовика VII ознаменовалась ссорами и разводом с первой женой, энергичной, властной и своевольной Элеонорой Аквитанской. Но, в отличие от многих других европейских государств, подобные трения очень редко приводили к открытому бунту и междоусобице — исключением можно считать мятеж Одо, младшего брата Генриха I, который в 1041 году вступил в союз с двумя непокорными графами против короля, но был быстро разбит.
Еще более важным обстоятельством для рождения будущей Франции явилось то, что почти все потомки Гуго Капета были ответственными, можно сказать, старательными правителями. Это, конечно, не означает, что каждый из них являл собой пример политических талантов и личных добродетелей. Так, Филипп I[21], поражавший современников уже своим внешним видом (по свидетельствам хронистов, он был очень высок, громогласен и в зрелые годы чрезвычайно тучен), имел весьма пеструю, если не сказать больше, личную жизнь и порой участвовал в предприятиях, которые слабо сочетались с королевским достоинством, — например, и ограблении итальянских купцов, следовавших через его владения. Именно это деяние подвигло папу Григория VII направить в 1074 году французским епископам письмо с гневным осуждением короля: «Немало времени прошло с тех пор, как королевская власть во Франции, некогда славная и необычайно могущественная, начала ухудшаться и лишилась всех добродетелей… Причиной тому — козни дьявола, который нашептывает вашему королю, коего следует называть не королем, а тираном»{32}. Однако гнев папы был явно продиктован не только аморальностью короля Филиппа, но и тем, что в разгоревшемся тогда между духовной и светской властью споре об инвеституре[22] rex Francorum не проявил лояльности Риму.
Последнее очень важно: Капетинги тщательно блюли свои интересы, оберегая их перед поползновениями то папы, то императора, то своих же могущественных вассалов. Начинать приходилось с собственного домена, где то и дело вспыхивали конфликты между владетельными сеньорами, светскими и церковными феодалами. Большая часть царствования Людовика VI, прозванного Толстым (он унаследовал от отца склонность к полноте), прошла в бесконечных походах по центральной Франции, то есть преимущественно по королевским землям, с целью усмирения и наказания смутьянов. При этом Людовик старался как можно чаще напоминать вассалам о своих прерогативах в качестве верховного судьи. Вот один из характерных эпизодов, который приводит в жизнеописании Людовика VI аббат Сугерий из Сен-Дени, друг и приближенный короля: «…Граф Матье Бомонский, движимый старыми обидами, восстал на своего тестя Гуго Клермонского, человека знатного, но мягкого или, скорее, даже простоватого. Он занял целиком замок Лузарш (Luzarches), половина которого до этого уже была его, согласно брачному контракту, и готовился защищать башню силой оружия при помощи вооруженных людей. Что оставалось делать Гуго? Поспешив к защитнику королевства, он в слезах припал к его ногам и умолял его помочь старому человеку, оказать поддержку ему, столкнувшемуся со столь серьезной угрозой. «Я предпочел бы, мой щедрый господин, — говорил он, — чтобы все мои земли достались тебе, тем более я все равно держу их для тебя, чем моему недостойному зятю. Если он отберет их у меня, то мне лучше умереть». Глубоко тронутый его печальными обстоятельствами, Людовик пожал ему руку в знак дружбы, обещал свою помощь и, обнадежив, отослал его домой. И надежда эта не была напрасной.
Сразу же к графу отправились гонцы и приказали ему, именем короля, вернуть естественному владельцу землю, которую он незаконно присвоил, сказав, что этот случай будет рассмотрен в определенный день в королевском суде. Когда Матье отказался повиноваться, защитник королевства поспешил отомстить. Он собрал большую армию, двинулся вперед и подошел к замку. Он сражался и оружием, и огнем и после жаркой схватки взял замок, заключил гарнизон в башню и вернул его Гуго, как тот и просил»{33}.
У Капетингов не было (и не могло быть) представлений о некой единой Франции, сколько-нибудь близких к нашим сегодняшним представлениям. Их королевство — если подразумевать под этим систему отношений власти и политических институтов, опиравшихся на правовые установления, — формировалось «по кирпичику», за счет разрешения в выгодную для короны сторону множества мелких конфликтов — вокруг замка, городка или даже какого-нибудь луга, — судебных споров, династических браков, неожиданных смертей… Случались здесь «приливы» и «отливы». Например, брак с Элеонорой, графиней Аквитанской, принес Людовику VII в 1137 году ее огромное графство, занимавшее нею юго-западную часть нынешней Франции. Но семейная жизнь этой пары по разным причинам не сложилась, и вскоре после развода с Людовиком Элеонора заключила новый брак — с английским королем Генрихом II. В результате Аквитания расширила континентальные владения династии Плантагенетов, к которой принадлежал Генрих. Однако большая часть этих владений с давних пор была ленами французской (западнофранкской) короны, так что за них английский монарх — в качестве герцога или графа соответствующей территории — должен был приносить оммаж королю Франции. Так возникла одна из главных политических коллизий средневекового Запада, приведшая к длительному конфликту между Капетингами и Плантагенетами. Он был урегулирован (правда, не навсегда) только в 1259 году, когда Людовик IX заключил Парижский мир с Генрихом III Английским. Как бы то ни было, тактика Капетингов оставалась неизменной: их «главным достижением… было постоянное давление, которое они оказывали на крупнейших феодалов, — и в конце концов они осуществили огромные территориальные приращения, что позволило им в течение одного столетия стать подлинными суверенами всего французского королевства»{34}.
* * *
Большая часть этих приращений была осуществлена в царствование Филиппа II (1180–1223), с подачи придворных панегиристов прозванного Августом, в подражание римским императорам. У современников было немало оснований петь хвалы этому монарху. За его долгое правление королевский домен был многократно расширен, прежде всего за счет земель на севере и северо-западе Франции, принадлежавших Плантагенетам. Континентальные владения этой династии включали Нормандию, Анжу, Пуату и Аквитанию — земли, о которых английский хронист конца XI века Рауль из Дицето отзывался как о принадлежащих к числу «счастливейших и плодороднейших, с возделанными полями, с городами, с лесами, изобилующими дичью, с весьма здоровыми водами»{35}. Будучи поначалу куда слабее своих вассалов — Плантагенетов в военном и политическом плане, французский король был сильнее в плане правовом и не раз ловко этим пользовался.
Тем не менее «Анжуйская империя»[23] представляла собой немалую угрозу для королевства Капетингов, которое оказалось зажато между землями Плантагенетов и «Священной Римской империей», заметно усилившейся под жесткой властью Фридриха Барбароссы[24]. Людовик VII, отец Филиппа Августа, сознавал это, когда с грустью и довольно поэтично описывал положение соседних государей и свое собственное: «Греческий император и сицилийский король могут хвастаться своим золотом и шелками, но у них нет мужей, способных проявить себя в битве. У римского императора, как называет себя немецкий король, такие мужи есть, есть и боевые кони, но нет ни золота, ни шелков, ни иного богатства… Зато… королю Англии нет нужды ни в чем, у него есть мужи, кони, золото, шелка, драгоценности, плоды и дичь. У нас же во Франции нет ничего, кроме хлеба, кипа и веселья»{36}.
Здесь нет возможности подробно описывать многолетние дипломатические и военные маневры, с помощью которых Филиппу Августу удалось переиграть своих соперников. Его успех, однако, был однозначным: 27 июля 1214 года в битве при Бувине король разгромил войска англичан и пеструю армию, приведенную союзником Плантагенетов, тогдашним императором Отгоном IV. Бувин быстро занял почетное место в национальной мифологии французов. Хронисты отмечают небывалую радость, охватившую буквально все слои общества при известии об этой победе, и великолепные торжества, устроенные королем по возвращении с поля битвы. Впоследствии Бувин стало принято считать одним из важных этапов формирования французской идентичности, моментом, когда разрозненные подданные короля, возможно, впервые ощутили себя единым целым, а саму монархию — олицетворением этого единения: «Победа, которую даровал ей Бог, действительно освятила монархию Капетингов»{37}.
Можно сказать, что именно тогда, пользуясь терминологией Жака Маритена, жители Французского королевства, еще рыхлого, раздробленного, очень далекого от нынешних представлений о «нормальном» государстве, стали превращаться из сообщества (community) в общество (society). И именно тогда был совершен заметный шаг к возникновению французов как «сообщества людей, которые осознают себя в том виде, в каком их создала история, которые связаны со своим прошлым и любят себя такими, каковы они есть или какими являются в их собственных представлениях о себе»{38}. Не случайно именно при Филиппе Августе древний титул «король франков» (Rex Francorum) уступает место титулу «король Франции» (Rex Franciae). Это символизировало перемены в положении и страны, и монарха, трансформацию самого представления о нем. Некогда обозначая просто вождя племени или группы племен, теперь rex становится титулом государя, пользующегося правами верховного сюзерена на определенной территории, притом что пестрый конгломерат феодальных владений во Франции сохранялся еще очень долго, несмотря на рост королевского домена. К тому же при Филиппе Августе закрепляется особое положение французского короля как монарха в высшей степени независимого. В 1202 году в папской декреталии Per venerabilem было официально заявлено, что король Франции не имеет над собой никакого высшего светского властителя.
Это, естественно, было выпадом против императора, с которым враждовал Иннокентий III, занимавший в тот момент папский престол. Однако французский монарх, в отличие от некоторых других государей (в том числе Иоанна Английского, прозванного Безземельным), не стал и формальным вассалом папы. Через несколько десятилетий это позволило Людовику IX гордо провозгласить, что «власть короля — ни от кого, лишь от Бога и от него самого»{39}. Что касается Рима, то папа Иннокентий, человек проницательный и умевший быть весьма дипломатичным, сформулировал в послании к французским епископам в 1204 году компромиссную позицию по отношению к власти короля Франции. Эта позиция позволила и самому Иннокентию III, и его ближайшим преемникам на папском престоле достичь с Капетингами взаимовыгодного modus vivendi: «Пусть никто не думает, будто мы стремимся уменьшить или поколебать власть короля Франции, коль скоро он не стремится воспрепятствовать… нашим правомочиям и власти; мы не намерены судить его в том, что касается [его] владений, право судить о которых принадлежит ему… Но мы выносим решения в том, что касается [людских] прегрешений, и право на такой суд несомненно принадлежит нам, и мы можем и должны применять это право против кого бы то ни было»{40}.
Укрепив внешнеполитические позиции французской короны, Филипп Август не забыл и о делах внутренних. При нем закладываются основы государственного аппарата, которые заметно расширит и разовьет его внук Людовик Святой. Упорядочивается система феодальных отношений, причем права короля как высшего сюзерена начинают реализовываться более жестко и последовательно. Король берет верх над многими могущественными вассалами, которые ранее доставляли немало хлопот его предкам. Вот, скажем, краткая история взаимоотношений Капетингов с графами Блуа-Шампанскими: «Дом Блуа-Шампанский имел, подобно Фландрскому, непосредственные отношения к империи. Людовик VII при вязал его к королевской власти при помощи браков и почестей… Адель вышла замуж за самого Людовика и была матерью Филиппа Августа. Таким образом, Людовик VII собственными руками сплел сеть, в которой чуть было не запуталась королевская власть. Шампанцы стремились то господствовать над королевской властью, то освободиться от нее. Сенешал Тибо заключил в 1159 году союз с королем Англии и вторгся в королевский домен. Генрих Щедрый… также изменил Людовику VII… У молодого Филиппа Августа происходили резкие столкновения с шампанцами… Филипп Август одолел этот шампанский дом только после смерти молодого графа Тибо III; его вдова, Бланка Наварская, отдалась под покровительство короля, передала ему замки, и с тех пор он мог извлекать из Шампани значительные средства людьми и деньгами»{41}. Тем не менее с сыном Тибо III и Бланки Наваррской, Тибо IV Шампанским, впоследствии королем Наварры, мы еще встретимся — и увидим, что и он далеко не всегда хранил верность французской короне.
Расширение королевского домена и укрепление бюрократии приносят конкретные плоды: королевская казна пополняется небывалыми темпами. Вскоре после смерти Филиппа II некто Конан, прево Лозанны в Швейцарии, побывав в Париже, записал слышанное им от королевских чиновников. По их словам, покойный государь «обогатил королевство так, что и представить себе невозможно. В то время как король Людовик [VII], его отец, не оставил ему никаких доходов… кроме 19 тысяч ливров, он сам завещал Людовику [VIII], своему сыну, доход в 1200 парижских ливров в день… А также оный король Филипп распорядился в своей последней воле взять из тех средств, что он скопил в помощь Иерусалимскому королевству, 700 тысяч марок на защиту королевства Французского и для нужд его сына Людовика»{42}.
При этом Филипп Август не был ни идеальным монархом, ни уж тем более идеальным человеком. Несмотря на восторженные отзывы о нем со стороны многих современников и потомков, сохранилось также достаточно свидетельств, говорящих о сложной, нервной, коварной и жестокой натуре короля. Филипп обманывал своих политических партнеров, беззастенчиво, со дня на день, менял союзы, не проявлял милосердия к побежденным, был весьма далек от христианского благочестия, женолюбив, не чужд вину и азартным играм, подвержен припадкам гнева… По причинам, так и оставшимся до конца не выясненными, он отверг свою вторую жену, Ингеборгу Датскую, и женился в третий раз, на Агнессе Меранской, вызвав гнев Иннокентия III, который на некоторое время наложил на Францию интердикт — запрет на богослужения. Несколько лет спустя король, правда, был вынужден под давлением Рима развестись с Агнессой (она вскоре умерла — некоторые современники утверждали, что от горя). Еще через 12 лет Филипп примирился с Ингеборгой — скорее по политическим причинам, нежели из раскаяния. Некоторые странности в поведении монарха, в том числе история с изгнанием Ингеборги, весьма повредившим Филиппу политически, возможно, связаны с нервной болезнью, из-за которой он однажды даже лишился большей части волос и ногтей.
Но кого, в самом деле, могли всерьез волновать пятна на солнце величия короля Филиппа, если солнце это сияло столь ярко? В последние годы правления, после Бувина, Филипп Август был на вершине популярности. Именно таким пожилой государь запомнился своему старшему внуку, будущему Людовику Святому. Младший внук, Карл, его уже не застал — Филипп II умер летом 1223 года, передав престол своему сыну Людовику. О том, насколько укрепилась монархия Капетингов за время правления Филиппа Августа, свидетельствует тот факт, что Людовик VIII, вопреки обычаю, не был коронован при жизни отца и вдобавок вступил на престол просто по праву наследства, без какого-либо формального собрания «лучших людей» королевства (хотя в более поздние времена такие собрания еще несколько раз проводились).
* * *
Тридцатипятилетний Людовик был полон энергии и известен не только во Франции, но и за ее пределами. Самым ярким, хоть в итоге и неудачным, предприятием в его жизни стала попытка завоевания английского престола в 1216 году, когда бароны Англии взбунтовались против своего непопулярного короля Иоанна Безземельного. Часть мятежников предложила корону принцу Людовику, он во главе армии высадился в Англии и был провозглашен королем в лондонском соборе Св. Павла. Удача, однако, сопутствовала ему недолго. После смерти короля Иоанна[25] большинство баронов переметнулось на сторону его сына, малолетнего Генриха III, видимо рассудив, что беззащитный мальчик Платагенет на троне для них куда выгоднее, чем взрослый, властный и воинственный Капетинг{43}. Стать новым Вильгельмом Завоевателем принцу Людовику не удалось: он потерпел поражения в двух битвах с англичанами, сухопутной и морской, после чего был вынужден подписать малопочетный мир, по условиям которого за денежную компенсацию согласился признать незаконным (вернее, «никогда не бывшим») собственное краткое пребывание на английском престоле.
Два других военных предприятия Людовика оказались более успешными. Вскоре после вступления на трон он участвовал в присоединении графств Пуату и Сентонж к владениям французской короны, а в 1226 году возглавил крестовый поход против альбигойцев. Итогом последнего стало утверждение власти Капетингов на большей части южнофранцузских земель. Санкцию на это французскому королю дал собор католической церкви, созванный в конце 1225 года в Бурже. Времени на большее судьба Людовику VIII не отвела: возвращаясь с юга, он заболел дизентерией и умер на сороковом году жизни. Его правление длилось всего три года и «затерялось» между долгими царствованиями его отца и сына, каждый из которых находился у власти более 40 лет.
Некий трубадур из Реймса, чье имя до нас не дошло, дал Людовику VIII такую характеристику: «Этот Людовик был отважен, смел и воинствен, обладал сердцем льва, но познал и страдания, и горести»{44}. Прозвище «Лев» закрепилось за этим королем — несмотря на преследовавшие его с детства болезни, Людовик отличался любовью к военному делу и немалой воинственностью. При этом Людовик Лев был весьма набожным человеком, получившим хорошее по тем временам образование — его учителем был известный богослов Стефан, епископ Турнэ.
Одно из важнейших решений, которое на многие годы вперед определило развитие Французского королевства, Людовик VIII принял незадолго до смерти. Отправляясь в поход против еретиков, он составил завещание, в котором разделил свои владения между сыновьями. Монарх завещал старшему сыну Людовику, которому тогда было девять лет, высшую власть во всем государстве, ту совокупность прав и территорий, которая именовалась королевским доменом, и большую часть накопленных богатств. Однако три других сына были наделены лишь немногим менее щедро. Роберт па достижении взрослого возраста должен был получить графство Артуа, которое некогда входило в приданое его матери; Иоанну (Жану) предстояло вступить ко владение графствами Анжу и Мэн; наконец, Альфонсу досталось обширное графство Пуату. Что касается младших сыновей, то их, как это часто бывало в знатных семьях, ждала церковная карьера. О будущем Карле Анжуйском в завещании Людовика VIII не говорится новее — он тогда еще не родился.
Характерно, что три из четырех графств, завещанных Людовиком VIII Роберту, Жану и Альфонсу, были недавними приобретениями французской короны, отвоеванными у Плантагенетов. В связи с этим некоторые историки предполагают, что, завещав эти владения сыновьям, Людовик Лев стремился закрепить власть своей династии в землях, которые еще несколько лет назад принадлежали соперникам Капетингов{45}. Что касается самого принципа разделения владений в рамках королевской семьи, то как таковой он не представлял собой ничего необычного. Несколькими десятилетиями ранее подобным образом распределил свои земли между сыновьями Генрих II Английский — что, впрочем, не избавило его от многолетних семейных раздоров. А во Франции владения делили между отпрысками еще короли из династии Меровингов[26]. С той, правда, разницей, что и сам титул короля наследовался не только старшим, но и остальными сыновьями, в результате чего королевская власть дробилась между уделами и приходила в упадок.
О подлинном единстве Французского королевства, впрочем, не приходится говорить и применительно к первой половине XIII века. Как отмечает Джон Манди, «Франция была все еще очень раздроблена; частные войны[27] сохранялись там значительно дольше, чем в Англии. Бланка Кастильская объявила их ведение незаконным в королевском домене, но попытка Людовика IX расширить действие этого распоряжения на все королевство натолкнулась на сопротивление… То, что в Англии происходило на общегосударственном уровне, во Франции оставалось на уровне местном»{46}. Тем не менее и во Франции принцип верховенства королевской власти к XIII веку уже утвердился достаточно прочно. Однако следует признать анахронизмом утверждение, будто система апанажа «подготовила почву для полной и беспрепятственной аннексии земель королем после того, как каждый такой апанаж возвращался к короне»{47}. Ведь гарантий возвращения не было: ни Людовик VIII, ни другие короли, предоставлявшие апанажи своим младшим отпрыскам, не знали, как сложится судьба последних и станут ли они основателями собственных династий в доставшихся им владениях.
Земли Альфонса де Пуатье действительно вернулись в распоряжение короны, поскольку он умер в 1270 году бездетным. Зато Роберт, погибший в крестовом походе в Египте в 1250 году, основал династию графов д'Артуа, которая в XIV веке благодаря нескольким бракам слилась с родом герцогов Бургундских. Кстати, именно претензии на владения покойного графа Альфонса, выдвинутые Карлом Анжуйским, привели к официальному оформлению правила, согласно которому земли, полученные в апанаж, возвращаются короне в случае, если у их скончавшегося владельца не осталось прямых наследников. Переход апанажа к следующему по старшинству брату, то есть от одной из младших линий королевского рода к другой, не допускался. Такое решение вы пес в 1284 году парижский парламент[28], отвергнув требования Карла Анжуйского[29].
Таким образом, разделив земли между сыновьями, Людовик VIII поступил вполне традиционно и, скорее всего, без каких-либо задних мыслей. Иное дело, что к тому времени владения Капетингов настолько разрослись, что, получая свою долю наследства, младшие сыновья короля становились небывало могущественными владетельными сеньорами. Дальше многое зависело от субъективных факторов. При Людовике IX эти факторы — долгое правление самого Людовика, тесное сотрудничество между ним и его братьями и дальнейшее расширение владений короны — способствовали укреплению королевской власти. Позднее бывало и иначе[30]. Рождение Франции было очень долгим процессом. И хотя к концу XIII века благодаря успехам, достигнутым в царствования Филиппа Августа и Людовика Святого, Французское королевство представляло собой одно из самых могущественных государств тогдашней Европы, здание французской монархии достраивалось и перестраивалось и после того, как сошла с исторической сцены старшая ветвь Капетингов — это случилось со смертью ее последнего мужского представителя, Карла IV Красивого (1322–1328). Но фундамент, заложенный этой династией, оказался чрезвычайно прочным.
Рождение Франции: хронология
987 — Гуго Капет избран королем западных франков. В том же году его младший сын Роберт коронован в качестве соправителя.
987–993 —конфликт Гуго и герцога Карла Нижнелотарингского, одного из потомков династии Карла Великого.
996 — смерть короля Гуго, восшествие на престол в качестве единоличного правителя Роберта II Благочестивого.
1006, 1023 — встречи короля Роберта с немецким (восточнофранкским) королем и императором Священной Римской империи Генрихом II. Церемонии, сопровождавшие эти свидания, подчеркивали равенство обоих государей, что заложило основы взаимоотношений между двумя монархиями на многие годы вперед.
1027 —коронация Генриха, второго сына короля Роберта, в качестве соправителя.
1031 — Генрих I наследует престол после смерти отца.
1041 — подавление мятежа Одо, младшего брата короля.
1057 — король оказывает помощь Вильгельму II, герцогу Нормандскому, в подавлении мятежа местных баронов. Сближение с Нормандией в противовес растущему могуществу графов Анжуйских.
1051 — брак Генриха I с Анной Ярославной, дочерью Ярослава Мудрого, великого князя Киевского.
1059 — коронация Филиппа, старшего сына Генриха I, в качестве соправителя.
1060 — смерть короля Генриха, вступление малолетнего Филиппа I на престол — при регентстве Балдуина V, графа Фландрского.
1067 — начало самостоятельного правления Филиппа.
1072–1077 — обострение отношений между Филиппом I и папским престолом в связи со спором об инвеституре.
1076–1087 — конфликты французского короля с Вильгельмом Завоевателем, герцогом Нормандии, с 1066 — королем Англии.
1092 — король расстается со своей супругой Бертой Голландской и женится на Бертраде де Монфор, супруге графа Анжуйского, которую похищает. Из-за этого брака папа Урбан II отлучает Филиппа I от церкви.
1100 — Людовик, старший сын короля от брака с Бертой, провозглашен соправителем.
1101 — попытка Бертрады де Монфор отравить Людовика.
1104 — после публичного покаяния Филипп и Бертрада получают прощение церкви. Примирение Бертрады и младшего короля Людовика.
1107 — компромиссное соглашение между Францией и Святым престолом по вопросу об инвеституре. Визит папы Пасхалия II во Францию.
1108 — смерть Филиппа I, воцарение Людовика VI.
1108–1112 — конфликты с английским королем Генрихом I, графом Блуа и еще несколькими вассалами.
1117–1120 — поход в Нормандию, примирение с королем Англии.
1119 — визит папы Каликста II, союз Франции со Святым престолом.
1124 — конфликт с императором Генрихом V; Людовик VI собирает большое войско у Реймса.
1126 — 1128 — успешные походы в Овернь и Фландрию.
1131 — смерть наследника трона Филиппа, коронованного в качестве соправителя двумя годами ранее. Второй сын короля, Людовик, коронован в Реймсе папой Иннокентием II.
1132–1133 — война короля с графом Тибо II Блуа-Шампанским.
1137 —брак наследника трона Людовика с Элеонорой Аквитанской, смерть Людовика VI и начало самостоятельного правления Людовика VII.
1146 — король признал Джеффри (Жоффруа) Плантагенета, родоначальника будущей династии королей Англии, в качестве герцога Нормандского.
1147—1149 — участие Людовика VII во Втором крестовом походе.
1152 — развод короля с Элеонорой Аквитанской, вышедшей впоследствии замуж за Генриха II Английского.
1160 — Людовик VII женится на Адели, дочери графа Блуа-Шампанского.
1159–1170 — конфликты с Генрихом II Английским.
1165 — рождение наследника трона Филиппа.
1179 — тяжелая болезнь короля; коронация Филиппа в качестве соправителя.
1180 — смерть Людовика VII, начало правления Филиппа II Августа. Первый брак нового короля — с Изабеллой д'Эно (сын от этого брака — будущий Людовик VIII).
1185 — в Бовэ заключены соглашения Филиппа II с могущественными графами Шампанским и Фландрским.
1188 — Ричард Львиное Сердце, король Англии, приносит королю Филиппу оммаж за свои континентальные владения.
1189–1192 — участие Филиппа и Ричарда в Третьем крестовом походе.
1193 — скандальный брак короля с Ингеборгой Датской; король не принял жену и сослал ее в монастырь.
1194–1199 — война с Ричардом Львиное Сердце.
1196 — третий брак Филиппа Августа — с Агнессой Меранской.
1200 — папа Иннокентий III объявил интердикт над Французским королевством из-за матримониальных проблем короля Филиппа.
1202 — заочный суд над Иоанном Безземельным, королем Англии, признанным виновным в нарушении вассальных обязательств перед Филиппом Августом.
1204 — покорение Нормандии и Пуату французским войском.
1208 — начало крестового похода против альбигойцев.
1214 — битва при Бувине, Шинонский мирный договор с Иоанном Безземельным, выгодный для Франции.
1215–1217 — война Иоанна Безземельного с английскими баронами и поход французского наследного принца Людовика в Англию.
1223 — смерть короля Филиппа II Августа, воцарение Людовика VIII.
1226 — новый поход короля против еретиков на юге Франции. Болезнь и смерть Людовика VIII.
Посмертный или порфирородный?
В первых числах ноября 1226 года в Париж, где находилась королева Франции Бланка с детьми, прибыл гонец, принесший тревожное известие. Король Людовик VIII, который несколькими месяцами ранее выступил в крестовый поход против графа Тулузского, обвиненного в покровительстве еретикам, занемог и на обратном пути в столицу вынужден был остановиться в замке Монпансье графства Овернь. Самочувствие короля быстро ухудшалось[31]. Чувствуя, что умирает, Людовик VIII послал за наследником, принцем Людовиком, которому было всего 12 лет. Мальчик с матерью и небольшой свитой поспешно выехали из Парижа. Однако по дороге они встретили священника, который направлялся в Париж из Оверни и нес весть еще более печальную — о смерти короля, 14 ноября тело Людовика VIII доставили в Париж и на следующий день погребли в базилике Сен-Дени, усыпальнице французских монархов. Новым королем Франции стал Людовик IX, худой, серьезный, и свои годы уже очень набожный мальчик. Фактически же власть перешла к королеве Бланке, вдове покойного и дочери Альфонсо VIII, короля Кастилии. Вероятно, в момент смерти мужа и вступления на престол старшего сына она была беременна своим последним ребенком. Именно «вероятно», но не более того. Рождение принца Карла окружено загадками. Метрических книг в те времена не вели даже в королевской семье — обязательная регистрация рождений и смертей будет заведена но Франции только в XVI веке. Дата рождения младшего сына Людовика VIII и Бланки Кастильской известна — 21 марта, накануне дня весеннего равноденствия, — а вот с годом дела обстоят сложнее. Наиболее вероятно, что Карл Анжуйский появился на свет в 1227 году, уже после смерти отца. Тогда становится ясно, почему об этом ребенке ничего не сказано в завещании Людовика VIII, составленном за несколько месяцев до смерти. С другой стороны, сохранились сведения о младенце по имени Этьен (Стефан), которого королева Бланка якобы родила в 1226 году. Но более поздних упоминаний о принце с таким именем нет{48}. То ли Этьен вскоре после рождения умер, а Карл появился на свет после смерти отца, то ли Этьен и Карл — одно и то же лицо, просто по каким-то причинам принцу вскоре сменили имя. В пользу 1226 года говорит упоминаемая английским хронистом Матвеем Парижским[32] привычка Карла говорить о себе как о «порфирородном»{49},[33] (в отличие от старших братьев). Но многие историки подвергают сомнению надежность Матвея как источника в том, что касается событий во Франции{50}.
Имя — первое, что связало Карла с генеалогией и мифологией французского королевского дома. Во второй половине XII века наследникам Гуго Капета удалось соединиться с потомками Карла Великого. Плодом первого брака Филиппа II Августа — с Изабеллой (Елизаветой) д'Эно — стал будущий Людовик VIII, унаследовавший кровь Каролингов по обеим линиям — отцовской (через Адель Шампанскую, мать Филиппа Августа) и материнской (графы Фландрские, предки Изабеллы, тоже вели родословную от Карла Великого). С этого момента «французские хронисты могли радоваться тому, что в их короле соединились обе династии. Людовик [VIII] также стал первым капетингским наследником престола, не коронованным при жизни отца»{51}.
С «каролингизацией» правящей династии, очевидно, было связано и появление имени Карл среди членов королевской семьи. С учетом сказанного выше не очень удивительно, что до рождения Карла Анжуйского это имя не встречается среди французских принцев — потомков Гуго Капета. Единственным исключением может считаться внебрачный сын Филиппа Августа — Пьер Шарло, сделавший церковную карьеру. В его двойном имени, однако, второе, Шарло (Charlot) — уменьшительное от Карла (Charles); причины этого доподлинно неизвестны — возможно, король постеснялся называть бастарда полным именем великого императора. Учитывая непростые обстоятельства, в которых оказалась французская монархия в первые месяцы после смерти Людовика VIII, можно предположить, что королева Бланка намеренно дала младшему сыну имя, напоминавшее о Карле Великом, родством с которым гордилась династия. Вот почему и версия о том, что загадочный Этьен и Карл Анжуйский — одно и то же лицо, не кажется неправдоподобной: ребенку действительно могли сменить имя на более громкое, точнее, несшее актуальный политический смысл.
Лев и львица
Любопытно, что, насколько можно судить по сохранившимся сведениям[34], старший и младший сыновья Людовика Льва — Людовик Святой и Карл Анжуйский — унаследовали черты характера отца в наибольшей мере, но в неодинаковых пропорциях. Людовик IX Святой был прежде всего королем-христианином, который смотрел на войну как на способ реализации христианского идеала, поэтому оправданной и благой для него была лишь война с врагами Христа — крестовый поход. Карл Анжуйский, напротив, оставался главным образом воином, для которого вера Христова и интересы церкви служили своего рода духовным обоснованием его военно-политической деятельности.
Что касается двух других сыновей Людовика VIII, доживших до взрослого возраста, то об их характерах мам известно заметно меньше. Гибель одного из них, Роберта д'Артуа, в 1250 году в безрассудной атаке на египетскую крепость Аль-Мансура во время крестового похода, организованного Людовиком IX, позволяет предположить, что он обладал воинственным пылом Людовика Льва, но не имел должной рассудительности. Другой брат, Альфонс де Пуатье, впоследствии граф Тулузский, тоже участвовал в крестовых походах, но получил известность скорее благодаря несколько деспотичному, однако умелому и благоразумному правлению в графстве Тулузском. Эти земли, доставшиеся ему в результате династического брака, тогда были разорены войной с еретиками и тяжело привыкали к власти культурно и политически чуждой местному населению династии Капетингов.
Эти четыре брата и сестра Изабелла[35], а также еще шестеро сыновей (если не считать упомянутого выше загадочного Этьена) и две дочери, умершие в раннем возрасте, были плодами брака Людовика VIII и Бланки Кастильской, заключенного 23 мая 1200 года. Жених и невеста в тот момент были еще детьми — обоим исполнилось 12 лет, их первый ребенок появился на свет лишь пять лет спустя. Брак, как и полагалось в королевских семьях, имел политическое значение: он должен был послужить упрочению отношений Французского королевства не только с Кастилией, чьим королем был отец невесты, но и с Англией. Ведь по матери, Элеоноре Английской, Бланка происходила из династии Плантагенетов[36]. Однако надежды последних не оправдались. Как отмечает современный историк, юная принцесса «очень скоро полностью встала на сторону своего мужа и всю жизнь благодаря своей энергичной натуре была ему надежной опорой»{52}.
«Энергичная» — очень сдержанная и недостаточная характеристика этой женщины. Если ее мужа называли Львом, то ей вполне подошло бы прозвище Львица — причем не только в значении «супруга Льва». Бланка была очень сильной натурой, ее регентство при малолетнем (а затем уже и вполне взрослом) Людовике IX доказало это. Не стоит забывать, что Бланка жила в эпоху, когда даже в королевских семьях женщина «была ничем… ничем кроме объекта, кроме лица и тела, образа из мечты, который потом неизбежно разбивался о грубую реальность, чтобы занять в ней свое место — не более чем первой из служанок, обреченной на одну беременность за другой и раннюю смерть. Королева в силу положения своего супруга, регентша на время несовершеннолетия сына, сама по себе — ничто… Просто женщина, а значит — ничего особенного, даже если эта женщина пыла дочерью короля…»{53} Бланка Кастильская сумела доказать, что бывает и по-другому.
Чтобы понять, насколько нелегко ей пришлось сразу после смерти мужа, вернемся в хмурую осень 1226 года, когда трон Франции занял король-мальчик. Известно, что 3 ноября умирающий Людовик VIII в присутствии ведущих баронов и прелатов, находившихся при его войске, велел им принести клятву верности его сыну и как можно скорее провести коронацию нового государя. Судя по всему, конкретного распоряжения относительно регентства при малолетнем короле его отец не отдал, тем более что и достаточной правовой базы для такого института во Французском королевстве в тот момент не существовало. Жак Ле Гофф в своей биографии Людовика Святого на основании анализа сохранившихся документов 1226–1227 годов утверждает, что группа вельмож и церковных иерархов в первые месяцы после смерти Людовика VIII сделала ставку па вдовствующую королеву. Эти люди рассчитывали сделать Бланку своей марионеткой и править, прикрываясь именами юного короля и его матери. Однако королева в этом отношении не оправдала надежд: «Она полностью посвятила себя защите интересов… короля-отрока и вместе с тем делу сохранения и упрочения французской монархии. Она взяла в свои руки бразды правления, которые “правительственная команда*' вверила ей па время несовершеннолетия Людовика, и уже не выпускала их»{54}.
При этом правительнице пришлось столкнуться с сопротивлением многих влиятельных особ. Еще летом 1226 года, когда Людовик VIII осаждал Авиньон на юге Франции, несколько могущественных вассалов, прежде всего Тибо (Теобальд) IV, граф Шампанский, Пьер Моклерк, граф Бретонский, и Гуго де Лузиньян, граф де ла Марш, устроили демонстративную выходку, уведя свои отряды от осажденного города. Они сделали это ровно через 40 дней после прибытия — таков был минимальный срок, на который вассал короля должен был предоставлять своих людей в распоряжение сюзерена в случае войны. Обычно, однако, если кампания затягивалась, продлевался и срок службы, поэтому шаг трех графов и примкнувших к ним вельмож был откровенным демаршем против короля. Разбираться с непокорными баронами пришлось не скоропостижно скончавшемуся Людовику Льву, а его вдове.
Прежде всего Бланке удалось обезвредить Филиппа Строптивого (Philippe Hurepel)[37] — дядю юного короля, чьему честолюбию, судя по всему, вредил недостаток упорства. Филиппа задобрили: он получил несколько крупных замков, в его пользу корона также разрешила ряд имущественных конфликтов, касавшихся пяти графств, которые уже находились во владении Филиппа. В 1234 году этот королевский родственник умер от последствий ранения, полученного на рыцарском турнире. Тем самым судьба избавила юного Людовика от потенциальной угрозы с его стороны.
Другой угрозой был Тибо Шампанский, один из самых могущественных сеньоров королевства — не только по размерам владений в центральной Франции, сжимавших в тиски королевский домен, но и по способностям и силе характера. Ходили темные слухи о том, что граф справил Людовика VIII — якобы из-за уже тогда вспыхнувшей в нем страсти к королеве Бланке. (Как пишет Матвей Парижский: «Была пущена молва, что граф I ибо отравил короля ядом, потому что решил преступным путем овладеть королевой, к которой питал самые нежные чувства»{55}.) Тибо был не только вельможей и политиком, но и, как полагали многие современники, образцом рыцаря, а также талантливым поэтом, сочинявшим песни и куртуазную любовную лирику[38]. Бланка Кастильская, видимо, затронула романтическую сторону его натуры — не без ущерба для собственной репутации; молва некоторое время обвиняла королеву в любовной связи с графом Шампанским. Как бы то ни было, к 1229 году Тибо перешел на сторону юного короля и его матери и, несмотря на некоторые колебания, и дальнейшем сохранял им верность. И здесь обстоятельства благоприятствовали Капетингам: плести новые интриги Тибо мешали не только чувства к Бланке, каковы бы они ни были, но и актуальные политические проблемы. Ведь граф вступил в спор с родственницей о наследстве в Шампани, что отняло у него много сил и средств. Ну а потом на Тибо навалились дела далекого королевства Наварра, чья корона перешла к нему в 1234 году после смерти его дяди по матери, короля Санчо VII.
Королеве-регентше удалось справиться и с третьим серьезным заговорщиком — Пьером Моклерком, графом Бретонским, который много лет играл на противоречиях между Капетингами и Плантагенетами, склоняясь то на одну, то на другую сторону. В ходе нескольких кампаний Моклерк был хоть и не разбит, но сильно потеснен и принужден заключить мир с Людовиком IX (1231).
В этой войне большую помощь короне оказал Тибо Шампанский, и позднее король воздал ему должное, отправив, в свою очередь, собственное войско на помощь Тибо, против которого выступила целая коалиция баронов. Только к концу 1242 года Людовик IX и Бланка Кастильская могли вздохнуть спокойно: они справились с большинством угроз со стороны собственных вассалов. Очевидно, благоприятную роль здесь сыграли не только политические способности регентши, но и наследие Филиппа Августа: королевский домен, значительно расширенный и укрепленный дедом, дал внуку достаточно сил и средств для противостояния непокорным. Другими факторами можно считать отсутствие единства в рядах мятежников и нерешительность английского короля Генриха III, который не сумел воспользоваться смутой во Франции для того, чтобы восстановить позиции Плантагенетов на континенте. Генрих поддержал последний крупный мятеж, поднятый против Людовика графом Гуго де ла Маршем, который приходился английскому королю отчимом[39], но действовал крайне неудачно. В битве при Сенте 23 июня 1242 года мятежники и их английские союзники были разбиты, Генрих Английский бежал, а Гуго де ла Марш был вынужден прилюдно каяться перед Людовиком IX. (Семь лет спустя этот ненадежный вассал погиб в Египте во время организованного Людовиком крестового похода — см. главу II.) К тому времени королю Франции было уже 28 лет. Хотя официально — а во многом и де-факто — Людовик правил самостоятельно, политическое влияние его матери еще долго оставалось сильным. Оно «длилось вплоть до ее смерти в 1252 году, хоть и несколько ослабло после 1244-го, когда королем всецело овладела идея крестового похода»{56}. Но влияние этой властной женщины, конечно, не ограничивалось политическими вопросами. Жан де Жуанвиль, сенешаль Шампани и друг Людовика Святого, оставивший во многих отношениях уникальное жизнеописание короля, воздает в нем должное его матери: «Что до его души, то Господь охранял ее с помощью добрых наставлений его матери, которая учила его верить и любить Бога и окружила его разными набожными людьми. <…> Он вспоминал, как однажды его мать дала ему понять, что предпочла бы, чтобы он лучше умер, нежели совершил смертный грех»{57}.[40] Не мог не почувствовать влияния Бланки Кастильской и младший из принцев, Карл, выраставший при дворе Людовика IX в первые неспокойные годы его правления. В конце жизни, отвечая на вопросы церковной комиссии, собиравшей материалы для канонизации его брата, сам Карл говорил о выдающейся роли, которую сыграла королева и жизни всех своих детей.
С братьями
Пожалуй, мало в чем разница между современным мышлением и образом жизни и тем, как жили и воспринимали мир люди Средневековья, столь велика, как в отношении к Богу и к детям. Что касается первого, то ни понять те времена, ни просто рассуждать о них невозможно, если не принимать во внимание теснейшую связь между земным и небесным, которую средневековый человек ощущал постоянно. Он был неспособен «отделить дела земные от их сверхъестественного контекста. Людям, которые видели в таких природных явлениях, как бури, голод или затмения небесных светил, непосредственное воплощение божественной воли, попытка подобного разделения показалась бы совершенно нереалистичной. Религиозная вера задавала их отношение ко всему социальному бытию, она определяла структуру каждого института»{58}. Клятвы и присяги приносились на Евангелии, войны велись именем Бога, да и само положение человека в иерархической системе тогдашнего общества воспринималось как данное свыше: в соответствии с великолепным и непостижимым замыслом Провидения каждому отведена своя функция в «Божьей храмине» мироздания.
При этом неисповедимость путей Господних подтверждалась на каждом шагу. Ведь тогдашний мир был лишен и сотой доли тех страховочных механизмов, которыми человечество обзавелось позднее, — развитой медицины, продляющей дни человека, разного рода технических новшеств, делающих его существование более удобным и уютным, и т.п. Средневековая жизнь протекала лицом к лицу с Богом, природой и смертью, которая отнюдь не вытеснялась на окраину индивидуального и общественного сознания, как сегодня. Смерть постоянно сопровождала человека, для которого любой пустяк, вроде обычной простуды или царапины, не говоря уже о родах или инфекционных болезнях, мог стать роковым. Из-за крайне примитивных представлений о гигиене уровень детской смертности был чрезвычайно высок как в крестьянских хижинах, так и в королевских дворцах. Из 13 детей Людовика VIII и Бланки Кастильской четверо умерли во младенчестве, двое — в детском и еще двое — в подростковом возрасте; взрослыми стали лишь пятеро.
Именно поэтому ребенок воспринимался как нечто эфемерное и малоценное, подверженное слишком многим опасностям для того, чтобы очень уж сильно привязываться к нему. Как отмечает Филипп Арьес, «никто не думал, что ребенок уже заключал в себе человеческую личность, как мы полагаем сегодня»{59} — и цитирует Монтеня, который, хоть и жил тремя столетиями позднее описываемой эпохи, в этом отношении мыслил по средневековым канонам: «Я потерял двоих или троих в грудном возрасте, не то чтоб я не сожалел о них, но не роптал»{60}. Нет, тогдашний мир совсем не был лишен феномена родительской любви, но ее формы и проявления очень сильно отличались от нынешних. Недолгая средняя продолжительность жизни (в 40 лет человек считался уже пожилым, в возрасте за 50 — стариком) определяла раннее взросление. В 7–8 лет дети из семей крестьян и ремесленников начинали помогать по хозяйству, а отпрыски благородных фамилий нередко отправлялись на попечение родственников или друзей ко двору светского или духовного сеньора — с прицелом на будущую военную или церковную карьеру. Феномен «беззаботного детства» в его современном смысле практически отсутствовал. Едва перестав быть несмысленышем, ребенок, только начавший осознавать себя и окружающий мир (семь лет считались возрастом, когда человек уже способен «различать разницу между добром и злом»), практически сразу попадал в мир взрослых людей, которые и относились к нему по-взрослому.
Исходя из всего этого, можно предположить, как складывалось детство младшего сына Людовика Льва и Бланки Кастильской, протекавшее поначалу при кочевом[41] дворе Людовика IX. Достоверных сведений о первых полутора десятках лет жизни принца Карла не сохранилось. Но, учитывая традиции двора Капетингов и характер его матери, младшему сыну, как и остальным королевским отпрыскам, наверняка с нежного возраста прививалось представление о его высоком положении и о связанных с ним определенных общественных обязанностях — в той форме, в какой они виделись в той среде. Во всяком случае, всю жизнь Карл был человеком порядка и долга, притом что, как мы еще убедимся, в его натуре присутствовали эмоциональность, вспыльчивость, авантюризм и склонность действовать под влиянием сиюминутных настроений. Однако верх в конечном счете всегда брали расчет, планомерность, упорство и приверженность раз и навсегда сформировавшимся представлениям о правильном мироустройстве и его иерархии. Свое место в этой иерархии занимали семья (поначалу мать и братья, позднее — супруга и дети самого Карла), церковь, Франция и ее династия. Обстоятельства жизни заставили Карла Анжуйского играть роль искателя приключений и даже странствующего рыцаря, хоть и высокого ранга. Такая роль соответствовала многим чертам его характера, но при этом он не стал бунтарем — в отличие, скажем, от своего родственника Генриха Кастильского, о чьей судьбе говорилось выше. Карл был, выражаясь современным языком, человеком системы — и есть основания видеть в этом плоды строгого и последовательного материнского воспитания.
Мы не знаем точно, с кем он дружил в детстве, кто, помимо королевы Бланки, больше других повлиял на формирование его характера, кто обучал его грамоте, латыни и закону Божьему, кто учил ездить на коне и обращаться с мечом и копьем… Какое-то представление об этом можно, однако, составить по результатам полученного воспитания. По меркам своей эпохи Карл был вполне образованным человеком. Он писал и читал по-французски и по-латыни, позднее, став графом Прованским, овладел и тамошним языком, сильно отличавшимся от родного ему языка северной Франции. (С южноитальянскими диалектами у него получилось хуже — в Италии языками двора Карла I были французский и провансальский, что служило дополнительным фактором отчуждения между сицилийским королем и его новыми подданными.) До нас дошли сведения об интересе, который проявлял Карл к вопросам права и — что было необычно — к медицине, причем в обеих областях его уровень был весьма неплохим для дилетанта.
Но, конечно, его главной «специальностью» было военное дело. Карл оказался вполне толковым, хоть и не гениальным, военачальником, а его личная храбрость и умение обращаться с оружием не подлежат никакому сомнению. В битвах при Беневенто (1266) и Тальякоццо (1268), в которых он вначале добыл, а затем отстоял Сицилийское королевство, Карл Анжуйский, по тогдашним меркам человек уже немолодой, лично водил в бой своих рыцарей, а после «Сицилийской вечерни» (1282) организовал поход против мятежников — но, как увидим, не преуспел. Неудачи, которые преследовали короля в конце жизни, были следствием сделанных им политических ошибок, а не военной слабости или некомпетентности. Адам де ла Аль — поэт и трубадур, значительную часть своей жизни проведший при дворе Карла Анжуйского, описывал его как «красивого, высокого человека, носившего рыцарские доспехи столь же естественно, как птица перья, и столь же крепко сидевшего в седле, как башня, возвышающаяся над замком. Возможно, таково и было восприятие Карла современниками: выдающийся рыцарь, которого невозможно выбить из седла»{61}.
Среди четырех братьев, остававшихся в живых к середине 1230-х годов (трое других, Филипп, Жан и Филипп Дагоберт, умерли от болезней в 1232–1234 годах), Людовик, судя по всему, играл роль primus inter pares[42]. Он был королем, но был и братом, а поскольку все они рано лишились отца, то, видимо, он как старший считал своим долгом брать на себя роль воспитателя. Об одном из характерных эпизодов рассказывает автор агиографического жизнеописания Людовика Святого — Гийом де Сен-Патю. Дело происходит не ранее 1234 года (поскольку остальные братья, кроме Роберта, Альфонса и Карла, не упоминаются — видимо, они к тому времени уже умерли) на строительстве Ройомонского монастыря под Парижем: «И когда монахи вышли, по обычаю цистерцианского ордена, после третьего канонического часа на работу и стали носить камни и раствор туда, где воздвигалась стена, то блаженный король взял носилки, груженные камнями, и понес их; он шел впереди, а один монах нес их сзади; так святой король поступал в то время еще не раз»{62}. Остальных трех братьев (Карл в это время еще мал, ему семь или восемь лет) тоже привлекли к работе. Но они отлынивали: «Когда его братьям хотелось поболтать, покричать или поиграть, святой король говорил им: “Монахи здесь не шумят, и нам нельзя шуметь”. А когда братья святого короля слишком нагрузили носилки и хотели на полпути передохнуть, он сказал им: “Монахи не отдыхают, и вам не следует отдыхать”. Так святой король воспитывал своих близких в духе благочестия»{63}.
Безусловно, Гийом де Сен-Патю создает образ идеального монарха и идеального христианина. Но описанный им эпизод вполне укладывается как в рамки характера Людовика IX, так и в представления о том, каким могло быть воспитание сыновей Бланки Кастильской — исходя из их последующих поступков и образа жизни. Все трое младших братьев короля выросли людьми благочестивыми, при этом не чуждыми ни гордости, ни честолюбия, ни упорства, которые дополнялись, однако, стремлением к справедливости. Так, Карл, уже будучи королем, «настаивал на тщательном установлении фактов перед принятием любых юридических решений, рассматривал жалобы — даже поданные на его родных и ближайших сотрудников, и старался соблюдать закон даже по отношению к своим врагам»{64}. (Иное дело, что интерпретация закона могла иногда вызывать обоснованные сомнения, как мы увидим, в частности, в деле Конрадина и Фридриха Баденского.) Братья обладали разными характерами и темпераментом: Роберт и Карл, судя по всему, были живыми, непослушными и несколько безрассудными, Альфонс — более спокойным, методичным и рассудительным. Возможно, поэтому именно с ним Карла всю жизнь связывали наиболее близкие отношения — братья дополняли друг друга. Но, как бы то ни было, король Франции и трое его братьев совершенно явственно несли на себе отпечаток общего воспитания и заложенных этим воспитанием принципов — случай не столь уж частый в королевских фамилиях, где между старшими и младшими членами семьи нередко зияла глубокая пропасть.
Дела брачные, дела политические
В 1237 году юный Карл впервые упоминается в документах придворной канцелярии — в этот момент он находится при дворе своего брата Роберта д'Артуа. Через четыре года он пребывает у другого брата, Альфонса. И Роберт, и Альфонс к тому времени уже взрослые люди (одному около 25, другому 20 лет), рыцари и знатные сеньоры, вступившие во владение обширными землями, завещанными каждому из них отцом. Карл же пока безземельный и еще не посвящен в рыцари. Можно предположить, что именно в эти годы в нем зарождается то огромное честолюбие, в котором он заметно превзошел всех своих братьев, не исключая и короля Людовика, размышлявшего скорее в категориях религиозного долга, нежели светских амбиций. Никогда Карл не чувствовал себя настолько младшим и настолько зависимым от воли братьев, как в эти годы взросления.
Точно не известно, когда именно Людовик IX решил, фактически в обход завещания отца, что самый младший из его братьев останется мирянином, а не начнет карьеру прелата. Возможно, решающую роль здесь сыграла смерть трех малолетних братьев короля, о которой упоминалось выше. У Людовика теперь оставалось лишь три брата, и, исходя из династических соображений, не следовало обрекать никого из них на обязательный для церковников целибат, лишая тем самым возможности продолжить род Капетингов. Напротив, всех принцев было необходимо женить, и как можно более выгодно. Очень скоро французский король и его мать проявили себя как настоящие виртуозы матримониальной политики. В 1237 году женились графы Роберт и Альфонс. Первый взял в супруги Матильду, дочь Генриха II, графа Брабантского, укрепив тем самым позиции Капетингов на северных рубежах их владений. По материнской линии Матильда была потомком императоров, причем как западных, так и восточных[43], что добавляло этому браку престижа.
Что касается Альфонса, то его брачный союз имел еще большее значение для французской короны. Супругой Альфонса стала Жанна, единственная дочь и наследница Раймунда VII, последнего из рода графов Тулузских, некогда могущественных сеньоров французского Юга, которые, однако, потерпели поражение в многолетней борьбе с католической церковью и ее светскими союзниками[44]. Брак Альфонса и Жанны фактически подводил черту под этой борьбой. По условиям договора, заключенного в Париже в 1229 году, граф Раймунд вновь признал себя вассалом короля Франции и торжественно покаялся перед церковью, от которой был ранее отлучен. Условия договора предполагали, что в случае, если у Альфонса и Жанны не будет детей, графство Тулузское отойдет французской короне.
Оба женатых принца, однако, не отличались плодовитостью. Альфонсу, как уже говорилось, суждено было остаться бездетным, у Роберта к 1245 году тоже не было детей (они родятся позднее). У самого короля в тот момент было лишь двое отпрысков — четырехлетняя Изабелла (будущая королева Наваррская) и годовалый наследный принц Людовик, не отличавшийся крепким здоровьем. Оба они были рождены в браке с Маргаритой, старшей дочерью Раймунда Беренгера IV (подругой системе подсчета правителей — V), графа Прованского, одного из самых влиятельных сеньоров Юга. На семью своей супруги и обратил внимание король, задумавшись о брачных перспективах 18-летнего принца Карла.
Раймунд Беренгер происходил из младшей ветви арагонской королевской династии (известной также как Барселонский дом — подробнее см. главу VI), которая имела немало вассалов в землях, лежавших к северу от Пиренеев. Позиции арагонцев там, впрочем, были ослаблены после того, как их король Педро II, дядя юного Раймунда Беренгера, защищая своих вассалов во время крестового похода против альбигойцев, принял сторону восставших жителей Тулузы и в 1212 году погиб в бою с крестоносцами. Сам Раймунд, однако, ловко лавировал между противоборствующими сторонами, оказавшись наконец на стороне победителей. Постепенно он навел относительный порядок в графстве, охваченном раздорами между рыцарством, епископами и городами, чье значение и политическое влияние быстро росли. Как многие вельможи того времени, граф отдавал дань куртуазной культуре, привечал при своем дворе трубадуров. Любил он и диспуты с участием ученых монахов, которые отвечали ему благодарностью и оставили о нем похвальные отзывы: «…Доколе сей добрый князь был жив, вовеки не бывало никого, кто более жаловал бы провансальских пиитов, и ни при ком провансальцы не мнили себя счастливее и никогда не были менее принуждаемы платить подати»{65}.
Прованс был полем столкновения политических интересов империи (земли Раймунда Беренгера являлись имперскими ленами), папства и французской короны. Положение графа было не из легких: «Прованс находился так далеко от операционной базы императора[45] на Сицилии и так мало затрагивал его интересы, что император не мог ни потребовать чего-то от графа, ни прийти к нему на помощь… Поскольку намерения папы почти всегда вступали в прямой конфликт с намерениями императора, Раймунду Беренгеру часто приходилось выбирать между ними. И наконец, граф должен был принимать в расчет территориальные амбиции — свои собственные и своего весьма агрессивного соседа, графа Тулузского»{66}. В итоге правитель Прованса сделал ставку на Капетингов — и не прогадал. Брак его старшей дочери Маргариты с Людовиком IX в 1234 году принес Раймунду Беренгеру могущественного союзника в борьбе с Раймундом VII Тулузским, его наиболее упорным противником, и вечными бунтовщиками — жителями Марселя. Других дочерей граф Прованский выдал замуж не менее удачно: Элеонору — за короля Англии Генриха III, Санчу — за его младшего брата Ричарда Корнуэльского, который носил впоследствии титул германского короля (хоть и не правил фактически){67}. Оставалась младшая, Беатриса, которую отец, умерший в августе 1245 года, в своем завещании объявил единственной наследницей Прованса, посчитав, что остальные дочери благодаря удачным замужествам обеспечены с лихвой. В результате за руку Беатрисы, совсем еще юной (в год смерти Раймунда Беренгера ей было, по разным данным, от и до 13 лет), развернулась нешуточная борьба.
Раймунд VII Тулузский крайне тяготился договором 1229 года с французским королем. Ему совсем не хотелось завещать Тулузское графство своему зятю Альфонсу. Избежать этого, однако, можно было лишь одним способом: новой женитьбой, которая давала надежду на появление наследника. В 1241 году Раймунд VII развелся со своей супругой Санчей Арагонской, с которой в силу ее возраста уже не надеялся иметь детей, и женился на Маргарите, дочери Гуго, графа де ла Марш — того самого, что столь неудачно бунтовал пару лет назад против короля Людовика. Но папа, который, несмотря на покаяние графа Тулузского, по-прежнему видел в нем неисправимого еретика, объявил брак недействительным — по причине слишком близкого родства супругов[46]. Тогда стареющий Раймунд решил посвататься к Беатрисе Прованской, дочери своего давнего противника Раймунда Беренгера. Однако такие же планы (для своего сына) вынашивал и Хайме, король Арагона, стремившийся восстановить былое влияние Барселонского дома в Провансе. Еще одним претендентом был юный Конрад Гогенштауфен, сын императора Фридриха II. Будущий брак Беатрисы стал предметом сложных интриг при прованском дворе, в которых активно участвовала мать девушки, вдовствующая графиня Беатриса Савойская, недовольная тем, что ей по завещанию мужа достались лишь доходы от небольшого графства Форкалькье.
В этих условиях решающей оказалась позиция папы Иннокентия IV. К тому времени папа и император находились в состоянии острейшего конфликта: Рим добивался низложения Фридриха II, обвиняя его в ереси. В этой борьбе глава церкви нуждался в сильном союзнике, и король Франции как нельзя лучше годился для этой роли. Однако Людовик IX стремился не вмешиваться в борьбу папства и империи, считая ее несчастьем для христиан, которое распыляло их силы и отвлекало от организации крестового похода, идея которого к тому времени всецело овладела королем. Именно поэтому в ноябре 1245 года Людовик направился на встречу с папой в Клюни, где «несколько дней уговаривал сто признать заверения Фридриха в своей приверженности правой вере; но Иннокентий… был непреклонен»{68}. В результате Людовик встал на сторону папы, посулив ему поддержку против императора. В свою очередь, Иннокентий IV согласился с тем, что младший брат короля Франции посватается к Беатрисе Прованской.
В начале 1246 года Карл с небольшим войском явился в Прованс. Он двигался буквально наперегонки с Раймундом VII, который решил во что бы то ни стало использовать свой последний шанс жениться и произвести на свет сына, лишив тем самым Капетингов тулузского наследства. Но Карл оказался удачливее и 31 января 1246 года в городке Экс-ан-Прованс, оцепленном его воинами, повел юную графиню к алтарю. Брак благословил дядя Беатрисы, архиепископ Лионский. Мать невесты, Беатриса Савойская, и ее старшие дочери, однако, приняли нового родственника без особого воодушевления. Они справедливо полагали, что своей добычи Карл не упустит, постаравшись как можно скорее стать подлинным хозяином Прованса. А это значило, что надежды вдовы и трех дочерей Раймунда Беренгера на пересмотр невыгодного для них завещания становились совсем эфемерными. С самого начала отношения Карла с семьей жены были напряженными, и это впоследствии принесло ему немало забот.
Что касается самой Беатрисы Прованской, то она немедленно приняла сторону супруга, противостоя матери и старшим сестрам. Можно предположить, что, пережив несколько месяцев суматохи и интриг, последовавших за смертью Раймунда Беренгера, юная графиня с радостью увидела в Карле новую опору и защитника. К тому же, как не без оснований полагает Нэнси Голдстоун, биограф Беатрисы Прованской и трех ее сестер, психологически у юных супругов было немало общего: «Оба они были младшими в собственных семьях, и их поочередно то игнорировали, то баловали. Оба выросли в тени старших детей… Обоим приходилось ощущать сравнение, высказанное или молчаливое, между их успехами и достижениями обожаемого старшего ребенка. При этом они были втайне уверены, что на самом деле намного превосходят старших, и воспринимали всякую обиду, действительную или воображаемую, остро, как будто рану, нанесенную мечом…»{69} О ревности, которую испытывал Карл к старшему брату, говорит и его частое упоминание о своей «порфирородности», которой Людовик похвастаться не мог: когда он родился, их отец был еще «всего лишь» наследным принцем.
Для Беатрисы Карл был привлекателен не только тем, что являлся братом могущественного короля Франции. Хотя большинство средневековых авторов не уделяло особого внимания описанию внешности своих героев, различные сведения об облике Карла Анжуйского позволяют составить его портрет. Карл был весьма высок для того времени (судя по всему, заметно выше 180 сантиметров), хорошо сложен и, похоже, пошел в своих предков по материнской, кастильской линии, обладая внешностью типичного южанина — темные волосы, смугловатая кожа, выразительный нос. Джованни Виллани пишет, что «весь облик его, как ни у кого иного, соответствовал королевскому достоинству. Он мало спал и постоянно был на ногах, говоря, что сон отнимает много времени»{70}. Хронист Томмазо ди Павиа в «Деяниях императоров и понтификов» (Gesta imperatorum et pontificum) пишет о Карле, что «сдержанный в речах, он не отличался счастливым или радостным выражением лица и не был улыбчив. Я слышал, как один человек из Парижа говорил, что даже в ранней юности он практически не улыбался»{71}.
Сдержанность, впрочем, не равнозначна угрюмости, и можно предположить, что в домашней обстановке Карл «оттаивал». Как бы то ни было, Карлу и Беатрисе было суждено прожить вместе 22 года — и, хотя их брак заключался исключительно по политическим мотивам, он, судя по всему, оказался вполне счастливым. Жена последовала за ним в крестовый поход, где родила их первенца. Косвенным подтверждением удачного семейного союза может служить и то, что нам ничего не известно о романах и интрижках Карла Анжуйского, хотя несомненно, что возможностей для таковых у него, как и у любого богатого и знатного человека, было предостаточно. Впрочем, строгая семейная мораль была характерна для большинства Капетингов этого поколения — возможно, вследствие полученного ими религиозного воспитания. После смерти Беатрисы, которой не пришлось долго наслаждаться титулом королевы Неаполя и Сицилии, Карл почтил ее память, распорядился возвести красивое надгробие на ее могиле и не раз вспоминал ее.
Для Капетингов брак Карла и Беатрисы Прованской явился подлинным триумфом. Овладев Провансом, они нанесли окончательное поражение злополучному Раймунду Тулузскому, преемниками которого в 1249 году стали его дочь Жанна и зять Альфонс де Пуатье. Тем самым позиции французской династии на Юге небывало укрепились, а претензиям Барселонского дома был положен конец. Франция в результате этих событий начала активно втягиваться в дела Италии и Средиземноморья, которые отныне станут одним из важнейших направлений ее политики на протяжении многих веков. Именно это южное направление явилось главным и для принца Карла, а брак с Беатрисой Прованской можно без преувеличения назвать событием, определившим его судьбу: «Без Беатрисы и ее графства… он оставался бы относительно малозначительным принцем во Франции и совершенно ничтожной фигурой за ее пределами»{72}.
Анжу и Прованс
1246 год вообще можно считать одним из самых счастливых и удачных в жизни Карла. В мае король Людовик наконец посвятил младшего брата в рыцари — важнейшее событие в жизни любого человека, считавшегося достойным подобной чести благодаря своему происхождению или заслугам. Посвящение в рыцари братьев короля всегда происходило с должной помпой. О том, как это было в случае с Карлом Анжуйским, свидетельств не сохранилось, но Жуанвиль в своем жизнеописании Людовика Святого вспоминает об аналогичной церемонии 1241 года, когда в рыцарское достоинство был возведен Альфонс де Пуатье: «Король устроил этот праздник в залах Сомюра… Думаю, что столь большие помещения вряд ли где найдутся… У стены галереи, где обедал король, окруженный рыцарями, занимавшими обширное пространство, сидели за столом еще 20 епископов и архиепископов; а за епископами и архиепископами, напротив их стола, в главной галерее… восседала королева Бланка, его мать… И многие люди говорили, что никогда не видывали на празднестве столько… одежд из парчи и шелка, сколько было там; и утверждали, что там собралось добрых три тысячи рыцарей»{73}. Учитывая свойственное Людовику IX чувство справедливости и тот факт, что он старался одинаково относиться к своим братьям, никого из них нарочито не приближая и не отдаляя, можно с уверенностью предположить, что Карла возводили в рыцари с не меньшей торжественностью и великолепием, чем Альфонса.
Прошло еще три месяца, и на исходе лета 1246 года Карл получил в апанаж от короля графства Анжу и Мэн, став таким образом наконец самостоятельным владетельным сеньором (Прованс был все-таки владением его жены). Официально, впрочем, Карл вступил во владение этими землями несколько позднее, в 1247 году, когда анжуйские бароны принесли ему вассальную присягу — оммаж. Анжу было владением, имевшим к тому времени долгую историю: его первым графом считается Фульк Рыжий, правивший в начале X века. Воинственный Фульк, судя по всему, присвоил себе графское[47] достоинство, что не помешало ему добиться признания оного титула и передать его своим потомкам. Одним из них был Джеффри (Жоффруа) V Плантагенет[48] (граф Анжуйский в 1129–1151), отец Генриха II, будущего короля Англии. Анжу и Мэн принадлежали Плантагенетам до начала XIII века, когда были утрачены в результате неудачных войн с Филиппом Августом.
Анжу (сейчас большая часть этой провинции относится к французскому департаменту Мэн-и-Луара) было не слишком обширным, но зажиточным графством, несмотря на то что войны между Капетингами и Плантагенетами отразились на нем не лучшим образом. К тому же оно имело важное стратегическое значение, находясь между Бретанью, чьи правители доставляли много хлопот французским королям, и центральными областями Франции, где располагалась основная часть королевского домена. Неудивительно, что Людовик IX с большой ответственностью подошел к передаче младшему брату этого важного владения. В мае 1246 года он собрал баронов Анжу и Мэна в Орлеане, чтобы распорядиться об упорядочении действовавших на этих территориях обычаев (кутюмов, coutumes), которыми руководствовалось тогдашнее право. Так было положено начало работе над сводом Coutumes d'Anjou, одним из важнейших памятников французского средневекового права (работа над ним была в основном закончена к 1260 году). Кроме того, король выслал специальных уполномоченных — enqueters, которые должны были собрать жалобы населения на произвол королевских чиновников, ведавших делами двух графств в последние годы, когда эти владения находились в непосредственном распоряжении короны. В общем, Людовик стремился передать брату его апанаж в достойном, упорядоченном состоянии.
Сохраняя и укрепляя местные обычаи, король в то же время привязывал Анжу и Мэн к французской монархии, предоставляя эти земли Карлу, на чью лояльность он не без оснований рассчитывал. Действия Людовика находились в рамках общей тенденции, характерной для Французского королевства того времени, — «укрепление власти герцогов и графов, рост администрации, более тесная зависимость благородного сословия от своих сеньоров»{74}. Монархия Людовика IX была в первую очередь монархией феодальной, он укреплял ее не за счет вмешательства центральной власти в дела провинций, а путем упорядочивания иерархической системы вассальных отношений, связывавших мелких рыцарей с крупными феодалами, а тех, в свою очередь, — с королем. В том же духе действовал в своих новых владениях и Карл Анжуйский.
То, что Карл и его потомки вошли в историю именно как Анжуйская династия, можно считать иронией судьбы. Ни в одном из своих владений, число которых со временем росло, Карл не бывал так редко, как в Анжу и Мэне. По большей части графствами управляли от его имени назначенные Карлом чиновники. Это был бальи (bailly), ответственный за положение дел в целом, казначей, отвечавший за своевременный сбор податей и другие финансовые дела, а также магистр и вице-магистр, занимавшиеся правовыми вопросами. Кроме того, один из местных клириков назначался графом в качестве своего рода надзорной инстанции, ведавшей церковными делами, — известно, что с 1268 по 1275 год эту функцию исполнял некий Гийом, декан собора Св. Мартина в Анжере{75}. Ротация чиновников была весьма частой: бальи, как правило, менялись раз в два-три года. Как и в других своих землях, в Анжу и Мэне Карл быстро проявил себя как строгий и педантичный правитель, любящий вникать в административные детали. Находясь за пределами графства, он то и дело напоминал о себе распоряжениями, запросами и выговорами своим чиновникам. Уже в первые годы его власти проявилась та черта Карла-государя, которая позднее сделает его столь непопулярным на Сицилии и в других итальянских владениях: последовательность и даже беспощадность при сборе податей. Его биограф так формулирует принцип, которому следовал Карл в своих землях: «Обеспечение мира и законности в обмен на тяжкое налогообложение в разных формах»{76}. Анжуйцы, привыкшие к подобной политике еще при Плантагенетах, особенно не роптали. С сицилийцами, как мы увидим, получилось совсем иначе.
Куда больше забот, чем с Анжу, у молодого графа было с землями жены — графством Прованским и несколькими мелкими прилегающими территориями. Как отмечает Марк Ферро, «пребывание в Провансе познакомило Карла с методами управления, существовавшими в средиземноморских городах, где распространение римского права, значительная роль юристов и положение городских советов представляли собой практики, мало известные в Анжу и во Французском королевстве [в целом]. Он непрерывно боролся с ними, прежде всего в Марселе»{77}. Но дело этим не исчерпывалось. Политические конфликты накладывались на непростое культурное взаимодействие Юга и Севера нынешней Франции, ведь контуры последней тогда лишь начали оформляться. Это взаимодействие было осложнено колоссальной исторической травмой, каковой стал для южан многолетний крестовый поход против альбигойцев.
Франция, которую мы знаем сегодня, как и большинство других стран, не была плодом некоего исторического предопределения. XIII век — одна из важных развилок истории, когда определялось, что, собственно, это будет за страна, какие земли и культурные ареалы она включит в себя. Так называемая Окситания — южная половина нынешней Франции и некоторые прилегающие территории — с момента распада в V веке Западной Римской империи была одним из европейских перекрестков, где пересекались и взаимодействовали, иногда мирно, иногда конфликтно, разнообразные политические интересы, социальные уклады и культурные влияния. На этой территории, юго-восточный угол которой представляет собой Прованс, римское наследие сохранилось в гораздо большей степени, чем к северу, где находился центр основанного Меровингами государства франков. Различные диалекты сложившегося в раннем Средневековье окситанского языка[49] представляли собой трансформировавшуюся за века, обросшую множеством «варваризмов» латынь, а в правовой системе здесь доминировало классическое римское право — в отличие от севера Франции, где преобладали упоминавшиеся выше кутюмы, то есть право, основанное на местных обычаях. Окситания была областью с развитой экономикой. В ее структуре, сильно отличавшейся от хозяйства северных областей королевства, важную роль играла средиземноморская торговля, центрами которой были города Прованса — древняя Массилия (Марсель) и Арль.
Окситания, однако, не знала политического единства. После падения императорского Рима свои недолговечные государства основывали здесь бургунды и визиготы, позднее из-за Пиренеев и с моря совершали набеги арабы, укрепившиеся в VII–VIII веках на Иберийском (Пиренейском) полуострове, в Северной Африке и на юге Италии. С VIII века усиливалось влияние франков, пока наконец большая часть окситанских территорий, включая Прованс, не стала частью империи Карла Великого. Каролингское возрождение, однако, было недолгим. Одним из плодов распада этой империи стало возникновение Прованского графства. Члены первой графской династии, основанной в конце IX века неким Бозоном Старшим, приходившимся зятем императору Карлу Лысому, вели долгую и успешную борьбу с арабами-сарацинами, которых им в 973 году наконец удалось изгнать из Прованса.
У графов Прованских, однако, не хватало сил для того, чтобы сохранить независимый статус своих земель. С середины XI века большая часть их владений становится леном Священной Римской империи. Одновременно усиливается влияние Барселонского дома, к младшей ветви которого в результате династического брака переходит титул графов Прованских. Последним представителем этой ветви и был тесть Карла Анжуйского, Раймунд Беренгер V. Женитьба Карла на его дочери означала важное изменение политико-правового статуса Прованса: фактический разрыв ленных связей с империей и переход графства под сюзеренитет французской короны.
Отношение провансальцев и вообще южан-окситанцев к французам-северянам было двойственным. С одной стороны, авторитет короля как верховного сюзерена не встретил в графстве серьезного сопротивления. С другой стороны, король был далеко, а граф — близко. И местные рыцари, и горожане, особенно марсельцы, были готовы до последнего отстаивать перед ним свои права, будь он брат короля или кто угодно еще. К тому же память о тактике выжженной земли, применявшейся крестоносцами-северянами во время похода против еретиков (от нее пострадали далеко не только катары, но и многие местные католики), была жива и питала окситанский патриотизм, окрашенный горечью и жаждой мести. Он хоть и не имел в ту эпоху четкого политического оформления, но проявлялся в повсеместно распространенной настороженности и неприязни к пришельцам с севера (в том числе рыцарям и чиновникам, которых привел с собой в Прованс Карл) — этим «варварам», которые, по мнению провансальцев, были чужды утонченной культуре окситанского Юга, зато беспощадно выжимали подати и презирали древние права обитателей графства.
Карлу, который большую часть времени проводил или в Эксе, или в величественном замке в Тарасконе, во многом повезло. Во-первых, смерть Раймунда VII быстро избавила его от беспокойного соседа, заменив его верным союзником — братом Альфонсом, вступившим (как и сам Карл, jure uxoris[50]) во владение Тулузским графством. Во-вторых, императору, чьим ленным владением формально еще оставался Прованс, в тот момент было не до него. Фридрих II вел в Италии ожесточенную войну с папством и объединением городов — Лигой, а в 1250 году скоропостижно умер от дизентерии. Через 4 года за ним последовал его сын Конрад IV, после чего на протяжении почти 20 лет в империи не было правителя, признанного Папой и всеми курфюрстами[51], а власть различных претендентов на корону становилась все более эфемерной. В этих условиях Карл мог позволить себе не приносить оммаж императору и фактически сделать Прованс частью владений французского королевского дома.
Тем не менее проблем у молодого графа оказалось более чем достаточно. По замечанию Шарля Пти-Дютайи, в Средние века «все стремилось к бесконечному разнообразию: язык, нравы, частное право»{78}. Для тогдашнего общества с его мозаикой быстро сменявших друг друга правителей и вечным перекраиванием границ была характерна частая правовая путаница в том, что касалось сеньориальных отношений. Это относилось и к взаимоотношениям феодальных сеньоров и городских общин. Города Прованса бунтовали уже против Раймунда Беренгера: «…Его феодалы были разрознены и ссорились между собой, но общины оказали ему решительное сопротивление. Они поняли, что государь их хочет быть неограниченным господином… Они составили лигу, куда вошли Марсель, Арль, Тараскон, Тулон, Ницца. <…> Раймонд Беренгарий потребовал покорности; ему отказали и дали понять, что добрые города дают ему средства для существования за то, что его предки некогда проливали кровь за их отцов… Но у городов не было войска, каждая община должна была защищаться отдельно»{79}. Горожане извлекли уроки из опыта прошлых лет — и в 1247 году Авиньон, Арль и Марсель объединились (по образцу итальянских городов, противостоявших императору) в лигу, выступившую против Карла и Беатрисы. Правда, в отличие от итальянских городов, провансальцы рассматривали Фридриха II как союзника. Города были богаты, их ресурсов и крепких стен было вполне достаточно для того, чтобы годами отражать попытки Карла овладеть ими. Напротив, графу в эти первые годы пришлось приложить немало усилий для того, чтобы обеспечить бесперебойный сбор причитавшихся ему налогов — прежде всего соляной подати (gabelle), составлявшей основу его бюджета. К тому же Карлу весьма досаждали интриги его тещи, Беатрисы Савойской, которая непрерывно подстрекала местных баронов против зятя, — а авторитет вдовы Раймунда Беренгера в Провансе был велик.
К 1248 году положение в графстве было с точки зрения Карла далеким от идеального. Правда, от покойного тестя новому графу досталась довольно развитая по тогдашним меркам административная система, которую Карл стремился укреплять. В 1246 году он учредил в Провансе должность сенешаля — своего рода премьер-министра, ведавшего повседневными административными делами. Граф окружил себя преданными людьми, отчасти местными, отчасти пришедшими вместе с ним с севера, и регулярно проводил заседания этого совета. Среди помощников Карла выделялся Адам де Люзарш, епископ Систеронский, который стал наместником графа после того, как тот отбыл в крестовый поход. В каждую из областей графства был назначен бальи, обязанный несколько раз в год отчитываться перед графом или его наместником. Текущие дела в области правосудия находились в ведении верховного судьи (juge-mage), в сфере финансов — в руках казначея.
На всю эту систему чиновников и воинов рассчитывали Карл и Беатриса, отправляясь в 1248 году за тридевять земель — в крестовый поход, задуманный королем Людовиком. Запутанные провансальские дела должны были подождать возвращения графа — если Богу будет угодно вернуть его домой живым и в добром здравии.
ГЛАВА II. Крестоносец
Надо быть совсем безумным, чтобы служить Богу, не уповая на то, что он может продлить наши жизни и охранить нас от зла и несчастья; и мы должны верить, что в его власти сделать все.
Жан де Жуанвиль{80}Картина вторая. К Святой земле
ЧТОБЫ понять, зачем королю Людовику и его братьям понадобилось затевать опасное заморское предприятие, нам придется вернуться на несколько столетий назад.
Идея освобождения главной христианской святыни — Гроба Господня — от власти мусульман зародилась на Западе, собственно, сразу после того, как священный город трех религий, Иерусалим, был в VII веке захвачен арабским войском. Оно оттеснило на север — как оказалось, навсегда — Византию, чья власть до той поры распространялась на большую часть Восточного Средиземноморья. Чуть позднее, при Карле Великом, впервые начали формироваться религиозно-идеологические представления, согласно которым христианский Запад представлял собой единое сообщество — коллективного наследника традиций как св. Петра, считающегося первым римским епископом, так и Константина Великого, сделавшего в IV веке христианство государственной религией Римской империи. Неудивительно, что именно в каролингскую эпоху появляется «Константинов дар» — подложный акт, которым император Константин якобы передал папе Сильвестру I и его преемникам верховную власть над значительной частью земель империи, а также признал верховенство римского первосвященника над четырьмя другими патриархами христианской церкви — Иерусалимским, Антиохийским, Александрийским и Константинопольским.
Интерес самого Карла Великого к Святой земле был весьма значительным, он покровительствовал остававшимся там христианам, жертвовал немалые суммы на возведение в Палестине храмов и часовен. После распада созданной им империи эта активность пошла на спад, но «на Западе об этом эпизоде никогда не забывали. Легенда и традиция преувеличили его значение. Возникли представления о том, что Карл якобы установил протекторат над святыми местами и даже сам совершил паломничество. Для франков последующих поколений их право править в Иерусалиме было признанным фактом»{81}.
На каролингскую традицию постепенно наложилось несколько других важных факторов. Прежде всего это было резкое усиление духовной и социально-политической роли католической церкви в результате реформ, проведенных во второй половине XI века и получивших название григорианских — по имени их наиболее активного и последовательного адепта, папы Григория VII (1073–1085). Уже сам Григорий пытался организовать военную экспедицию на Восток, в помощь Византии. В 1074 году он писал императору Генриху IV (которому в скором времени предстояло стать злейшим врагом папы): «…Большая часть заморских христиан истребляется язычниками… и наподобие скота ежедневно избивается… и род христианский уничтожается, они смиренно молят нас о помощи, чтобы христианская вера в наше время, не дай Боже, совершенно не погибла. Я был тронут великим горем… и я предпринял шаги, чтобы пробудить и поднять тех христиан, которые хотят отдать свои жизни за братьев своих, защищая закон Христа»{82}.
Планы эти, впрочем, остались тогда нереализованными, поскольку схватка Григория VII и Генриха IV отвлекла силы и внимание как их самих, так и большей части Европы от ситуации на Востоке. Тем не менее без григорианских реформ, плоды которых сохранились, несмотря на поражение самого папы Григория, призыв одного из его преемников — Урбана II, который прозвучал в 1095 году и положил начало эпохе крестовых походов, мог оказаться просто не услышанным. Но были и другие причины крестоносного энтузиазма — помимо сугубо религиозных, также политические, экономические, демографические и даже климатические. Скажем, массовое участие крестьян в Первом крестовом походе историки объясняют не только религиозным рвением, но и несколькими неурожайными годами, случившимися в середине 1090-х; в результате массы исстрадавшихся людей предпочли отправиться за тридевять земель в поисках лучшей доли, чем голодать и умирать дома. «Протест крестьян, развивавшийся на фоне демографического бума, нехватки земель, закрепления личной зависимости и эсхатологических настроений, выразился также в массовом исходе из деревни, который стал основой двух крупнейших миграционных потоков: бегства в города и крестовых походов»{83}.
Упомянутый демографический подъем, начавшийся в XI столетии, привел, в частности, к появлению на европейском Западе целого слоя молодых рыцарей, становившихся профессиональными охотниками за удачей: «В период XI–XIII веков наиболее активной частью мелкого европейского дворянства, прежде всего французского… были iuvenes, рыцари, только что прошедшие обряд посвящения… Они ушли из дома, покинули привычную среду, чтобы более или менее многочисленными группами отправиться в странствие. Возможно, они действительно шли за своей мечтой; но, несомненно, стремились также ко вполне конкретным целям — личной обеспеченности и общественному престижу, добиться которых им удавалось далеко не всегда»{84}. Именно эти люди составляли основу крестоносных войск на протяжении без малого двухсот лет. Что до вождей — крупных сеньоров и монархов, возглавлявших эти экспедиции, то ими, насколько мы можем судить, тоже двигала комбинация разнообразных мотивов. Здесь было как искреннее благочестие и желание послужить Богу и церкви (скажем, у Людовика VII, наиболее близкого в этом отношении своему правнуку Людовику IX), так и стремление обрести на Востоке славу, богатство и собственное княжество (как, например, в случае с Боэмундом Тарентским, князем Антиохийским[52]). Для аристократии крестовые походы стали «делом, которое дало возможность освятить собственную воинскую доблесть и социальную гордость»{85}.
Мы не будем останавливаться здесь на подробностях крестоносной эпопеи, предшествовавшей походу 1248 года, — литературы на эту тему более чем достаточно. Отметим лишь, что к началу XIII века ситуация по сравнению с временами столетней давности заметно изменилась. Во-первых, западным христианам не удалось как следует закрепиться в Святой земле. Иерусалимское королевство и еще несколько княжеств, основанных крестоносцами, были слабы и находились под постоянной угрозой уничтожения — особенно после того, как в Малой Азии и Восточном Средиземноморье в качестве главной силы, противостоящей христианам, арабов сменили турки-сельджуки. В 1187 году их предводитель, легендарный Саладин[53], занял Иерусалим, что стало поводом для организации Третьего крестового похода, который, однако, закончился неудачей. Незадолго до этого, в 1176 году, войско византийского императора Мануила было наголову разбито турками при Мириокефале. От этого поражения Византия более не оправилась, уйдя в глухую оборону и постепенно теряя свои малоазийские владения. В совокупности оба эти события обозначали крупный исторический поворот: экспансию христианской Европы на Восток на много веков сменила мусульманская экспансия на Запад. Современники, правда, этого не осознавали, а христианские державы впоследствии предприняли несколько попыток переломить ситуацию. К этим попыткам следует отнести и военные экспедиции Людовика Святого. Во-вторых, сами крестовые походы стали все больше превращаться из военно-религиозных в военно-политические предприятия, а иногда и просто в разбойничьи набеги. Особенно ярко это проявилось во время Четвертого крестового похода (1202–1204), целью которого в результате венецианских интриг вместо Иерусалима оказался христианский Константинополь. Следствием его падения стали навсегда испорченные отношения (которые и до того не были безоблачными) между католическим Западом и православным Востоком, Римом и Византией. Было бы странно, если бы греки простили латинянам злодеяния, которые французский рыцарь, участник этого похода Жоффруа де Виллардуэн описал с какой-то обезоруживающей наивностью: «…Последовали резня и грабежи; греков убивали направо и налево, забирали как добычу и их ездовых лошадей, и мулов, и жеребят, и прочее добро. Убитых и раненых было столько, что не сосчитать… Со времени сотворения мира не было захвачено столько добычи в одном городе. Всякий располагался, где ему нравится, а недостатка в прекрасных жилищах в городе не было. В них охотно разместились крестоносцы и венецианцы. Они все испытывали радость и благодарили Господа за победу, которую Он им даровал, ибо те, кто был беден, теперь пребывали в богатстве и роскоши»{86}. С последствиями тех событий придется много десятков лет спустя столкнуться и Карлу Анжуйскому в его балканской и ближневосточной политике.
В-третьих, крестовые походы стали использоваться в качестве инструмента политической борьбы. Особенно ярко это проявилось в ходе Шестого похода (1228–1229)) организованного императором Фридрихом II Гогенштауфеном. Фридрих дал обет отправиться в Святую землю еще в 1215 году, юношей, отвоевав императорскую корону у своего соперника Оттона IV. В этой борьбе Фридрих пользовался поддержкой папы Иннокентия III. При преемниках Иннокентия, однако, ситуация изменилась — настолько, что Фридрих, рассматривавшийся ныне Римом как главная угроза политическому и духовному авторитету папы, был отлучен от церкви[54]. Тем не менее в 1228 году император с войском отплыл в Святую землю, сознавая, что тем самым не только исполнит данный им обет, но и нанесет ущерб своему главному противнику — папе: «Крестовый поход, не получивший благословения папы, был угрозой политическому положению папства как организатора священной войны и посредника — за счет своего права отпускать грехи — между Богом и человеком»{87}. Вряд ли что-то подобное этому «светскому» походу было возможно в предыдущем столетии.
Шестой крестовый поход отличался от нескольких предшествующих и тем, что оказался успешным. К тому же Фридриху II удалось избежать сколько-нибудь серьезных боевых действий. Воспользовавшись распрями между мусульманскими правителями Ближнего Востока, император Запада договорился с одним из них, султаном аль-Камилем, об условиях мира, выгодного для обеих сторон. Точнее, речь шла о перемирии на 10 лет — на этот срок Иерусалим возвращался под власть христиан, но оставался без укреплений; вдобавок мусульмане оговорили для себя свободный доступ к своим святыням, расположенным в городе. Иерусалим и прибрежные области, находившиеся под контролем крестоносцев, соединяла узкая полоса, своего рода коридор, также принадлежавшая отныне Иерусалимскому королевству[55]. В то же время святые места христиан, не защищенные укреплениями, оставались предельно уязвимыми для новой мусульманской атаки — что и подтвердилось в 1244 году, когда Иерусалим был вновь взят, разграблен и сожжен турками-хорезмийцами, союзниками сына аль-Камиля, султана ас-Салиха Айюба (о нем речь впереди). Таким образом, успех императора Фридриха оказался недолговечным.
Более того, договор Фридриха с аль-Камилем с самого начала представлялся многим как в мусульманском, так и в христианском мире предательством. Бароны крестоносных государств, при всей их слабости, были в ярости, так как их не допустили к переговорам. Патриарх Иерусалимский осудил соглашение как не имеющее силы, особенно с учетом того, что исламские святыни остались в руках мусульман. На руку скептикам играла не только стойкая враждебность папы к императору, лишившая Шестой поход благословения главы католической церкви, но и репутация самого Фридриха, который казался современникам человеком странным, а порой страшным, и уж во всяком случае далеким от канонов христианского благочестия. Обладая острым скептическим умом и солидными для своего времени научными знаниями[56], этот Гогенштауфен, окруживший себя мусульманами-наемниками с Сицилии и гаремом наложниц, чаще вел себя как античный император или восточный владыка, нежели как христианский властитель. Во время пребывания Фридриха в Святой земле многих христиан покоробила, по их мнению, чрезмерная терпимость императора к исламу. Например, арабские источники утверждают, что, проведя ночь в Иерусалиме, Фридрих якобы заметил, что сделал это, «дабы услышать крик муэдзина, созывающего людей на молитву»{88}. Так «торжество гибеллинской политики на Востоке одевалось в формы, которые давали церкви повод говорить о наступавшем царстве Антихриста»{89}.
Тем не менее поход Фридриха II имел большое значение для крестоносной эпопеи в целом. Прежде всего, он обозначил главную черту крестовых походов XIII столетия — в отличие от прежних времен, «амбиции и стремления великих держав и государей стали определяющими»{90}. Людовик VII, Филипп Август, Фридрих Барбаросса, Ричард Львиное Сердце — все они были монархами-крестоносцами. Но каждый из них, при всем своем честолюбии, являлся лишь частью грандиозного предприятия, задуманного и освященного западной церковью. Все перечисленные государи служили скорее орудиями, чем двигателями крестовых походов. Фридрих II положил начало иной традиции, при которой именно светский государь, вне зависимости от того, какие отношения связывали его с церковью, становился основной движущей силой всего предприятия. В этом смысле Людовик Святой шел по стопам Гогенштауфена, хотя германский император был злейшим врагом папства, в то время как французский король — лояльным союзником Рима, никогда не забывавшим, впрочем, о своих интересах.
Не менее важным моментом была и изменившаяся географическая цель походов. Эфемерность успехов Фридриха II в Святой земле показала, что удержать Иерусалим, не нанеся решающего поражения мусульманским владыкам Ближнего Востока, невозможно. Иерусалимское королевство и другие государства крестоносцев, за исключением разве что Кипра, где утвердилась династия Лузиньянов, к середине XIII века переживали глубокий упадок и не могли более служить серьезной базой для укрепления позиций христиан в этом регионе. Напротив, у мусульман такая база была — ей стал Египетский султанат, власть которого, несмотря на частые междоусобицы, распространилась на большую часть Сирии и Леванта. Еще во второй половине XII века иерусалимские короли Балдуин III, Амальрик I и Балдуин IV вели не слишком удачные военные экспедиции против египтян. Пятый крестовый поход (1217–1221) также был направлен в основном против Египетского султаната династии Айюбидов, и главным успехом, которого удалось добиться крестоносцам, стало взятие крепости Дамьетта в дельте Нила. Последующий марш на Каир, однако, закончился неудачей, отступлением христианского войска и сдачей Дамьетты. Неудивительно, что и Людовик IX избрал целью своей экспедиции 1248 года именно Египет.
К Святой земле: хронология
638 — войско Омара ибн аль-Хаттаба, халифа мусульман, взяло Иерусалим.
VII–XI века — Иерусалим и Палестина под властью исламских династий — Омейядов, Аббасидов и Фатимидов.
1071 — разгром турками-сельджуками византийского войска в битве при Манцикерте; турки проникают все дальше вглубь Малой Азии.
1074–1085 — понтификат Григория VII, размышлявшего над идеей похода в помощь «заморским христианам».
1095 — папа Урбан II получает послание византийского императора Алексея Комнина с просьбой об оказании западными христианами помощи Византии в борьбе с турками.
1095, 27 ноября — на соборе в Клермоне (Франция) Урбан II выступает с призывом к христианам организовать крестовый поход для освобождения Гроба Господня и помощи восточным единоверцам.
1095–1099 — Первый крестовый поход.
1099, 15 июля — взятие Иерусалима крестоносным войском.
1099-1100 — Годфрид Бульонский возглавляет Иерусалимское королевство с титулом «защитник Гроба Господня».
1100, 25 декабря — Балдуин I, младший брат Готфрида, избран первым королем Иерусалимским.
1101 — разгром турецким войском султана Килич-Арслана второй волны крестоносцев, состоявшей в основном из французских, бургундских и баварских рыцарских отрядов.
1107–1110 — «норвежский крестовый поход» короля Норвегии Сигурда I. Осада и взятие города Сидон войсками королей Сигурда и Балдуина.
1144 — взятие города Эдесса, одного из основных центров владений крестоносцев на Ближнем Востоке, мусульманским войском эмира Имад ад-Дина Зенги.
1147-1149 — Второй крестовый поход под руководством германского императора Конрада III и короля Франции Людовика VII. Закончился неудачей, крестоносцам не удалось добиться сколько-нибудь значительных успехов в борьбе с Зенги.
1187 — взятие Иерусалима войском султана Саладина.
1187–1189 — Третий крестовый поход; лидеры: император Фридрих Барбаросса (погиб во время похода при переправе через реку в Малой Азии), король Франции Филипп Август и король Англии Ричард Львиное Сердце. Христиане возвращают под свой контроль крепости Аккру и Яффу, но более заметных успехов не добиваются.
1202–1204 — Четвертый крестовый поход, начатый по инициативе папы Иннокентия III. Первоначально планировалось вторжение в Египет, однако из-за интриг правительства Венеции крестоносцы вначале взяли христианский город Зару (Задар) на побережье Адриатики, а затем направились на штурм Константинополя, который был взят 13 апреля 1204 года. Формально участники этого крестового похода были отлучены папой от церкви.
1215 — Латеранский собор католической церкви обсуждает планы освобождения Иерусалима и остальных территорий, вновь перешедших под контроль мусульман на исходе XII века.
1217–1221 — Пятый крестовый поход.
1219 — взятие крестоносным войском стратегически важной крепости Дамьетта в Египте. Султан аль-Камиль предложил христианам весьма выгодные условия мира, но по настоянию папского легата Пелагия они были отвергнуты.
1221 — поход крестоносцев на Каир и их разгром войском аль-Камиля.
1228–1229 — Шестой крестовый поход, организованный императором Фридрихом II Гогенштауфеном. По условиям соглашения, заключенного им с аль-Камилем, Иерусалим возвращался под контроль христиан, но был лишен укреплений.
1239-1240 — экспедиции в Святую землю Тибо IV, графа Шампанского, и Ричарда, графа Корнуэльского, брата английского короля Генриха III.
1244 — турки-хорезмийцы, союзники династии Айюбидов, осадили, взяли и разгромили Иерусалим, что стало поводом для организации нового крестового похода.
1248–1254 — Седьмой крестовый поход короля Франции Людовика IX.
Поход короля Людовика: расстановка сил
В 1244 году Людовик IX, которому не было еще и тридцати лет, сильно заболел. Слово Жуанвилю: «…Как рассказывают, он впал в такое тяжкое состояние, что одна из дам, ходивших за ним, хотела уже покрыть его лицо, говоря, что он умер. А вторая дама, стоявшая по другую сторону ложа, никак не соглашалась с этим, но говорила, что его душа еще в теле. И когда он услыхал спор этих двух дам, Господь снизошел к нему и тотчас послал ему выздоровление; а из-за болезни он был нем и не мог говорить. И едва он смог разговаривать, как потребовал, чтобы ему поднесли крест[57], что и было исполнено… После того, как он принял крест, крестоносцами стали все три брата короля — Роберт, граф д'Артуа, Альфонс, граф де Пуатье, и Карл, граф Анжуйский, ставший впоследствии королем Сицилии»{91}.
Тяжелая болезнь, очевидно, была последним толчком, заставившим короля принять решение, давно зревшее в его душе. С течением времени Людовик становился все более религиозным и стремился подчинять свою деятельность требованиям христианской религии. Крестовый же поход представлялся королю важнейшей составляющей его программы христианского правления. Как полагает Жак Ле Гофф, «Людовик Святой хотел реализовать, претворить в себе модель идеального короля-христианина прежде всего ради обретения спасения, служа Французскому королевству и всему христианскому миру»{92}. Двигало ли королем честолюбие? Если да, то он, наверное, не признался бы в этом даже самому себе, страшась греха гордыни. Скорее всего, речь шла о чувстве миссии, свойственном многим глубоко религиозным людям, и желании выполнить эту миссию с максимально возможным успехом — во славу Божию и, как полагал Людовик, во исполнение воли Божьей. Чудесное выздоровление король, очевидно, воспринял как прямой призыв Всевышнего, обращенный к нему лично: встань и иди в Святую землю! И он пошел, посвятив этой цели всю свою энергию и немалое упорство. Таковы были персональные, субъективные мотивы, заставившие короля Франции встать во главе крестоносного войска. Пожалуй, оба крестовых похода Людовика Святого следует отнести к числу тех нечастых в истории случаев, когда крупное событие происходит почти исключительно благодаря воле и энергии одного человека. Ведь к моменту, когда Людовик IX собрался в Святую землю, массовое религиозное рвение, двигавшее в 1099 году, во время Первого крестового похода, Готфридом Бульонским[58] и его соратниками, заметно опало. Экспансионистской энергии, свойственной католической Европе в XI веке, к середине следующего столетия поубавилось.
Крестовый поход был, конечно, чрезвычайно опасным предприятием. Вернуться из него живым и относительно здоровым было куда сложнее, чем сложить голову под сарацинской саблей, стать жертвой эпидемий, терзавших крестоносные армии, умереть от жары и истощения по пути к Святой земле или, например, утонуть. Западноевропейцы еще не владели в достаточной мере искусством навигации, так что переправа через Средиземное море грозила крестоносцам многими опасностями. Как отмечает Жуанвиль, которому пришлось вкусить прелестей тогдашнего мореплавания, «безрассудно дерзки те, кто решается подвергнуть себя подобной опасности, не вернув чужого добра или будучи в смертном грехе; ибо засыпаешь вечером и не знаешь, не окажешься ли утром на дне морском»{93}.
Для французов с Севера, составлявших основу крестоносного войска Людовика IX, море было в XIII веке чуждой стихией. На севере Капетинги военно-морских лавров не снискали: вспомним плачевный результат попытки Людовика VIII овладеть Англией. На юге же владения французской династии лишь совсем недавно распространились так далеко, что Франция стала средиземноморской державой. Недалеко от устья Роны по приказанию короля в 1240 году был заложен порт Эг-Морт (дословно — «мертвая вода», что связано с добычей здесь соли). Именно там Людовик 25 августа 1248 года вступил на борт корабля, который должен был переправить его в Египет. Странная, мистическая символика: в этот же день спустя 22 года король умрет, находясь в другом, тунисском крестовом походе.
Войско короля, по наиболее реалистичным оценкам, насчитывало примерно 5 тысяч рыцарей и оруженосцев, до 10 тысяч пеших воинов и 5 тысяч арбалетчиков. Крестоносная флотилия везла с собой более 7 тысяч лошадей — специально оборудованные трюмы кораблей стали на время плавания конюшнями{94}. На борту находилось довольно пестрое общество: многие сеньоры отправлялись в неизвестность целыми семьями, и королевская фамилия была здесь примером. Оставив королевство на попечение Бланки Кастильской, государственным талантам которой у него были все основания доверять, Людовик IX взял с собой супругу, королеву Маргариту, и братьев, из которых лишь Роберт д'Артуа оставил жену дома, так как она была беременна. Часть королевской свиты, в том числе Альфонс де Пуатье с супругой, присоединились к флотилии в Марселе, где была сделана остановка.
Подготовка к экспедиции велась со всей возможной скрупулезностью. На Кипре, где правила французская династия Лузиньянов (один из ее представителей был в прошлом королем Иерусалимским, потерпевшим сокрушительное поражение от Саладина), были собраны огромные запасы зерна, солонины и иного продовольствия для крестоносцев. Участники похода, по замыслу короля, должны были остановиться на этом острове по пути в Египет. Затраты на экспедицию были немалыми, но Людовик IX сумел обеспечить ее финансирование почти исключительно из церковных средств. Лионский собор (1245) Дал королю право — нередко предоставлявшееся монархам в подобных случаях — собирать десятину (10% доходов) с кардиналов и двадцатину (5%) с епископов, церковных капитулов, монастырей и т.д. Только за первый год таким образом удалось собрать около 200 тысяч турских ливров — сумму по тем временам весьма солидную{95}. Сборы сохранялись в течение еще пяти лет. Именно поэтому в июне 1250 года, уже после того, как король побывал в плену у мусульман и переместился из Египта в Иерусалимское королевство, сенешаль Шампани Жуанвиль, входивший в королевский совет, так высказался на его заседании о дальнейшем финансировании крестового похода: «Говорят, сир… что король еще ничего не истратил из своих средств, а только деньги церкви. Пускай же король начнет тратить свои деньги и пусть пошлет за рыцарями… в заморские страны; и когда пойдет слух, что король платит хорошо и щедро, к нему прибудут рыцари со всех сторон, благодаря чему, если будет угодно Господу, он сможет вести войну еще в течение года»{96}.
Что касается Карла Анжуйского, то он вместе с супругой Беатрисой сопровождал короля с самого начала. Карлу был лишь 21 год, но он уже набрался определенного политического и отчасти военного опыта. Можно только догадываться, что чувствовал граф, отправляясь за море. Он ни в коем случае не был трусом, что не раз доказал впоследствии. В то же время ему не было свойственно столь глубокое благочестие и склонность к религиозно-мистическим переживаниям, как его брату-королю. В Провансе Карл оставил множество нерешенных дел и, возможно, испытывал в связи с этим легкую досаду. Однако вряд ли она была сильнее чувства религиозного долга и обязательств перед братом и сюзереном. Так что, вероятнее всего, Карл Анжуйский плыл в Египет с теми же чувствами, что и большинство молодых крестоносцев-аристократов, видевших в походе против мусульман как обязанность христианина, так и возможность проявить рыцарскую доблесть, а если повезет — снискать славу, власть и приумножить свое состояние.
Что же происходило в то время в Египте? Кто ожидал там крестоносцев? Династия Айюбидов, основанная Саладином, покорила, помимо Египта, большую часть нынешних Сирии и Ливана, Северную Африку вплоть до Туниса и все западное побережье Аравийского полуострова (Хиджаз), но вскоре распалась на несколько враждующих между собой кланов. Формально Айюбиды продолжали признавать над собой верховную власть багдадского халифа[59], фактически же речь шла о множестве самостоятельных княжеств, которые вели непрерывную борьбу за лидерство в регионе. Наиболее острым оказалось противостояние египетских и сирийских Айюбидов — особенно после того, как в 1238 году скончался султан аль-Камиль, который ранее заключил мир с Фридрихом II. Старший сын аль-Камиля, ас-Салих Айюб (иногда его называют ас-Салихом II), оказался наиболее удачливым среди многочисленных внуков и правнуков Саладина, оспаривавших наследство великого предка.
В 1244 году ас-Салих заключил союз с турецкими племенами, выходцами из Хорезма в Центральной Азии, перекочевавшими в то время из-за монгольского нашествия на Ближний Восток. Вместе с ними султан разбил соединенное войско крестоносных княжеств и нескольких своих родственников — эмиров различных сирийских провинций. (К тому времени крестоносцы вовсю участвовали в ближневосточных политических комбинациях, не чураясь тактических коалиций с «врагами Христовой веры».) Одним из последствий этого разгрома стал переход Иерусалима под власть мусульман, фактическая ликвидация результатов Шестого крестового похода и полное ослабление Иерусалимского королевства. От него остались лишь несколько прибрежных районов да ряд крепостей, прежде всего Акра (Сен-Жан-д'Акр), которая стала новым центром христианских заморских территорий, сжимавшихся как шагреневая кожа. Крестоносные княжества, Отремер[60], так долго привлекавший европейцев, пришли после этого в моральный упадок, следствием которого вскоре стал упадок политический и военный: «…Дух, который подвигнул христиан отправиться в крестовые походы и вызвал к жизни существование Отремера, почти покинул их; также многие из них более не думали всерьез об отвоевании святых мест»{97}. Эти настроения были прямой противоположностью крестоносному рвению Людовика IX, на успех предприятия которого, собственно, только и оставалось надеяться обитателям Отремера.
Тем временем победоносный султан ас-Салих подчинил себе почти всех непокорных эмиров и воцарился в качестве единоличного мусульманского властителя Египта и Сирии{98}. Однако этому Айюбиду было суждено войти в историю в качестве фигуры трагической. Как раз в тот момент, когда крестоносное воинство отплыло к берегам Египта, ас-Салих тяжело заболел (вероятно, у него был туберкулез), и эта болезнь имела далеко идущие последствия для его государства и династии. К тому же Айюбиды находились в сложном положении: они должны были одновременно смотреть как на запад, откуда к ним плыли крестоносцы, так и на восток. Там над их владениями нависала колоссальная угроза — созданная Чингисханом империя монголов. В считанные годы она распространилась от дальневосточных степей, откуда вышел этот кочевой народ, до Восточной Европы и Ирана. К счастью как для мусульман, так и для европейцев, 1240-е годы были у монголов периодом внутренних смут. После смерти великого хана Угэдэя (1241), сына Чингисхана, его потомки начали борьбу за престол. В 1246 году великим ханом был избран Гуюк, но спустя полтора года он скоропостижно скончался (возможно, от яда), и в огромной империи Чингизидов вновь началось междуцарствие. Тем не менее монголы (или, как их называли в Европе, «тартары» — отсюда нынешнее «татары»), разорившие и покорившие к тому времени Китай, государства Центральной Азии и Кавказа, русские княжества и большую часть Венгрии и Польши, внимательно следили за происходящим у их границ.
Они знали, что внушают страх своим мусульманским и христианским противникам и, наверное, не удивились бы, узнав, что говорил о них своей матери Людовик IX: «Да укрепит нас, матушка, божественное утешение. Ибо если нападут на нас те, кого мы называем тартарами, то или мы низвергнем их в места тартарейские, откуда они вышли, или они сами всех нас вознесут на небо»{99}. Страшась «тартар», от нашествия которых его спасла лишь смерть хана Удэгэя, — из-за нее в 1242 году монгольское войско повернуло вспять, — Запад, тем не менее, пытался наладить с ними контакты. В 1246 году к Гуюк-хану прибыл папский посланник Плано Карпини, передавший письмо Иннокентия IV, который упрекал монголов в разорении нескольких христианских стран. Ответ хана был неутешителен и отражал своеобразную философию степняков, понять которую европейцам было нелегко: «Чингисхан и Угэдэй-хан сообщили им повеление Небес. Но те, о ком ты говоришь, не подчинились повелению Небес… Они проявили дерзость и казнили наших послов. Поэтому Вечное Небо покарало и погубило этих людей на их землях… Откуда тебе знать, кого Бог прощает и кому Он дает свое благословение?.. Благодаря милости Вечного Неба нам дарованы все земли от восхода до заката… Ты лично как глава всех [христианских] правителей и все они без исключения должны оказать нам услугу и присягнуть нам на верность… Если ты не станешь подчиняться нашим приказаниям, то мы не сможем сказать, что с тобой будет. Об этом знает только Небо»{100}.
Плано Карпини понял, что достичь соглашения с такими людьми, мягко говоря, непросто, и отбыл из пределов Монгольской империи ни с чем, если не считать ряда любопытных наблюдений о быте и нравах этих невиданных завоевателей. Тем не менее контакты между Западом и монголами не прервались окончательно. Сторонам было что обсуждать: Айюбиды являлись их общим противником, а с религиозной точки зрения противоречий между христианами и монголами, еще не обратившимися тогда в ислам, было меньше, чем между христианами и мусульманами. Более того, французский король не терял надежды на обращение «тартар» в христианство, с каковой целью позднее послал в монгольские пределы двух монахов-миссионеров[61]. Когда в сентябре 1248 года по пути в Египет войско Людовика IX высадилось на Кипре, «великий король тартар направил к [королю] своих послов с множеством добрых и учтивых слов. Среди прочего он сообщил ему, что готов помочь завоевать Святую землю и освободить Иерусалим от рук сарацин»{101}. Правда, монгольские послы еще не знали, что Гуюк-хан, от имени которого они прибыли к королю Людовику, в тот момент уже был мертв. Ко времени отплытия с Кипра в Египет (в мае 1249 года ~ пребывание крестоносцев на острове по ряду причин затянулось) французы, видимо, уже получили это известие. Тем не менее они рассчитывали, что при случае с преемником Гуюк-хана можно будет договориться об ударе в тыл султану.
Впрочем, и по отношению к последнему король Людовик желал остаться рыцарем. Ас-Салиху Айюбу было послано предложение принять христианскую веру, что избавило бы крестоносцев от необходимости вести с ним войну. Предложение, естественно, было отвергнуто, после чего «король подошел к Дамьетте, и мы встретили там все силы султана… Шум, производимый литаврами и рогами, было жутко слышать»{102}.
Поход короля Людовика: от победы к поражению
История Седьмого крестового похода хорошо известна, и для нас имеет смысл обозначить лишь основные события этой эпопеи, чтобы сосредоточиться на более узкой теме — как вел себя Карл Анжуйский в качестве крестоносца и как повлияло участие в походе на его характер и дальнейшую судьбу?
Итак, высадившись в устье Нила, войско Людовика IX почти без боя взяло крепость Дамьетту — ту самую, которую тремя десятилетиями ранее так долго штурмовали участники Пятого крестового похода. Сарацины предпочли отступить и укрепиться в другой крепости — Мансуре. Казалось, они побаиваются пришельцев, и это придало крестоносцам уверенности. Никто из них не допускал и мысли о том, что поход обречен с самого начала. Ведь для того, чтобы кардинально изменить в свою пользу ситуацию на Ближнем Востоке, европейцам следовало не просто нанести поражение египетскому султану и заключить с ним выгодный мир (в идеале — вновь добившись передачи им Иерусалима), но и избежать ошибки Фридриха II, сделав этот мир прочным. Для чего нужно было по меньшей мере: во-первых, заметно увеличить численность войска, постоянно находящегося на Востоке, — что означало серьезные дополнительные расходы, к которым не была готова ни французская, ни папская казна; во-вторых, укрепить границы христианского Отремера (в 1250–1254 годах Людовик IX попытался сделать это, и именно его усилия позволили остаткам Иерусалимского королевства продержаться еще 40 лет); в-третьих, поддерживать раскол между мусульманскими лидерами, не позволяя им объединиться; в-четвертых, надолго нейтрализовать грозивших с востока монголов. Совершенно очевидно, что с этими задачами Франции было в одиночку не справиться, рассчитывать же на помощь остальной Европы, поглощенной иными заботами, не приходилось.
Тем не менее в тот момент, когда войско султана оставило Дамьетту, положение мусульман совсем не выглядело радостным.
Появление в Египте самого ас-Салиха Айюба, приехавшего из Сирии, ничуть не улучшило ситуацию: как раз в ноябре 1249 года, когда закончился разлив Нила и крестоносное воинство двинулось по направлению к Каиру, султан умер в Мансуре. Поговаривали о том, что его долгая болезнь и смерть были следствием отравления. Этим слухам уделяет внимание и Жуанвиль, рассказывая о циновке, которую смочил ядом коварный дворецкий султана, отравив кровь последнего, в которую яд попал через ранку на ноге{103}. Однако сопоставление западных и арабских источников привело большинство историков к мнению, что, скорее всего, смерть ас-Салиха имела естественные причины{104}.
Как бы то ни было, до прибытия в Египет старшего сына и наследника покойного, Тураншаха, влиятельная супруга ас-Салиха — Шаджар ад-Дурр, посовещавшись с командующим сарацинским войском эмиром Фахр-эд-Дином, пошла на необычный шаг: она скрыла от армии смерть султана, тайно похоронив его и продолжая издавать указы от имени покойного. Тем самым удалось избежать паники в войске, которое в феврале 1250 года нанесло крестоносцам у стен Мансуры тяжелое поражение. Один из участников похода, рыцарь ордена тамплиеров, совершенно отчаянно оплакивал это событие: «Гнев и печаль поселились в моем сердце… так, что я едва могу жить. Кажется, Господь желает добра туркам, на нашу беду… Увы, королевство на Востоке[62] утрачено, да так, что ему уже не суждено подняться вновь… Каждый, кто хотел бы воевать с турками, безумен, ибо сам Христос более не воюет с ними»{105}.
Вынужденный отход назад, к Дамьетте обернулся для армии французского короля, страдавшей от цинги и дизентерии, катастрофой. В битве при Фарискуре она была разгромлена, сам Людовик попал в плен, из которого был выкуплен за огромную сумму в 400 тысяч ливров. Опечаленный, но не сломленный поражением, он отплыл в Акру и решил остаться в Святой земле. Там он провел четыре года, занимаясь укреплением крепостей, которые еще оставались под властью Иерусалимского королевства. Тем временем взбунтовавшиеся мамелюки[63], подстрекаемые Шаджар ад-Дурр, свергли султана Тураншаха и захватили власть в Египте, положив конец владычеству династии Айюбидов. Правда, представители этой династии по-прежнему правили в Сирии и немедленно затеяли войну с мамелюками. Королю Людовику приходилось совершать сложные дипломатические маневры между враждующими мусульманскими сторонами, а также активизировавшимися монголами. В конце концов ему удалось избежать новых столкновений, укрепить границы того, что еще оставалось от Отремера, и в начале лета 1254 года отбыть домой, во Францию.
Неудачный крестовый поход навсегда изменил его: «После возвращения из-за моря король держал себя столь благочестиво, что с тех пор никогда не носил ни беличьего меха, ни ярко-красной ткани, ни золоченых стремян и шпор… Он был столь воздержан в еде, что не требовал ничего сверх тех блюд, что ему готовил его повар… Он всегда кормил бедных и после трапезы приказывал подавать им из своих денег… Он стал очень благочестивым к Господу нашему и очень справедливым к своим подданным»{106}. Именно после возвращения из-за моря Людовик IX затеял серию реформ, благодаря которым, по мнению Жуанвиля, «управление королевством Франции стало намного лучше»{107}. Но идея крестового похода не оставляла короля, и он еще вернется к ней на исходе жизни.
После прибытия в Акру Людовик провел в Святой земле еще четыре года — с супругой и несколькими детьми, которые родились за время затянувшегося похода, но без братьев. Альфонс и Карл вернулись во Францию еще весной 1250 года, чтобы помочь в управлении королевством пожилой и больной матери (Бланка Кастильская умерла осенью 1252 года, судя по всему, от рака). Что же касается Роберта д'Артуа, то он погиб в битве при Мансуре, куда ворвался со своим отрядом, оторвавшись от основных сил крестоносного войска. Сарацины окружили французов на узких улочках Мансуры и в жарком, но недолгом бою перебили их почти поголовно. По свидетельствам Жуанвиля и некоторых других очевидцев, король очень тяжело переживал гибель брата. Неприятность случилась и с Альфонсом де Пуатье — как и сам король, он nonayi в плен, но был выкуплен. Только Карл Анжуйский, похоже, не пострадал во время похода, хотя не раз находился в гуще битвы. Правда, в плену вместе с королем Людовиком побывал и он.
Наиболее подробные свидетельства о том, как воевал младший из братьев короля, мы находим у вездесущего Жуанвиля. Надо заметить, что сенешаль Шампани — свидетель умный, но эмоциональный и не всегда беспристрастный. Сам он был, судя по всему, благородным человеком и храбрым воином: как отмечает Жозеф Бедье, «он принадлежал к тому типу французов, которые ненавидят войну и которые, если надо, очень хорошо воюют… Его пять ран, полученных при Мансуре, его доблесть под ливанским Субейбом… одиннадцать походов, которые он уже совершил к тому времени, как в девяносто лет снова развернул свой стяг во Фландрии[64]… достаточно свидетельствуют, что он был хорошим рыцарем»{108}. Однако Жуанвиль участвовал и в политике, имел свои взгляды, симпатии и антипатии. Известно, что он не жаловал двух ближайших преемников святого короля — его сына Филиппа III (1270–1285) и особенно внука Филиппа IV (1285–1314)- Поскольку Карл Анжуйский (тогда уже король Сицилии) пользовался большим влиянием при дворе своего племянника, да и отношения столь чтимого Жуанвилем Людовика Святого с младшим братом, как мы увидим, не всегда были безоблачными, можно предположить, что личность Карла не вызывала у сенешаля особого восторга[65]. Однако ко времени написания 85-летним Жуанвилем его знаменитого труда Карл уже почти четверть века лежал в могиле, и давняя неприязнь, если она имела место, наверняка поутихла. Сенешаль пишет о Карле, как и о других братьях короля, ровно, без гнева и пристрастия, а в определенных случаях и со сдержанным уважением — посему будем доверять его словам.
Попробуем составить из них небольшую хронику. Итак, в январе 1250 года Карл участвует в осаде Мансу-ры: «Король и граф Анжуйский, который впоследствии стал королем Сицилии, охраняли войско со стороны Вавилона[66]… Государь турок[67] провел своих людей на остров, находящийся между речкой Дамьетты и речкой Розетты[68], туда, где расположилось наше войско; и велел он выстроить свои отряды от одной реки до другой. Король Сицилии атаковал этих людей и разбил их. Много сарацин потонуло в одной реке и в другой; однако большая часть их уцелела, ибо мы не могли напасть на них, потому что сарацинские орудия[69] обстреливали участок между двух рек… С большим трудом король Сицилии миновал опасность, в которой он оказался, и снискал он в этот день великое уважение»{109}.
Вскоре, когда крестоносцы продолжали осаждать Мансуру, Карл потерпел серьезную неудачу: «Братья короля охраняли [деревянную осадную] башню днем, поднимаясь наверх, чтобы стрелять по сарацинам из арбалетов… В тот день, когда сицилийский король должен был нести охрану днем… нас постигла великая беда… Среди бела дня они подтащили камнеметы, что проделывали раньше только ночью, и метнули греческий огонь в наши башни… Две наших башни сгорели; и король Сицилийский был от этого настолько вне себя, что хотел броситься сбивать огонь, чтобы его погасить…»{110}. Чуть позднее, пытаясь отомстить противнику за потерю двух башен, Карл приказал подтащить к тому же месту еще одно такое сооружение, но и его сарацины сожгли. Очевидно, что 23-летнему графу было не занимать смелости, но ему еще не хватало хладнокровия. Пройдут годы, и Карл научится вести себя на поле боя более трезво и расчетливо, возможно памятуя о своих не самых удачных первых шагах в Египте.
В разгар несчастной для крестоносцев битвы при Мансуре Карл, по свидетельству Жуанвиля, проявил благородство, придя на помощь теснимому противником отряду самого сенешаля Шампани: «Он[70] отправился к графу Анжуйскому и попросил его прийти на помощь мне и моим рыцарям. Один знатный человек, который был с графом, отговаривал его; а граф Анжуйский ему ответил, что выполнит просьбу моих рыцарей; он натянул поводья, дабы скакать к нам на выручку, и многие из его сержантов пришпорили лошадей. Заметив их, сарацины нас оставили»{111}.
После пленения Людовика IX Карл, очевидно, находится рядом с королем — во всяком случае, Жуанвиль упоминает, что при сборе и передаче мусульманам выкупа за короля с Людовиком «остались только король Сицилии, маршал Франции, брат тринитарий и я; а все прочие занимались выплатой денег»{112}. Потом начинается морское путешествие короля, его окружения и остатков разбитого войска из Египта в Акру — и тут мы узнаём немало интересных деталей об отношениях Людовика Святого и его братьев, равно как и о характерах последних. Хотя король, как уже говорилось, стремился быть справедливым в отношениях с родственниками и не проявлять открыто своих предпочтений, в состоянии тяжелого стресса, в котором, очевидно, находился Людовик после египетского разгрома, некоторые его симпатии и антипатии вышли наружу. Так, король «очень скорбел о смерти своего брата графа д'Артуа и говорил, что тот весьма неохотно воздержался бы от встречи с ним, в отличие от графа де Пуатье, который не приехал повидать его на галеру»{113}.
Что до Карла Анжуйского, то он и вовсе подвергается королевскому разносу: «Он также жаловался мне на графа Анжуйского, плывшего на нашем корабле, что тот совсем не бывает у него. Однажды он спросил, что делает граф Анжуйский; и ему ответили, что он играет за столом в кости с монсеньором Готье де Немуром. И король отправился туда… и отобрав кости и стол, он выбросил их в море; и он очень сильно разгневался на своего брата за то, что тот столь рано[71] начал играть в кости»{114}. Эпизод очень яркий и много говорящий как о Людовике, так и о Карле. Мы видим несчастного, расстроенного короля, который остро переживает неудачу своего похода, явно воспринятую им как проявление Божьей немилости. Людовик жаждет поддержки со стороны самых близких ему людей — братьев, но не находит ее (или ему кажется, что не находит). Он горюет о погибшем Роберте, в то время как Альфонс и Карл не спешат к брату, возможно зная его крутой нрав и не желая лишний раз становиться объектами королевского гнева.
Впрочем, Карлу в истории с игрой в кости этого гнева избежать не удается. Людовик раздражен легкомысленным, по его мнению, поведением младшего брата — к тому же король не любит азартных игр (позднее он запретит их во Франции). В то же время поведение Карла кажется вполне естественным для молодого человека в затянувшемся морском путешествии — ну почему бы не скоротать время у игорного стола? Карл явно в меньшей степени, чем старший брат, переживал египетскую неудачу и, возможно, просто радовался тому, что ему, в отличие от несчастного Роберта д'Артуа, удалось выжить в этой мясорубке. Характерна и склонность молодого графа к азарту — впоследствии Карл еще не раз проявит ее, и не только за игрой в кости.
В Акре Карл Анжуйский пробыл совсем недолго — как уже говорилось, в мае 1250 года вместе с Альфонсом де Пуатье он отбыл во Францию. Этому предшествовал большой королевский совет, на котором Людовик IX хотел выслушать мнения своих приближенных относительно того, стоит ли ему оставаться в Святой земле. Если верить Жуанвилю, абсолютное большинство вельмож выступило за возвращение на родину. В пользу пребывания в Иерусалимском королевстве, помимо самого сенешаля Шампани, высказался лишь представитель местной знати — граф Яффский. От имени большинства говорил монсеньор Ги де Мовуазен; после него король «спросил графа Анжуйского, графа де Пуатье, графа Фландрского и многих других знатных людей, сидевших там; и все согласились с монсеньором Ги де Мовуазеном»{115}, сказав, что королю следует вернуться домой. Тем не менее, взяв время на размышление, Людовик примкнул к меньшинству — и остался на Востоке еще на четыре года.
Видимо памятуя о том, как братья короля ратовали за прекращение похода, Жуанвиль с удивлением пишет, что «когда граф Анжуйский увидел, что ему пора садиться на свой корабль, он выказал такую скорбь, что все этим были поражены; и однако же он отплыл во Францию»{116}. Обстоятельства этого не совсем ясны: «Говорили, что король приказал своим братьям возвратиться во Францию. Не знаю, было ли это по их просьбе или по королевской воле»{117}. В сцене отъезда нам на мгновение открывается другой Карл — не решительный, но несколько безрассудный воин, бьющийся с сарацинами в Египте, и не легкомысленный игрок в кости, получающий нагоняй от сурового брата-короля, а человек, способный на глубокое переживание. Возможно, оно было связано с тем, что Карл оставлял своего короля в непростом положении: войско, находившееся в распоряжении Людовика, было явно недостаточным для отражения возможного нападения сарацин, а тем более монголов, и королю Франции очень повезло, что ничего подобного до его возвращения домой в 1254 году не случилось. Каковы бы ни были трения между братьями, Карл всю жизнь глубоко уважал Людовика и был ему неизменно лоялен, поэтому мысль о том, какие неприятности еще могут ожидать брата, остающегося на Востоке, не могла не угнетать его.
Впрочем, есть и иная версия поведения братьев короля, куда менее лестная для них. Вполне вероятно, именно этой версии придерживалась королева Маргарита — супруга Людовика и сестра жены Карла: «Братья предали Людовика. Они спасали свои шкуры… Маргарита знала, что при желании тоже могла бы, взяв ребенка, отплыть во Францию. Но если бы она поступила так, Франция осталась бы без короля[72]. Ее неприязнь переросла во враждебность, а потом и в ненависть. Она никогда не забудет и никогда не простит»{118}. Маргарита имела право судить о храбрости и ее отсутствии: в ходе злополучного египетского похода она защищала от сарацин Дамьетту, оказавшись там в отсутствие короля, который был отрезан от занятой крепости противником. Не исключено, что истоки вражды между Маргаритой и Карлом Анжуйским, которая достигла апогея в последние годы царствования Людовика Святого и при его преемнике Филиппе III, следует искать в тревожных днях Седьмого крестового похода.
Возможно, уезжая, Карл думал о том, что пережил за время египетской эпопеи, и горевал, как любой солдат, возвращающийся хоть и живым, но с проигранной войны. Крестовый поход, несомненно, сделал Карла Анжуйского, несмотря на молодость, зрелым человеком. К обретенному им военному опыту следует прибавить и сугубо личный, тоже непростой и печальный. Воюя, а затем находясь в плену, Карл не знал, что происходит с его женой, жива ли она. Еще во время затянувшейся стоянки на Кипре у Карла и Беатрисы родился первенец, названный в честь короля Людовиком. Роберт д'Артуа писал тогда матери, Бланке Кастильской: «Знайте же, что графиня Анжуйская на Кипре произвела на свет весьма миловидного и крепкого сына, коего передала кормилице и оставила здесь»{119}. Но ребенок прожил совсем недолго, не перенеся жары и антисанитарии. Так что свой династический долг граф Анжуйский пока не исполнил, и это, вероятно, тоже вызывало у него грустные мысли.
Однако главным следствием Седьмого крестового похода для политической судьбы Карла явилось то, что он, как и многие крестоносцы, «заболел» Востоком. Позднее, когда судьба и собственная решительность принесли ему корону Неаполя и Сицилии, умирающий Отремер стал одной из главных целей его политики. Недаром в 1278 году, Карл, умевший считать деньги (в которых нередко испытывал недостаток), купил за немалую сумму у Марии Антиохийской, внучки Изабеллы I[73], ее небесспорные права на престол Иерусалимского королевства. Правда, Карл полагал, что путь в Иерусалим ведет через Константинополь, поэтому его первичной целью, как мы увидим, было овладение Балканами и восстановление правления латинян на Босфоре. Отремер же — вернее, то, что от него осталось, — до поры до времени следовало лишь удерживать.
Как бы то ни было, крестоносные идеалы не являлись для Карла Анжуйского пустым звуком, и пережитое им в 1248–1250 годах сыграло в этом решающую роль. Тем не менее, как считает его биограф, Карл «не получил за все это особого признания у историков, которые отмечают, что в этом отношении его религиозный долг совпадал с его амбициями. Такая точка зрения не только приписывает Карлу исключительно экспансионистские приоритеты, но и недооценивает тот факт, насколько его крестоносные обязательства препятствовали достижению его собственных целей»{120}. Действительно, парадоксом в жизни этого монарха-крестоносца было то, что в походы против сарацин он отправлялся в самые не подходящие для него моменты. Если в 1248 году крестоносная эпопея отвлекла Карла от незавершенных дел в Провансе, то в 1270-м, когда ему вслед за Людовиком IX пришлось отправиться в Тунис, поход прервал подготовку Карлом экспедиции против Константинополя, которая имела для него, тогда уже сицилийского короля, огромное значение. Тем не менее Восьмой крестовый поход 1270 года, в котором нашел свою смерть Людовик Святой, проходил для его младшего брата в совершенно иных условиях, чем Седьмой. В тот момент Карл Анжуйский уже был не молодым графом, младшим отпрыском королевской семьи, отправившимся за море по приказу брата, а одним из самых могущественных монархов Средиземноморья, если не всей Европы. Его роль в тунисском походе оказалась куда более важной, если не решающей, и успех этого предприятия (пусть небольшой и весьма относительный) явился главным образом результатом его усилий. Однако будет логично вернуться к этому эпизоду биографии Карла позднее, не нарушая хронологический порядок.
Пока же стояла весна 1250 года, и граф Анжуйский в компании графа де Пуатье плыл домой, где его ждало множество непростых дел.
ГЛАВА III. Правитель
Знать стремится подчинять и притеснять народ, парод не хочет находиться в подчинении и притеснении, а столкновение этих начал решается тремя способами: единовластием, безвластием или свободой.
Никколо Макиавелли{121}Картина третья. Шахматная доска
ВОЗВРАЩЕНИЕ из-за моря означало, что Карлу Анжуйскому теперь придется как следует заняться делами и собственных владений, и — вместе с братом Альфонсом — королевства в целом. В отсутствие сыновей Бланка Кастильская, наделенная Людовиком IX правами регентши, правила уверенно — опыта ей было не занимать. Но ее рука была уже не столь твердой, как раньше. Королева-мать старела, ей было за 60, и здоровье подводило Бланку все чаще. Пока король Франции продолжал испытывать судьбу на Ближнем Востоке, достраивая укрепления немногочисленных крепостей, оставшихся в руках крестоносцев, Альфонс и Карл взяли на себя немалую часть обязанностей по управлению французским государством.
Для Карла это значило быть постоянно в движении, перемещаться, в основном верхом, по дорогам, как правило немощеным, а во многих местах превращавшимся в лесные тропы, — из Парижа в Прованс, Анжу, Нормандию, потом обратно. Впрочем, он с детства привык к такой кочевой жизни, свойственной многим знатным людям той эпохи. Эту жизнь Карлу будет суждено вести до конца его дней — вначале во французских владениях, а затем и в Италии. Провансу, где обстановка была особенно неспокойной, граф должен был уделять особое внимание. Только вернувшись из крестового похода, Карл смог довести до конца знакомство с непривычным для него, северянина, миром окситанского Юга с его приморскими торговыми городами, добивавшимися расширения коммунальных[74] свобод и привилегий, с альпийскими перевалами, через которые вели торговые пути еще южнее — в Италию, где к тому времени набрали силу богатые и фактически независимые городские республики. Молодой граф быстро сориентировался в ситуации, определив главные источники дохода в провансальских владениях — соляную подать и таможенные сборы, взимавшиеся с торговцев в Тарасконе и Эксе. «Торговый обмен между альпийскими регионами и Средиземноморьем к тому времени, когда Карл стал графом, уже давно установился; он лишь следовал примеру своего предшественника, взимая таможенные пошлины и борясь с реализацией подобных прав другими — стратегия, которая заметно улучшила состояние его казны»{122}.
Но Провансом дело не ограничивалось. Укрепляя свою власть в этом графстве, Карл волей-неволей втягивался в итальянскую политику — ведь с Италией его владения находились в теснейшей экономической связи. И не только в экономической, но и в политической, ведь до конца не проясненным в первые годы правления Карла оставался вопрос о вассальных взаимоотношениях между графством Прованским и империей. А Фридрих II Гогенштауфен, чья борьба с папским Римом приобрела в 1240-е годы характер открытой смертельной схватки, был не только императором, но и королем Сицилийским и использовал южную часть «итальянского сапога» в качестве своей главной политической и хозяйственной базы. Оттуда он вел походы на север Италии, где власти императора, как и во времена его деда Фридриха Барбароссы, противостояли города, дружественные папству. Конфигурация союзов и коалиций, которые они то заключали, то расторгали, часто менялась, но общее направление политики большинства городов Северной и Центральной Италии было ясным: борьба с истинным или мнимым императорским деспотизмом, за местные интересы, и союз с главным противником властного Гогенштауфена — папой. Чтобы понять, как и почему Карл Анжуйский оказался связан с итальянской политикой, в которую впоследствии ушел с головой, нам следует совершить еще одно отступление и описать расстановку сил на политической шахматной доске средневековой Италии.
Возложив в 962 году императорскую корону на голову Оттона I, германского короля из рода герцогов Саксонских, папа Иоанн XII возродил традицию имперской власти, находившейся в упадке с начала X века, когда окончательно распалась держава Каролингов. Папа, человек весьма сомнительных достоинств[75], вступил в союз с германским королем из сугубо политических соображений — дабы обезопасить себя от агрессивного итальянского короля БеренгараП. Впоследствии Иоанн рассорился с Оттоном, но саксонская императорская династия была основана, а вместе с ней возникла и «Священная Римская империя», объединявшая под властью нового владыки христианского Запада Германию и Италию. Более того, соглашение между папой и императором определяло характер их дальнейших взаимоотношений, не слишком выгодный для римского понтифика: «Избранного папу не могли интронизировать до тех пор, пока император не утвердит результаты выборов, а сам папа не принесет присягу на верность императору… Оттон на время освободил папу от влияния [римской] аристократии, но одновременно вынудил его подчиниться своей власти. Совершился почти такой же процесс, как и при Карле Великом»{123}.
Такая ситуация сохранялась до второй половины следующего, XI столетия, когда римско-католическая церковь вступила на путь григорианских реформ, в рамках которых церковь стремилась избавиться от опеки со стороны светской власти. Эти реформы неизбежно вели к столкновению интересов папства и империи. Противостояние растянулось на двести лет, то затухая, то вновь обостряясь. Одно из обострений произошло во второй половине XII века, когда императорский трон занял родоначальник[76] Гогенштауфенов, Фридрих I Барбаросса. Его попытки укрепить свою власть не только в Германии, но и в Италии натолкнулись на ожесточенное противодействие городских общин и папства. К тому времени североитальянские города, формально считаясь вассалами императора, фактически были независимы: они сами «избирали гражданских и военных лидеров, имели собственные суды, собирали налоги, устанавливали свои территориальные границы»{124}. В 1158 году, созвав имперский сейм в Ронкалье, император пошел ва-банк. Он потребовал восстановления своего права назначать городских чиновников на территории древнего Итальянского королевства (то есть на всем полуострове, кроме земель папы и Сицилийского королевства, где тогда правила нормандская династия), а также выплаты регалий — податей, причитавшихся имперской казне, в том числе ряда судебных и таможенных пошлин. Города отвергли эти притязания. Результатом стала многолетняя война, в ходе которой войско Фридриха до основания разрушило Милан (1162). Позднее против императора сложилась Ломбардская лига, членами которой стали почти все основные города севера Италии. Лигу поддержал властный папа Александр III (1159_1181), давний враг императора. В 1176 году в решающей битве при Леньяно войско Барбароссы было разгромлено, и заключенный позднее в немецком Констанце мир (1183) стал однозначным поражением императора: города сохранили почти все свои свободы и привилегии.
Вскоре, однако, империя нанесла ответный удар. В 118б году сын Фридриха Барбароссы, Генрих, женился на Констанции, наследнице богатого Сицилийского королевства, включавшего в себя остров Сицилия и земли юга Италии, завоеванные нормандцами в ХI-ХII веках (подробнее об истории возникновения Сицилийского королевства речь пойдет в главе IV). Пару лет спустя, когда умер бездетным Вильгельм II, последний законный отпрыск нормандской династии Отвилей, Генрих от имени жены предъявил претензии на корону Сицилии. В 1191 году он выступил в поход на юг. К тому времени из Малой Азии пришла весть о гибели старого императора Фридриха, утонувшего во время крестового похода при переправе через реку. Генрих VI, которого большинство хронистов изображает умным и решительным, но крайне безжалостным человеком, короновался императором в Риме, после чего обрушился на сицилийцев, успевших избрать своим королем Танкреда, незаконнорожденного сына одного из Отвилей. Германские рыцари Генриха быстро подавили сопротивление сторонников Танкреда (к тому времени скончавшегося) и его малолетнего сына. Династия Гогенштауфенов воцарилась на юге Италии.
Хотя Генрих VI умер от малярии уже в 1197 году, в возрасте чуть за 30, он успел произвести на свет сына, будущего Фридриха II. Мать ребенка, королева Констанция, лишь на год пережила мужа. Она решила не возвращать сына на родину Гогенштауфенов, в Германию, а отдала его перед смертью под покровительство нового папы — уже известного нам Иннокентия III. Как отмечает биограф Фридриха II Эрнст Канторович, «Иннокентий III дорого продал свою дружбу. Констанция была вынуждена… умолять папу стать феодальным сеньором Сицилии… Ей пришлось принять конкордат, по условиям которого уникальной независимости сицилийской церкви и всем церковным привилегиям королей Сицилии пришел конец… В своем завещании она назначила папу регентом королевства и опекуном ее сына»{125}.
Несмотря на то что Сицилию в первые годы XIII века сотрясали междоусобицы, юный Фридрих не только выжил, но и умудрился получить неплохое по тем временам образование и отстоять свой трон от посягательств претендентов. Однако императорскую корону он утратил: курфюрсты предпочли более зрелых кандидатов — вначале Филиппа Швабского, младшего брата Генриха VI, а затем Оттона IV из династии Вельфов. Их обоих связывали крайне непростые отношения с папским Римом, поскольку Иннокентий III стремился укрепить свои позиции в качестве не только духовного, но и политического лидера западного христианства, оттеснив императоров на задний план. Своего подопечного Фридриха он использовал как припрятанный в рукаве козырь: сын Генриха VI всегда мог пригодиться в качестве альтернативы Оттону, если тот рассорится с папой — а так оно в итоге и вышло.
Энергичный Оттон IV, проявивший деспотические замашки, быстро утратил популярность среди германских князей. Они «хотели короля, который положил бы конец частным войнам, утвердил справедливость и защитил Германию от происков папы; с другой стороны, они видели, что политика Оттона направлена на достижение целей, лежавших за пределами Германии и даже Ломбардии. Это грозило долгим конфликтом с папством в Италии и с сицилийским отпрыском Гогенштауфенов, к которому многие сохраняли… симпатии»{126}. Когда Оттон выступил в поход на юг Италии, чтобы припугнуть папу и изгнать Фридриха из его владений, на итальянской шахматной доске вновь была разыграна та же партия, что и при Барбароссе: император против ряда феодалов, городских коммун и поддерживающего их папы. Единственным отличием было участие в этой партии Фридриха как альтернативного претендента на императорскую корону, выступавшего в союзе с папой, — впрочем, такие комбинации уже встречались в более ранние эпохи.
Как и при Барбароссе, императорская партия потерпела поражение. Молодой Фридрих перешел в контратаку и, направившись со своими сторонниками в Германию, нанес Оттону IV тяжелое поражение, от которого тот уже не оправился. В 1212 году Фридрих II был коронован в качестве германского короля в Майнце, а три года спустя — повторно, в Аахене, древней столице Карла Великого. Но этот успех Гогенштауфена вряд ли сильно обрадовал папу. Люди, сменявшие друг друга на папском престоле, были разными, однако геополитические интересы Рима оставались неизменными. И этим интересам никак не отвечало объединение под одним скипетром Германии и Сицилийского королевства. Ведь папские земли в центре Апеннинского полуострова и союзные римскому понтифику города Ломбардии и Тосканы оказывались в таком случае взятыми в клещи с севера и юга. Именно с этой целью, очевидно, Барбаросса когда-то женил своего сына на сицилийской принцессе: «…Блокировать надоедливых норманнов, вечно помогавших врагам империи; создать на крайнем юге [Европы] опорную базу Гогенштауфенов, симметричную их базе к северу от Альп, и из этих двух областей — вне зависимости от настроений германских князей — наблюдать и сдерживать оказавшийся между ними Patrimonium[77] и вечно неспокойную Италию…»{127}. Теперь плод «сицилийского брака», Фридрих II, мог реализовать мечту Фридриха I, превратившись из подопечного и союзника папы в его ярого противника.
Взаимоотношения властного, талантливого и экстравагантного императора (этим титулом молодой Гогенштауфен обзавелся в 1220 году после коронации в Риме) и четырех[78] пап, занимавших Святой Престол в эпоху его правления, были неизменно напряженными. Пожалуй, наименьшие трения у Фридриха II возникали с Гонорием III, увлеченным поддержкой многолетнего крестового похода против альбигойцев в Окситании. Последнее вполне устраивало Гогенштауфена, который редко вмешивался в окситанские дела. Конфликты между папой и императором касались в основном сроков крестового похода на Восток, в который Фридрих пообещал отправиться еще в 1215 году, но выполнил обещание лишь 14 лет спустя, когда в Риме был уже новый папа — Григорий IX. При нем отношения папства и империи заметно ухудшились. Григорий заявил о себе как о продолжателе дела Иннокентия III, добивавшегося безусловного подчинения императоров власти пап: как писал папа Иннокентий еще в 1198 году, Бог «создал два великих достоинства, большее — для власти над душами, как бы владыку дня, и меньшее — для власти над телами, владыку ночи. Таковы полномочия понтифика и власть монарха. Так же как Луна получает свой свет от Солнца, которому уступает по своим качествам, положению и силе, так и власть государя пользуется блеском своего достоинства, полученным от понтифика»{128}.
Этот принцип вступал в прямое противоречие с воззрениями Фридриха II и его политическими устремлениями. Император был сложной личностью, и недостатков у него хватало. Этот Гогенштауфен, при всех своих культурных и научных интересах, ничуть не отличался от большинства средневековых правителей по части жестокости и неразборчивости в средствах и политических связях. Так, одним из его ближайших союзников и помощников был Эццелино да Романо, правитель Вероны, Виченцы и Падуи, прославившийся жестокостью, необычайной даже для тех далеко не вегетарианских времен[79]. Сам Фридрих к концу жизни стал проявлять параноидальную подозрительность, стоившую жизни или свободы многим его приближенным — в частности, знаменитому юристу и дипломату Пьетро делла Винье. Имели под собой все основания и предъявлявшиеся Фридриху обвинения в аморальности, содержании гарема, в наличии у него множества бастардов — впрочем, незаконнорожденные дети имелись тогда у большинства монархов и крупных сеньоров. Словом, Риму, конечно, было в чем упрекнуть императора, если бы сами первосвященники и их союзники представляли собой образцы христианских добродетелей.
Папская курия изображала императора «предтечей Антихриста» или даже самим Антихристом. Равнодушие к делам веры и тайный атеизм, в котором иногда подозревают этого императора, очевидно, являются отголосками враждебной Фридриху пропаганды, которая умело перемешивала факты и вымысел. Ему приписывали оскорбительные высказывания в адрес Христа, а также покровительство мусульманам и иудеям, несмотря на то что в своих землях, прежде всего в Сицилийском королевстве, Фридрих II поддерживал духовенство и принял несколько весьма жестких законов против еретиков. Впрочем, как замечает один современный автор, «последовательность аргументов совершенно не интересовала курию в ее пропагандистской войне» с императором{129}. Отметим, кстати, что Фридрих перед смертью распорядился похоронить себя в простом одеянии цистерцианского монаха — шаг, вряд ли свидетельствующий о его презрении к христианству.
Подлинная причина обострившегося конфликта между папством и империей была чисто политической. Претензии Рима на роль «солнца» в христианском мире вступили в столкновение с концепцией Гогенштауфена, который «рассматривал себя как князя мира, опору justitia, a именно — принципа моральной оправданности, лежащего в основе справедливой власти; но, помимо этого, он был охвачен стремлением, дававшим направление всей его политике, — сохранить свою династию и принадлежавшие ей земли»{130}. Характерно, что Фридрих II вел гибкую политику, неодинаковую в различных его землях. Если в Сицилийском королевстве, доставшемся ему по наследству от матери, он действовал как жесткий централизатор и подлинный наследник нормандцев, создавших на юге Италии режим сильной королевской власти, то в Германии, где император вынужден был опираться на избравших его курфюрстов и иных крупных сеньоров, он сознательно закрепил за ними весьма широкие полномочия. Тем самым германская часть империи фактически превратилась в рыхлую конфедерацию герцогств, графств и имперских городов.
Наконец, на севере Италии Фридрих лавировал между городскими коммунами, стремясь избежать повторения ошибки своего деда, объединившего против себя почти все здешние города. Отчасти императору это удалось: так называемая вторая Ломбардская лига была куда менее сплоченной, чем первая. Как отмечает Эдвард Коулмэн, тогдашние действия городов представляли собой скорее «внутренний конфликт между ломбардцами, в котором противоборствующие стороны обращались за помощью то к папе, то к императору, то к сыну Фридриха — Генриху[80], то к другим силам, а не создавали единый фронт по образцу 1160-х годов. Тем не менее боевые действия развивались по схеме первой Ломбардской войны: первоначальные успехи императора, Кремоны и других проимперских городов (Кортенуова, 1237)) последующий пат и, наконец, перелом в войне (Парма, 1248). Антиимперские коммуны снова возглавил Милан, а поддержку им оказывали сменявшие друг друга папы»{131}. Таким образом, большая часть правления Фридриха II прошла в войнах на территории Италии, ход которых к концу 1240-х годов был не слишком благоприятен для императора.
К тому же Фридрих буквально высасывал все соки из своих южноитальянских владений, направляя собранные подати прежде всего на военные нужды. Довольно стройная по тем временам административная система, созданная в Сицилийском королевстве нормандцами, была усовершенствована Гогенштауфенами, но результатом этого явилось не процветание королевства, а финансирование бесконечных военных экспедиций монарха. Бунта, однако, это не вызвало, так как в Сицилии император тщательно соблюдал обычаи, установившиеся еще при его нормандских предшественниках: он «был решительно настроен получить причитавшиеся ему средства, но никогда не сомневался в том, что добиться этого можно, лишь последовательно придерживаясь традиционных административных практик. В свою очередь, местные общины знали, что налоги будут заплачены, но не в результате произвола, а в соответствии с местными обычаями»{132}. Для людей Средневековья верность традиции являлась очень важным фактором: в их представлениях «золотой век» всегда относился к прошлому, и традиции были единственно возможной основой «правильного» общественного бытия. Фридрих II понимал это и тщательно маскировал все свои сицилийские новации под восстановление «старых добрых» порядков времен Отвилей. У Карла Анжуйского позднее, как мы увидим, это получалось заметно хуже.
Эпоху Фридриха II можно во многих отношениях считать блестящей, а стабильность его власти вызывает восхищение, ведь значительную часть своего правления он провел в отлучении от церкви, что в те времена было фактором, резко ослабляющим позиции любого государя. Тем не менее это был блеск заката. При всем почтении, которое вызывает фигура этого необычного государя, обладавшего не только талантом политика[81], но и задатками ученого, философа и поэта, трудно не согласиться с отрезвляющим замечанием одного историка: Фридриху «не удалось разрешить три унаследованные им проблемы — отношения с папством, с ломбардскими городами и взаимоотношения между Сицилией и империей»{133}.
Конфликт с императором, однако, в значительной мере истощил и папство, которое в лице Иннокентия IV (1243–1254) обрело последовательного, бескомпромиссного, но недальновидного защитника доктрины примата пап над светскими властителями. Стивен Рансимен дал ему нелестную, но, судя по всему, достаточно справедливую характеристику: «Немного было пап столь же постоянных, столь же неутомимых и смелых в борьбе за свое дело, как он; но немного было и столь же неразборчивых в средствах, коварных и готовых использовать духовные средства для достижения земных целей… Он был твердым и бесстрашным защитником папства, но папство заслуживало более благородного защитника»{134}. В 1245 году на Лионском соборе Иннокентий IV предал Фридриха II анафеме и объявил о лишении его императорского трона. Но борьба продолжалась еще несколько лет, пока незадолго до Рождества 1250 года из Апулии, области на юго-востоке Италии, не пришло известие о смерти находившегося там императора — судя по всему, от дизентерии.
Наследником Фридриха стал Конрад IV, его 22-летний сын от брака с Изабеллой (Иоландой) де Бриенн, королевой Иерусалимской. Именно Конраду были адресованы мудрые слова отца, написанные незадолго до смерти: «Славное происхождение недостаточно для королей, как и для других великих людей земли, если блестящий род не дополнен благородным характером, если выдающиеся усилия не соответствуют высоте положения государя. Люди не ценят королей и цезарей больше остальных потому, что они выше по своему положению, но потому, что они видят дальше и действуют лучше. Как люди они равны остальным по своей природе, они связаны с ними и не имеют причин для гордости, если только благодаря своей добродетели и мудрости не затмят окружающих. Они рождены людьми и умрут людьми»{135}.
Конрад проявил себя человеком не менее решительным, чем Фридрих. Он быстро собрал войско и направился из Германии, где находился, в Италию, где его ждали новые сражения с войсками папы и его союзников. Кроме того, Конрад IV хотел вступить во владение своим сицилийским наследством, за которым пока присматривал его сводный брат Манфред. Этот 18-летний юноша был незаконнорожденным сыном Фридриха II от придворной дамы по имени Бьянка Ланча д'Альяно, с которой император состоял в многолетней любовной связи — и, по утверждению таких хронистов, как Матвей Парижский и Салимбене Пармский (Салимбене ди Адам), обвенчался с ней, когда она находилась на смертном одре. Далее дадим слово Джованни Виллани: в его рассказе о Конраде излагаемые сведения в целом совпадают с информацией из других источников, хотя в иных случаях пропапски настроенный Виллани вовсю пользуется слухами и откровенной ложью о Гогенштауфенах — в частности, обвиняя Манфреда в убийстве Фридриха II, которого он якобы удушил периной{136}.
Итак, в начале 1251 года молодой король Конрад прибыл в Сицилийское королевство. «…Хотя Манфреду не по душе был его приезд, он встретил брата с подобающими почестями и уважением. В Апулии Конрад выступил сначала против Неаполя… пообещав не трогать его и сохранить жизнь защитникам. Однако он не выполнил обещания и приказал разрушить в Неаполе все стены и то же самое сделать с мятежной Капуей. Вскоре Конрад привел к повиновению все королевство, жестоко расправляясь со всеми бунтовщиками, друзьями и приверженцами Святой Церкви. Он подверг мучительной смерти не только мирян, но и монахов и священнослужителей, грабил церкви, истреблял всех непокорных… Если бы Конрад прожил долго, он сделался бы еще худшим гонителем Святой Церкви, чем его отец Фридрих»{137}. Как мы уже говорили, никакими гонителями церкви как таковой Гогенштауфены не были, однако в ходе войны с папой они требовали лояльности священнослужителей на своих территориях. Впрочем, рука у Конрада IV, судя по всему, была действительно еще тяжелее, чем у его отца; прямолинейностью и беспощадностью молодой король скорее напоминал деда, Генриха VI.
Как вскоре выяснилось, деда и внука объединяло и другое: обоим была суждена ранняя смерть. Во время итальянского похода Конрад тяжело заболел. Виллани и в этой смерти винит — без каких-либо существенных на то оснований — Манфреда, который якобы «чтобы завладеть властью, подкупом и обещаниями склонил лечивших Конрада врачей отравить его с помощью клистира»{138}. Ему вторит и другой хронист — францисканский монах Салимбене де Адам, который говорит о том, что Конрад «ненамного пережил отца и умер от яда, введенного ему с помощью клистира»{139}. Учитывая, что в войске короля свирепствовала дизентерия, старания Манфреда (повторим, скорее всего вымышленные папской пропагандой и повторенные хронистами) были совершенно излишни. Инфекция сделала свое дело, и 21 мая 1254 года Конрад IV скончался в городке Лавелло на юге Италии в возрасте всего лишь 26 лет.
Его смерть означала, что династия Гогенштауфенов утратила по меньшей мере германский («римский»), выборный трон. У Конрада остался малолетний сын, тоже Конрад, или Конрадин (под этим уменьшительным именем он войдет в историю), которому в момент смерти отца было два года. Убедить курфюрстов проголосовать за него было непросто: после ухода Фридриха II и Конрада IV звезда Гогенштауфенов явно клонилась к закату. Но и папство было не в состоянии навязать князьям-избирателям своего кандидата. В империи началось междуцарствие — interregnum, растянувшееся на 17 лет[82]. В это время «Германия и Италия оказались на самой низкой точке феодальной анархии. Значение политической власти императора… постепенно было фактически сведено на нет»{140}.
Что касается Сицилийского королевства, то оно со времен Генриха VI и его супруги Констанции являлось наследственным доменом Гогенштауфенов, а потому не зависело от воли курфюрстов. Однако еще со времен нормандской династии это королевство номинально считалось владением папы, которое тот давал в лен сицилийским монархам (подробнее об этом см. в главе IV). В момент, когда из всех законных наследников ненавистной Риму династии в живых остался лишь младенец Конрадин, папа почуял возможность раз и навсегда расправиться с Гогенштауфенами. Впрочем, отлучив вначале императора Фридриха, а затем и его сына от церкви и объявив их лишенными власти, Иннокентий IV еще до смерти короля Конрада начал подыскивать подходящего претендента на трон Сицилийского королевства. Предложение было сделано Карлу Анжуйскому.
Шахматная доска: хронология
800 — Карл, сын Пипина, король франков, прозванный Великим, коронован в Риме императором, первым в Западной Европе после взятия Рима варварами в 476 году.
800-888 — правление династии Каролингов (в качестве императоров).
924 — смерть Беренгара Фриульского (он же Беренгар I Итальянский), последнего номинального носителя императорского титула до воцарения Саксонской династии.
962 — Оттон I Великий коронован императором в Риме.
962–1024 — правление Саксонской императорской династии.
1024–1125 — правление Салической династии.
1073–1085 — понтификат Григория VII, начало активной фазы противостояния папства и императорской власти.
1152 — воцарение Фридриха I Барбароссы из династии Гогенштауфенов.
1158 — имперский сейм в Ронкалье, Фридрих I предъявляет требования итальянским городам.
1159–1181 — понтификат Александра III.
1167 — создание антиимперской Ломбардской лиги городов.
1176 — битва при Леньяно, разгром императорской армии войском Ломбардской лиги.
1183 — Констанцский мир между Фридрихом I и его противниками.
1186 — Генрих, старший сын императора Фридриха, женится на Констанции, наследнице престола Сицилийского королевства.
1190 — гибель Фридриха Барбароссы в крестовом походе. Избрание Генриха VI германским («римским») королем (с 1191 — император).
1191 — поход Генриха VI в Сицилию и завоевание этого королевства.
1194 — у императора родился сын Фридрих.
1197 — смерть Генриха VI.
1197–1212 — Фридрих II — король Сицилии.
1198–1216 — понтификат Иннокентия III.
1212 — поход Фридриха Гогенштауфена в Германию, коронация в качестве германского короля в Майнце.
1215 — повторная коронация Фридриха II в Аахене; Фридрих дает обет отправиться в крестовый поход.
1216–1227 — понтификат Гонория III.
1220 — Фридрих II коронован императором в Риме.
1226 — восстановление Ломбардской лиги городов, направленной против императора.
1227–1241 — понтификат Григория IX.
1227 — первое отлучение императора Фридриха от церкви.
1228–1229 — Фридрих II возглавляет Шестой крестовый поход, в ходе которого коронован в качестве короля Иерусалимского.
1232 — временное примирение папы и императора.
1237 — возобновление боевых действий в Италии; первоначальные успехи императорских войск.
1239 — папа Григорий повторно отлучает императора Фридриха от церкви.
1241–1254 — понтификат Иннокентия IV.
1245 — на Лионском соборе папа предает императора анафеме и объявляет его лишенным престола.
1248 — войско императора терпит тяжелое поражение под Пармой.
1250 — смерть Фридриха II на юге Италии. Манфред, незаконнорожденный сын императора, — временный регент Сицилийского королевства.
1251–1252 — поход короля Конрада IV, сына Фридриха II, на юг Италии.
1252 — у короля родился сын Конрадин.
1254 — скоропостижная смерть Конрада IV.
Между Сицилией и Фландрией
Папа Иннокентий IV, безусловно, достаточно хорошо знал историю своей церкви для того, чтобы помнить, как в VIII веке его предшественники воспользовались поддержкой франкских государей — вначале Пипина, прозванного Коротким[83], а затем его сына Карла. Франки тогда помогли Риму справиться с агрессивными лангобардами, занимавшими север Италии. Для папы Иннокентия своего рода новыми лангобардами были Гогенштауфены — и, подобно Стефану II, в обмен на военную помощь возвысившему Пипина и его сыновей, Иннокентий IV решил обратиться к Франции за подмогой в решении сицилийской проблемы.
Отношения папы с французским двором на тот момент, впрочем, были не столь безоблачны. Там многие «спрашивали себя, почему Иннокентий IV отвергал все предложения Фридриха II о примирении и о третейском суде, и… сердились на него за его высокомерное упрямство. Передавали из рук в руки письмо Фридриха II «всем, которые из королевства Франции» (от 22 сентября 1245 года), где он предлагал, чтобы Людовик IX выступил в качестве третейского судьи в этом споре, соглашался исполнить все, что король Франции постановит, и потом отправиться вместе с ним в крестовый поход»{141}. В свою очередь, папа еще в 1248 году продолжал отговаривать Людовика от похода в Святую землю, призывая его вначале помочь Риму расправиться с императором. Но, как сухо отмечает в своей «Хронике» монах Салимбене, «папа старался зря, ибо он не смог отговорить короля от его намерения совершить поход за море, потому что были уже готовы и крестоносцы, и все средства для заморского похода. И король послал сказать, чтобы папа вверил дело Фридриха суду Божию, ибо Бог есть Тот, “Который силен смирить ходящих гордо”»{142}.
Вдобавок у французских вельмож и самого короля, щепетильного в этих вопросах, вызывали раздражение образ жизни папы и его двора, надолго задержавшихся в Лионе после собора 1245 года> раздача бенефициев родственникам и приближенным понтифика и другие злоупотребления. И поэтому неудивительно, что, когда в 1250 году Иннокентий IV принимал в Лионе Альфонса де Пуатье и Карла Анжуйского, только что вернувшихся из неудачного крестового похода, братья короля пытались оказать на папу давление, добиваясь его примирения с императором{143}. Ведь последний мог служить источником подкреплений для столь нуждавшегося в них Людовика IX. Но с наскока столь сложную и многолетнюю проблему решить было нельзя. А через несколько месяцев Фридрих II умер, и ситуация изменилась.
В новых условиях папа решил, что будет уместным предложить сицилийскую корону, точнее возможность ее завоевания, Карлу Анжуйскому. Вероятно, младший из французских принцев показался понтифику человеком более решительным и воинственным (что соответствовало действительности). Да и здоровьем он был покрепче брата: вскоре после возвращения из крестового похода Альфонс, судя по всему, перенес инсульт (хотя ему только исполнилось 30). Позднее он частично оправился от разбившего его паралича, но «до конца жизни оставался больным и жил в Париже, а чаще — в его предместьях»{144}. Добавим, что это не мешало графу умело подбирать советников и твердой рукой, хоть и на расстоянии, управлять своими владениями — Пуату и полученным от жены графством Тулузским. Но для столь опасного и авантюрного предприятия, как покорение Сицилийского королевства и разгром Гогенштауфенов, Альфонс явно не годился. А вот Карл — вполне.
Однако на пути папского замысла возникло препятствие… в лице Людовика IX. Хотя король Франции по-прежнему пребывал в Святой земле, без его благословения Карл Анжуйский, конечно, не мог дать папе согласия принять сицилийскую корону. Однако, исходя из того, что нам известно о характере младшего брата короля, сам он, скорее всего, согласился бы, несмотря на то что у него не было средств на финансирование войны против Гогенштауфенов, а Иннокентий IV, к тому времени изрядно опустошивший папскую казну, серьезным подспорьем в этом деле быть не мог. Но долго терзаться Карлу не пришлось: старший брат отказал Риму. Наиболее существенной причиной этого, скорее всего, следует считать господствовавшее при французском дворе скептическое отношение к конфликту папства с Фридрихом II и его наследниками: так, королева-мать Бланка «была глубоко шокирована попытками папы превратить свою ссору с Гогенштауфенами в священную войну»{145}. Итак, Карл отверг (вынужден был отвергнуть) предложение, но очевидно, что сама эта история оказала влияние на его дальнейшую политическую эволюцию. Для папства же, как мы увидим, граф Анжуйский не перестал быть одним из потенциальных претендентов на сицилийский трон — и к этой теме в Риме спустя десятилетие еще вернутся.
Что же до Карла, то он, младший принц французского королевского дома, впервые понял, что ему вовсе не обязательно суждено всю жизнь оставаться хоть и на заметных, но все же вторых ролях. Уход Фридриха II означал, что Германия и Италия, то есть весь центр Европы, превращаются в зону политической нестабильности, и в этой ситуации может преуспеть тот, кто окажется достаточно смел и в нужный момент схватит свою жар-птицу за хвост. С Сицилией не получилось, но, возможно, получится где-то еще. Новой попыткой возвыситься для Карла стали события, развернувшиеся через пару лет после сицилийского эпизода на другом конце Европы — во Фландрии. Там произошел семейный конфликт, политические последствия которого были весьма значительными. Как и почему в него оказался втянут Карл Анжуйский?
Графством Фландрским и соседним с ним Эно (по-немецки Геннегау) с 1244 года владела графиня Маргарита II. Ее отцом был Балдуин Фландрский, первый западный («латинский») император Константинополя, избранный крестоносцами, разграбившими в 1204 году Второй Рим. Балдуин вскоре умер[84], оставив двух дочерей. Старшая, Жанна, унаследовала его владения — Фландрию, которая являлась леном французской короны, и Эно, бывшее имперским леном. Жанна вышла замуж за португальского принца (инфанта) Фердинанда, который в 1214 году имел несчастье оказаться в битве при Бувине на стороне проигравших и попал во французский плен, в котором пробыл 12 лет. Бланка Кастильская, ища союзников в первые годы своего регентства при Людовике IX, освободила Фердинанда, который вернулся к жене во Фландрию, но, кроме единственной рано умершей дочери, потомков их брак не дал. В 1233 году Фердинанд умер, и Жанна под давлением королевы Бланки, пристально следившей за тем, как идут дела в одном из важнейших французских ленов, вышла замуж за Томмазо II Савойского. Ей было уже за 40, и детей во втором браке у нее не было.
Маргарита была младшей дочерью Балдуина Фландрского. Отношения между ней и Жанной были Напряженными. В 1212 году младшая из сестер вышла замуж за Бушара д'Авеня, отпрыска одного из знатных родов Эно. Обстоятельства брака были необычны: Маргарите было всего лишь 10 лет, и Бушар, на 20 лет старше юной жены, являлся до этого ее воспитателем, а свою карьеру вообще начинал как лицо духовное — иподьякон в церкви города Лаон. Жанна и Фердинанд были возмущены таким поворотом событий и не дали согласия на брак (который в любом случае стал полноценным в смысле супружеских отношений лишь через несколько лет). Тогда Бушар собрал войско и пошел на них войной, вынудив Жанну признать законность брачного союза сестры.
Затем судьба совершила очередной кульбит. Бушар д'Авень как вассал графини Фландрской воевал вместе с ее мужем при Бувине, но, в отличие от Фердинанда, успел после поражения бежать с поля боя. Они с Маргаритой поселились в Люксембурге. Тем временем папа Иннокентий III объявил брак этой четы недействительным — по той причине, что Бушар какое-то время был духовным лицом, а следовательно, не имел права вступать в брачный союз. (Обстоятельства этого дела настолько запутанны, что решение папы не выглядит безупречным с правовой точки зрения.) Таким образом, трое сыновей, появившихся на свет после вердикта папы, были с официальной точки зрения бастардами — чем впоследствии и оперировали противники Авеней. Маргарита была беременна младшим из этих детей, когда ее муж, то и дело ввязывавшийся в какие-то мелкие войны, попал в плен к вассалам графини Жанны, где оставался два года. Чтобы добиться его освобождения, Маргарита признала расторжение своего брака. Бушар уехал в Италию, где снова воевал — на сей раз, как ни странно, под папскими знаменами. Во Фландрию он вернулся много позднее, уже стариком, но мести бывшей родственницы не избежал: в 1244 году его схватили и по приказу графини Жанны казнили. Сама Жанна скончалась через несколько месяцев.
Фландрия и Эно перешли во владение Маргариты. К тому времени она давно была вдовой, но не незадачливого Бушара, а своего второго мужа, Гийома де Дампьера, за которого вышла в 1223 году. В браке с ним у Маргариты родились еще трое сыновей и дочь. Таким образом, на наследство во Фландрии и Эно претендовали две группы сводных братьев. Сама графиня отдавала предпочтение потомству от второго брака, Дампьерам, и объявила своим наследником старшего из них — Гийома. Но поскольку первый брак графини признал незаконным папа, старший из бастардов, Жан д'Авень, бросился искать защиты у главного противника папы — императора. Фридрих II, конечно же, не отказал в поддержке, признав Авеней законными детьми, а значит, наследниками Фландрии и Эно.
Началась война за фландрское наследство, длившаяся с перерывами целое десятилетие{146}. Поначалу казалось, что конфликт будет быстро улажен: в 1246 году, еще до отъезда в крестовый поход, Людовик IX выступил в роли арбитра и присудил Дампьерам Фландрию, а Авеням — Эно (хотя последним как имперским леном король, собственно, не имел права распоряжаться, но император Фридрих не возражал). Однако Маргарита была жива, и Жан д'Авень знал, что она не собирается отдавать ему ни одно из своих графств. В июне 1251 года на рыцарском турнире Авени подослали убийц к старшему из Дампьеров — Гийому. После его гибели война разгорелась с новой силой, партию Дампьеров вместе с матерью возглавил второй из братьев — Ги (Гвидо). Два года спустя они были разбиты в сражении при Валхерене; Ги и его младший брат Жан попали в плен. Авени и их союзники из Голландии, надеявшиеся за оказанные ими услуги получить кое-какие земли во Фландрии, торжествовали.
В этих условиях графиня Маргарита (надо заметить, даже не пытавшаяся помирить своих детей — как будто вместе с решением папы о незаконности ее первого брака Авени перестали для нее существовать) призвала на помощь Карла Анжуйского. Король Людовик в тот момент еще не вернулся во Францию, и Карл был вполне логичным выбором Маргариты как вассала французской короны. В обмен на изгнание Авеней и голландцев из Фландрии графиня предложила Карлу во владение Эно. Еще раз подчеркнем, что это графство было леном империи, и тот факт, что Маргарита столь вольно распоряжалась им, подтверждает, что после смерти Фридриха II авторитет имперской власти сильно упал.
Далее, как утверждает хронист Гийом из Нанжи[85], произошло следующее. Карл явился в Эно с относительно небольшим войском и потребовал от местных баронов принести ему вассальную присягу — оммаж. Большинство согласилось, но тут вмешался граф Вильгельм Голландский, претендовавший в то время на титул германского короля. (Вильгельм был кандидатом, которого Рим выдвинул в противовес Конраду Гогенштауфену, сыну Фридриха II.) Вильгельм поддерживал Авеней в конфликте с Маргаритой Фландрской и потребовал от Карла удалиться — или выйти на бой. Тот, однако, ответил, что не собирается воевать, так как не ссорился с Вильгельмом{147}. Ответ Карла говорит о том, что он уже приобрел кое-какой политический опыт и не спешил очертя голову бросаться на врага, как это случалось с ним во время крестового похода. Вильгельм, у которого и без того хватало неприятелей, тоже на самом деле не слишком рвался воевать. Весной 1254 года стороны заключили перемирие.
Тем временем во Францию наконец вернулся Людовик IX. Узнав о ситуации в Эно, король в ноябре 1255 года направился туда и снова выступил в своей излюбленной роли арбитра. Он настаивал на соблюдении прежнего вердикта, вынесенного в 1246 году. Графиню Маргариту заставили вновь признать ее старшего сына Жана д'Авеня своим наследником в Эно; тот, в свою очередь, согласился освободить из плена сводных братьев — Ги и Жана де Дампьеров. Права Ги на Фландрию были подтверждены. Карл Анжуйский был вынужден проглотить горькую пилюлю: по настоянию короля он отказался от каких-либо претензий на Эно, аннулировав тем самым свою договоренность с Маргаритой. Однако пилюлю подсластили: графиня обязалась выплатить Карлу в качестве компенсации огромную сумму в 160 тысяч турских ливров в течение 13 лет. (В действительности это было сделано чуть позже — к 1271 году.){148} Кроме того, граф Анжуйский приобрел верных друзей и союзников, поскольку Маргарита и Дампьеры «оставались глубоко признательны ему до конца своих дней»{149}. Несколько представителей этого семейства участвовали в походе Карла на юг Италии и помогали ему в управлении новообретенным королевством{150}.
Итак, на первый взгляд, от этой северной авантюры Карл Анжуйский только выиграл: по-настоящему не вступив ни с кем в конфликт, он сильно пополнил свою казну, что было немаловажно, ибо недостаток средств оставался вечным проклятием графа. Но на самом деле все было сложнее. Некоторые историки предполагают{151}, что, откликнувшись на просьбу Маргариты Фландрской, Карл вынашивал далеко идущие планы. Речь якобы шла о попытке подчинения не только Эно, но и ряда других владений на западных границах империи, где Карл хотел создать базу для того, чтобы в будущем претендовать на императорский титул. Достаточных документальных подтверждений этой версии нет. Более того, она кажется примером анахронизма, характерного для рассуждений многих историков о Карле Анжуйском. Исходя из его несомненного честолюбия и последующих масштабных планов в Италии и Средиземноморье, реализованных лишь отчасти, Карлу приписывают наличие подобного рода замыслов с самого начала политической карьеры. Куда более реалистичным, однако, представляется подход, согласно которому у Карла в 1253–1254 годах не было столь широкомасштабных намерений на северо-западе: «Его чрезвычайно осторожное поведение по отношению к Вильгельму Голландскому говорит против [наличия такого рода планов]. Ни одна из его позднейших схем не была направлена в эту сторону»{152}. Карл, естественно, был бы рад прибавить к своим владениям еще одно графство, тем более столь развитое и богатое, как Эно. Но блеск императорской короны в тот момент вряд ли слепил его глаза.
А вот на отношения Карла и Людовика IX эпизод с арбитражем во Фландрии и Эно, скорее всего, повлиял. В каком-то смысле речь шла о повторении в куда более крупном масштабе ситуации на палубе корабля, плывшего из Египта в Акру, когда рассерженный король перевернул стол, за которым его младший брат играл в кости. В Эно Людовик опять указал Карлу, что тот «заигрался», хотя на этот раз утешил его солидным финансовым вознаграждением. Но рана честолюбию графа Анжуйского была нанесена, и вряд ли король не понимал этого. Однако Людовик IX знал, что политические интересы требуют урегулирования конфликта между детьми графини Маргариты, в котором Карл представлял собой, по сути дела, лишний элемент, еще более осложнявший ситуацию.
С другой стороны, Жак Ле Гофф пришел к выводу о том, что Людовик относился к Карлу «с некоей смесью всепрощения и раздражения, что было вызвано, по-видимому, как его (Карла. — Я.Ш.) поведением, так и тем, что он замыкал собою ряд королевских сыновей»{153}. Ситуация вокруг конфликта во Фландрии и Эно подтверждает эту версию. Старший брат, очевидно, не одобрял поведения младшего, считая, что тот действовал слишком легкомысленно и поспешно, ответив на призыв Маргариты Фландрской. Но публично унизить брата было бы и глупо, и политически небезопасно, да и претило натуре короля, который не был лицемером и действительно стремился соответствовать идеалу христианского правителя. Отсюда — решение Людовика, которое напоминает поведение доброго, но не слишком мудрого родителя по отношению к расшалившемуся сорванцу: вначале отшлепаю, но затем дам конфету.
Что думал по этому поводу Карл Анжуйский, мы уже не узнаем. Его лояльности брату случившееся не поколебало, но легко предположить, что, получив окорот от короля дважды подряд — с Сицилией и Фландрией, граф большого воодушевления не испытывал. Людовик становился сдерживающим фактором в карьере брата, но сделать с этим Карл пока ничего не мог. Оставалось проглотить обиду и заниматься делами своих графств, тем более что там опять накопились проблемы.
Провансальское семейство
Карлу во многом повезло: смерть одного за другим унесла двух государей, которые могли бы создать графу Прованскому проблемы в его новых владениях. В сентябре 1249 года умер Раймунд VII Тулузский, а чуть более года спустя — император Фридрих. Это, впрочем, не избавило Карла Анжуйского от вражды городских коммун и некоторых крупнейших феодалов Прованса. За ними просматривалась фигура его неутомимой тещи — Беатрисы Савойской, по-прежнему недовольной тем, что наследство Раймунда Беренгара досталось младшей дочери и ее властному супругу.
Карл был последователен и терпелив. В первые годы после возвращения с Востока он методично преследовал своих противников в Арле, Грассе, Тарасконе и других городах и областях Прованса. Граф варьировал свою тактику: с теми, с кем, по его мнению, можно было договориться, он заключал соглашения — так случилось, например, с Баралем дель Бозом (Baral del Bauz), одним из крупных провансальских сеньоров, поднявшим в 1251 году мятеж против власти Карла. Более упорных и неподатливых противников — вроде Ука (Гуго) дель Боза, родственника вышеупомянутого Бараля, — ждала высылка, а кое-кого — тюрьма или смерть. Карлу понадобилось примерно семь лет для того, чтобы установить контроль над практически всей территорией графства. При этом менялась система власти в Провансе, становясь схожей с северной, более жесткой и централизованной. Ей Карл будет неизменно отдавать предпочтение и позднее, в своих неаполитанских и сицилийских владениях. «Повсюду к 1257 году победа графа означала замену консулатов[86] графскими наместниками, назначенными для управления городами. Экс стал административным центром всего графства»{154}.
Уже тогда проявилась важная черта Карла-правителя: в Провансе, а впоследствии и на юге Италии, он внимательно присматривался к уже существующим порядкам и использовал то, что представлялись ему полезным и способным укрепить его власть. На слом шло лишь то, что с этой властью не сочеталось. В графстве Прованском новый правитель оставил в неприкосновенности значительную часть системы управления, созданной Раймундом Беренгером, дополнив ее некоторыми элементами, позаимствованными с севера, — например, инспекторами-enqueters, которые посылались графом в те или иные части его владений при необходимости навести порядок, проверить работу местной администрации и выслушать жалобы населения. (За тем, как работает такая система, Карл мог понаблюдать десятилетием ранее в Анжу, куда Людовик IX послал своих enqueters накануне официального вступления Карла во владение этим графством.) В целом же граф старался не нарушать местные обычаи без нужды. Результаты были налицо: к середине 1260-х годов, когда Карл выступил в поход на юг, Прованс превратился «из пестрого набора графских прав, неравномерно распределенных по его территории, в расширяющееся государство, контролируемое единой администрацией, которая опиралась на единый набор законов»{155}.
Карл методично расширял сеть союзов и взаимных обязательств, которая связывала его со все новыми территориями на юго-востоке Франции и севере Италии. Так, в конце 1250-х и в начале следующего десятилетия он поддержал горожан Ниццы, быстро растущего средиземноморского порта, в их стремлении наладить торговые пути в Ломбардию через альпийские перевалы. Ницца хотела создать альтернативу морской торговле, развитию которой препятствовали действия могущественной Генуи, не желавшей появления конкурентов. В результате в альпийских областях сложилась своеобразная политическая комбинация. Карл Анжуйский, не раз воевавший с городскими коммунами Прованса, на сей раз выступил на стороне городов Ниццы, Кунео, Альбы и Асти, став их покровителем в конфликте с Савойским домом — родственниками его непокорной тещи. Карл выиграл, обеспечив себе большое влияние в районе, очень важном экономически и стратегически, и став тем самым частью итальянского политического пространства.
Возникает искушение толковать эти его действия как подготовку почвы для будущего рывка на юг, к сицилийской короне, — но такой вывод был бы не совсем верным. Сицилия на тот момент, когда Карл боролся за влияние в — если оперировать современными политико-географическими реалиями — итало-французском пограничье, была для него закрытой главой. Ведь на это королевство после 1253 года формально претендовал его родственник — юный Эдмунд, второй сын короля Англии Генриха III и Элеоноры Прованской, одной из трех своячениц Карла Анжуйского. Иннокентий IV объявил Эдмунда, которому тогда было 8 лет, королем Сицилии — сразу после того, как Людовик запретил своему брату претендовать на этот престол. В отличие от французского короля, Генрих III, не отличавшийся дальновидностью, принял папское предложение сделать Эдмунда повелителем далекой и богатой страны. В апреле 1255 года новый папа Александр IV подтвердил права Эдмунда. Тем самым король Англии ввязался в эпопею, которая не принесла ему ничего, кроме политических и финансовых проблем.
Генриху, чьи отношения с собственными баронами оставляли желать много лучшего, не удалось собрать достаточное количество средств для похода против Манфреда Гогенштауфена, контролировавшего к тому времени Сицилийское королевство (подробнее см. главу IV). Папа гневался, угрожал Англии интердиктом, но сдвинуть ситуацию с мертвой точки не мог. Впрочем, некоторые историки полагают, что комбинация с Эдмундом была для Рима лишь уловкой, средством давления на Манфреда, а Генрих III и его честолюбивая супруга, ослепленные видением короны для младшего сына, позволили обвести себя вокруг пальца: «Генриху оставалось винить лишь самого себя в том, что он попался в папскую ловушку»{156}. Ситуация с сицилийским наследством способствовала дальнейшему обострению конфликта между королем и феодалами в Англии, результатом чего стала так называемая Вторая баронская война 1264–1267 годов. Эти события, впрочем, находятся за пределами нашего повествования.
Зато в него укладываются другие последствия сицилийского предприятия короля Англии. По мере того как ухудшалась ситуация в его королевстве, Генрих, стремясь обезопасить себя хотя бы от внешних угроз, согласился на заключение мира с Людовиком IX, с которым уже не раз воевал. На Рождество 1259 года король Англии и его супруга прибыли в Париж, где после череды переговоров, пиров, молебнов и иных торжественных церемоний был подписан англо-французский мир. В контексте биографии Карла Анжуйского семейные обстоятельства свидания двух королей и их близких интереснее политико-дипломатических. В Париже тогда оказались все четыре дочери Раймунда Беренгера — Маргарита, королева Франции, Элеонора, королева Англии, Санча (Синтия), королева Германии[87], и Беатриса, графиня Прованская. Во время пира, устроенного Людовиком IX и его супругой, жена Карла Анжуйского была унижена: ее посадили отдельно от остальных сестер, за более низкий стол, мотивировав это тем, что, в отличие от них, она не является королевой. Беатриса была сильно уязвлена и, как повествует Виллани, «эту обиду в большом огорчении она изложила Карлу, супругу своему». Тот, однако, рассмеялся, сказав жене: «Успокойся, ибо я скоро сделаю тебя более великой королевой, чем они»{157}.
Возможно, этот диалог — апокриф, возникший уже после того, как Карл завоевал Сицилийское королевство. Вряд ли за несколько лет до того, как ему вновь была предложена корона Сицилии, Карл мог столь однозначно предполагать, что его ждет королевский титул. Вакантных престолов в тогдашней Европе было немного, а несомненная самоуверенность Карла уже давно уравновешивалась немалым реализмом. Так что если слова, которые приводит Виллани, были действительно произнесены графом, то толковать их можно либо как предчувствие собственной судьбы (что нечасто, но случается с некоторыми людьми), либо просто как стремление успокоить слишком разволновавшуюся супругу. Существеннее тут, наверное, другое. Очередной конфликт с родственницами жены вновь показал Карлу, что если он рассчитывает на дальнейшее усиление своих позиций, то ему следует искать счастья подальше от тех краев, где имеют влияние дамы из Прованского дома и их могущественные мужья, один из которых вдобавок являлся его, Карла, старшим братом и сюзереном. Впрочем, в тот момент, когда состоялся предполагаемый диалог Карла и Беатрисы, граф уже мог чувствовать себя достаточно уверенно. Ведь двумя годами ранее он сумел достичь выгодного для себя компромисса с самой непримиримой представительницей этого семейства — Беатрисой Савойской.
Конфликт с младшей дочерью и зятем, похоже, утомил уже немолодую вдовствующую графиню. В 1257 году Беатриса-старшая изъявила готовность признать полные права Беатрисы-младшей на прованское наследство. Старая графиня выдвинула лишь несколько условий: ежегодную ренту в 6 тысяч турских ливров (сумма очень солидная, но вполне доступная для Карла, который незадолго до этого обогатился в результате похода во Фландрию), единовременную выплату еще 5 тысяч ливров — на расходы, связанные с ее переездом за пределы Прованса (еще одно из условий соглашения), а также полную амнистию со стороны Карла для сторонников его тещи. Финансовую часть договора лично гарантировал король Франции — это можно считать свидетельством того, сколь глубоким было недоверие между Беатрисой Савойской и Карлом. Но, как бы то ни было, наиболее серьезное препятствие на пути к единовластию Карла Анжуйского в Провансе было устранено.
Капитуляция (хоть и на почетных условиях) Беатрисы Савойской лишь подчеркнула успехи Карла, которых он добился в Провансе за годы, прошедшие после возвращения из крестового похода. Даже авторы, не симпатизирующие Карлу как правителю авторитарному и жесткому (а позднее и жестокому, хотя это относилось уже к итальянскому этапу его карьеры), признают, что он «обеспечил Прованс таким уровнем защиты и безопасности, какого не помнили со времен Карла Великого»{158}. Последнее, возможно, преувеличение, но не подлежит сомнению то, что Карл Анжуйский сумел привить своим провансальским подданным чувство лояльности к себе и своей династии — один из главных признаков успеха для любого государя. Это подтверждает хотя бы тот факт, что после смерти Карла, когда его сын и наследник Карл II находился в плену у арагонцев (подробнее см. главу VI), в Провансе не было отмечено никаких признаков нелояльности, а представители сословий графства, собравшись в 1286 году в Систероне, «согласились, что они должны сделать все, что в их власти, чтобы добиться освобождения своего принца»{159}.
Это можно считать еще одним подтверждением того факта, что по отношению к Карлу Анжуйскому у последующих поколений возникла некоторая аберрация зрения. Вызвана она, видимо, в первую очередь тем, что большинство хронистов, писавших о Карле и его правлении, принадлежало к его политическим противникам. Историки позднейшего времени продолжили эту традицию, поскольку они, во-первых, опирались в основном именно на эти свидетельства, враждебные Анжуйскому дому, а во-вторых, нередко руководствовались собственным «романтическим» подходом к событиям давних времен, перенося на них позднейшие представления о национально-освободительной борьбе. (В первую очередь это относится, наверное, к наиболее известной широкому читателю работе о заключительных годах правления Карла I — «Сицилийской вечерне» Стивена Рансимена.) В результате поражение Карла на Сицилии заслонило многие его предыдущие победы и успехи, в том числе и тот простой факт, что, став за 40 лет своей деятельности в качестве государя обладателем многочисленных владений, от Анжу до остатков Отремера, Карл Анжуйский к концу жизни утратил лишь одно из них, хоть и очень заметное — остров Сицилию. Все остальные территории, подвластные Карлу, перешли его сыну и потомкам последнего. И если они и были впоследствии утрачены (как, например, владения на Ближнем Востоке и Балканах), то уже не по вине основателя Анжуйской династии. Если подводить баланс успехов и неудач Карла как государя, то первые, несомненно, перевесят. Впрочем, к этой теме мы еще вернемся, говоря о сицилийских событиях. Пока же путь Карла к королевской короне только начинался.
ГЛАВА IV. Колесо Фортуны: вверх
…Завоеватель должен принять две меры предосторожности: прежде всего позаботиться о том, чтобы род предыдущего государя был уничтожен, а затем проследить за сохранением прежних законов и налогов, и тогда завоеванные территории сольются с исконным государством завоевателя в одно целое за самое короткое время.
Никколо МакиавеллиКартина четвертая. Наследие Отвилей
ЛЕТОМ 911 года войско норманнов, или викингов — северного народа (точнее, группы племен), от страха перед набегами которых дрожала вся Западная Европа, — осадило Шартр на севере Франции. Былая империя Каролингов находилась тогда в глубоком упадке, разбитая на множество уделов многочисленными потомками великого императора, враждовавшими между собой. Западной частью франкских земель в то время правил король Карл III, прозванный позднее Simplex — «Простоватый» или «Простачок». Карл не был глуп, и большая часть его бурного правления ознаменовалась скромными, но все же успехами. Однако в конце жизни король из-за своей доверчивости стал добычей врагов, заключивших его под стражу, — отсюда и нелестное прозвище. Но в 911 году до этого было еще далеко.
Епископ Шартрский, руководивший обороной города, обратился к королю за помощью. Им удалось сколотить коалицию с участием графов Роберта Нейстрийского и Ричарда Бургундского и совместными силами нанести 20 июля 911 года у стен Шартра норманнам серьезное поражение. Тем не менее на полный разгром норманнов рассчитывать не приходилось, и Карл заключил с их предводителем Роллоном сделку. Вождь-язычник согласился креститься, взял в жены дочь короля Гизелу и стал вассалом своего тестя, получив от него в лен обширные земли по берегам Сены с центром в Руане, которые, впрочем, норманны и без того занимали. По преданию, гордый Роллон не желал поцеловать ногу короля, как того требовала церемония оммажа, и приказал сделать это за него одному из своих приближенных. Грубый викинг не стал наклоняться, а попробовал поднести ногу Карла к своим губам, в результате чего король потерял равновесие и упал на спину{160}. Роллон до конца своей долгой жизни соблюдал условия соглашения, хотя под конец, как утверждают некоторые хронисты, повредился рассудком и одновременно приносил человеческие жертвы скандинавским богам и денежные пожертвования христианским церквям{161}.
Большинство этих подробностей приводится в нормандских хрониках, написанных через сто и более лет после описываемых событий, так что трудно сказать, насколько достоверны детали договора между франкским королем и северными пришельцами. Как бы то ни было, 911 год стал для норманнов переломным: значительная их часть во главе с Роллоном осела на севере Франции, положив начало герцогству Нормандскому. С той поры его обитателей и их потомков логичнее называть нормандцами, что мы и будем делать впредь. Норманнам в целом и нормандцам в частности предстояло сыграть большую роль в истории средневековой Европы. Одному из возможных потомков Роллона, Вильгельму Бастарду (он был незаконнорожденным), довелось в 1066 году высадиться на побережье Англии, разбить войско тамошнего короля и положить начало новой династии, войдя в английскую историю под именем Вильгельма I Завоевателя. Другие норманны, или, как их называли в тех краях, варяги, сыграли в IX–X веках важную роль в становлении русских княжеств. Некоторые из них добрались до Константинополя, где служили в гвардии византийских императоров. Нас же интересует еще одна группа нормандских рыцарей, направившаяся в начале XI столетия покорять совсем другие края — юг Италии.
Существуют различные версии того, как и когда первые нормандцы появились в южных районах Апеннинского полуострова. Согласно одной традиции, основывающейся на многотомной «Истории норманнов» монаха-бенедиктинца Амата из Монте-Кассино (конец XI века), в 999 году группа нормандских паломников, возвращавшихся из Иерусалима, оказалась в городе Салерно в тот момент, когда на него совершили набег арабские пираты. Северяне помогли местному князю Гвемару III отбить нападение, причем воевали с такой храбростью и яростью, что Гвемар не только богато одарил их, но и призвал остаться в Салерно. Те отказались, но, вернувшись в Нормандию, рассказали соплеменникам о богатых землях на далеком юге, что и положило начало приливу нормандцев в Средиземноморье. Другая версия связана с 1016 годом, когда группа нормандских паломников повстречала на горе Гаргано, где расположена древняя святыня архангела Михаила, некоего Мелуса из Бари — вельможу, который вел многолетнюю борьбу с византийскими властями, в чьих руках находилась Апулия — область на крайнем юго-востоке Италии. Согласно хронике Вильгельма Апулийского, также написанной в конце XI века, Мелусу удалось убедить нормандцев принять участие в войне с византийцами{162}. Вскоре в Апулию прибыло небольшое нормандское войско, состоявшее в основном из безземельных рыцарей, младших отпрысков своих родов.
Хотя боевые действия не всегда складывались удачно для пришельцев, они в конце концов приобрели репутацию отличных воинов, а главное — проявили способность лавировать между многочисленными силами, боровшимися за господство на итальянском юге. Как отмечает Джон Норвич, «разделяясь, меняя союзников и противников во всех мелких стычках, в которые они оказывались втянуты, и принимая почти неизменно сторону победителей, они не давали никому из соперников слишком усилиться; поддерживая всех, они добились того, что не поддерживали никого; продавая свой меч не тому, кто предлагал наивысшую цену, но любому покупателю, они сохраняли для себя свободу действий»{163}. Тем самым нормандцы, несмотря на свою немногочисленность — изначально речь шла лишь о нескольких сотнях воинов, — вскоре стали силой, с которой были вынуждены считаться все: Византия, стремившаяся сохранить остатки своих владений в Италии; арабы, владевшие Сицилией и совершавшие регулярные набеги на побережье Апеннинского полуострова; германские императоры, то и дело приходившие с войском в Италию, дабы усилить там свои позиции; местные князьки, в основном ломбардского происхождения[88]; наконец, папство, всегда нуждавшееся в союзниках, чтобы в случае нужды противостоять всем вышеперечисленным. Первым нормандским графом в Италии считается Райнульф Дренго, получивший в 1030 году от Сергия IV Неаполитанского за свою службу во владение графство Аверса.
Среди нормандцев, которые постепенно начали смешиваться с местным рыцарством, выделялись братья из семейства Отвилей (фр. Hautville, лат. Altavilla). Их история — типичный для XI–XIII веков пример возвышения представителей пришлого мелкого рыцарства на окраине Европы, где подобные люди, обладая смелостью, предприимчивостью и удачей, могли рассчитывать на такое приумножение богатств и политического влияния, какого никогда не достигли бы на родине. Отвили[89] — сыновья некоего Танкреда, владевшего относительно небольшим наделом в окрестностях нормандского городка Котантен. Танкред выделялся из своей среды чрезвычайной многодетностью, точнее, тем, что практически все его дети дожили до взрослого возраста. У родоначальника Отвилей от первого брака было пятеро сыновей и дочь, от второго — еще семеро сыновей и дочь.
Из 12 сыновей четверо остались в Нормандии, остальные решили попытать счастья на юге Европы.
Среди братьев, отправившихся на юг, выделялся Роберт, старший сын Танкреда от второго брака. Родившийся в 1016 году — как раз тогда, когда, если верить хроникам, нормандские паломники повстречали Мелуса на горе Гаргано, — он «отличался силой и упорством — качествами лидера. Он получил прозвище Гвискар (Guiscard), что означает «хитроумный», «ловкий». Это был комплимент, ибо хитрость считалась в Средиземноморье XI столетия положительным качеством — как считается она таковым и среди современных сицилийцев»{164}. Роберт принадлежал ко второй волне нормандских рыцарей, переселившихся в Италию. Он прибыл в момент, когда у них уже имелась там кое-какая база. Его старшие сводные братья, Дрого и Вильгельм по прозвищу Железная Рука, воюя на стороне то византийских наместников, то их противников из числа лангобардских князей, обзавелись владениями в Апулии. Но графские титулы, которыми хвастались оба брата, не имели большой легитимности. Формально Отвили признавали сюзереном западного императора, однако каждый новый монарх, вступавший на императорский престол, сам решал, кого ему выгоднее иметь союзником, а кого — врагом. Вдобавок центр имперской власти, хоть она из уважения к традиции и называлась «римской», окончательно сместился в Германию, очень далекую от юга «итальянского сапога». Папа же, в отличие от императора, действительно находился в Риме, но отношения с папством у нормандцев пока не складывались. Смерть вначале Вильгельма, а затем Дрого еще более осложнила положение Отвилей, к тому времени завоевавших лидирующие позиции среди выходцев из Нормандии.
Наследство братьев перешло к следующему по старшинству — Онфруа, которому в 1050-е годы пришлось сражаться как с византийцами, так и свойском папы Льва IX, настроенного против нормандцев. Летом 1053 года нормандцы одержали при Чивитате решительную победу и даже взяли на некоторое время папу в плен, в результате чего тот был вынужден признать графское достоинство Онфруа д'Отвиля. В 1057 году, когда Онфруа умер, Роберт Гвискар, действовавший до этого в Калабрии («носок итальянского сапога»), стал преемником брата, лишив наследства своих племянников, сыновей Онфруа. К тому времени на юге Италии сложились два оплота нормандской власти: Мельфи в Апулии, где закрепились Отвили, и Аверса, где правили наследники Райнульфа Дренго. К слову, нравы нормандцев ни в коей мере не стоит идеализировать: своих успехов они добивались столь жестокими методами, что, как отмечает Фердинанд Шаландон, «ненависть жителей Италии к нормандцам достигла такой степени, что невозможно было ни одному из них, даже паломнику, остановиться в итальянском городе без того, чтобы не быть похищенным, ограбленным, избитым, закованным в кандалы — и еще считаться счастливцем, если ему удалось умереть в тюрьме»{165}.
Но вернемся к Роберту Гвискару. Он недаром носил свое прозвище. Вместе с Ричардом из Аверсы он ловко использовал борьбу различных фракций за папский престол в Риме. Если до сих пор папы предпочитали не вступать в союз с нормандцами, которых считали слишком буйными и опасными, то в 1059 году Николай II, оказавшись без поддержки императора, которому не нравились начатые церковные реформы, резко изменил тактику. Он торжественно направился в Мельфи, где провел церковный синод. Папа не только примирился с лидерами нормандцев, но и возвел Роберта в герцогское (dux) достоинство, а Ричарду присвоил титул князя Капуанского. Оба принесли папе присягу, положив тем самым начало правовой традиции номинального подчинения Риму нормандских владений на юге Италии. (Эта традиция переживет и Отвилей, и Гогенштауфенов, и именно на нее будет опираться Карл Анжуйский в качестве обоснования своих претензий на корону Сицилийского королевства.) Характерно, кстати, что Роберт Гвискар был признан герцогом не только Апулии и Калабрии, но и еще не завоеванной им Сицилии. Более того, папа распоряжался тем, что ему фактически не принадлежало: раздавая уделы на юге Италии, он опирался лишь на упоминавшийся в предыдущей главе «Константинов дар» — фальшивку, призванную оправдать политические притязания Рима.
Как у папы, так и у его новых вассалов были причины быть довольными соглашением: «Папа обнаружил, что, признав нормандцев, он открыл для своей интервенции все районы юга Италии, находившиеся под их контролем. Нормандские лидеры позволили епископствам своих главных городов, Мельфи и Аверсы, перейти под прямое управление Рима… [Но] в 1059 году ни одна из сторон не могла предвидеть, что ждет их дальше. Краткосрочные практические выгоды [союза] были очевидны, но, скорее всего, обе стороны не задумывались над тем, насколько долговременным будет этот союз»{166}. Действительно, имея дело с таким правителем, как Роберт Гвискар, умело сочетавший военную силу с искусством дипломатических комбинаций, сложно было рассчитывать на какие-либо гарантии. В свою очередь, на папский престол вскоре взошел Григорий VII, талантливый, но фанатичный реформатор, не склонный к политическим компромиссам. В результате на протяжении десятилетий взаимоотношения нормандцев и Рима были очень непростыми. Но после разрыва в 1070-е годы, когда папа Григорий даже отлучил Гвискара от церкви, союз был восстановлен, а в 1084 году, спасая папу от его главного врага, императора Генриха IV, Роберт захватил, разграбил и сжег Рим — так, как Вечный город не разорял никто со времен вандалов в V веке.
Византийская принцесса Анна Комнина в своем труде «Алексиада», посвященном жизни ее отца, императора Алексея I (правил в 1081-1118), оставила описание внешности и характера Роберта Гвискара, который производил большое впечатление даже на своих противников: «Роберт… был выдающимся полководцем, обладал острым умом, красивой внешностью, изысканной речью, находчивостью в беседе, громким голосом и открытым нравом. Он был высокого роста, всегда с ровно остриженными волосами на голове и с густой бородой. Роберт постоянно стремился блюсти нравы своего племени и до самой кончины сохранял свежесть лица и всего тела. Он гордился этими своими качествами; благодаря им его внешность могла считаться достойной владыки. Он с уважением относился ко всем своим подчиненным, а особенно к тем, которые были наиболее ему преданы. В то же время Роберт был очень скуп, корыстолюбив… да к тому же чрезвычайно тщеславен»{167}. Как сказали бы сегодня, это портрет харизматического лидера — и нет оснований удивляться тому, что Роберту Гвискару удалось сделать столь выдающуюся карьеру.
С 1060 года в истории нормандской экспансии в Италии открывается новая глава — пришельцы переправляются через Мессинский пролив и начинают завоевание Сицилии, уже пару веков принадлежавшей арабам. Любому, кто рассчитывал тогда закрепиться в Центральном Средиземноморье и обладать там военно-политическим и экономическим влиянием, без Сицилии было не обойтись. «Положение Сицилии, отделенной в одном месте лишь двумя милями от Италии и менее чем ста милями от Африки, сделало остров опорным пунктом между Европой и Африкой и водоразделом, делящим Средиземноморье на восточную и западную части»{168}. Кроме того, нормандская экспансия к тому времени приобрела свою логику, которая также подталкивала этих выходцев с севера к покорению острова: «Сицилия, зеленая и плодородная, лежащая едва ли в трех или четырех милях от материка, была не только очевидной целью и естественным продолжением того великого продвижения на юг, которое привело норманнов из Аверсы к южным границам Калабрии; она являлась логовом сарацинских пиратов, чьи набеги… постоянно угрожали прибрежным городам юга и запада. Пока Сицилия оставалась в их руках, как мог герцог Апулии обеспечить безопасность своих вновь утвержденных владений?»{169}
У Гвискара было полно забот как в Апулии, так и в более далеких краях — на греческом побережье, куда к концу жизни старый герцог распространил свою экспансию. Роберт воевал почти непрерывно — то с мятежными соплеменниками, то с соседними лангобардскими князьями, то с византийцами. В Калабрии же и особенно на Сицилии все большим влиянием пользовался его младший брат Рожер (по возрасту скорее годившийся Гвискару в сыновья), который ловко использовал распри между арабскими эмирами на острове. Нормандцев было по-прежнему мало — Рожер редко выступал во главе войска, насчитывавшего более 3-4 тысяч воинов. Но они сражались искусно, а после того, как Рожер первым среди нормандских предводителей стал использовать осадную технику, сицилийские города начали сдаваться ему один за другим. К тому же местное население, значительную часть которого составляли греки, жившие на Сицилии с античных времен, испытывало к нормандцам — хоть и латинянам, и свирепым варварам, но все же христианам — определенные симпатии.
В самом начале 1072 года войско Рожера взяло Панормус (Палермо). И хотя для полного завоевания Сицилии ему понадобилось еще почти два десятилетия, «великий граф» — таков отныне был титул Рожера I — стал хозяином положения на острове. Определенные позиции сохранились за ним и в Калабрии, которую он фактически разделил со старшим братом. Гвискар, которому было уже под 70, умер в 1085 году во время очередного похода в Грецию, оставив свои владения на юге Италии в руках своего сына Рожера, прозванного Борсой («Кошельком») за привычку часто пересчитывать монеты в мошне. После этого влияние графа Рожера Сицилийского возросло еще больше: его молодой тезка был правителем довольно слабым, к тому же непрерывно враждовал со старшим братом Боэмундом, лишенным наследства после того, как церковь признала недействительным первый брак Гвискара — с матерью Боэмунда. Граф Сицилийский то и дело выступал в роли посредника между Рожером Борсой и Боэмундом, постепенно становясь фактическим правителем юга Италии.
Рожер I умер в 1101 году. Он был почти столь же многодетен, как его отец Танкред, но сыновья — если не считать Годфруа, заразившегося проказой и умершего в монастыре, — родились у него лишь в третьем браке, когда графу было уже за 600. «Горе царству, коим правит отрок», — гласит древнее изречение. Но несмотря на то что наследником Рожера I стал восьмилетний Симон, а после его безвременной смерти — десятилетний Рожер II, правление Отвилей на Сицилии не прервалось. Более того, при Рожере II династия добилась еще более впечатляющих успехов. Во многом этому способствовала необычная система управления, созданная Рожером I. Столкнувшись с пестрым, разнородным обществом, в котором сосуществовали и взаимодействовали три народа, три религии, три культуры — арабская/исламская, греческая/православная и нормандская/католическая, — граф проявил удивительную для своего времени и происхождения терпимость. Он не преследовал ни сарацин, ни греков, если те были лояльны ему. Он позволял им исповедовать их религию, строить мечети и православные храмы, лишь постепенно заменяя греческих священников в важнейших приходах католическими. «Рожер ставил только одно условие: сицилийские греки не должны рассматривать в качестве высшей церковной власти патриарха Константинопольского или считать себя подданными императора Византии»{170}. Много лет воюя с сарацинами, Рожер I успел оценить их боевые качества и, став правителем Сицилии, без колебаний нанимал арабов на военную службу. Ценил он и ум, предприимчивость, культурный уровень греков, и они долгое время преобладали в администрации, которую граф начал создавать. Все эти принципы позднее взял на вооружение его сын, Рожер п. Дух его правления был схож с отцовским: «Нигде в Сицилии нормандцы не выказывали такой жестокости, какую они проявляли с такой неприглядной очевидностью при завоевании Англии в тот же период»{171}. Это не значит, что оба Рожера не умели быть жестокими. Но они действовали огнем и мечом лишь там, где это было необходимо. Прежде всего это касалось не Сицилии, а Апулии и Калабрии. Там, в отличие от острова, на котором Отвилям удалось довольно скоро установить режим централизованной (по меркам тех времен) власти, существовало множество крупных владений — как новых, нормандских, так и прежних, лангобардских. Для местных сеньоров лидерство Роберта Гвискара и его родственников на юге Италии было далеко не бесспорным, а необходимость повиноваться им — совершенно не очевидной. Эти люди «не признавали, что у членов семейства Отвилей, [хоть и] признанных в качестве графов Апулийских (а с 1059 года — герцогов), есть какая-то особая власть над ними, что Отвили вправе рассчитывать на их оммаж за земли, которые [сеньоры] завоевали благодаря собственным усилиям. Нет свидетельств того, что герцоги располагали иными инструментами власти, кроме военного успеха, или пытались лишить вассалов их владений; да и не все местные графы стали вассалами герцога»{172}.
Неудивительно, что междоусобные войны на юге Италии, прежде всего в Апулии и Калабрии, позднее также в районе Капуи и Неаполя, заняли большую часть правления Рожера II. Описывать все перипетии этой борьбы здесь не имеет смысла. Это история кровавых стычек, сожженных городов, разоренных деревень, многократных взаимных предательств, завершавшихся клятвами в верности, которые затем снова нарушались, — словом, средневековая феодальная междоусобица во всей красе. Рожеру приходилось маневрировать между многочисленными врагами, проявляя к одним безжалостность, к другим — снисходительность, в зависимости от ситуации. Александр из Телезе в своей «Истории короля Рожера»[90] так описывает размышления монарха в разгар войны в 1130-е годы, в которой его противниками оказались трое могущественных вельмож итальянского юга — Роберт, князь Капуанский, Райнульф, граф Алифанский, и Сергий VII, герцог Неаполитанский, носивший ранее данный ему самим Рожером титул magistermilitum — главнокомандующего королевским войском: «Как я смогу в будущем принимать графа Райнульфа и верить ему, коль скоро он всегда причинял мне вред, и ни кровное родство, ни… клятва в верности не остановили его? Как можно доверять ему после того, как он нарушил клятву? Любовь, которой я был связан с ним как с родственником в силу его женитьбы на моей сестре, ныне невозможна. Но даже сейчас, если он вернется ко мне и будет искать славы и чести [на моей стороне], я забуду обиды, которые он мне нанес… Magister militum, предавший меня и поддержавший моих врагов, совершенно не заслуживает прощения и несомненно потеряет свою власть над Неаполем. Что же до князя, то он бежал от моего гнева, стремясь спастись, [но не более], его вина не столь серьезна, следует проявить к нему милосердие и не лишать его всей чести…»{173}
Рожер-сын, как и Рожер-отец, не только был сильным политиком и неплохим полководцем (хотя ему случалось и бежать с поля боя после проигранных битв), но и обладал третьей непременной составляющей успеха любого правителя — удачей. По меньшей мере дважды сильные армии, собранные его противниками, поворачивали вспять по причине внутренних распрей или смертоносных эпидемий, оставляя Рожера хозяином положения. Не вдаваясь в излишние подробности, остановимся лишь на тех поворотах сюжета его бурной жизни, благодаря которым Рожер II обзавелся королевской короной.
Толчком к этому послужил очередной раскол в рядах высших церковных иерархов. Шел 1130 год, когда после смерти Гонория II (который двумя годами ранее попал в плен к нормандцам, после чего вынужден был признать Рожера II герцогом Апулийским) каждая из двух соперничающих группировок в папской курии провозгласила новым первосвященником своего кандидата. Одни кардиналы поддержали Грегорио Папарески, принявшего имя Иннокентия 11, другие — Пьетро Пьерлеони, ставшего Анаклетом II. Последний с самого начала был в невыгодном положении: его прапрадедом был некий Барух, крещеный еврей, и этот факт активно использовала враждебная Анаклету II пропаганда. На стороне Иннокентия II к тому же выступили некоторые церковные авторитеты, в том числе Бернар Клервоский[91], а также император Лотарь II и большинство европейских государей. Анаклету, правда, удалось вытеснить противника из Рима. Он обратился за помощью к нормандцам и получил согласие Рожера II. Тот, однако, выставил условие — свое возведение в королевское достоинство.
Мотивы Рожера были ясны: ему «следовало иметь титул, который поставил бы его выше его старших вассалов, князей Капуи и Бари, и привязал бы всех его ленников прочнее, чем обычные вассальные обязательства перед герцогом… Ему нужно было королевское достоинство не только само по себе, но также из-за мистического ореола, который его окружает»{174}. И 27 сентября 1130 года находившийся в безвыходном положении (анти)папа Анаклет своей буллой пожаловал Рожеру и его потомкам это достоинство, даровав ему (как вассалу престола св. Петра) власть над всем итальянским югом — Сицилией, Апулией, Калабрией и Капуей. Не совсем ясным оставался статус Неаполя — согласно булле, он должен был оказывать «почтение» новому королевству, но в прямую вассальную зависимость не попадал. (Впрочем, длилась эта неопределенность недолго: уже в 1137 году в результате очередной междоусобицы упомянутый выше Сергий VII капитулировал перед Рожером II и Неаполь стал частью Сицилийского королевства.) Титул нового монарха звучал поначалу очень пышно — «король Сицилии и Италии». Правда, это не гарантировало ему ни лояльности многих вассалов, прежде всего в Апулии и Калабрии, ни защиты от враждебности Иннокентия II и стоявшего за его спиной императора.
Более восьми лет пришлось королю Рожеру отстаивать свой титул с оружием в руках. И снова удача оказалась на его стороне: после смерти Анаклета II Иннокентий, теперь уже бесспорный папа, пошел на Рожера с войском, был разбит и вынужден признать королевское достоинство Отвиля. Надо заметить, что эта комбинация — столкновение нормандцев с папством, их победа и последующие политические уступки Рима — за 80 лет повторялась трижды (в 1053, 1128 и 1139 годах) и каждый раз заметно укрепляла положение нормандских властителей на юге Италии. При этом по крайней мере в двух случаях, с Гонорием II и Иннокентием II, нормандцы вели себя вопреки всем феодальным законам — как мятежные вассалы. Возможно, в этом заключалась главная черта политики Отвилей: они умели выбирать подходящий момент для удара, ставя все на одну карту и до поры до времени почти неизменно выигрывая.
Итак, с лета 1139 года королевское достоинство Рожера II и его наследников никем не оспаривалось. Возникшее Сицилийское королевство объединяло остров Сицилия и все земли Апеннинского полуострова, лежавшие к югу от непосредственных папских владений. Характерно, что при этом Апулия и Капуя формально сохранили свой статус. По соглашению с Иннокентием II изменился титул короля, именовавшегося отныне «королем Сицилии, герцогства Апулия и княжества Капуя». «Король герцогства и княжества» — это был, конечно, сущий нонсенс, но до поры до времени никто над этим не задумывался. Тем более что наместниками в Апулии и Капуе Рожер II сделал своих сыновей — Рожера (III) и Альфонса. Обоим, как и третьему брату — Танкреду, князю Бари, правда, было суждено умереть раньше отца, так что корону после смерти Рожера II в 1154 году унаследовал его четвертый сын — Вильгельм, получивший впоследствии не совсем заслуженное прозвище «Злого».
Но вернемся ненадолго к королю Рожеру. Весьма точной представляется характеристика, данная ему Сарой Бенджамин: «Он был, судя по всему, человеком, который немало размышлял над смыслом королевского достоинства. Он был также человеком сильным, авторитарным, жестоким в отношениях со многими, человеком, сознававшим свою роль центра власти и стремившимся распространять свои идеи. У этого “крещеного султана” были и черты византийца: в то время как феодализм, по крайней мере в теории, — это система взаимных обязательств, византийский государь получает свои права суверена непосредственно от Бога. Не случайно мозаичный портрет[92] [Рожера] изображает его в византийском облачении, получающим корону прямо от Иисуса»{175}. Рожеру II удалось подчинить своей власти обширные территории, отстоять их в борьбе с многочисленными противниками и основать королевскую династию — немалое достижение для внука мелкого нормандского рыцаря.
Ромуальд из Салерно в своей «Хронике», написанной в царствование Вильгельма Доброго, внука Рожера II, отмечает, что первый сицилийский король «установил мир и добрый порядок в своем королевстве и, дабы сохранить сей мир, поставил по всей своей земле камергеров и юстициаров[93], обеспечивал соблюдение законов, кои сам ввел, и устранял злые нравы…»{176}. Он создал в своих владениях достаточно жесткую и эффективную по тем временам систему управления, оказавшуюся способной не только выдержать политические потрясения, которыми было отмечено правление последующих Отвилей, но и быть унаследованной — с некоторыми относительно небольшими изменениями — вначале Гогенштауфенами, а затем Анжуйским домом. Немногие средневековые государи могли бы похвастаться столь же результативным царствованием, как Рожер II.
Нередко преемники столь успешных монархов быстро проматывают доставшееся им наследство. Вильгельм I не был правителем бездарным, но все же далеко не столь сильным, а главное, не столь удачливым, как его отец. Источники, повествующие о его характере и деяниях{177}, довольно противоречивы, а главное, зачастую (как и в случае с Карлом Анжуйским) основываются на свидетельствах людей, настроенных к королю враждебно. Сам облик Вильгельма, насколько о нем можно судить по этим свидетельствам, устрашает и вполне соответствует прозвищу «Злой»: высокий человек с очень бледной кожей и огромной черной бородой{178}. Между тем Вильгельм I вряд ли был более жестоким, чем его отец или дед. Его главным недостатком являлся, видимо, гедонизм, любовь к жизненным удовольствиям — женщинам, вину, красивой природе и беседам с восточными мудрецами. Оторвать от всего этого короля могли только чрезвычайные опасности. Но в условиях острого кризиса Вильгельм умел действовать быстро и решительно, посему был успешен в войнах с внешними противниками.
С врагами внутренними было сложнее. Почуяв, что наследник Рожера II не обладает столь же твердой рукой, как отец, бароны начали плести заговоры против королевской власти. Главной ошибкой и слабостью Вильгельма Злого было то, что он вручил бразды правления своим советникам, которых именовал familiares regis — «близкие короля». Число таких «близких» «на определенном этапе достигло десяти, но обычно их было от трех до пяти. Принимая важнейшие политические решения, они были наиболее влиятельными лицами королевства»{179}. По меньшей мере одному из них, Майо из Бари, удалось достичь положения всесильного фаворита и фактического правителя королевства (с арабским титулом «эмир эмиров» — еще одно свидетельство того, что нормандцы с готовностью принимали наследие культур, закрепившихся на Сицилии до их прихода). Убийство Майо в 1160 году положило начало бурным событиям, в ходе которых король и его семья на несколько дней оказались в плену у заговорщиков. В начавшейся суматохе погиб, смертельно раненный шальной стрелой, девятилетний Рожер, старший сын Вильгельма I, которого участники заговора хотели провозгласить королем, чтобы под его формальной властью обеспечить себе свободу действий. К 1166 году, когда Вильгельм Злой умер в возрасте лишь 40 лет, порядок в королевстве был восстановлен (ценой довольно жестоких репрессий), но от шрамов, нанесенных престижу монаршей власти в это бурное царствование, Отвили уже так и не сумели избавиться.
Это звучит почти анекдотично, но младший сын покойного короля, вступивший на престол под именем Вильгельма II, вошел в историю под прямо противоположным прозвищем — «Добрый». И эта оценка монарха и его правления была столь же далекой от реализма, как и в случае с его отцом. Вильгельму II в гораздо большей мере подошло бы прозвище «Ленивый» — он не любил вникать в государственные дела, за исключением некоторых вопросов внешней политики. Однако по характеру, судя по всему, он был куда более приятным и покладистым человеком, чем Вильгельм I, что и принесло ему любовь окружающих. Но главное — при Вильгельме II ситуация на юге Италии стала спокойнее, торговля и ремесла вступили в новую фазу подъема, а между правомочиями короны и интересами вассалов был достигнут хрупкий баланс. Вильгельм II был таким же жизнелюбом, как и его отец, но правил в более спокойные времена, а потому его эпоха вошла в сицилийскую историю как «золотой век» или «прекрасные времена короля Вильгельма Доброго». Вопрос о роли личности в истории вечен и, видимо, неразрешим, и оба сицилийских Вильгельма служат тому иллюстрацией: если «Злого» часто упрекают в том, что слабость его характера обернулась смутой, то слабость характера «Доброго», напротив, обеспечила Сицилии несколько десятилетий мира и процветания.
В начале правления Вильгельма II произошел эпизод, на котором стоит остановиться отдельно, поскольку он перекликается с событиями, которые произошли спустя более чем столетие и привели к потере Сицилии Карлом Анжуйским. После смерти Вильгельма I регентшей при малолетнем Вильгельме II стала королева-вдова Маргарита Наваррская. Не обладая большими политическими талантами, королева искала советника, на которого могла бы опереться. При этом она доверяла главным образом своим французским родичам. По совету архиепископа Руанского, приходившегося Маргарите кузеном, на Сицилию по пути в Святую землю направился их общий родственник — молодой Стефан, младший сын Ротру II, графа дю Перша. В сентябре 1166 года он прибыл в Палермо и настолько понравился Маргарите, что в течение нескольких месяцев стал не только канцлером королевства, но и архиепископом Палермским — не имея до этого духовного сана! Как утверждает Джон Норвич, «Стефан выказал себя человеком способным и энергичным; что не менее важно — он оказался неподкупен. Маргарита была им очарована»{180}. Своей стремительной карьерой Стефан оказался обязан исключительно благосклонности Маргариты. Насколько далеко зашла эта благосклонность, спекулировать не будем, но в принципе Стефан, несмотря на молодость (ему было чуть за 20), видимо, и в самом деле был толков. Во всяком случае, он один из немногих, о ком со сдержанной похвалой отзывается Гуго Фальканд — хронист, отличавшийся большим скепсисом в оценках своих персонажей{181}.
Со Стефаном приехало несколько десятков французских рыцарей, и вскоре они заняли важнейшие посты при сицилийском дворе. Это пришлось не по нраву местным вельможам. Основания для недовольства появились и у остального населения: «…Противники канцлера разжигали ксенофобию сицилийцев, вызванную тем, что французские господа якобы пытались в нарушение местных обычаев ввести систему налогов и повинностей, существовавшую во Франции… На Сицилии эти повинности[94] были неизвестны и не приветствовались. Сколь бы «нормандским» ни был правящий класс, он встретил в штыки «французское» влияние»{182}. С другой стороны, Стефан дю Перш настроил против себя многих влиятельных лиц тем, что попытался провести реформы, направленные против самоуправства местных чиновников и некоторых баронов. В результате недолгое правление Стефана оказалось полно заговоров и интриг, направленных против канцлера. В пб8 году они вылились в восстание, которое началось в Мессине и вскоре охватило другие города. Стефан был вынужден бежать, вернее, продолжить свое паломничество в Святую землю, которое на два года прервала сицилийская эпопея. Вскоре он умер в Иерусалиме от болезни. Многим его французским сподвижникам повезло еще меньше — так, хроники графства Перш, откуда был родом Стефан, упоминают о некоем Роберте де Беллеме, который «окончил свои дни в 1168 году, отравленный ядом в Салерно судьей этого города, подкупленным врагами Стефана-Ротру, канцлера короля Вильгельма»{183}.
Эпизод со Стефаном, при всей его краткости, важен и исторически, и психологически: «Стефан не был ни жесток, ни корыстолюбив; он просто никому не нравился. И не исключено, что главная его заслуга перед королевством состоит не в проведении административных реформ, а в том, что он напомнил своим противникам, что они прежде всего сицилийцы и у них есть общее дело — избавить страну от вторгшегося в нее иностранца»{184}. Это очень существенное наблюдение. В культурно и этнически пестрой сицилийской среде идентичность формировалась по специфическим законам — отчасти за счет верности местным обычаям, в том числе экономическим (см. вопрос о податях) и правовым, отчасти как бы «от противного», когда местных жителей, при всей их собственной разнородности, объединяло присутствие явных и несомненных пришельцев, чужаков, которых следовало устранить. В этом отношении, при всей разнице политических обстоятельств, «Сицилийская вечерня» 1282 года была прямым продолжением антифранцузского восстания 1168-го.
Закат династии Отвилей оказался неожиданно быстрым. Вильгельм II, понимая, что его королевство расположено на полпути между Западом и Востоком, пытался выстраивать свою внешнюю политику, балансируя между западными государствами и Византией, чей император Мануил Комнин пытался восстановить былое могущество Константинополя в Средиземноморье — как силой оружия, так и средствами дипломатии. Однако Мануил нанес Вильгельму оскорбление, причина которого остается неясной до сих пор. В 1171 году он пообещал юному королю в жены свою дочь Марию; была заключена договоренность о том, что принцесса приедет к жениху на Сицилию, но Мария так и не появилась, а из Константинополя не пришло ни извинений, ни объяснений. Этот эпизод предопределил антивизантийскую направленность дальнейшей политики Вильгельма II. Король позднее женился на Джоанне из рода Плантагенетов, дочери английского короля Генриха II.
В момент заключения брака девочке не было и 12 лет, так что какое-то время отсутствие у королевской четы наследников казалось естественным. Но детей не появилось и впоследствии, из-за чего брак тетки Вильгельма II, Констанции Сицилийской[95], и Генриха Гогенштауфена, будущего императора Генриха VI, приобрел важное династическое значение. Брак этот был заключен по инициативе Вильгельма II в 1186 году с политической целью — обезопасить королевство с севера, примирившись с империей Гогенштауфенов. Сам король не мог предполагать, что именно к его тетке, выходившей замуж в «перезрелом» по тем временам 32-летнем возрасте, перейдут права наследования сицилийской короны. Но произошло именно это: в ноябре 1189 года Вильгельм II заболел и умер, не оставив прямых наследников. Констанция же, напротив, в почти невероятные тогда для деторождения 40 лет произвела на свет сына-будущего Фридриха II.
Пять лет, которые отвела история династии Отвилей после смерти Вильгельма Доброго, были заполнены борьбой с Гогенштауфенами, предъявившими права на корону Сицилии. Здесь вновь проявилось нежелание сицилийцев принять власть пришельца: чтобы не допустить воцарения iure uxoris Генриха Гогенштауфена, местная знать избрала на опустевший трон Танкреда, графа Лечче. Он приходился Вильгельму II двоюродным братом, но династические права Танкреда перечеркивало его нелегитимное происхождение[96]. Тем не менее после ряда перипетий в идо году Танкред был коронован, а папа Климент III, формальный сюзерен Сицилийского королевства, признал его права, что было тут же оспорено Генрихом VI. Так впервые в истории Regno[97] столкнулись два принципа наследования — династический, защитником которого в этой ситуации выступал Генрих, и феодально-правовой, на который опирался Танкред, получивший признание своего королевского достоинства от папы. Эта коллизия повторится 75 лет спустя, когда последние Гогенштауфены будут по-прежнему отстаивать наследование короны «по крови», а Карл Анжуйский выступит от имени папы, вручившего ему корону Сицилии.
Король Танкред умер в начале 1194 года, спустя два месяца после скоропостижной смерти его старшего сына и наследника, Рожера. Корона досталась младшему сыну, Вильгельму III, восьмилетнему мальчику, которого ждала трагическая судьба. Летом 1194 года Генрих двинул войска и флот на Сицилию. У покойного Танкреда всегда было немало врагов, и теперь они подняли голову. Мальчика-короля и его мать, королеву Сибиллу, предали почти все; упорное сопротивление императору оказал лишь город Салерно. Генрих вступил в Палермо и на Рождество был коронован. Семья Танкреда оказалась в плену. Позднее родственников Отвилей и часть местной знати сурово наказали по обвинению в причастности к заговору против Генриха, подлинному или мнимому, неизвестно. Сибиллу с дочерьми наконец все-таки отпустили; они осели в одном из монастырей в Эльзасе. «Что до самого Вильгельма III, его судьба остается загадкой, — отмечает Джон Норвич. — Согласно одной версии, его ослепили и кастрировали в числе прочих по приказу Генриха VI, согласно другой… — его отпустили, и он стал монахом. Единственное, в чем мы можем быть уверены, — пленником или монахом он прожил недолго»{185}.
Правление Отвилей закончилось, на смену им пришли Гогенштауфены — хотя по женской линии, через королеву Констанцию, потомки нормандских рыцарей-авантюристов продолжали править Сицилийским королевством[98]. Тем не менее большинство историков считает 1194 год концом правления нормандцев в Regno. Наследие Отвилей оказалось богатым: крепко сколоченное — несмотря на повторявшиеся распри и мятежи — зажиточное королевство с централизованным (прежде всего в островной части) государственным аппаратом, сильным войском, процветающей торговлей и оригинальной культурой, сочетавшей в себе западные, византийские и арабские элементы. Отвилям удалось сделать свое пестрое государство не просто важным игроком на итальянской и, шире, средиземноморской политической сцене, но и «постепенно переместить Сицилию с Востока в мир [западного] феодализма и в европейскую политику»{186}.
Поэма Петра из Эболи Liber ad honorera Augusti sive de rebus Siculis («Песнь в похвалу Августа и о делах сицилийских»), посвященная бурным последним годам правления нормандской династии на Сицилии, была написана вскоре после падения Отвилей и воцарения Генриха VI, ярым сторонником которого был автор поэмы{187}. Она снабжена несколькими миниатюрами, одна из которых привлекает особое внимание своей символичностью. На ней изображено колесо Фортуны, над которым видна фигура торжествующего Генриха VI, увенчанного короной и воздевшего руки в благодарственной молитве; под колесом, раздавленный, лежит несчастный Танкред. Подобными иллюстрациями можно было бы снабдить и последующую сицилийскую историю, причем в трех случаях на них фигурировал бы Карл Анжуйский: дважды — как вознесенный судьбой наверх, однажды — как сброшенный вниз. Переместимся в середину XIII столетия, когда колесо Фортуны впервые повернулось в благоприятном для Карла направлении — чтобы уничтожить Гогенштауфенов и принести ему наследие Отвилей.
Наследие Отвилей: хронология
999 или 1016 — согласно разным версиям, дата прибытия первого отряда нормандских рыцарей на юг Италии.
1016 — рождение Роберта, позднее прозванного Гвискаром, старшего сына Танкреда д'Отвиля от второго брака.
1017–1019 — нормандцы принимают участие в первых столкновениях между местными князьями лангобардского происхождения и византийскими войсками.
1030 — Сергий IV, герцог Неаполитанский, пожаловал одному из нормандских предводителей, Райнульфу Дренго, за службу в лен графство Аверса.
1035 — прибытие на юг Италии трех братьев из рода Отвилей — Вильгельма, Дрого и Онфруа.
1038–1039 — расширение владений Райнульфа Дренго.
1040–1045 — завоевание нормандцами новых территорий на юге Италии под формальным сюзеренитетом германского («римского») императора. Своими владениями обзаводятся и Отвили.
1051 — смерть Дрого д'Отвиля, по некоторым данным — в результате заговора, устроенного византийцами. Его наследником становится следующий брат — Онфруа.
1053 — битва при Чивитате. Нормандцы одерживают победу над папским войском, папа Лев IX оказывается их пленником и признаёт завоевания нормандцев.
1057 — смерть Онфруа д'Отвиля, ему наследует Роберт Гвискар.
1059 — соглашение между нормандцами и папой Николаем II: Гвискар приносит папе вассальную присягу в обмен на титул герцога Апулийского. Ричард из рода Дренго получает титулы графа Аверсского и принца Капуанского.
1059–1085 — серия войн между нормандскими князьями и Византией, не выявившая окончательного победителя.
1061–1091 — завоевание Робертом Гвискаром и его младшим братом Рожером Сицилии. Рожер I становится правителем Сицилии с титулом «великого графа».
1085 — смерть Роберта Гвискара во время очередного похода против Византии на греческом острове Кефалония.
1101 — смерть Рожера Сицилийского.
1105 — вступление на престол его младшего сына Рожера II.
1112 — Рожер начинает самостоятельное правление (в возрасте 16 лет).
1127–1129 — после смерти Вильгельма II, герцога Апулийского, не имевшего наследников, и ряда соглашений с другими нормандскими правителями под фактический контроль Рожера II переходит большая часть юга Апеннинского полуострова.
1130 — Рожер становится союзником (анти)папы Анаклета II, который в обмен на это дарует Рожеру как своему вассалу титул короля.
1130–1139 — войны Рожера II с мятежными баронами, византийцами и Священной Римской империей.
1137 — падение Неаполя, осажденного нормандцами. Он становится частью Сицилийского королевства.
1139 — папа Иннокентий II, попав в нормандский плен, в свою очередь, признаёт королевское достоинство Рожера II.
1146–1153 — походы нормандцев в Северную Африку, завоевание ряда областей на побережье Ливии.
1149 — безрезультатная экспедиция сицилийского флота в Константинополь.
1154 — смерть Рожера II, восшествие на престол его сына Вильгельма I, прозванного «Злым».
1155—1158 — война между Сицилийским королевством и двумя империями: Священной римской и Византией.
1160—1161 — убийство Майо из Бари, главного советника короля Вильгельма, и острый политический кризис. Восстание баронов было подавлено королем с большим трудом.
1166 — смерть Вильгельма I, королем становится его сын Вильгельм II, прозванный «Добрым».
1166 — французский рыцарь Стефан дю Перш, родственник королевы-регентши Маргариты, занимает пост канцлера Сицилийского королевства.
1168 — изгнание дю Перша и его сторонников в результате восстания.
1174 — неудачный поход сицилийского войска в Египет.
1184–1185 — война Сицилийского королевства с Византией.
1186 — заключение брака между Генрихом, сыном германского императора Фридриха Барбароссы, и Констанцией, младшей дочерью Рожера II, теткой Вильгельма II.
1189 — смерть короля Вильгельма. Борьба между сторонниками претендентов на трон — Танкреда, графа Лечче, и Рожера, графа Андрийского.
1190 — коронация Танкреда сицилийским королем с согласия папы Климента III.
1194 — смерть короля Танкреда, вторжение в Сицилийское королевство имперского войска, свержение наследника Танкреда — Вильгельма III, последнего короля Сицилии из рода Отвилей. Корона перешла к Генриху VI и в его лице — к династии Гогенштауфенов.
Анжу в поход собрался
Городок Чепрано (или Чепперано) лежит на полпути между Римом и Неаполем. От первого его отделяет чуть более юо километров, от второго — около 130. В середине XIII века Чепрано находился на границе между владениями римского понтифика и Сицилийским королевством, пребывавшим под сюзеренитетом папы, но вверенным им некогда Отвилям. и октября 1254 года по каменному мосту через ущелье в окрестностях Чепрано проследовала пышная процессия. Во главе нее ехал на смирном жеребце старик в пышном церковном облачении — Иннокентий IV, непримиримый первосвященник, чья борьба с имперской гегемонией Гогенштауфенов в этот день, казалось, увенчалась окончательной победой. Папского коня под уздцы вел высокий красивый молодой человек в зеленом плаще — Манфред Сицилийский, описание характера которого, опираясь на воспоминания современников, оставил нам Джованни Виллани: «Человек он был щедрый, любезный и добросердечный, поэтому он был всеми любим и обласкан. Но образ жизни Манфред вел совершенно эпикурейский и не помышлял о Боге и о святых, а только захватывал, как и его отец, церкви и был очень богат, потому что от императора и брата, короля Конрада, ему досталось много сокровищ, да и само его королевство было богатым и плодородным… В жены он взял дочь деспота Ромеи[99], от которой у него было много сыновей и дочерей. В качестве своего герба он использовал имперский, только вместо черного герба на золотом поле, как у его отца, императора, у Манфреда был изображен черный же орел, но на серебряном поле»{188}.
Церемония, состоявшаяся в Чепрано, означала невиданное: примирение папы с Гогенштауфеном, наследником ненавистного Риму Фридриха II, к тому же незаконнорожденным (см. главу III). Политика возобладала над идеологией, а дипломатические маневры Манфреда, ставшего после скоропостижной кончины старшего брата, Конрада IV, полновластным хозяином Regno (законный наследник, маленький Конрадин, находился в Германии под надзором матери и опекунов), казалось, увенчались успехом. Как всегда, папство нуждалось в сильном защитнике, а в условиях междуцарствия в империи и многолетнего отсутствия короля во Франции — Людовик IX только-только вернулся домой из Палестины — сицилийский правитель представлялся Риму не лучшим, но все же приемлемым вариантом.
Дальше, однако, случилось непредвиденное. Папа с огромной свитой, практически со всем двором, добрался до Неаполя, где вел себя как подлинный хозяин, все больше раздражая Манфреда и его приближенных. «Чего бы там ни желал и на что бы ни надеялся Манфред, он не был готов к столь длительному присутствию папы. К тому же цель последнего даже не удалось скрыть — личное унижение Манфреда и уничтожение политических интересов Гогенштауфенов»{189}. Но спустя месяц с небольшим Иннокентий IV заболел и в начале декабря 1254 года умер. Коллегия кардиналов собралась здесь же, в Неаполе, и уже 12 декабря избрала новым понтификом Ринальдо ди Йенне, приходившегося племянником одному из недавних пап — Григорию IX. Новоизбранный папа принял имя Александра IV. К тому времени Манфред уже месяц как был в бегах: после того как покойный папа обвинил его в убийстве одного из местных вельмож, Гогенштауфен предпочел скрыться, чтобы не стать фактическим заложником папства{190}. Смерть Иннокентия ситуацию не изменила: Александр IV подтвердил все обвинения против Манфреда и после того, как тот отказался лично явиться на папский суд, в марте 1255 года объявил его отлученным от церкви.
Конфликт с папством продолжался еще три года и, к удивлению многих, принес победу Манфреду. На юге Италии у него оказалось больше союзников, чем у римского понтифика, чьи военные силы были ограниченны. Александр IV был куда менее решительным и удачливым политиком, чем его предшественник[100]. Портрет, нарисованный несколькими штрихами хронистом Салимбене, дает представление о нем как о человеке образованном, который «любил заниматься богословием, и часто и с охотой произносил проповеди, служил мессы и освящал церкви… Он сохранял необычайную преданность друзьям… Не вмешивался этот папа в войны, а провел дни свои в мире. Был он толстый, то есть дородный и тучный… Благожелательный, милостивый, богобоязненный, “праведный и благочестивый” (Лк. т. 25) он был и преданный Богу»{191}.
Многие в Италии, причем не только на юге, полагали папский режим менее экономически и политически выгодным, чем власть Гогенштауфенов{192}. Что же касается Regno, то там сыграли свою роль не только эти соображения, но и сформировавшаяся за десятилетия лояльность местных элит «швабской» династии, и определенные политические, экономические, культурные и личные связи, которые за времена Отвилей и Гогенштауфенов сплотили изначально пестрые и разнородные территории итальянского юга. Они заставили жителей Regno почувствовать себя принадлежащими единому целому, а потому — предпочесть власть отпрыска старой династии, пусть и бастарда, неуверенному папскому правлению, грозившему новыми междоусобицами. «Королевство… определенным образом проявило собственную волю и нежелание подвергнуться расчленению от рук папства»{193}.
Александру IV не оставалось ничего, кроме как вновь поставить все на ненадежную английскую карту. В 1255 году папа подтвердил решение своего предшественника о даровании сицилийской короны Эдмунду, младшему сыну Генриха III. В обмен король Англии взял на себя тяжелые финансовые обязательства — выплачивать Риму 2 тысячи унций золота в год и возместить расходы на войну папства с Манфредом. Таких денег у короля Генриха попросту не было{194}. Более того, сицилийские обязательства вызывали все большее раздражение у английских баронов, в конце концов выступивших против своего короля с оружием в руках.
В Риме поняли, что для решения проблемы по имени Манфред придется искать других помощников. Но решать эту задачу Александру IV уже не пришлось, так как его не слишком долгий и неяркий понтификат подошел к концу в апреле 1261 года.
Преемником покойного был спустя несколько месяцев избран француз Жак Панталеон, патриарх Иерусалимский, ставший Урбаном IV. Тогда, конечно, никто не предполагал, что избрание этого папы открывает новую эпоху в истории католической церкви. На протяжении более чем столетия после интронизации папы Урбана престол святого Петра будут занимать в основном понтифики родом из Франции, в коллегии кардиналов также начнут доминировать французские прелаты, а в XIV веке папство и вовсе на несколько десятилетий перенесет свою резиденцию в Авиньон. За редким исключением папы этого периода будут тесно сотрудничать с Французским королевством, а многие — находиться от него в прямой зависимости. Карл Анжуйский и его эпопея во многом положили начало этому процессу, в результате которого «папство, не имея возможности опереться на империю, попало под власть новой ведущей европейской державы — Франции»{195}.
Однако в начале 1260-х годов до этого было еще далеко. Папа Урбан, человек весьма энергичный и много поездивший по свету, попытался найти решение проблемы Гогенштауфенов, то есть сделать то, в чем не преуспел его предшественник. К тому времени Манфред официально короновался в качестве сицилийского короля, воспользовавшись слухами о смерти в Германии маленького Конрадина, — слухи эти, возможно, были распущены агентами самого Манфреда[101]. Вдобавок он приобрел заметное влияние не только во всей Италии, к северу от границ Regno, но и за морем, выдав в 1262 году свою дочь Констанцию за наследника арагонского престола принца Педро, будущего Педро III (этот брак сыграет важную роль в событиях, последовавших за «Сицилийской вечерней» 20 лет спустя). Папа был в ярости: Арагон, одно из самых могущественных государств Средиземноморья, стал союзником Гогенштауфена. На английского короля и его сына в сицилийской партии более рассчитывать не приходилось, и в поисках поддержки Урбан IV обратил взор к своей родине, Франции. Так на сцену в качестве претендента на сицилийский трон спустя десятилетие вновь вышел Карл Анжуйский.
Папский посланник Альберт Пармский прибыл в Париж в апреле 1262 года. Ему было поручено добиться от Людовика IX пересмотра прежнего решения и позволить одному из принцев французского королевского дома (конкретное имя пока не называлось) стать с благословения папы королем Сицилийским. Услышав об этой просьбе, Людовик «почувствовал себя неудобно, учитывая наследственные права Конрадина. В то же время он не одобрял поведения Манфреда, который, безусловно, был узурпатором и врагом церкви… Он отказался от трона Сицилии для самого себя или одного из своих сыновей, но не возражал, когда Альберт сделал соответствующее предложение его брату Карлу, графу Анжуйскому»{196}. Совесть короля была неспокойна — о чем говорит и тот факт, что позднее, когда Карл выступил в поход за короной и стало ясно, что без войны дело не обойдется, Людовик счел нужным выдвинуть аргументы в поддержку принятого решения: «Он подчеркивал, что решение папы не противоречит феодальному праву, ибо он — сюзерен Сицилийского королевства. Союз Манфреда с мусульманами еще больше, чем его нападки на Святой престол, оправдывал объявленную ему войну, придавая ей характер крестового похода»{197}.
Более того, Людовик настолько не горел желанием ввязываться — непосредственно или руками своего брата — в сицилийский «проект», что осенью 1262 года не препятствовал возобновлению переговоров между папой и Манфредом. Однако переговоры сорвались, и историки, симпатизирующие талантливому и энергичному сицилийскому королю, имевшему несчастье родиться вне законного брака, склонны винить в этом папство: «Разумные политические расчеты Манфреда провалились, столкнувшись с абсолютным безразличием папства к любым политическим интересам и моральным соображениям, помимо непреклонной защиты позиций римской церкви… Папство стремилось показать свою способность самостоятельно распоряжаться собственным фьефом. Манфред не был императором и не стремился им стать, он не представлял собой имперской угрозы власти папы над христианским Западом. Но в каком-то смысле он олицетворял подход, противоречивший папскому: он выступал за прагматический modus vivendi. Папству это было не нужно. Если королевство принадлежало папе, его следовало предоставлять во владение на папских условиях, и никакой оппозиции здесь папа терпеть не собирался»{198}. С другой стороны, за предыдущие десятилетия Рим столько раз трясся от страха перед могуществом Гогенштауфенов, что желание папства нанести наконец окончательное поражение этому упорному роду выглядит скорее рациональным политическим выбором, нежели следствием чрезмерного фанатизма и ослепления. Хотя, вероятно, церковь преувеличивала опасность, исходившую от Манфреда: по масштабам своего влияния и военно-политическому потенциалу он, конечно, сильно уступал отцу.
Летом 1263 года заработала политико-дипломатическая машина, толкавшая Карла Анжуйского к сицилийскому трону. Урбан IV направил своего посланника в Англию, уведомив Генриха III и принца Эдмунда о том, что о Сицилии они отныне могут забыть. 17 июня в Риме представителям Карла Анжуйского был вручен проект соглашения между ним и папой. В конце того же месяца послы Карла прибыли в папскую резиденцию, неся письменное согласие своего господина с условиями договора. Условия эти были нелегкими{199}. В качестве будущего короля Сицилии Карл отказывался от особых прав папского апостольского легата, которыми располагали некогда Отвили, — иными словами, он не мог вмешиваться в вопросы церковной иерархии в своих новых владениях. Он также отказывался от каких-либо претензий в будущем как на императорский трон, так и на какую-либо власть в той части Италии, которая находилась под сюзеренитетом империи или во владении папы. За папой сохранялось право лишить короля престола, и в этом случае Карл не мог требовать верности от своих сицилийских вассалов. Кроме того, король обязывался предоставлять в распоряжение папы по первому требованию три сотни рыцарей и определенное число судов; платить Риму ежегодно 10 тысяч унций золота; не облагать своих новых подданных избыточными налогами и в целом править в соответствии с законами «золотых дней короля Вильгельма Доброго». В обмен на все это Святой престол обязался объявить войну против Манфреда крестовым походом, а также не допустить возможного избрания императором Конрадина или любой другой особы, претендующей на сицилийский престол.
Договор с самого начала поставил Карла Анжуйского в крайне непростое положение. Несмотря на то что к 1263 году граф уже навел порядок в своих французских владениях, обеспечив регулярное пополнение казны налогами, да и экспедиция во Фландрию, как говорилось выше, принесла ему неплохой доход, Карл так и не стал правителем, не испытывавшим недостатка в денежных средствах. Надежды на то, что король Франции окажет щедрую поддержку сицилийскому предприятию Карла, не оправдались: Людовик копил деньги на новый крестовый поход против мусульман. Не отказал брату, правда, Альфонс де Пуатье, всегда относившийся к Карлу с большей теплотой, чем Людовик. Однако его взнос в кассу сицилийского похода составил 12 тысяч парижских и 5 тысяч турских ливров серебром{200} — сумма сама по себе немалая, но для столь масштабного предприятия не столь уж существенная. В то же время папство в согласии с французской короной обложило церковь во Франции специальным налогом — десятиной (10%) в пользу готовящегося похода. Как утверждает Джин Дюнбабен, «эффект первоначального оттока капитала из Франции в помощь экспедиции 1265–1266 годов — как церковной десятины, так и пожертвований отдельных крестоносцев — был столь велик, что рассматривается [историками] как фактор, внесший свой вклад в упадок ярмарок в Шампани, служивших начиная с 1210-х годов основным центром французской торговли с итальянскими купцами»{201}.
Тем не менее обязательства перед папой не только грозили опустошить карманы Карла, но и были внутренне противоречивы: в случае успеха сицилийской экспедиции новоиспеченный король не смог бы платить Риму то, что ему причиталось, не увеличив налоговое бремя своих новых подданных. Согласие Карла с жесткими финансовыми условиями, выдвинутыми папой, привело к тому, что в Сицилии он с самого начала был не в состоянии играть роль щедрого государя, а это неизбежно несло с собой политические проблемы и недовольство обложенного податями населения. Корни «Сицилийской вечерни» были заложены двумя десятилетиями раньше. Учитывая это обстоятельство, «масштабы успеха Карла на юге Италии к 1285 году, возможно, более удивительны, нежели поражение, понесенное им в итоге на Сицилии»{202}.
Честолюбие графа Анжуйского, однако, было таково, что он согласился с поставленными условиями. Тем более что к тому времени, когда войско для похода было собрано, на престоле святого Петра вновь произошли изменения, которые Карл мог считать благоприятными. Урбан IV умер, и в начале февраля 1265 года кардиналы избрали новым понтификом Ги Фулькуа, бывшего советника и приближенного Людовика IX. Он был более дипломатом, нежели священником, — ведь и духовным лицом Ги стал уже в зрелом возрасте, после смерти своей жены. Новый папа, вошедший в историю как Климент IV, был убежденным сторонником сицилийского предприятия Карла Анжуйского. Вдохновляемый понтификом, Карл выступил в главный поход своей жизни. Дадим слово Виллани: «В 1265 году Карл, граф Анжу и Прованса, собрал своих баронов и рыцарей, устроил им смотр и запасся денежными средствами для путешествия. Командиром и вождем полутора тысяч французских рыцарей, следовавших в Рим через Ломбардию, он назначил графа Ги де Монфора, а сам отпраздновал день Христова Воскресения с Людовиком Французским и другими своими братьями и друзьями, а потом внезапно выехал из Парижа с небольшой свитой… Он добрался до Марселя в Провансе, где заранее велел приготовить 30 вооруженных галер. На эти галеры он погрузился с сопровождавшими его из Франции вооруженными баронами и с некоторыми баронами и рыцарями Прованса и пустился по морю в Рим, подвергаясь величайшей опасности, ибо Манфред навербовал в Генуе, Пизе и [Сицилийском] королевстве более 80 галер, которые стерегли Карла на море… Но Карл, будучи отважным и храбрым государем, двинулся в путь, невзирая на козни врагов, памятуя поговорку, вернее, философское речение, гласившее: “Усердие превозмогает злую судьбу”»{203}.
Последние слова можно считать неофициальным девизом Карла: во всей своей дальнейшей деятельности он исходил именно из этого принципа.
Последняя битва короля Манфреда
То, что Карлу с его небольшим отрядом удалось ускользнуть от гораздо более многочисленного флота Манфреда и высадиться в устье Тибра в окрестностях Рима, можно считать маленьким чудом. Тем временем войско под командованием Ги де Монфора, следовавшее на юг по суше, петляло и маневрировало, пытаясь избежать стороживших его местных отрядов, союзных Манфреду. Появление французов всколыхнуло давнюю вражду гвельфов и гибеллинов, веками разделявшую Италию. Гвельфы, сторонники папы, помогали Монфору и его рыцарям избежать ловушек, расставленных гибеллинами, поддерживавшими Манфреда. В результате продвижение небольшого французского войска по Северной и Центральной Италии растянулось на много месяцев, но оказалось успешным. В декабре 1265 года французы «достигли Рима. Их приход весьма утешил графа Карла, устроившего им почетный и торжественный прием»{204}. С Монфором в Рим прибыла и порядком измученная перипетиями трудного пути Беатриса, супруга Карла, которую тот не решился взять с собой в морской поход, считая его более опасным, чем сухопутный. В общем и целом под знаменами Карла Анжуйского собралась по тогдашним меркам значительная сила: по оценке Джона Франса, это была «весьма многочисленная и хорошо оснащенная армия численностью примерно в 4 тысячи конных и от 10 до 12 тысяч пеших воинов»{205}.
Кто, собственно, сопровождал претендента на сицилийский престол в его походе, объявленном церковью крестовым? Кто шел за ним и был готов рисковать жизнью во имя того, чтобы сделать младшего брата французского короля королем Сицилийским? Нам известны в основном сведения о представителях аристократических семей из Северной Франции и Прованса, вставших под знамена Карла. Простые воины, как можно предположить, состояли из двух категорий, баланс между которыми, основываясь на имеющихся скудных данных, установить трудно: отчасти наемники, отчасти верные слуги своих господ, отправившихся вместе с Карлом покорять неведомые земли на юге. В целом «надежда на духовное вознаграждение, желание приумножить то, что рассматривалось как сугубо французские достижения[102] и возможность улучшить собственное положение, — все это действовало как мощные стимулы для добровольцев, шедших сражаться за Regno»{206}.
Вскоре после прибытия Карл довольно прочно утвердился в Риме и даже был возведен городскими властями в звание сенатора. Сенаторский титул, в отличие от античных и ранних средневековых времен, в XIII веке означал положение ведущего городского магистрата с широкими полномочиями, своего рода светского диктатора. Приняв это звание, Карл нарушил один из пунктов договора с папой и впоследствии, став королем Сицилии, вынужден был отказаться от сенаторства. Но в 1265 году это звание очень пригодилось ему, означая фактически лидерство в гвельфской партии и предоставляя графу Анжуйскому определенную независимость, в том числе и в отношениях с его не слишком щедрым покровителем — папой. Кроме того, Карлу удалось переманить на свою сторону нескольких влиятельных вельмож, которые располагали наемными отрядами, с чьей помощью контролировали ряд областей в окрестностях Рима. Гибеллинская партия в Риме фактически распалась. Манфред, поначалу выражавший радость по поводу того, что Карл, оказавшись в Риме, стал «птичкой, которая залетела в клетку», теперь имел основания для беспокойства. С 28 июля 1265 года, когда четыре кардинала, посланные Климентом IV, совершили над Карлом Анжуйским обряд инвеституры, он официально именовался королем Сицилии.
Между тем Манфред повел себя странно. Его войско выдвинулось было за пределы Regno, в окрестности Рима, но действовало нерешительно. В районе Тиволи произошел ряд стычек между французскими и сицилийскими отрядами, однако до решающего сражения дело не дошло. Затем Манфред удалился на юг. Дональд Мэттью предполагает, что он, возможно, «имел весьма амбициозный план — заманить Карла вглубь королевства, дав тем самым себе возможность собрать все свои силы и одновременно вынудив Карла растянуть коммуникации, соединявшие того с его базой в Риме»{207}. Кажется, это предположение страдает анахронизмом. Подобным образом могли действовать, к примеру, русские войска против Наполеона в кампании 1812 года, однако в XIII веке воевали иначе. Битва, проигранная государем на собственной территории, могла привести к моментальной смене лояльности многими баронами, а значит, и к окончательному поражению. Рожер II в свое время смог удержать власть во многом благодаря тому, что все свои поражения он потерпел на юге материковой Италии, но его базу на острове Сицилия они не затронули, так что король всегда имел возможность восстановить силы и взять реванш. Правление Манфреда отличалось тем, что он перенес центр своей власти с острова на материк. Пойти на решающее столкновение с Карлом за пределами Regno, неподалеку от Рима, для него имело смысл — даже проиграв, он мог бы отступить в пределы своих владений и подготовить там оборону. «Заманивать» же врага вглубь королевства, напротив, было чрезмерным риском, и если Манфред действительно хотел этого (ясных документальных подтверждений тому нет), то он совершил роковую ошибку.
Виллани утверждает, что перед тем, как войско Карла вторглось в пределы Regno, Манфред попытался договориться со своим противником «о перемирии или мире», и передает горделивый ответ Капетинга посланцам его врага: «Allez, et ditez pour moi au sultan de Nocere, qu'aujourdhui je mettrai lui en enfer, ou il mettra moi en paradis»[103]. Эта фраза, вне зависимости от того, звучала ли она именно таким образом, очень соответствует характеру Карла Анжуйского. Здесь и желание уязвить и унизить противника — Карл называет Манфреда «султаном Ночеры», намекая на сарацин из этого города, служивших в войске Гогенштауфена, — и непоколебимая уверенность в собственной правоте — Манфред обречен попасть в ад, он же, Карл, в рай, даже если проиграет, ведь он служит правому делу, — и непреклонность в стремлении к цели, ведь предложения соперника были отвергнуты Карлом со всей однозначностью.
К тому времени Карл уже был официально коронованным королем Сицилии. Церемония прошла в Риме б января 1266 года «с великими почестями». Папа Климент на коронации не присутствовал, так как обстановка в Риме была довольно тревожной, а в городе у понтифика имелось немало врагов. Однако посланные им кардиналы постарались сделать все для того, чтобы новоиспеченная королевская чета (вместе с мужем короновалась и Беатриса Прованская) произвела на присутствовавших самое достойное и величественное впечатление. Вероятно, Беатрисе коронация доставила едва ли не большее удовлетворение, чем Карлу: теперь ее сестры были не вправе попрекать ее тем, что, в отличие от них, у нее нет королевского сана. Для супруги нового сицилийского монарха «коронация представляла собой завершение длительной и трудной борьбы за то, чтобы ее зауважали сестры, уже добившиеся высот успеха»{208}. Но самому Карлу еще только предстояло по-настоящему добыть свою корону — на поле брани.
В начале февраля 1266 года войско Карла проникло на территорию Regno и постепенно продвигалось на юг, взяв по пути важную крепость Сан-Джермано и несколько более мелких укрепленных пунктов. Салимбене де Адам, современник этих событий, с удивлением описывает небывало мягкую погоду тех дней, как и положено средневековому человеку, видя в этом Божье знамение, предвещавшее победу Карла (к которому этот хронист вообще относится тепло — как к защитнику веры и церкви): «…Случилось великое чудо, ибо в том году, когда они пришли, не было ни холода, ни мороза, ни гололедицы, ни снега, ни грязи, ни дождей… И совершил это Господь, потому что пришли они на помощь Церкви и на погибель этого проклятого Манфреда, достойного такого конца за свои преступления»{209}.
Манфред по совету своих баронов отошел с войском к городу Беневенто, где «мог принять бой в выгодных для себя условиях, а в случае необходимости отступить к Апулии. Кроме того, он преграждал путь Карлу, который не мог пройти… в Неаполь, как и в Апулию, минуя Беневент»{210}. К тому времени, когда 25 февраля войско Карла подошло к этому городу, оно, несмотря на благоприятную погоду, находилось не в лучшем состоянии: зимний поход, сопровождавшийся многочисленными стычками и штурмами нескольких крепостей, измотал воинов, а коням не хватало корма. Обнаружив перед собой войско Манфреда, закрывавшее ему дальнейший путь, Карл, несмотря на всю свою самоуверенность, наверняка испытал страх по поводу исхода предстоящей борьбы.
Атаковать Манфреда было бы самоубийственно — его войско было более многочисленным и бодрым физически. Выжидать было еще опаснее: как пишет Виллани, «силы Манфреда были раздроблены: мессер Конрад Антиохийский находился со своим отрядом в Абруцци, граф Фридрих — в Калабрии, граф Вентимилья — в Сицилии. Если бы Манфред подождал, он собрал бы более крупное войско, но кого Бог желает погубить, того он лишает разума»{211}. 26 февраля Манфред сам пошел в атаку, что в сложившейся ситуации было наилучшим для Карла исходом. Впрочем, у Гогенштауфена оказались свои резоны для спешки. Как отмечает Стивен Рансимен, Манфред «не был уверен в лояльности своих подданных; его потрясло то, с какой легкостью многие из его гарнизонов сдались врагу, и он подозревал, что немало местных баронов уже колеблется. Он не знал, когда придет Конрад[104]; он получил подкрепление — отряд из 800 конных германских наемников, но на данный момент не мог рассчитывать на большее. Видя, в каком плачевном состоянии находятся войска Карла, он решил атаковать»{212}.
Расстановка сил была следующей. Манфред выставил вперед сарацинскую кавалерию и пехоту, словно подтверждая данное ему Карлом прозвище «султана Ночеры». В их задачу входила дезорганизация рядов противника, после чего в дело должны были вступить тяжеловооруженные немецкие наемники, которых насчитывалось около 1200 человек. Чуть дальше, в третьей линии, располагались отряды ломбардцев и тосканцев под командой Гальвано Ланча, князя Салернского, брата покойной матери Манфреда, вместе с другим небольшим отрядом сарацин. Наконец, сам король предпочел остаться в резерве с рыцарской кавалерией Regno, числом более тысячи всадников; по мнению Рансимена, Манфред «не полностью доверял им и не хотел пускать их в дело до тех пор, пока победа не будет предрешена»{213}. Кроме того, в распоряжении Манфреда находилось несколько тысяч лучников, которые должны были осуществлять «артподготовку» к битве. Общая численность войска Гогенштауфена составляла от 12 до 14 тысяч человек, хотя по числу тяжеловооруженных рыцарей, решивших исход сражения, оно не превышало, а может, даже и уступало армии Карла. (Как и в большинстве средневековых битв, данные о соотношении сил сторон, приводимые хронистами, весьма ненадежны и приблизительны.)
В свою очередь, Карл «построил свои отряды в три боевые линии. В первой стояли французы в количестве тысячи рыцарей… во второй — король Карл с графом Ги де Монфором, со своими баронами и рыцарями королевы, с баронами и рыцарями Прованса, римлянами и кампанцами — всего около 900 всадников… Третью линию возглавил Робер, граф Фландрский… в нее входили фламандцы, брабантцы, жители Эно и пикардийцы числом 700 рыцарей. Помимо этих отрядов насчитывалось более 400 всадников из флорентийских гвельфов и остальных итальянцев»{214}. Всего под знаменами нового сицилийского короля собралось более 4 тысяч конных и точно не известное число пеших воинов. Как видим, обе армии были пестрыми по составу, однако Карл все же мог похвастаться более однородным войском, в котором преобладали его вассалы; у Манфреда же была весьма высокой доля наемников. К тому же перед воинами Карла, находившимися на чужой территории, далеко от тех земель, откуда они пришли, стоял очень простой выбор: победить или погибнуть. (Третий вариант, плен, даже для самых знатных из них означал бы месяцы и годы заключения, поиски выкупа и совершенно неясное будущее.) У окружения Манфреда вариантов было больше, одним из них оставалось предательство. Изменив Гогенштауфену в решающий момент, местные бароны могли рассчитывать на милость нового короля, сохранение или даже улучшение собственного положения. Многие из них в результате избрали именно этот малопочетный, но наименее рискованный путь.
Ход битвы при Беневенто многократно описан хронистами и позднейшими историками. Средневековые сражения нечасто были шедеврами тактического искусства, обычно они представляли собой лобовые столкновения, исход которых решало либо превосходство в численности или вооружении, либо большая решимость и отвага одной из сторон. (Были, конечно, и случаи умелого использования одним из противников определенного вида оружия — вроде разгрома французских рыцарей англичанами при Азенкуре в 1415 году, когда исход битвы решила работа английских лучников; но битва при Беневенто в этом смысле ничем не выделяется.) Войску Манфреда удалось смять первую линию французов; Карл двинул в бой вторую линию, но тяжеловооруженные немецкие наемники, казалось, вот-вот сметут и ее. Однако по мере того, как схватка становилась более плотной, выявилось преимущество солдат Карла: немцам с длинными мечами было негде развернуться, в то время как на вооружении французов были кинжалы, которые они пустили в ход, находя неприкрытые места между доспехами врагов или убивая их коней[105].
«Вскоре немцам пришлось туго, они дрогнули и едва не побежали, — продолжает Виллани. — Видя, что его войско не может держаться долго, король Манфред, с отрядом апулийцев стоявший в резерве, призвал своих воинов следовать за ним в бой, но те его не послушали, потому что большинство баронов Апулии и королевства… бросили Манфреда то ли из слабодушия, то ли уверившись в поражении… Манфред, оставшийся с немногими воинами, поступил как мужественный повелитель и король, предпочитая умереть в бою, чем с позором бежать»{215}. Единственной предосторожностью, которую он позволил себе, прежде чем ринуться в бой, был — довольно частый в таких случаях — обмен одеждой с одним из приближенных. По преданию, наконечник шлема Манфреда в виде серебряного орла надломился и упал, после чего король воскликнул: “Нос est signum Dei!”[106]. Этот орел, упавший со шлема Манфреда, вместе с орлом из другой печальной гибеллинской легенды, о которой мы еще вспомним в связи с судьбой юноши Конрадина, создает своего рода мистическое обрамление трагедии дома Гогенштауфенов.
Каковы бы ни были недостатки Манфреда как политика и стратега, он погиб как подлинный король-рыцарь — «в гуще врагов… В течение трех дней его не могли разыскать и никто не знал, умер ли он, в плену или спасся, — все из-за того, что в сражении на нем не было королевских доспехов. Наконец один бродяга, следовавший за его войском, опознал по некоторым приметам тело Манфреда на поле битвы и, погрузив его на осла, стал возить и кричать: «Кто купит Манфреда?! Кто купит Манфреда?!». Один из королевских баронов побил бродягу и доставил тело к королю, который приказал привести всех пленных баронов и спросить у каждого, был ли то Манфред; все они с робостью отвечали утвердительно. Граф Джордано при этом закрыл лицо руками и с плачем вскрикнул: «Увы, увы, синьор мой…» Из-за церковного отлучения Карл не позволил совершить погребение [Манфреда] в освященном месте, и могила была вырыта у моста Беневенто; сверху каждый воин бросил по одному камню, и так вырос целый каменный холм»{216}.
Битву у Беневенто 26 февраля 1266 года историки иногда сравнивают с другим сражением, имевшим место ровно двумя столетиями ранее, — битвой у Гастингса 14 октября 1066 года между войском нормандского герцога Вильгельма, впоследствии короля Англии Вильгельма I Завоевателя, и силами, верными англосаксонскому королю Гарольду. Действительно, в обоих случаях речь идет о событиях исключительных, когда в результате единственного сражения иноземный завоеватель получает в свое распоряжение корону и королевство, отбитые у прежнего правителя. Однако победа Карла Анжуйского над Манфредом Сицилийским не привела к столь же полной смене правящих элит и резким не только политическим, но и культурно-языковым переменам, как нормандское завоевание Англии. Гастингс и Беневенто — битвы, ставшие историческими водоразделами для соответственно Англии и юга Италии, но в первом случае изменения, принесенные вторжением, оказались более резкими. Кстати, «чужестранность» Карла Анжуйского и его династии, которой придают столь большое значение в качестве причины «Сицилийской вечерни» и последовавшего разделения Regno, была явлением для юга Италии совсем не уникальным — ведь ни Отвили, ни Гогенштауфены «автохтонами» тоже не являлись, а по сравнению с методами, которые применял во время своего похода на юг в 1194 году Генрих VI, действия Карла Анжуйского, по крайней мере на первых порах, выглядят относительно мягкими.
Обаяние незаурядной личности Манфреда, известного своей щедростью и разнообразными культурными интересами, трагический ореол, который придала последнему Гогенштауфену на сицилийском троне его героическая гибель, оказались настолько сильны, что даже некоторые современные историки видят в его уходе событие, после которого «королевство, попавшее в руки Анжуйского дома, оказалось обречено на разложение и упадок»{217}. Это, безусловно, слишком резкое суждение. Ведь, с одной стороны, Карл Анжуйский не разрушал практически ничего из системы управления, доставшейся ему от его предшественников. По верному замечанию Дэвида Абулафиа, сразу после Беневенто «он еще не пытался заменить существующую бюрократию или баронов; на самом деле он ясно сознавал, что нуждается в их помощи для сбора средств со своих новых подданных. Его собственные приверженцы были порой разочарованы из-за того, что новый король не предоставил им огромные наделы, за которыми они явились на юг… Анжуйская бюрократия не была создана по образцу нормандско-штауфской бюрократии; она и была этой бюрократией, которая продолжала существовать без какого-либо существенного перерыва»{218}.
С другой стороны, кризисные явления, которые впоследствии привели процветающее Сицилийское королевство к многовековому упадку, возникли значительно раньше царствования Карла I. Мы уже отмечали в начале главы III, что Фридрих II с его программой имперской гегемонии и непрерывными войнами на севере заметно истощил силы Regno, основной базы этого честолюбивого государя. До этого нормандская династия, тоже не чуждая экспансионизму, тем не менее, ограничивалась главным образом морскими рейдами на Балканы, Мальту и в Северную Африку. Что же касается ее политики в Италии, то она, по крайней мере после обретения Рожером II королевской короны, была скорее оборонительной. Даже в тех случаях, когда нормандцы появлялись в Риме и его окрестностях, неся с собой беды и разрушения, они действовали чаще всего в интересах своих папских союзников и быстро уходили обратно. Большого интереса к гегемонии в центральной и северной части Италии Отвили не проявляли, хотя объективно их держава являлась в XII веке сильнейшей на Апеннинском полуострове. Напротив, Гогенштауфены втянули Сицилийское королевство в имперскую, европейскую политику, которая была чрезвычайно затратной и не могла принести Regno серьезных долговременных выгод.
Манфред, возможно, и хотел бы изменить это положение дел (напомним, что он никогда не претендовал на трон империи), но уже не мог, так как унаследовал от отца затянувшийся конфликт с папством, в который была де-факто вовлечена вся Италия, а опосредованно — и многие соседние государства. Манфред желал примирения с Римом, но не сумел добиться этой цели — отчасти из-за собственных промахов (коронация 1258 года в обход прав Конрадина и против воли папы была в этом смысле не лучшим шагом), отчасти из-за непримиримости по отношению к швабской династии со стороны сменявших друг друга понтификов. В результате у Манфреда не оставалось иного выбора, кроме подчинения воле Рима и унизительного отказа от короны — или сопротивления до конца. Он выбрал последнее и прошел свой путь с честью.
Vita Caroli, mors Conradi
После битвы при Беневенто Карл не встретил в Regno сколько-нибудь серьезного сопротивления. 7 марта он вместе с присоединившейся к нему супругой торжественно въехал в Неаполь. На остров Сицилия король Карл I Анжу-Сицилийский — отныне есть все основания называть его так — отправил часть своего войска во главе с Филиппом де Монфором. Другие отряды уполномоченных Карлом французских и провансальских баронов проникли в Апулию, Калабрию и прочие провинции новообретенного королевства. Весной 1266 года Карл Анжуйский был хозяином положения на юге Италии, так что Климент IV мог с удовлетворением и злорадством написать своему легату в Англии (послание датировано 6 мая): «Наш дорогой сын Карл в мире владеет всем королевством, имея в своем распоряжении гниющий труп этого зловредного человека [Манфреда], его жену, его детей и его казну»{219}.
На судьбе семьи Манфреда стоит остановиться отдельно. Попав в плен к Карлу, бывшая королева Елена, дочь эпирского деспота Михаила II Дуки, была отправлена в заточение в замок Ночера-Инфериоре — в ту самую Ночеру, где с IX века существовала сарацинская колония, представители которой сражались за Манфреда («султана Ночеры») при Беневенто. Вероятно, легкими условия заключения Елены Дукены не были — через несколько лет она заболела и в 1271 году скончалась, не дожив и до 30 лет. У Елены и Манфреда было трое сыновей и две дочери. Только старшая из дочерей, Беатриса, вышла много лет спустя на свободу — это произошло то ли незадолго до смерти Карла Анжуйского, в 1284 году, то ли вскоре после нее, в 1285-м, и было связано с обстоятельствами содержания в плену сына и наследника Карла I (подробнее см. главу VI). Беатрису выдали за Манфреда, наследника Томмазо I, маркиза Салуццо — небольшого княжества далеко на севере Италии, на границе с Савойей. Судьба братьев и сестер Беатрисы Сицилийской оказалась более трагичной: они умерли в заключении{220}; позже всех, в 1318 году, уже в преклонном возрасте, скончался средний из трех сыновей — Генрих (Энрико).
В том, как Карл I обошелся с семьей Манфреда Сицилийского, проявилась одна из самых отталкивающих черт характера нового короля — его непреклонная беспощадность к тем, кого он считал непосредственной угрозой своей власти. Конечно, христианское милосердие по отношению к побежденным в средневековой (да и не только) политике вовсе не было повсеместной практикой. Здесь, однако, вновь напрашивается сравнение с тем, как вел себя после победы над последними Отвилями в 1194 году Генрих VI. Масштабы его репрессий против баронов и горожан, поддерживавших короля Танкреда и его наследника, были, насколько мы можем судить, более серьезными, а сами репрессии — более жестокими, чем гонения Карла на сторонников Манфреда сразу после Беневенто. Но вот с семьей поверженного соперника император обошелся более милостиво, чем Карл Анжуйский — с семейством его внука. Если вдове Танкреда с дочерьми в конце концов позволили покинуть Сицилию и удалиться в монастырь, то вдову Манфреда и их потомство ждала более мрачная участь. Опасения, которые, несомненно, имелись у Карла I относительно того, не станут ли дети Манфреда, прежде всего сыновья, окажись они на воле, символом и надеждой гибеллинской партии, вряд ли полностью оправдывают безжалостность, проявленную Карлом и его преемниками к внукам Фридриха II.
По странной иронии судьбы там же, в Ночере, где находилась под стражей бывшая королева Елена, умерла в начале осени 1267 года от болезни, характер которой нам точно не известен, супруга Карла — Беатриса Прованская, всего лишь полтора года наслаждавшаяся своим королевским саном. Ей было 36 лет. Климат Южной Италии был нездоровым, там свирепствовала малярия, вдобавок совсем недавно Беатриса перенесла физически утомительное и психически изматывающее путешествие, точнее, поход с войском Филиппа де Монфора из Прованса в Рим. Короля Карла не было у смертного одра супруги, так как, став фактическим лидером гвельфов всей Италии, он то и дело уезжал в походы на север и в момент смерти жены находился в Тоскане. Беатрису похоронили в Ночере, но затем по распоряжению Карла ее останки перенесли в Эксан-Прованс, где погребли под пышным саркофагом рядом с могилой ее отца, графа Раймунда Беренгера.
После Беневенто влияние Карла в Италии быстро возрастало. При этом за пределами доставшегося ему Сицилийского королевства в 1266–1268 годах он находился в определенном смысле в более благоприятной ситуации, нежели собственно в Regno. Гибеллины пребывали в смятении, гвельфы, поддерживавшие анжуйцев (назовем сторонников Карла для краткости так), напротив, резко усилились. Серия походов Карла на север привела к тому, что к концу 1267 года сицилийский король фактически держал под контролем Тоскану, где стал папским викарием (наместником). В республиканской Флоренции при приближении войск Карла произошел переворот, правительство гибеллинов пало, власть перешла к гвельфам. Казалось, у Карла имелись все основания для довольства, но он не был уверен в собственных тылах. На юге, в Regno, было по-прежнему неспокойно.
Сложности, с которыми столкнулся новый король, из всех городов Regno чаще всего находившийся со своим двором в Неаполе или Салерно, детально описывает Джин Дюнбабен: «С одной стороны, его узурпация оправдывалась борьбой церкви против тирании Гогенштауфенов, под каковой подразумевалось не только незаконное, но и жестокое правление. Таким образом, папа ожидал от [Карла] более справедливой и приемлемой политики по сравнению с его предшественниками. С другой стороны, в результате своей кампании [Карл] прибыл в Regno, погрязнув в долгах… Чтобы удовлетворить кредиторов, он должен был сохранить налоговую систему, существовавшую в королевстве. Это оттолкнуло от него многих обитателей Regno, которые поначалу были настроены нейтрально, и заставило Карла во все большей степени полагаться на своих французских и провансальских помощников»{221}. В результате сопротивление новой власти усилилось: жители юга Италии и острова Сицилия «предпочли бы более легкую, пусть и более коррумпированную, систему управления. Манфред утратил доверие подданных из-за своей странной бездеятельности[107] и из-за ссоры с церковью. Но вскоре они начали вспоминать его с любовью — по контрасту с благочестивым и энергичным Карлом»{222}. Более того, всем, кто был недоволен новым королем, равно как и гибеллинской партии за пределами Regno, было на кого надеяться и кого ждать. В Германии подрос Конрадин, бывший, в отличие от покойного Манфреда, плодом законного брака — сын короля, внук, правнук и праправнук императоров, многообещающий последний отпрыск Гогенштауфенов.
Осенью 1267 года 15-летний Конрадин с отрядом своих сторонников неожиданно появился в Северной Италии. Многие вельможи и рыцари, сопровождавшие юного претендента, однако, вскоре повернули обратно в Германию, в том числе граф Рудольф Габсбургский, которому суждено было в скором времени сыграть особую роль в истории, став основателем одной из самых могущественных монархических династий Европы[108]. Когда, перезимовав в Вероне, Конрадин 17 января 1268 года выступил в поход, численность его войска составляла лишь около 3 тысяч человек{223}. Ситуация в Италии была крайне непростой. С одной стороны, недовольство твердым правлением Карла Анжуйского распространилось во многих итальянских городах и княжествах. С другой стороны, церковь по-прежнему была на стороне Карла, хотя у Климента IV уже возникли сомнения относительно того, не слишком ли широко шагает его протеже, понемногу становясь из короля Сицилии повелителем всей Италии. Кроме того, Карл разместил в ключевых пунктах Ломбардии верные ему силы — так, в Пьяченце с отрядом из 400 рыцарей находился Гийом де Л'Этандар, один из самых близких советников Карла (Виллани упоминает его в главе, посвященной битве при Беневенто, называя «человеком великой доблести»).
Тем не менее Конрадина ждал неожиданный успех. На его стороне выступила Пиза, одна из ведущих итальянских торговых республик, обладавшая солидным флотом. Пришли подкрепления и средства от ряда князей с севера Италии, которые «опасались усиления влияния Карла в регионе, где они рассчитывали на большую свободу действий»{224}. В тылу у Карла, на острове Сицилия, вспыхнуло восстание, поднятое, с одной стороны, местными недовольными баронами, а с другой — арабами, поддержанными высадившимися на острове сарацинскими пиратами. Карл выслал к берегам острова провансальский флот, но тот был разбит пизанцами неподалеку от Мессины.
Наконец, на сторону юного Гогенштауфена перешли несколько влиятельных фигур — принц Генрих Кастильский, недавний соратник Карла Анжуйского по походу против Манфреда, рассерженный тем, что Карл не дал ему денег и иных вознаграждений в количестве, достаточном для удовлетворения немалого честолюбия этого испанца; римский патрицианский род Орсини, представленный в коллегии кардиналов и враждовавший с Климентом IV; еще одна влиятельная семья — Аннибальди и ее союзники и клиенты в среде римского плебса. Ряды армии Конрадина пополнили и многие бывшие сторонники и родственники Манфреда (например, Гальвано Ланча), сумевшие спастись от гибели или плена после Беневенто. В результате продвижение войска гибеллинов на юг превратилось в триумфальный марш, в то время как Карл был вынужден стянуть свои силы в пределы Regno для борьбы с повстанцами. «…И пристало к нему множество ломбардцев и тосканцев, — пишет Салимбене. — И по дороге он не встретил ни одного препятствия до самого места сражения…»{225}. Далее хронист замечает, что «этот Конрадин был юношей образованным и прекрасно говорил по-латыни»{226}.
Обе армии встретились 23 августа 1268 года у городка Тальякоццо, недалеко от границы Сицилийского королевства (ныне это итальянская провинция Д'Аквила). Днем ранее, когда его войско стояло лагерем у селения Скуркола, Конрадин отдал приказ, который зловещим образом предварял его собственную судьбу: он распорядился казнить Жана де Бресельва, командира одного из верных Карлу отрядов, попавшего в плен к гибеллинам во время стычки недалеко от Сиены двумя месяцами ранее{227}. Эта неожиданная жестокость удивила многих: рыцарей, попавших в плен в бою, в те времена практически никогда не казнили — нравы ухудшились значительно позднее[109]. Организовав казнь де Бресельва, юный король (его сторонники величали его именно так), вероятно, хотел продемонстрировать собственную решимость и непримиримый характер борьбы между ним и Карлом. Подобную оценку приписывают и Клименту IV, который якобы произнес: «Vita Conradi, mors Caroli, vita Caroli, mors Conradi»[110]. Как бы то ни было, утром 23 августа, когда началась битва при Тальякоццо, обе стороны хорошо сознавали величину ставок.
Армии, как и при Беневенто, были построены в три линии. И снова в пользу Карла говорила большая однородность и надежность его войска, которое «состояло из ветеранов, в течение последних двух лет непрерывно воевавших под началом Карла, людей, которых он знал и которым доверял»{228}. Абсолютное большинство армии Карла составляли французы и провансальцы. Под знаменами же Конрадина собралась пестрая компания немецких, итальянских и испанских рыцарей, правда ведомых опытными воинами вроде Генриха Кастильского и Гальвано Ланчи, но объединенных все же в большей степени жаждой успеха и наживы, нежели преданностью своему лидеру. Да и вожди сторон выглядели очень уж несопоставимо: Карлу, опытнейшему рыцарю, которому перевалило за 40, противостоял 16-летний юноша без какого-либо серьезного военного опыта.
Тем не менее вторая победа над Гогенштауфенами досталась королю Карлу куда большей кровью, чем первая{229}. Кроме того, при Тальякоццо, в отличие от Беневенто, с обеих сторон применялись тактические хитрости. Когда у моста через реку, разделявшую противников, завязалась первая схватка, часть сил, составлявших вторую линию гибеллинского войска, переправилась по мелкому броду на другой берег и ударила во фланг французам, напавшим на первую линию, которой командовал Генрих Кастильский. Вскоре большая часть армии Карла была обращена в бегство. Однако гибеллины, бросившись грабить вражеский лагерь, не заметили, что за ближайшим холмом укрылся сам Карл с солидным резервным войском. Когда значительная часть противников рассредоточилась, преследуя бегущих либо предавшись грабежу, Карл обрушился на Конрадина и его свиту, оставшихся на поле недавнего боя. Гогенштауфену и ему ближайшему другу Фридриху Ба-денскому[111] лишь в последний момент удалось бежать с небольшим отрядом. Правда, после этого Карлу пришлось выдержать более серьезный бой с вернувшимся Генрихом Кастильским, который сохранял под своим началом заметную часть гибеллинского войска. И тут анжуйцам вновь помогла хитрость — ложное бегство, на которое клюнули воины Генриха, сменилось контратакой, в результате чего кастильцы и немцы дрогнули и бросились наутек.
Карл I выиграл битву, которую было почти проиграл. Вечером того же дня он надиктовал секретарю послание, без промедления отосланное папе Клименту. В нем король сообщает о своем триумфе и, представляя себя борцом за правое дело святой церкви, призывает оную «возрадоваться», ибо «в конце концов, кажется, Всемогущий Бог положил конец ее бедствиям». Впечатление, которое произвел на победителя масштаб битвы, было таково, что он называет поражение Манфреда при Беневенто «ничтожным в сравнении с тем разгромом, который постиг врагов церкви ныне»{230}. В этом письме папе — весь Карл: набожность и вполне искренняя благодарность Всевышнему за новую победу перемежаются с нескрываемой гордостью и даже хвастовством. Впрочем, Карлу было чем гордиться: он прекрасно понимал, что хотя и его войско понесло тяжелые потери, но гибеллины разгромлены и вряд ли в скором времени смогут вновь выставить против него армию, которая представляла бы серьезную угрозу. Теперь короля интересовали две вещи: во-первых, где находится Конрадин и его ближайшие сподвижники, а во-вторых, как идут дела на Сицилии, где под контролем королевского наместника оставалась уже только Мессина и несколько прилегающих к ней районов.
Тем временем Конрадин, собрав несколько сот конных воинов, оставшихся от его войска, отступил на север. В конце августа он явился в Рим, но обстановка там изменилась не в его пользу. Обнаружив, что большую часть укрепленных пунктов в городе контролируют сторонники враждебных ему патрицианских семейств Савелли и Орсини, он был вынужден 31 августа тайно покинуть Рим. Политическое непостоянство, которым отличалась тогдашняя Италия, в первые месяцы 1268 года играло на руку Гогенштауфену, но после разгрома при Тальякоццо обернулось против него. Тем временем j сентября попал в плен Генрих Кастильский, который успел в последний момент бежать из гущи боя и несколько дней плутал по лесам и дорогам Центральной Италии. Днем позже Конрадин с небольшой свитой, найдя какое-то суденышко, решил переправиться на нем на Сицилию: там был шанс, встав во главе повстанцев, превратить остров в гибеллинскую базу, откуда можно было впоследствии начать новое наступление против Карла.
Но как только Гогенштауфен и его приближенные отплыли от итальянского берега, в погоню за ними пустилось более крупное и быстроходное судно, направленное Джованни Франджипани — видным римским вельможей, которому принадлежали окрестные земли. «Карл вел себя по отношению к роду Франджипани нейтрально, — отмечает биограф Конрадина Карл Хампе. — Но его победа превратила тех, кто стоял в стороне от конфликта, в его сторонников. Вероятно, Карл поручил Джованни Франджипани охранять побережье… Тот преследовал [любых] беглецов и брал их под стражу. В предатели его записали[112] безосновательно»{231}. Конрадин, Фридрих Баденский и сопровождавшие их лица были задержаны и 12 сентября переданы представителям короля Карла. Трагическая гибеллинская авантюра вступила в последнюю фазу.
После Тальякоццо Карл повел себя совершенно иначе, чем после Беневенто. Очевидно, он разочаровался в действенности курса на примирение, избранного им после гибели Манфреда: «Милосердие… не достигло цели. Он не собирался более проявлять слабость»{232}. Один из командующих гибеллинским войском при Тальякоццо, Гальвано Ланча, дядя покойного Манфреда, и его сын (по другим сведениям, двое сыновей) почувствовали на себе силу королевского гнева немедленно: они были казнены уже в начале сентября, равно как и «великое множество других предателей из Апулии»{233}. Конрадина, Фридриха Баденского, Генриха Кастильского и еще нескольких пленников пока доставили в Неаполь и поместили под стражу в замке Кастель-дель-Ово, на берегу залива. Там они находились до 29 октября 1268 года, ставшего последним днем их жизни.
Судебное совещание, спешно созванное по распоряжению Карла и составленное из ведущих правоведов тогдашнего Неаполя, приговорило к смерти всех обвиняемых. Пощажен был лишь приходившийся королю родственником Генрих Кастильский (долгие годы он проведет в тюрьме). Однозначных документальных свидетельств того, что казнь Конрадина была инспирирована или прямо поддержана папой, нет, хотя известно, что переговоры между Карлом и Климентом осенью 1268 года велись, и вряд ли эта важнейшая тема на них не затрагивалась[113]. Во всяком случае, понтифик не возражал против смерти Конрадина, хотя его наверняка пугал дальнейший рост политической мощи Карла, который теперь становился неизбежным. Впрочем, этого Климент IV уже не увидел — старый и больной, он скончался ровно через месяц после того, как скатилась с плеч голова последнего Гогенштауфена.
Конрадина и его соратников казнили по обвинению в измене, которое, конечно, было нелепым, ведь обвиняемые не являлись ни подданными, ни вассалами Карла Анжуйского, а значит, не могли ему изменить. Они были его противниками, которые пошли на него войной, но такое «прегрешение» тогдашние законы и обычаи в случае плена смертью не карали. (Отсюда, кстати, и шок, вызванный в лагере самих гибеллинов упомянутой казнью Жана де Бресельва по приказу Конрадина.) В деле последнего Гогенштауфена столкнулись две противоположные политико-правовые концепции. Для Конрадина и гибеллинов Карл Анжуйский был наглым узурпатором, который отобрал у злосчастного юноши корону, принадлежавшую отцу и деду последнего. (Правда, еще до Карла это сделал дядя мальчика — Манфред, но после гибели Манфреда при Беневенто последнее было уже не существенно.) Для Карла и гвельфов узурпатором и мятежником, однако, был Конрадин, ведь Сицилийское королевство дал во владение Карлу папа, обладавший на эти земли сеньориальными правами. Что же до Гогенштауфенов, то они, напоминала церковь, были лишены трона еще Иннокентием IV на Лионском соборе 1245 года. Исходя из законов и обычаев феодальной эпохи, правы вроде бы были гвельфы. Но если вспомнить, что распоряжаться землями юга Италии (которые никогда не находились под управлением папства) Рим начал в XI веке, основываясь на положениях фальшивого «Константинова дара», то весьма логичной выглядит уже позиция гибеллинов. Иными словами, сугубо правовыми средствами разрешить конфликт между Карлом и Конрадином было невозможно. Папа Климент, если он действительно произнес эти слова, был прав: жизнь Конрадина означала смерть Карла — и наоборот. В итоге все решило право силы.
О вынесенном приговоре Конрадину и Фридриху, по преданию, сообщили, когда они играли в шахматы, — этот момент изобразил в 1785 году немецкий художник Иоганн Генрих Тишбейн (его картина сейчас находится в Эрмитаже). Оба встретили известие со стоическим спокойствием. Им дали возможность написать завещания, текст которых был передан начальнику стражи — французскому рыцарю Жану Брито де Нанжи[114]. Эшафот возвели на рыночной площади, недалеко от берега, откуда открывался прекрасный вид на море — последнее, что видели казнимые, прежде чем положить голову на плаху. Последние минуты жизни Конрадина и Фридриха Баденского описаны с различной степенью эмоциональности множеством хронистов-современников и историков позднейшего времени. (Хотя, помимо двух юношей, в тот день были казнены еще около десятка видных гибеллинов, участвовавших в походе Конрадина, внимание современников и потомков оказалось сосредоточено исключительно на Конрадине и его друге — даже полный список казненных до сих пор не ясен.) «…Конрадин снял плащ, преклонил колена и помолился. Потом, как рассказывают, он обратился к палачу со словами: “Прощаю тебе то, что ты убьешь меня”, — и как символ прощения трижды сотворил крестное знамение. “Матушка! Сколь скорбную весть обо мне ты услышишь!” — таковы были его последние слова[115]. Со смирением и благородным спокойствием он ожидал смертельного удара. Когда меч опустился, Фридрих Австрийский[116] издал отчаянный крик, в котором смешались боль и гнев. Вскоре он последовал за своим другом»{234}.
Конрадин стал легендой, причем удивительно долговечной — образ смелого юноши, отправившегося за отцовской короной, но нашедшего плаху, вдохновлял поэтов еще через шесть веков после неапольской казни. В 1884 году вышла посвященная Конрадину поэма, автор которой, Уильям Джон Роус, подполковник шотландской гвардии и поэт-любитель, пересказывал давнюю гибеллинскую легенду. Она гласит, что к обезглавленному телу принца с неба спустился орел (символ императорской власти и рода Гогенштауфенов), смочил крыло в его крови и снова взмыл в небеса. В действительности нового взлета орел Гогенштауфенов не дождался: дело этой династии было проиграно навсегда, легитимных наследников у нее не осталось. Закат партии гибеллинов оказался окончательным, хотя самой «Священной Римской империи» еще случалось за пять дальнейших веков ее истории испытывать подъемы и одерживать победы.
Вряд ли, поступив с Конрадином предельно сурово, Карл I дал волю мстительности и бесчеловечности. Садистом он явно не был, хотя за свою жизнь совершил немало жестокостей, но они всегда имели вполне рациональное политическое обоснование. Карл не стремился убивать ради убийства, и похоже, что его не радовал сам вид унижения, крови и гибели врага — в противном случае король, находившийся в момент казни Конрадина и его приближенных в Неаполе, вряд ли упустил бы возможность посетить казнь. Но он не явился, ограничившись распоряжением отслужить в часовне своего замка заупокойную службу. В случае с юным Гогенштауфеном Карл, очевидно, руководствовался «рассудком государственного деятеля, и с этого исторического момента берет начало череда жестокостей, в которой казнь Конрадина представляла собой первое звено. Многое объясняет кошмарный масштаб [репрессий], при помощи которых он подавил восстание в королевстве[117]. Карла боялись, но его царствование словно покоилось на вулкане. Все, кого он, иногда против собственной воли, пощадил (очевидно, после Беневенто. — Я.Ш.), перешли в лагерь врагов и добивались его свержения… Не объяснимо ли то, что [теперь] он решил изничтожить их под корень? За небольшим исключением в минуту опасности он мог положиться только на своих соотечественников»{235}. Почти полтора десятилетия спустя это приведет Карла к его главному поражению.
Но пока тактика была для сицилийского короля важнее стратегии, а в тактическом плане его победа казалась полной. Словно для того, чтобы сделать свое торжество окончательным, Карл спустя три недели после казни Конрадина пошел под венец. Его второй супругой стала Маргарита, внучка Гуго IV, герцога Бургундского. Впоследствии, при разделе владений ее матери, Матильды де Бурбон-Дампьер, Маргарите досталось небольшое графство Тоннер. Это владение находилось неподалеку от земель Прованса, которые остались в руках Карла и его наследников и после смерти его первой жены Беатрисы. Брак с Маргаритой трудно считать блестящим, но не был он и неудачным — ни с политической, ни с человеческой точек зрения. Герцог Гуго был влиятельным государем, который не только располагал значительной политической базой во Франции, но и всю жизнь интересовался Востоком, участвовал в экспедиции Тибо Шампанского (1239) B Святую землю и крестовом походе Людовика IX в Египет. С Карлом Анжуйским его связывали общие интересы на Балканах, где герцог рассчитывал реализовать свои небесспорные претензии на некоторые былые владения латинян в Греции.
Брак Карла и Маргариты стал символом этого единства интересов. Маргарита Бургундская была молода (в год заключения брака ей исполнилось 18), сведения о ее внешности крайне скудны, а вот характер у новой королевы был явно добросердечный — она прославилась своей благотворительностью уже в Неаполе. Позднее, после смерти Карла, удалившись в свой Тоннер, Маргарита основала там несколько госпиталей для бедных, один из которых сохранился до наших дней. В сентябре 2008 года, в 700-ю годовщину ее смерти, в Тоннере состоялись празднества памяти королевы Маргариты.
Рождество 1268 года Карл Анжуйский праздновал в компании молодой жены и детей от первого брака — Карла, Филиппа, Беатрисы и Елизаветы. У него были все основания считать, что родилась новая королевская династия, которой, возможно, суждено долгое и блестящее будущее. Хотя на Сицилии догорало пламя восстания, которое Карлу пришлось гасить еще полтора года, главный враг был повержен. И даже новость о смерти папы, пришедшая из Витербо — городка в Центральной Италии, где доживал свои дни Климент IV, опасавшийся въезжать в неспокойный Рим, — не слишком огорчила могущественного сицилийского короля. Впрочем, в его жизни периоды покоя были крайне непродолжительны. Так случилось и на сей раз — очень скоро обстановка на юге Европы опять изменилась.
Последний крестовый поход
Людовик IX никогда не забывал о главной мечте своей жизни, точнее, даже не мечте, а о долге, ибо к крестовому походу против сарацин он подходил именно как к долгу и своей наивысшей обязанности христианина и государя. Неудача похода в Египет и некоторая бессмысленность его последующего пребывания в Святой земле не остановили Людовика. Истово верующий человек, он, очевидно, трактовал случившееся как следствие грехов, совершенных им и его подданными (но прежде всего им самим), в результате чего Всевышний отказался даровать им победу над врагами Христовой веры. Матвей Парижский приводит сокрушенные слова Людовика: «Если бы мне одному суждено было вынести позор и горе и если бы мои грехи не пали на Вселенскую Церковь, то я жил бы спокойно. Но, на мою беду, по моей вине пришел в смятение весь христианский мир»{236}. Нужно было исправлять положение, и по возвращении домой король принялся задело. Как отмечает Жуанвиль, «после того, как король Людовик возвратился из-за моря во Францию, он стал очень благочестивым к Господу нашему и очень справедливым к своим подданным. Поразмыслив, он решил, что было бы прекрасным и благим делом улучшить управление королевством Французским»{237}.
Реформы, проведенные монархом и содержавшиеся прежде всего в его «великом ордонансе», обнародованном в конце 1254 года, имели глубокий социально-политический смысл, но отличались тем, что в их основе лежали требования христианской морали — так, как их понимал Людовик IX. Борьба против мздоимства и злоупотреблений королевских чиновников — бальи и сенешалей, распоряжения относительно более справедливого порядка судопроизводства, практические указания, касавшиеся, к примеру, перевозок зерна и реквизиций лошадей, — все это дополнялось строгими карами за святотатство, запретами ростовщичества и азартных игр (как тут не вспомнить гнев Людовика на Карла Анжуйского за игру в кости на корабле во время крестового похода!), резким ограничением проституции и прочими мерами по укреплению общественной морали{238}. Король вернулся из-за моря еще более набожным, суровым и аскетичным — и общество должно было это почувствовать.
Людовик не считал свое поражение на Востоке окончательным. Сразу после возвращения домой он начал размышлять о том, как и когда вновь отправиться за море, чтобы увенчать свои усилия победой над сарацинами. Решение насущных внутренних и внешнеполитических проблем, однако, заняло не один год. Преследовали короля и личные неприятности — несколько раз он серьезно болел, а в 1260 году был глубоко потрясен смертью своего старшего сына и наследника Людовика в возрасте 16 лет. (Это событие подвигло ученого монаха, выдающегося энциклопедиста Винсента из Бове написать адресованный королю философский Tractatus consolatorius de morte amici — «Утешительный трактат о смерти друга».)
Только весной 1267 года король вновь принял крест, а годом позже объявил о сроке начала нового похода — май 1270 года. Надо заметить, восторженной реакции во французском обществе это решение не вызвало. Крестоносное воодушевление не было всеобщим и двумя десятилетиями ранее, когда Людовик IX отправлялся в свой первый поход, теперь же многие открыто выражали свое неприятие этой идеи. Причины этого, по мнению Жака Ле Гоффа, были в том, что «христианский мир замкнулся в себе самом. Служение Богу виделось отныне не за морем, а в самой христианской Европе… Все реже встречались люди, которые, как и Людовик Святой, видели в Средиземном море внутреннее море христианского мира»{239}.
Даже Жан де Жуанвиль, человек безусловно преданный королю и во время египетского похода не раз делом доказывавший свою смелость, отказался от участия в новом предприятии на Востоке. «Я отвечал, — вспоминал впоследствии Жуанвиль, — что покуда я был за морем, на службе у Бога и короля, сержанты[118] короля Франции и короля Наварры[119], как я обнаружил вернувшись, обобрали и разорили моих людей, да так, что хуже и быть не может, и Господу угодно, чтоб я остался дома, дабы помочь им и защитить их». Более того, Жуанвиль без обиняков добавляет, что, по его мнению, «те, кто ему (Людовику IX. — Я.Ш.) посоветовал пойти в поход, совершили смертный грех, потому что, пока он находился во Франции, в самом королевстве и со всеми его соседями сохранялся мир, а с тех пор, как он уехал, положение дел в королевстве стало все хуже и хуже. Великий грех совершили те, кто посоветовал ему тронуться в поход при его сильной телесной слабости; ведь он не мог перенести ни езду в повозке, ни верхом… Но если бы он, столь ослабевший, остался во Франции, то смог бы еще достаточно долго прожить и сделать много хорошего и доброго»{240}. Пожалуй, эти искренние и бесхитростные рассуждения Жуанвиля — лучшее подтверждение процитированной выше версии о «замыкании в себе» западнохристианского мира. Возможно, отчасти этот же феномен был одной из причин неудачи, постигшей попытки экспансии на восток, предпринятые Карлом Анжуйским, — впрочем, о них мы поговорим в следующей главе. Пока же следует остановиться на роли короля Сицилийского в подготовке и проведении последнего крестового похода Людовика IX.
Целью похода 1270 года стал не Утремер и даже не Египет, как в 1248-м, a Тунис. В исторической литературе получила распространение версия о том, что именно Карл Анжуйский якобы способствовал тому, что крестоносное войско направилось именно в Тунис, располагавшийся в относительной близости от его новых владений: «Король Сицилии не мог не присоединиться к своему брату, королю Франции, в крестовом походе. Но он не желал отказываться от своего собственного восточного предприятия. В напрасной надежде на то, что Людовик отложит свою экспедицию, он продолжал свои военные и дипломатические приготовления против Константинополя. Но в то же время он решил, что если уж придется присоединиться к крестовому походу против мусульман, то это должен быть поход против тех мусульман, поражение которых принесет непосредственную выгоду ему самому»{241}.
Да, к лету 1270 года, когда войско его старшего брата переправилось в Тунис, Карл I завершал подготовку к экспедиции против Византии, что было предусмотрено договором, заключенным им с несколькими государями в Витербо тремя годами ранее, — подробнее речь об этом пойдет в следующей главе. Тунис в тот момент вряд ли входил в сферу его даже второстепенных интересов. Непосредственной опасности для сицилийских берегов тамошние арабы в тот момент не представляли, а распространившиеся слухи о том, что султан Туниса якобы готов обратиться в христианство, вряд ли могли отвлечь столь опытного воина и политика, каким был Карл, от главной цели, которой для него стал Константинополь. Напротив, для Людовика IX возможность обращения в Христову веру крупного мусульманского владыки являлась весьма лакомой приманкой. И поэтому убедительной кажется версия Жака Ле Гоффа, согласно которой Карл сыграл в этой ситуации роль ведомого, а не ведущего, что, собственно, соответствовало его отношениям с Людовиком на протяжении всей жизни: «Мне представляется, что здесь свою роль сыграло удобное положение Сицилии, а не прямое давление Карла, которого интересовала главным образом Византийская империя… Султан Туниса мог служить прекрасной религиозной мишенью, поскольку, вероятно, в конце 1260-х годов, в иллюзиях обращения великого мусульманского главы он занял место султанов и эмиров Востока. Наконец, как полагают, могло сыграть роль и то, что Людовик Святой и его подданные, как, впрочем, и все их современники, плохо знали географию: возможно, они считали, что Тунис находится гораздо ближе к Египту… и поэтому является прекрасной сухопутной базой для решительного наступления на [египетского] султана»{242}. Последнее отчасти подтверждает и объяснение маршрута похода, которое дает в своей «Хронике» Салимбене де Адам, современник событий: «…Решили они сначала подчинить власти христиан королевство Тунис, ибо оно, находясь на середине пути, представляло для переправившихся через море немалое препятствие»{243}.
В суждениях историков, приписывающих Карлу I роль вдохновителя тунисского похода, просматривается склонность к рассуждениям ex post. Поскольку Карлу удалось, появившись на сцене в последний момент, превратить тотальную катастрофу в относительный, пусть и весьма локальный успех (см. ниже), причем скорее свой собственный, нежели французский, возникает соблазн предположить, что сицилийский король с самого начала так и задумывал, а это совершенно невозможно доказать. Кроме того, тунисский поход, в котором нашел свою смерть Людовик IX и (во время самой экспедиции или сразу после нее) ряд его родственников и других видных вельмож Французского королевства, привел к значительному возвышению Карла I и увеличению его политического веса при французском дворе. Это обстоятельство также способствует определенной аберрации исторического зрения: мол, коль скоро король Сицилии оказался чуть ли не единственной фигурой, хотя бы отчасти выигравшей в результате несчастного крестового похода 1270 года, значит, к такому результату он и стремился с самого начала. Повторим, что большой выгоды Карлу тунисская экспедиция никак не сулила, свое участие в ней он отдалял как мог, занимаясь подготовкой к собственному походу на Константинополь, а все его действия во время этой экспедиции и сразу после нее вписываются в схему характерной для Карла капетингской лояльности. В одном можно согласиться со Стивеном Рансименом: отказать Людовику Карл не мог. Но это не значит, что он отправлялся в поход с легким сердцем и большой охотой, не говоря уже о какой-либо активной подготовке и вдохновлении этого предприятия с его стороны. Скорее всего, в этом случае Карл делал то, что был должен, но не то, что хотел. В их отношениях со старшим братом такая ситуация повторялась не впервые. Теперь это было в последний раз.
Высадка крестоносного войска в Тунисе прошла успешно, о чем король Людовик успел сообщить в послании оставшимся на родине близким — среди них на сей раз была и королева Маргарита, а вот сыновей Филиппа, Жана Тристана и Пьера король взял с собой. Но «после высадки в Тунисе, у замка Карфаген, он заболел дизентерией (а Филипп, его старший сын, — перемежающейся лихорадкой и дизентерией, как и король), отчего слег в постель и ясно почувствовал, что должен вскоре перейти из этого мира в иной»{244}. Эпидемия не щадила ни простых воинов, ни принцев: наследник трона Филипп заболел, но все-таки выздоровел (хотя тунисский поход навсегда подорвал его здоровье), а вот его младший брат Жан Тристан з августа умер, что, как отмечает исповедник короля Жоффруа де Болье, «до глубины души потрясло любящего отца»{245}. Судьба этого 20-летнего юноши была отмечена какой-то трагической закольцованностью: он родился в 1250 году в Египте, во время первого неудачного крестового похода своего отца, а умер во время следующего похода, также на жарком африканском берегу.
Обстановку, которая царила в лагере крестоносцев, нельзя представить себе без содрогания: 40-градусная жара тунисского лета, совершенно не подходящие для этого климата одеяния и доспехи французских воинов, недостаток пресной воды, смрад гниющих отбросов, экскрементов и быстро разлагающихся на палящем солнце мертвых тел, которые не успевали хоронить. Вдобавок попытки взять крепость Тунис штурмом закончились неудачей, а ее защитники прибегли к уловке: «Сарацины поставили много тысяч людей на ближайшем к христианам холме, чтобы они, когда ветер дул в сторону христиан, поднимали пыль, приводя в движение песок; и эта пыль доставляла христианам много неприятностей»{246}. В этих отчаянных условиях 25 августа по французскому лагерю разнеслась весть о смерти короля.
По словам Жуанвиля, который опирается на рассказы очевидцев, но в целом освещает тунисский поход скупо, «потому что, благодарение Богу, там не был и не хочу говорить и писать в своей книге о том, в чем я не был бы уверен»{247}, перед смертью Людовик IX призвал к себе сына Филиппа, тоже еще нездорового, и передал ему завещание-наставление, в котором, в частности, содержались такие слова: «Творя правый суд, будь справедливым и твердым со своими подданными, иди всегда прямо, не сворачивая ни вправо, ни влево, и поддерживай жалобу бедного, пока не выяснится истина. А если кто обвинит тебя, не доверяй ему, пока не узнаешь правду; и тогда твои советники, следуя истине, смелее вынесут приговор в твою пользу или нет»{248}. Надо заметить, что историческая репутация Филиппа III куда менее блестяща, чем у его отца, хотя, вероятно, он искренне и в меру своих способностей стремился следовать заветам Людовика Святого. Но немногие обращают внимание на то, что изложенную выше политическую программу довольно последовательно воплощал в жизнь другой родственник Людовика IX — Карл I, особенно в том, что касается твердости и верности избранному курсу. Это принесло ему как немалые удачи, так и горькие поражения.
В тунисском походе Карл («король Сицилии, за которым брат его, король Франции, послал, еще будучи живым»{249}) сыграл роль своего рода deus ex machina. Он прибыл на место событий с крупным отрядом рыцарской кавалерии (в основном французы и провансальцы) буквально через несколько часов после смерти Людовика IX. Король Сицилии прошел в шатер, где лежало тело его брата, и распростерся у ног мертвого короля Франции. Вряд ли стоит сомневаться в том, что горе Карла Анжуйского было искренним. Хотя его отношения с Людовиком IX складывались непросто, старший брат всегда оставался для младшего, никогда не знавшего отца, фигурой отцовского типа, тем более что и разница в возрасте между ними была солидной — 13 лет.
Можно предположить, что Карл уважал и ценил Людовика за те качества, которых не хватало ему самому. Это были рассудительность, умение (кстати, давшееся Людовику IX нелегко) «без гнева и пристрастия» взвешивать аргументы сторон в любом споре, способность поддерживать мир, не идя на чрезмерные уступки противникам и партнерам (сам Карл к уступкам не привык, а с противниками разбирался в основном на поле брани), и, наконец, глубина религиозного чувства. Карл, в отличие от брата, был вполне заурядным средневековым католиком, который вел себя в религиозных вопросах «традиционным, старомодным и ограниченным образом. Единственной оригинальной чертой его религиозности была преданность делу канонизации Людовика IX»{250}. В пользу канонизации говорили многие политические аргументы, но на уровне человеческом Карлом, скорее всего, двигало искреннее восхищение братом и его духовными подвигами.
Тело покойного короля было подвергнуто процедуре, которая нам может показаться диковатой, но в те времена она была весьма распространена, прежде всего на юге Европы. Мертвого погрузили в чан с кипящей водой, чтобы отделить плоть от костей. До этого из тела удалили внутренности, и их Карл Анжуйский торжественно захоронил в одном из монастырей в Regno. Это был продуманный политический шаг: Сицилийское королевство, где власть новоиспеченного Анжуйского дома еще была не столь прочна, соединялось тем самым со знаменитым Капетингом, чей путь к канонизации начался стараниями его брата. Кости, имевшие большее символическое значение, чем плоть, «согласно той телесной диалектике твердого и мягкого, которая символически выступает как диалектика власти»{251}, привез в Париж новый французский король Филипп III, причем Карл Анжуйский «организовал процессию, в которой останки [Людовика IX] проследовали через Сицилию и Италию во Францию. Намеренно создавалась возможность для различных чудес, которые доказали бы святость Людовика»{252}. Процесс канонизации, как известно, затянулся до 1297 года, когда Карла I давно уже не было в живых, но «без энергичного стремления Карла к этой цели Людовик вряд ли стал бы святым»{253}.
Карлу пришлось как организовать последний земной путь старшего брата (Филипп III был к этому не готов — он еще долго оправлялся от последствий болезни и нервного потрясения, вызванного смертью отца), так и завершить его последнее предприятие — злосчастный тунисский поход. Прибытие подкреплений под командованием сицилийского короля не только приободрило крестоносцев, но и напугало защитников крепости Тунис. Эмир (другие источники называют его султаном — при тогдашней раздробленности арабских владений путаница в титулах неудивительна) решил вступить в переговоры. Они шли относительно гладко: обеим сторонам на самом деле не очень хотелось воевать, и обе опасались поражения. Впрочем, Карл[120] со всей тщательностью провел приготовления к штурму, в двух небольших сражениях у стен крепости арабы потерпели неудачу, и это, видимо, стало решающим фактором, побудившим тунисского правителя пойти на уступки. Салимбене перечисляет их: «…Всех христиан, взятых в плен в этом королевстве, отпускали на свободу; в монастырях, воздвигнутых во славу имени Христова во всех городах этого королевства, братья-минориты и любые другие могли свободно проповедовать веру Христову, и желающие креститься могли свободно это делать; и после возмещения затрат, понесенных там королями [Франции и Сицилии], король Туниса стал данником короля Сицилии»{254}.
Таким образом, Карл I мог похвастаться определенным успехом, хотя цели, которые ставил перед собой Людовик IX, отправляясь в свой последний поход, достигнуты не были. Тунис сохранил независимость, фактически откупившись от христиан перечисленными выше уступками, а дальнейшее продвижение на Восток, к Египту и Святой земле, было отложено на неопределенное время. Утремер отныне был обречен, хотя спустя несколько лет Карл I предпринял попытку спасти ближневосточные владения крестоносцев, купив права на корону уже почти эфемерного Иерусалимского королевства. Что же касается тунисского предприятия, то Карл всегда мог оправдаться тем, что не участвовал в нем с самого начала, а появился на сцене в ситуации, когда спасти что-либо было уже почти невозможно, и сумел если не выйти из отчаянного положения несомненным победителем, то по крайней мере сохранить честь участников похода.
Впрочем, не все были довольны таким исходом. Стивен Рансимен, верный своему весьма негативному отношению к Карлу, утверждает, что часть крестоносцев усомнилась в добросовестности сицилийского короля: «Христианская армия могла бы взять Тунис, думали они; но в этом случае Карлу пришлось бы поделиться добычей с королем Франции, королем Наварры, английским принцем[121], который должен был прибыть в скором времени, Святым престолом, генуэзцами и рядом вельмож. Неудивительно, что он предпочел переговоры и мир, позволивший ему одному пожать все плоды»{255}. Аргументация не слишком убедительная, если учесть, что окончательной победы крестоносцам никто не гарантировал, а эпидемия продолжала подтачивать их силы, так что быстрый мир был во многом спасением для христианского войска. Что же до Карла, то его действия в Тунисе напоминали его же поведение полутора десятилетиями ранее во Фландрии, где он тоже отказался от бессмысленного столкновения с графом Голландским, предпочтя переговоры. Карл был не только воином, но и политиком: в Тунисе он вновь показал себя приверженцем подхода к политике как к «искусству возможного». Но, как бы то ни было, исторический итог этого предприятия был неутешительным для христиан: Карл «спас свою честь, но не более того. В гроб крестоносного движения был забит последний гвоздь, так как — если не считать того, что Британская энциклопедия именует «рядом разрозненных эпилогов», — походы, предпринятые Людовиком, фактически оказались последними. Величайшее противостояние между Крестом и Полумесяцем, продолжавшееся почти два столетия, наконец закончилось — и Полумесяц оказался победителем»{256}.
На обратном пути сицилийского короля и всех участников экспедиции ждала катастрофа. Сильнейшая буря разметала у берегов Сицилии королевский флот — тот самый, который Карл уже несколько лет готовил для похода на Константинополь. 18 кораблей были потеряны, большая часть остальных потрепана так сильно, что о плавании к византийским берегам пришлось на время забыть. Многие из тех, кто спасся во время бури, нашли свою смерть на обратном пути, пролегавшем через Regno, Центральную и Северную Италию. Теобальд II (v), король Наваррский и граф Шампанский, умер вскоре после прибытия на Сицилию. В январе 1271 года, когда король Франции со своим двором находился в городке Козенца в Калабрии, случилось несчастье с 23-летней супругой Филиппа III, Изабеллой Арагонской: беременная королева во время прогулки упала с коня, преждевременно родила ребенка, который не выжил, и через две недели скончалась от последствий травмы и родов. Семь месяцев спустя, добравшись до Савоны на севере Италии, умер давно хворавший Альфонс де Пуатье. Его супруга Жанна, последний отпрыск рода некогда могущественных графов Тулузских, пережила его лишь на пять дней. От болезней или в результате несчастных случаев умерло и немало французских и окситанских баронов и рыцарей более низкого ранга. Почти не преувеличивая, можно сказать, что возвращение крестоносного войска из Туниса превратилось в огромную погребальную процессию{257}.
На смерти Альфонса де Пуатье стоит остановиться подробнее по одной причине: после нее Карл Анжуйский оказался единственным оставшимся в живых сыном Людовика VIII и Бланки Кастильской. Некогда самый младший из братьев превратился в старейшину рода Капетингов. Он пользовался большим авторитетом у молодого Филиппа III, который «восхищался своим дядей и, находясь рядом с ним, попадал под его влияние»{258}. Этим была крайне недовольна враждовавшая с Карлом королева Маргарита[122], вдова Людовика IX, но Карлу по большей части удавалось брать верх в борьбе за влияние на ее сына. Возможно, об Альфонсе Карл жалел еще больше, чем о Людовике — со спокойным и рассудительным, хотя не слишком политически активным из-за давней болезни графом де Пуатье он был более близок, чем с покойным королем Франции. Но, как бы то ни было, уход Альфонса поставил Карла в новую ситуацию: отныне он получил полную свободу действий; впервые в жизни младшему брату более не требовалось даже формально оглядываться на старших.
Карлу шел 45-й год. Он был зрелым, по меркам того времени даже пожилым человеком, опытным правителем и полководцем. Под его властью находилось одно из крупнейших государств тогдашней Европы, а его влияние распространялось на большую часть Италии, учитывая же специфику отношений Карла с Филиппом III, отчасти и на Францию. У него не было серьезных соперников: кардиналы в Витербо третий год не могли избрать преемника Климента IV, а курфюрсты (князья-избиратели) в Германии уже забыли, когда в последний раз сошлись во мнении относительно кандидатуры нового «римского» короля — кандидата в будущие императоры. Теперь король Сицилии мог сосредоточиться на реализации своих новых амбициозных планов. В начале 1270-х годов эти планы можно было описать одним словом: Константинополь.
Интермедия: человек-действие
Заняться историей Карла Анжуйского меня подтолкнул конкретный предмет: увиденная в одном сицилийском городке на стене здания муниципалитета мемориальная доска с надписью Giustizia e Libertá («Справедливость и Свобода») и датой — 1282. Выяснилось, что доска эта появилась в 1982 году по случаю 700-летия восстания сицилийцев против власти Анжуйского дома. «Сицилийская вечерня» стала, как принято говорить в таких случаях, важной исторической вехой не только для жителей острова, но и для всей Италии (хотя сицилийцы любят подчеркивать, что их остров — не совсем Италия, а то и совсем не Италия). Учитывая, что речь идет о событии, случившемся семь с лишним веков назад, одной лишь популяризаторской ролью известной оперы Верди — написанной, по иронии судьбы, на французское либретто и имевшей премьеру в Париже, — это не объяснишь. Да и зависимость тут была скорее обратная: Верди написал оперу о восстании, которое уже служило в сознании его современников символом успешной национально-освободительной борьбы, при всей условности этого понятия применительно к XIII веку.
Свою версию ответов на вопросы, касающиеся собственно «Сицилийской вечерни» 1282 года, приберегу для заключительной главы. Здесь же отмечу, что изначально для меня Карл Анжуйский был, безусловно, отрицательным персонажем, но именно из разряда «обаятельных злодеев» — невероятная воля, энергия и сила чувствуется во всех поступках этого человека, даже самых жестоких. Эпоха романтизма, включившая «Сицилийскую вечерню» в собственный контекст в качестве провозвестницы Risorgimento, борьбы за объединение Италии, умела создавать твердые, почти несокрушимые репутации. Ведь об очень многих деятелях прошлого массовое сознание до сих пор судит, руководствуясь представлениями, берущими начало в XIX веке — столетии больших исторических нарративов. Карл Анжуйский — не исключение.
Если следовать романтизированной интерпретации, этот тиран-чужеземец силой отбил сицилийскую корону у Манфреда, короля пусть и не безупречно легитимного, но однозначно «своего», местного, родившегося на юге Италии и выросшего на Сицилии. Затем узурпатор Карл победил и уничтожил другого претендента — Конрадина, наследника безусловно законного, если исходить из наследственного права. (Правда, как мы уже отмечали, согласно праву феодальному действия Карла как вассала папы были оправданны, но в такие тонкости романтическая историография и литература обычно не вдается.) Помимо того что многие хронисты, чьи свидетельства дошли до наших дней, принадлежали к лагерю политических противников Карла, и это наложило отпечаток на последующее восприятие этой фигуры, есть и другой важный момент. «Узурпатору» крайне не повезло с побежденными врагами. Кто, к примеру, противостоял старшему современнику Карла — императору Фридриху II? Череда пап, упорных и хитрых, более или менее вспыльчивых, более или менее склонных к компромиссу. Но вряд ли великих или хотя бы величественных — за исключением Иннокентия III, который, однако, умер, когда карьера Фридриха только разворачивалась. Кто еще? Правящие олигархии итальянских городов и пестрая феодальная братия Германии. Среди них не было никого, хотя бы отдаленно сопоставимого с фигурой властного, могущественного и слегка загадочного императора.
Напротив, поверженные Карлом Манфред и Конрадин отлично подходят на роль героев романтических трагедий или поэм, которые впоследствии и были о них написаны. Один — король-рыцарь, рыжеватыми кудрями напоминавший своего знаменитого отца, предпочел смерть в бою позору поражения. Другой — красивый, получивший хорошее образование и воспитание юноша, бесстрашно выступил в поход, чтобы добыть в бою корону отца и деда, был разбит и казнен на неапольской площади, безжалостно и противозаконно — по убеждению многих современников и потомков, на сей раз более близкому к истине, чем представления о Карле-узурпаторе. На фоне таких побежденных победитель выглядит фигурой не то что малосимпатичной, а чуть ли не инфернальной.
Я, однако, совершенно не собираюсь полностью опровергать эту версию. Множество работ, на которые мне пришлось опираться при написании этой книги, дают сложную, сбалансированную и реалистичную картину жизни и деятельности Карла I. Это, однако, сугубо историографический подход. Подход же биографический не исключает попыток создания психологического портрета личности (оговорюсь: хорошо, когда такие попытки не заходят слишком далеко, превращаясь в чистые фантазии). И если смотреть на Карла Анжуйского под этим углом зрения, то следует признать: он относится к числу тех исторических фигур, полюбить которые трудно даже при весьма близком «знакомстве». Но это не значит, что такому человеку следует отказать также в понимании и уважении. В конце концов, история — не сказка и не морализаторская повесть для подростков, а романтические интерпретации прошлого с их однозначной расстановкой плюсов и минусов — далеко не единственные из возможных.
Куда интереснее, чем искать для Карла Анжуйского место на морализаторской шкале «хороший — плохой», попытаться ответить на вопрос: что он все-таки представлял собой как личность? В предыдущих главах этот вопрос так или иначе затрагивался, мы неизбежно будем возвращаться к нему и дальше. Но сейчас попробуем создать набросок общего портрета, к которому позднее добавятся лишь некоторые существенные штрихи.
Пожалуй, ядро, основу его характера составляло чрезвычайное упорство. Кроме ленного — Анжуйский, Карлу I, в отличие от некоторых других королей-современников, вроде Людовика IX Святого или Альфонсо X Мудрого, ни при жизни, ни после смерти не досталось прозвища, которое прочно бы закрепилось за ним в истории[123]. Если же попробовать выдумать подходящее, я бы остановился на таком: Непреклонный. Не имея почти никаких достоверных свидетельств о ранних годах жизни Карла, трудно судить, откуда взялась эта его черта. Можно предположить, что по крайней мере отчасти она была перенята от матери, Бланки Кастильской. Эта кастильская принцесса вряд ли преуспела бы в качестве правительницы Французского королевства, унаследованного ею от рано умершего мужа не в лучшем состоянии, не будь ей присущи те твердость и целеустремленность, которыми впоследствии отличался и ее младший сын. Позднее папа Николай III, имевший непростые отношения с Карлом, тоже говорил об испанском наследстве сицилийского короля, приписывая этому наследству, однако, другую черту Карла — «ясный ум»{259}. Возможно, тому способствовала тогдашняя репутация кастильского королевского рода, чьи наиболее значительные представители в XIII веке, Фердинанд III (племянник Бланки и двоюродный брат Карла) и его сын Альфонс X, пользовались славой ученых мужей и мудрых законодателей.
Своими успехами Карл был обязан счастливому для политика и военачальника сочетанию трех качеств. К уже упомянутому упорству в достижении поставленной цели следует добавить его немалую самоуверенность. Она опиралась прежде всего на веру Карла в Бога и в миссию, возложенную Всевышним на него самого и весь род Капетингов. Доказательства тому уже приводились — это и показания Карла I церковной комиссии, собиравшей материалы для канонизации его старшего брата, и высказывание, приписываемое королю после начала «Сицилийской вечерни», о том, что если Господь вздумал низвергнуть его, Карла, «то пусть его падение будет медленным». Как мы увидим, действия Карла Анжуйского в последние три года жизни, когда его главной задачей стало вначале подавление мятежа на Сицилии, а затем — ее отвоевание у Арагона, говорят скорее о том, что этот человек, не чуждый ни формальному благочестию, ни, вполне возможно, глубокому религиозному чувству[124], не допускал и мысли о том, что в конце концов он может быть действительно низвергнут судьбой, или, говоря христианским языком, неисповедимой волей Господней. В конце концов, у Карла за плечами был опыт злополучного крестового похода 1270 года, когда на крестоносцев, в том числе непосредственно на династию Капетингов, обрушилось множество несчастий, и лишь он, сицилийский король, не только сохранил жизнь и здоровье, но и добился определенного успеха, заключив с тунисским эмиром мир на выгодных условиях. Он, младший принц, отделенный от французской короны чередой старших братьев и их потомством, добыл себе другую, лишь немногим менее блестящую корону, а после смерти Людовика IX и Альфонса де Пуатье стал старейшиной французского королевского рода, влиятельным советником и покровителем молодого Филиппа III. Как тут не посчитать себя избранным?
Третьим источником политических и военных удач Карла (о причинах неудач у нас еще будет возможность поговорить в заключительной главе) следует считать его необычайный педантизм. Являясь прежде всего монархом-воином, Карл Анжуйский был и выдающимся государем-бюрократом. Архив королевской канцелярии Regno второй половины XIII — начала XIV века, обрабатываемый и публикуемый итальянскими историками на протяжении десятилетий{260}, дает множество примеров того, как первый король Анжуйской династии до мельчайших подробностей вникал в вопросы налогообложения, гражданского и военного строительства, снабжения армии и флота и т.п. Это касалось не только Сицилийского королевства, но и других владений Карла. Так, в 1264 году, во время одного из своих нечастых визитов в графство Анжу, он вмешался в конфликт между жителями города Сомюр и близлежащим монастырем св. Флориана. Монахам уже много лет регулярно поступала часть таможенных сборов за провоз торговых грузов по реке Луаре. Однако, как выяснил (очевидно, не без помощи сомюрцев) Карл, эти средства монастырь получал в обмен на обязательство каждый год возводить часть нового каменного моста через реку. Меж тем никакого моста, кроме старого деревянного, в наличии по-прежнему не имелось. Карл приказал монахам или немедленно построить каменный мост, или внести в казну 10 тысяч турских ливров, де-факто вернув все средства, полученные с таможенных сборов за многие годы. Начались переговоры, по итогам которых монастырь выторговал себе более выгодные условия штрафных санкций, но мост в конце концов построил. Этот эпизод говорит о Карле как о монархе, не только умевшем водить войска в бой и организовывать военные экспедиции, но и знавшем толк в экономических реалиях — в данном случае он «стремился развивать коммерцию в своих землях, сделав переправу через Луару постоянной и беспрепятственной»{261}.
Все эти черты, которые можно назвать симпатичными, однако, переплетались в характере Карла с куда менее привлекательными качествами. Недостатки этого человека были, как ни банально, продолжением его достоинств. Упорство порождало безжалостность: всё и все, стоявшие на пути Карла к цели, должны были быть устранены, а по возможности уничтожены. Манфред и Конрадин познали это на себе, но ими дело не ограничилось. Если после Беневенто Карл был склонен к снисхождению по отношению к сторонникам Гогенштауфенов, то после Тальякоццо начались действительно жестокие гонения. Их продолжением явился разгром восстания, тлевшего на Сицилии до 1271 года (апофеозом здесь можно считать взятие и сожжение анжуйским войском города Аугуста, описанное в хронике Сабы Маласпины).
Определенная логика в этом была — ее можно выразить житейской формулой «не понимаете по-хорошему, так поймете по-плохому», — но в среднесрочной перспективе это явилось ошибкой. Сицилийские изгнанники, обиженные Анжуйским домом, потом отомстили, и как! Среди них оказался, к примеру, Джованни да Прочида, «связной» между Византией и Арагоном, заслуживший репутацию демиурга «Сицилийской вечерни». (Эта версия, правда, не столь однозначна, как было принято считать ранее, но подробнее об этом позднее.) Из того же разряда — поступивший на арагонскую службу адмирал Руджеро ди Лауриа, который стал своего рода военно-морской Немезидой анжуйцев, пленив в 1284 году в морской битве у Неаполя незадачливого Карла Хромого, сына и наследника Карла I.
Если преследование разгромленных гибеллинов кажется политически обоснованным, хоть и недальновидным поступком Карла, то его обращение с вдовой и детьми короля Манфреда выглядит скорее бессмысленной жестокостью. С точки зрения суровой политической логики можно понять опасения нового короля, с подозрением относившегося к отпрыскам побежденного соперника. Следует учесть и такой фактор, как греческое происхождение Елены Дукены: оставшись на свободе и попав в родной Эпир (куда она пыталась бежать после получения известия о гибели Манфреда), или хуже того — в Константинополь, она и ее дети могли бы стать ценными фигурами в партии, которую разыгрывал против Карла Анжуйского византийский император Михаил VIII Палеолог. Но после того как Елена и ее дети попали к нему в руки, для Карла были возможны и другие решения — к примеру, браки королевы-вдовы и/ или ее потомства с ближайшими вассалами или даже членами семьи самого Карла[125]. В результате Анжуйский дом оказался бы связан кровными узами с предшествующей сицилийской династией. Не стоит забывать, что подобный брак — с дочерью Манфреда Констанцией, заключенный еще при жизни ее отца, — использовал впоследствии арагонский король Педро III в качестве одного из обоснований своих претензий на сицилийскую корону (подробнее см. главу VI). Карл, однако, предпочел брачным или иным политическим комбинациям самый жесткий вариант: медленно уморить Елену и ее детей, за исключением одной лишь дочери Беатрисы, в замках-тюрьмах своего Regno. К тому же мать разлучили с детьми в момент их пленения еще совсем маленькими, — вероятно, Карл хотел избежать возможности одновременного побега всего семейства, решись гибеллины как-то помочь Елене.
Карл не выделялся среди своих современников каким-то чрезвычайным изуверством: суровость по отношению к побежденным проявлялась в ходе средневековых (да только ли средневековых?) конфликтов сплошь и рядом. Однако король Сицилии был безжалостен по отношению к ведущим, равным или почти равным ему по социальному статусу фигурам — и именно это выглядело необычным. Отсюда, в частности, распространившееся в Европе возмущение казнью Конрадина и Фридриха Баденского. Скажем, Фридрих II тоже сжигал города и был неразборчив в союзниках — достаточно вспомнить Эццелино да Романо, заслужившего репутацию откровенного садиста. Однако в средневековом обществе с его четкой сословной иерархией убийство соперника, равного по происхождению и знатности, не в честном бою, а в результате сомнительного судебного процесса или откровенного насилия воспринималось как более тяжкое прегрешение для государя, нежели разграбление взятого города или массовая казнь изменивших вассалов[126]. В этом смысле Карл Анжуйский запятнал свою репутацию так же, как его заклятый враг Михаил Палеолог, приказавший в 1261 году ослепить законного императора, малолетнего Иоанна IV (см. главу V).
Можно ли считать Карла I своего рода макиавеллистом до Макиавелли, политиком, крайне неразборчивым в средствах достижения своих политических целей? На этот напрашивающийся вопрос я склонен дать отрицательный ответ. Прежде всего потому, что Макиавелли — мыслитель, принадлежащий иной эпохе. Его репутация глашатая беспринципности в политике во многом незаслуженна, поскольку практические советы правителю, которые флорентиец дает в своем «Государе», вовсе не предполагают отсутствия у оного правителя каких-либо идейно-политических принципов или программы — была она, к слову, и у самого Макиавелли, находившегося под сильным влиянием гибеллинской традиции. Иное дело — и в данном случае это очень важно, — что автор «Государя» рассматривает сферу политического вне прямой связи со сферой религиозного. Его толкование политики почти лишено трансцендентности.
Макиавелли интересуют взаимоотношения государя и подданных, но мало интересуют взаимоотношения государя и Бога. Вспоминая о деяниях библейских пророков и античных завоевателей, флорентийский мыслитель сухо замечает: «…Мы можем убедиться в том, что судьба предоставила им лишь возможность, то есть обеспечила материалом, который можно было по-разному сформировать: если бы такая возможность не появилась, их доблесть пришла бы в упадок, не найдя употребления; если бы они не обладали доблестью, напрасно была бы предоставлена возможность»{262}. Иными словами, судьба, или, в христианской терминологии, воля Божья, выглядит в такой интерпретации как некая отправная точка, набор исходных условий, которые личность, обладающая властью или стремящаяся к ней, располагая при этом соответствующими дарованиями, может использовать, чтобы добиться цели. Деятельность Карла Анжуйского вполне укладывается в рамки этой теории, но вот мотивы, которыми он руководствовался, — вряд ли.
Карл принадлежал западноевропейскому Средневековью в той же мере, в какой Макиавелли принадлежал итальянскому Возрождению. В мире Карла, человека XIII века, Бог присутствовал в качестве непосредственного двигателя людских судеб. Церковь же, при всей неоднозначности отношений Карла с ее высшими представителями, также играла в его политике и сознании высокую и почетную роль: «По меньшей мере столь же, как Людовик, преданный этике крестовых походов, он демонстрировал типичное для Капетингов почтение к папству, заботу об укреплении прав церкви и желание действовать в гармонии с церковными представителями [своего] королевства. <…> Но, как и Людовик, он не был готов приносить то, что считал законными правами светской власти, в жертву прихотям церковников»{263}. В этом отношении Карл Анжуйский отстоял дальше от макиавеллистского представления об успешном государе, нежели Фридрих Гогенштауфен, — видимо, поэтому именно Фридрих столь часто кажется человеком, сильно выбивающимся из контекста своей эпохи. О Карле, короле-крестоносце и папском вассале (хоть и очень непростом вассале), этого сказать нельзя.
В своей практической политике Карл тоже далеко не всегда укладывался в макиавеллистские рамки. Автор «Государя», доведись ему оценивать деятельность первого короля Анжуйской династии, наверняка упрекнул бы его в том, что, часто будучи «львом», тот редко умел быть «лисицей». А именно гармоничное сочетание устрашающей воинственности и хитрой дипломатичности, олицетворяемых этими двумя животными, Макиавелли считал основой успеха государя. В то же время Карл, продолжая крестоносную традицию, заметно выходил и за ее пределы. Средневековый государь, он при этом был человеком эпохи, уже оставившей за собой главные политические схватки между церковной и светской властью. Карл стал орудием, с помощью которого папство окончательно разгромило Гогенштауфенов, но затем само понемногу попало в многолетнюю зависимость от светских государей, прежде всего французских королей.
При относительно слабом и находившемся под его влиянием Филиппе III Французском Карл, став старшим в роду Капетингов, постепенно поставил церковь под непосредственное влияние не только французской короны, но и свое собственное. Он выступал одновременно в качестве ближайшего союзника и советника короля Франции, а также одной из ключевых фигур итальянской политики. «Сицилийская вечерня» на какой-то момент вновь изменила эту ситуацию в пользу Рима: Карл Анжуйский, а затем его наследник Карл II, равно как и Филипп III, решительно выступивший на стороне своих родственников, попали в ситуацию, когда папская поддержка была им крайне необходима. Но следующий король Франции, Филипп IV Красивый (1285–1314)1 закрепил за французской короной доминирующее положение в отношениях с Римом. В XIV веке это вылилось в многолетний период «авиньонского пленения пап». Карл Анжуйский стоял у истоков этого процесса. Взаимоотношения между обеими ветвями Капетингов, с одной стороны, и папством — с другой, однако, отличались как от времен борьбы за инвеституру в XI–XII веках, так и от эпохи Фридриха II. В качестве противовеса Риму (хоть и внешне лояльного) теперь уже выступала не императорская власть с ее универсалистскими претензиями. Место империи, пришедшей в упадок, — ни Рудольф I Габсбург, ни его ближайшие преемники не помышляли о возврате к временам Гогенштауфенов, — заняла власть королевская, более «партикулярная», протонациональная по своему характеру, но вооружившаяся при Людовике IX удобной концепцией короля как «императора (то есть абсолютного властителя) в своих владениях».
Карл Анжуйский был во многом олицетворением этой концепции. При этом он сам вряд ли мыслил такими категориями, будучи, в отличие от Людовика Святого, склонного к религиозному, моральному и политическому теоретизированию, главным образом человеком действия. Людовик, прежде всего в последние полтора десятилетия своего царствования, после возвращения из Святой земли, упорно стремился преобразовать Францию в соответствии со своими представлениями об устройстве общества, основанном на христианских началах. Карл был упорен в другом — в достижении конкретных военно-политических и государственных целей. Он добивался этого по большей части с санкции церкви, однако его политика не несла на себе отпечатка мессианства, как у Людовика. Это особенно проявилось во время тунисского похода, который для короля Франции был последней попыткой реализовать мечту о Востоке, освобожденном от сарацин и добиться тем самым своей высшей цели как правителя и, главное, — христианина. Для короля же Сицилии это было не более чем военное предприятие, инициированное старшим братом, которому надлежало повиноваться, дело благое и потенциально выгодное, но не очень-то своевременное для него, Карла, готовившегося к походу на Константинополь.
Безусловно, добиваться поставленных целей Карла Анжуйского заставляло не только природное честолюбие, но и вера в правоту и даже святость своего дела — вера, однако, незамысловатая, что не значит — ложная или недостаточно истовая. Это была вера, свойственная основной массе тогдашнего рыцарства; она, насколько мы можем судить из источников, не сопровождалась у Карла столь напряженным духовным поиском, как у Людовика. Старший брат хотел быть идеальным королем-христианином (и в конце концов снискал себе такую репутацию, по меньшей мере в глазах следующих поколений французов). Младшему было достаточно роли «меча Христова», твердо, а при необходимости безжалостно реализующего на земле то, что он считал Божьей волей. При этом Карл сохранял лояльность церкви, что считал естественным для христианского государя. Когда его планы расходились с намерениями папства как высшего религиозного авторитета (в 1271–1281 годах), Карл предпочитал политические маневры, уговоры и давление открытому разрыву. И поэтому он часто был для Рима неудобным союзником, но, в отличие от Фридриха II и его сыновей, так и не стал врагом папы.
Итак, непреклонный, решительный, безусловно смелый, надменный, строгий, набожный, но не склонный к религиозно-философским размышлениям, практичный, не лишенный педантизма, гордый и жестокий — примерно таков портрет нашего героя. Внешняя суровость и немногословность Карла, отмечаемые хронистами, были, вероятно, следствиями практицизма и жизненной опытности. То и другое заставляло короля предпочитать поступки словам. Впрочем, если сопоставлять свидетельства, касающиеся зрелых лет Карла, с воспоминаниями Жуанвиля о первом крестовом походе Людовика Святого, то эволюция характера младшего Капетинга с возрастом становится заметной. В Египте Карл — импульсивный, горячий, азартный молодой человек, хоть и не настолько безрассудный, как его брат Роберт, погибший при нерасчетливой атаке на сарацин. Всего несколько лет спустя во Фландрии Карл — уже расчетливый полководец, рассуждающий политически и отказывающийся от битвы с голландским войском, поскольку она не представлялась ему целесообразной. Наконец, в походе за сицилийской короной Карл умело сочетает риск (морская переправа из Прованса в Рим) и расчет (овладение самим Римом и дальнейшие действия против Манфреда).
Тем не менее Карл и в зрелом возрасте далеко не всегда держал эмоции в узде. Так, в конце 1270-х годов, в разгар своего конфликта с Византией, король всеми силами пытался помешать переговорам папской курии с Константинополем. Неудачи в этом деле приводили Карла в такую ярость, что, если верить греческому хронисту Георгию Пахимеру, иногда он просто утрачивал контроль над собой: «…Каждый день видели ромейские послы, как Карл простирался у ног Папы. Воистину в такой ярости бывал он, что злобно кусал скипетр, который держал в руках, — по обычаю итальянских государей, носящих его с собой»{264}.
Карл сплотил вокруг себя большую группу вассалов, в основном из северофранцузских земель и Прованса, которые сопровождали его в походе 1265–1266 годов. Часть из них впоследствии осталась в Regno, приобретя от нового короля ленные наделы, в основном за счет изгнанных сторонников Манфреда и Конрадина. Другие, получив то или иное вознаграждение, вернулись домой, на север. Некоторые, однако, служили основанной Карлом династии годами и десятилетиями. Во многом благодаря их заслугам[127] анжуйский режим выкарабкался из тяжелейшего кризиса после «Сицилийской вечерни», смерти Карла I и пленения Карла II и сумел сохранить за собой материковые владения на юге Италии. Причины преданности этих людей, проявленной как при победах, так и в годы трудностей новой династии, кроются не в последнюю очередь в миссии, характере и репутации Карла Анжуйского.
Во-первых, экспедиция на юг Италии, против «нечестивого тирана» Манфреда, приравненная церковью к крестовому походу, нашла значительный отзвук именно в среде французского рыцарства. Ведь сама крестоносная эпопея началась некогда с призыва Урбана II на соборе в Клермоне (1095), и память об этом жила во Франции и 170 лет спустя. Еще более ожила она после побед Карла в Regno, что обеспечило дальнейший приток соплеменников под его знамена: «Французы привыкли воспринимать себя как воинов Божьих. Неудивительно, что победы Карла Анжуйского при Беневенто и Тальякоццо должны были восприниматься [ими] как новые французские триумфы, более чем через полтора столетия после Первого крестового похода»{265}.
Во-вторых, для Европы XIII века, несмотря на относительно частые конфликты, не было характерно большое количество крупных битв с участием тысяч конных рыцарей и пеших воинов. Так, почти все войны Фридриха II носили маневренный характер, сводясь к перемещениям войск с целью выбора тактически выгодной позиции, контролю над территориями и ресурсами, осаде городов и крепостей и мелким стычкам — без больших сражений. И поэтому две последовавшие почти подряд крупные победоносные битвы Карла Анжуйского стали очень громкими событиями. Беневенто и Тальякоццо принесли ему славу лучшего европейского полководца того времени. Эта слава была отчасти подкреплена тунисским походом, результат которого Карлу удалось изменить — от полного разгрома к некоему полууспеху. Служба под началом Карла I получила после этого репутацию особенно престижной среди западноевропейского рыцарства. Укреплению этой репутации способствовал характер самого Карла, для которого рыцарские идеалы в их чисто военном аспекте не были пустым звуком. (Наилучшим отражением этого стала история с предполагавшимся поединком между ним и Педро Арагонским в Бордо, о чем речь пойдет в главе VI.) Салимбене де Адам, современник Карла, прямо пишет, что король «был человеком величайшего мужества и “сильный с оружием” (Лк. 11:21), и опытный в бою, и он, дабы прославиться, подвергал себя многим опасностям, о чем свидетельствует немало явных и очевидных примеров»{266}. Один из них Салимбене тут же и приводит, рассказывая о том, как Карл, находясь однажды в Ломбардии, анонимно вызвал на поединок некоего рыцаря из Кампании[128], славившегося своей необычайной силой. Они сразились вначале на копьях, не выбив друг друга из седла, а затем на булавах — и тут кампанцу удалось оглушить противника, однако основная сила удара пришлась не на голову, а на плечо и бок короля, которого отнесли в палатку, — у него было сломано несколько ребер. «…Рыцари увидели, что это — Карл, и весьма тому изумились. Когда же об этом узнал рыцарь из Кампании, то он перепугался, вскочил тотчас на своего коня и пустился прочь, и долго скрывался в Анконской марке»[129].{267} Любопытно, что хронист приписывает в этом случае Карлу своего рода патриотический мотив: «Карл все это вытерпел и перенес ради поддержания чести французов. Не желал он, чтобы говорили, что кто-то в Ломбардии превосходит их в силе»{268}. Это тоже характерно для Карла: даже став сицилийским королем, он продолжал ощущать себя представителем Франции — хотя, конечно, такую идентичность нельзя назвать национальной в современном смысле слова.
А вот для его сына и наследника Франция уже не представляла собой столь сильный центр эмоционального и политического притяжения. Карл II Хромой, родившийся в 1254 году, вступил во взрослый возраст уже в Regno и, хотя всю жизнь говорил по-французски лучше, чем на неаполитанском диалекте, был человеком, сформировавшимся на юге Италии и принадлежавшим миру Средиземноморья, а не далекому северу, откуда вышел его отец. Карл-младший тоже участвовал в истории, рассказанной Салимбене, уговаривая отца не сражаться с силачом из Кампании и мотивируя это цитатой из Экклезиаста: «Над высоким наблюдает высший, и над ними еще высший; превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране»{269}. В этом эпизоде отец и сын психологически словно меняются местами: куда проще представить себе умудренного жизнью отца, отговаривающего горячего сына от участия в рискованном предприятии. Однако в случае с двумя Карлами все было наоборот — и это проливает свет на отношения основателя династии со своим наследником, а в какой-то мере со своими близкими в целом. Попыткой проанализировать их я и завершу набросок психологического портрета нашего героя.
Карл, как и большинство семейных людей Средневековья, был многодетным отцом. И, как опять-таки большинству родителей той эпохи, ему довелось пережить часть своих детей. В этом отношении судьба, возможно, была более сурова к Карлу, нежели ко многим другим: из восьми родившихся у него детей (семеро — в браке с Беатрисой Прованской и одна дочь — с Маргаритой Бургундской) на момент смерти самого Карла в живых оставались лишь двое. Это были Карл Хромой и Елизавета (1261–1303). Последняя еще ребенком была выдана замуж за венгерского короля Ласло IV и жила с ним до его смерти в Венгрии в весьма несчастливом браке[130]. Характерно, что большинство детей Карла умерло не во младенчестве, что было частым в те времена, а во взрослом, но весьма молодом возрасте. Нам ничего не известно о том, как переживал потери в своей семье Карл, хотя, как уже говорилось, отношение людей Средневековья к смерти сильно отличалось от нынешнего. Однако, пока дети были живы, отец использовал их так, как и было принято в среде государей — в качестве политических инструментов. Карл и Елизавета породнились с угасающей венгерской королевской династией Арпадов; о династических браках двух других детей Карла речь пойдет в следующей главе в связи с балканскими предприятиями короля Сицилии. Несмотря на ранние смерти своих сыновей и дочерей, по поводу выживания династии к концу правления Карл I, однако, мог сильно не беспокоиться: брак Карла Хромого и венгерской принцессы Марии оказался счастливым и многодетным. К 1281 году у них уже было пятеро сыновей и две дочери; позднее родились еще семеро детей.
Сам наследник, однако, не мог не вызывать у отца определенного недовольства и даже тревоги. Позднее Данте, по политическим причинам испытывавший неприязнь к Анжуйскому дому, дал Карлу II в «Божественной комедии» уничижительную характеристику (хотя и его отца не жаловал):
Не часто доблесть, данная владыкам, Восходит в ветви; тот ее дарит, Кто может все в могуществе великом. Носач изведал также этот стыд, Как с ним поющий Педро знаменитый: Прованс и Пулья стонут от обид. Он выше был, чем отпрыск, им отвитый, Как и Констанца мужем пославней, Чем были Беатриче с Маргеритой[131].Карл II сильно прихрамывал. Причиной этого было некое происшествие в раннем детстве — очевидно, нога плохо срослась после перелома{270}. Физические ограничения, которые это обстоятельство накладывало на наследника, были таковы, что он не смог полноценно освоить искусство верховой езды, непременное для рыцаря, — не говоря уже о снискании такой воинской славы, какой пользовался его отец. Судя по всему, сильно разнились они и характером. Во всяком случае, действия Карла II после смерти отца и избавления от плена отличались стремлением к компромиссу с противниками, даже на невыгодных условиях, на которые Карл I вряд ли бы когда-либо согласился (подробнее см. в заключении настоящей книги). Карл Хромой был похож на отца склонностью вникать в подробности государственных дел, но соотношение между «львом» и «лисицей» в его характере было скорее в пользу последней.
Он не унаследовал — возможно, в связи с психологическими последствиями своего физического дефекта — той тяги к решительным и энергичным атакующим действиям, которая лежала в основе натуры его отца. Характерно, что на миниатюре, открывающей роскошную «Библию рода Анжу»[132], где изображены, одна под другой, три королевские четы — Карл I, Карл II и Роберт I с супругами, — основатель династии единственный сидит с мечом в руке (его сын и внук держат скипетры). Очевидно, это всего лишь знак того, что Карл I мечом завоевал королевство для своих потомков. Но биограф волей-неволей видит за этим и нечто большее — жизненную роль Карла как gladius Christi, «меча Христова».
Именно тяга к прямому действию, которая заставляла Карла I всю жизнь куда-то двигаться, мчаться, собирать войска, воевать, плести интриги, понукать своих военачальников и чиновников, делает непростым составление его подробного психологического портрета. Карл Анжуйский как историческая фигура не просто раскрывается главным образом через свои действия, он по большому счету этими действиями и является, сливаясь с ними почти до неразличимости. В отличие от Людовика Святого, Альфонса X или Генриха Кастильского, за Карлом I не числится ни религиозно-философских наставлений преемнику, ни новых правовых кодексов, ни трактатов о воинском или каком-либо ином искусстве, ни принадлежащей его перу куртуазной лирики или рыцарских романов. Он — в основанной им династии, в его походах и битвах, в вызванном ими изменении расстановки сил на юге Европы. Он — в специфике его режима, в строгой налоговой системе, в обновленных замках и крепостях, дисциплинированном войске, разгромленных врагах, безжалостных казнях и горящих городах. Он творил историю и, можно сказать, растворялся в ней, будучи даже не человеком действия, а человеком-действием.
ГЛАВА V. Мираж над Босфором
Всю жизнь Карл не переставал вынашивать планы и совершать враждебные действия по отношению к грекам. Но он не имел успеха, так как ему противостояли ответные действия императора.
Никифор Григора, византийский хронистКартина пятая. Латиняне и греки
ПАДЕНИЕ Константинополя под ударами крестоносцев в 1204 году (см. главу 11) стало колоссальным потрясением для всей византийской цивилизации — этого причудливого переплетения позднеримской политической традиции, эллинистической культуры, православного христианства и разнообразных ориентальных влияний. Восточная Римская империя, чаще называемая Византийской, не раз переживала и острейшие внутренние кризисы, и нашествия внешних врагов, но Константинополь стоял, и вместе со столицей раз за разом возрождалось все государство. Правда, под напором с севера и востока его территория постепенно сжималась. В начале VII века, при воинственном императоре Ираклии (610–641), византийцы нанесли решительное поражение своему многовековому сопернику — Персидской империи Сасанидов. Но не успели в Константинополе как следует порадоваться этому успеху, как на юго-восточных рубежах Византии объявился еще более опасный противник — арабы, поднявшие зеленое знамя ислама. В считанные годы император лишился богатейших провинций в Северной Африке и Восточном Средиземноморье[133].
С тех пор Византия по большей части оборонялась, отбивая атаки вначале арабов, затем явившихся из среднеазиатских степей турок-сельджуков, а на севере — готов, аваров, болгар… Последняя ощутимая внешняя экспансия империи ромеев приходится на вторую половину X — начало XI века, царствование императора Василия II (976–1025), прозванного Болгаробойцей за многочисленные победы и жестокие расправы с болгарами, ставшими к тому времени серьезной угрозой для власти империи на Балканах.
Впрочем, некоторые историки, например Димитрий Оболенский, полагают, что между эллинистическим, грекоязычным ядром Византии и рядом соседних народов, прежде всего славянских (болгары, сербы, восточнославянские племена), установились отношения неформального «содружества». В его рамках возникшая «общность воспринималась жителями Восточной Европы как единый православный мир, признанной главой и административным центром которого была Константинопольская Церковь»{271}. Это восприятие неизбежно усилилось с середины XI века, когда раскол в христианской церкви, ее разделение на западную (католическую) и восточную (православную) приобрело уже не только обрядно-теологический (возникший ранее), но и институциональный характер. Предание друг друга анафеме главами двух церквей, совершенное в 1054 году в результате очередного, хоть и не самого крупного, религиозно-политического конфликта между Римом и Константинополем, оказалось началом разделения двух ветвей христианства, сохраняющегося до сих пор. Но в то время раскол совсем не представлялся решительным и непреодолимым. Контакты между католическим Западом и православным Востоком (церковные, политические, социально-экономические) сохранялись и даже усиливались, особенно при византийской императорской династии Комнинов (1081–1185), при которой началась эпопея крестовых походов и чьи представители, прежде всего Мануил I (1143-1180), пользовались репутацией «западников».
Попытки восстановить церковное единство в XI–XII веках предпринимались несколько раз, но серьезных последствий не имели. Кроме того, между византийцами[134] и западными христианами, которых в православной среде привычно называли «латинянами», накапливались культурные противоречия и предрассудки. «Греки считали себя высшей расой по сравнению с латинянами и в целом воспринимали последних как надменных и презренных еретиков. С другой стороны, мнение латинян о греках было еще менее лестным. Греков считали лишенными моральных принципов, трусливыми схизматиками»{272}. События 1204 года, когда «взбесившийся» крестовый поход, вдохновителями которого стали венецианцы, закончился штурмом и взятием Константинополя, значительно углубили пропасть между западом и востоком христианского мира. С установлением в Константинополе власти крестоносцев — они избрали императором Балдуина Фландрского, отца той самой графини Маргариты, которой полвека спустя пришел на помощь Карл Анжуйский, — латиняне утвердились в самом сердце византийского мира.
Это положение казалось грекам вопиющей несправедливостью, и все время существования созданной крестоносцами Латинской империи[135] они стремились к возвращению утраченной столицы. Былая Византия распалась на несколько небольших государств, и каждое из них претендовало на наследие Константинополя и мечтало о восстановлении империи ромеев под своей собственной эгидой. Как с грустью отмечал византийский летописец Никифор Григора, «держава ромеев, как грузовое судно, подхваченное злыми ветрами и волнами, раскололась на несколько частей, и каждый, разделив ее как кому досталось, унаследовал: один — одну, другой — другую часть»{273}. Среди этих обломков постепенно на передний план вышла Никея — вокруг этого города в западной части Малой Азии сформировалось наиболее мощное из греческих государств, возникших на обломках былой Византии.
В Никее воцарилась династия Ласкарисов, которые вначале правили с титулом деспота («владыки»), а позднее приняли императорский венец[136]. Первый представитель этой династии, Феодор I Ласкарис, проявил себя как талантливый полководец и администратор, сумевший, с одной стороны, остановить экспансию латинян вглубь Малой Азии, а с другой — сделать из Никейской империи сильнейшее государство-преемника прежней Византии, по крайней мере из тех, что возникли к востоку от Босфора и Дарданелл. Любопытно, что многие административные практики, а отчасти и военную тактику, Ласкарис заимствовал у своих западных противников. После многолетней войны в 1214 году Феодор заключил с тогдашним латинским императором Генрихом Фландрским мир на выгодных для Никеи условиях. Впрочем, обе стороны понимали, что это не прочный мир, а лишь перемирие.
Справедливости ради следует сказать, что враждой и войнами отношения между греками и латинянами не исчерпывались. У Романии не было сил, достаточных для того, чтобы стать державой, сопоставимой по территории, богатству и влиянию с былой Византией Комнинов. Латинская империя распространяла свою власть лишь на Константинополь и его окрестности по обоим берегам Босфора. Кроме того, в нескольких княжествах на Балканском полуострове также утвердились государи-латиняне, считавшиеся вассалами константинопольского императора. Там, прежде всего в Ахайе, или Морее, установилась система феодальных отношений, принесенная крестоносцами с Запада. Тем не менее в социальной структуре этих государств сохранялись и многие традиционные элементы, унаследованные от Византии. Правящая элита тоже постепенно становилась смешанной по происхождению, языку и культуре: «Смешанные браки в феодальной среде Морей стали обычным явлением, и даже морейский князь Гийом[137] (1246–1278) женился на гречанке Анне, дочери эпирского правителя; на гречанке был женат и другой Гийом, герцог Афинский. Постепенно в Морее образовался особый слой полуфранков-полугреков, так называемых гасмулов — результат и явный признак начинающейся ассимиляции завоевателей. Гасмулы говорили на греческом языке, и, по-видимому, один из них написал по-гречески “Морейскую хронику”, прославив подвиги франкских рыцарей на Пелопоннесе»{274}.
Положение Латинской империи непрерывно ухудшалось. Этому способствовало несколько факторов. Во-первых, так толком и не оправившийся от опустошения 1204–1205 годов Константинополь не привлекал в должной мере западных воинов и купцов, хотя на это надеялись правители нового государства. Венецианцы, доминировавшие в константинопольской торговле, блюли прежде всего собственные коммерческие интересы, а преференции, которые они выторговали себе при основании Латинской империи, были таковы, что император, чья казна то и дело оказывалась пустой, не имел доступа к их богатствам. Во-вторых, греки постоянно сопротивлялись. Помимо Никейской империи, у латинян возник серьезный соперник и к западу от Константинополя — Эпирское царство, чей правитель Феодор Комнин Дука, отпрыск бывших византийских императорских династий, взял в 1224 году Фессалоники, в результате чего стал «суверенно править на пространстве от Адриатики до Эгейского моря»{275}. Недовольство властью латинян и их венецианских союзников непрерывно тлело и в городах самой Латинской империи, подогреваемое как экономической конкуренцией, так и ущемлением прав православной церкви, что греки переносили особенно тяжело.
В-третьих, административная и правовая система, принесенная крестоносцами из Западной Европы, плохо сочеталась с местными традициями, вызывая ропот, а порой и открытые восстания. Известны случаи, когда греческие крестьяне попадали в двойную зависимость — от своих хозяев-соплеменников и от пришельцев, «франкских» феодалов. Все это способствовало росту социального напряжения. Наконец, Романия страдала от политической нестабильности. «Франки»[138] конфликтовали с греками и венецианцами, а нередко и между собой, католические иерархи, занявшие после 1204 года ключевые посты в константинопольской церковной иерархии, — с православными священнослужителями. К тому же на императорском троне в Константинополе слишком часто менялись правители. Балдуин Фландрский попал в плен к болгарам и умер уже в 1205 году. Его брат Генрих, унаследовавший корону, скончался в 1216-м, по некоторым сведениям, от яда{276}. Наследником Генриха стал муж его сестры, Пьер де Куртенэ, потомок французского короля Людовика VI. В момент своего избрания императором он находился во Франции. Путь на Балканы занял у Пьера более года, но до Константинополя он не доехал, оказавшись в плену у Феодора Эпирского, где то ли умер, то ли был убит пару лет спустя. Латинской империей в это время правила в качестве регентши супруга Пьера, императрица Иоланта. В 1221 году на трон возвели их сына Роберта, но и его правление не было ни долгим, ни славным. Роберт пытался урегулировать вновь обострившийся конфликт с Никеей (его сестра Мария была женой Феодора Ласкариса), но безуспешно. Наконец, едва не став жертвой заговора, во главе которого стоял один бургундский рыцарь (император пытался отбить у него невесту), Роберт де Куртенэ бежал в Рим, где искал защиты у папы. В 1228 году, возвращаясь в Константинополь, император умер в Морее.
Ему наследовал его младший брат Балдуин II, в тот момент и-летний мальчик. Только этому латинскому императору было суждено долгое царствование, но и оно не оказалось счастливым. До 1237 года регентом при юном монархе был Жан де Бриенн, видный вельможа-крестоносец, даже носивший благодаря одному из своих браков титул короля Иерусалимского, который, впрочем, был сугубо номинальным. После смерти регента Балдуину де Куртенэ пришлось вести дела самостоятельно. Значительная часть его жизни прошла в поездках по европейским дворам, буквально с протянутой рукой: он безуспешно пытался собрать деньги и найти военную помощь для своей империи, чья территория быстро сокращалась под тройным напором — Никеи, Эпира и Болгарского царства. Несчастный император даже заложил венецианцам святую реликвию — терновый венец Христа, хранившийся в Константинополе. Будучи не в состоянии в срок выкупить его обратно, Балдуин II вынужден был смириться с тем, что реликвия нашла нового владельца — Людовика IX, с радостью украсившего ею специально построенный для этой цели в Париже храм Сент-Шапель. Джон Норвич так описывает дальнейшие мытарства константинопольского императора: «В 1244 году он снова уехал — на этот раз к Фридриху II, потом к Раймунду, графу Тулузскому; он посетил Иннокентия IV в Лионе, Людовика Святого в Париже и даже Генриха III в Лондоне — последний без большой охоты дал Балдуину немного денег. Но, вернувшись обратно в октябре 1248 года, Балдуин столкнулся с такой нуждой, что наконец продал даже свинцовое покрытие с крыши императорского дворца»{277}.
Латинская империя понемногу превращалась в призрак, зато Никейская империя крепла. Балдуина II долгое время выручали распри между тремя сильнейшими игроками на балканско-малоазийской сцене — Никеей, Эпиром и Болгарским царством. На руку ему оказалось и монгольское нашествие, отвлекшее малоазийских турок от их агрессивных замыслов. В результате многочисленных войн, заговоров и дипломатических комбинаций к середине 1250-х годов в выигрыше оказалась Никея, чьи границы на Балканах теперь простирались от Черного до Адриатического моря. Иоанн III Ватац, царствовавший в Никее с 1222 года (он приходился зятем Феодору Ласкарису), был, несмотря на проблемы со здоровьем, — он страдал эпилепсией, которая с возрастом усилилась, — решительным и изобретательным правителем. Никифор Григора поет ему дифирамбы: «Соединяя с богатством умственных дарований благородство и твердость характера, он прекрасно вел… дела правления; в короткое время он увеличил и внутреннее благосостояние ромейского царства, и в соответствующей мере военную силу. Он ничего не делал, не обдумав, не оставлял ничего, обдумав; на все у него были своя мера, свое правило и свое время»{278}. Однако закат никейской династии оказался неожиданно быстрым: в 1258 году, спустя неполных четыре года после смерти Иоанна Ватаца, скончался его сын и преемник Феодор II. Ему наследовал восьмилетний ребенок — Иоанн IV, за троном которого возвышалась фигура самого могущественного вельможи империи — Михаила Палеолога. Этот человек и его судьба заслуживают самого пристального внимания.
Михаил принадлежал к числу наиболее родовитых греков: он состоял в родстве с тремя императорскими династиями, в разное время правившими Византией, а потому официально именовал себя Михаил Дука Ангел Комнин Палеолог. Еще при Иоанне Ватаце Палеолог впервые попал в немилость. Командуя войсками, расквартированными у границ Болгарского царства, Михаил стал жертвой доноса: его недоброжелатели утверждали, что Палеолог договорился с болгарами о сдаче нескольких крепостей — в обмен на брак с дочерью болгарского царя. По свидетельству византийского государственного деятеля и историка той эпохи Георгия Акрополита, Михаилу было предложено доказать свою невиновность, взяв в руки кусок раскаленного железа: если оно не нанесет ему вреда, это будет означать его невиновность. (Подобная практика не являлась в средневековой Европе ничем необычным, однако была больше распространена на Западе, чем в Византии.) Услышав это предложение из уст митрополита Фоки, видного церковного деятеля и советника Иоанна III, Палеолог проявил хладнокровие и остроумие. Он ответил, что неуязвимым к раскаленному металлу может быть лишь истинно святой человек, каковым он, Михаил, не является; но если достопочтенный митрополит, в чьей святости он не сомневается, соизволит лично вложить ему в руки это железо, то он, Палеолог, не смеет возражать. Митрополит, естественно, пошел на попятный, и дело в конце концов кончилось для Палеолога оправданием — расстроился лишь его предполагаемый брак с дочерью Феодора II Ириной (ее позднее выдали за болгарского царя){279}.
На момент смерти императора Феодора II Михаилу было примерно 35 лет, но он уже имел за плечами богатый политический и военный опыт. Феодор, блестяще образованный и несомненно умный человек, был замкнут, подозрителен, нередко жесток и подвержен частым переменам настроения, вызванным, вероятно, проблемами со здоровьем. Кроме того, как отмечает византийский историк Георгий Пахимер, василевс[139] откровенно покровительствовал своим родственникам{280}. Михаил, напротив, был хитрецом, умевшим располагать людей к себе, велеречивым царедворцем и ловким дипломатом. Неудивительно, что «император всегда испытывал чувство ревности к этому привлекательному молодому аристократу, который, казалось, обладал всеми теми достоинствами, каковых ему самому недоставало»{281}. Умирая, Феодор II потребовал, чтобы все ведущие сановники империи принесли клятву верности его сыну Иоанну, и с особым тщанием проследил за тем, чтобы этой клятвы не избежал Михаил Палеолог.
Впрочем, после смерти Феодора ситуация тут же изменилась. Пахимер отмечает, что Палеолог провел в конце 1258 года настоящую пропагандистскую кампанию, пообещав «возвысить церковь… достойнейших сановников украсить величайшими титулами; устроить справедливое решение всех дел в судах… почтить также ученость… более всех любить войско и содержание воинов… не давать места наговорам…»{282} — в общем, продемонстрировал, как сказали бы в наши дни, искусство политика-популиста. В результате власть, сосредоточенная в руках Михаила, оказалась такова, что уже в начале 1259 года он был коронован императором — в качестве соправителя Иоанна IV. Правда, патриарх Арсений согласился совершить обряд с условием, что по достижении совершеннолетия юный василевс будет править единолично. Далее, чтобы упрочить свою популярность, новый правитель начал раздачу обещанных благ: он «исчерпывал казну обеими руками и мотовски расточал то, что собираемо было скряжнически»{283}. Свои политические плоды это принесло, но экономику империи подорвало изрядно.
Узурпацию трона Михаил VIII завершил в конце 1201 года. На Рождество, 25 декабря, мальчик-император был по приказу Палеолога ослеплен. Тем самым, согласно древнему правилу «увечный трона не наследует», Иоанн более не мог претендовать на императорский венец[140]. Его отправили в одну из крепостей в провинции Вифиния, а позднее постригли в монахи под именем Иоасафа. В 1262 году во время восстания в империи, где начало зреть недовольство одновременно расточительной и тиранической политикой Палеолога, объявился юный слепой самозванец, выдававший себя за Иоанна IV, но повстанцев удалось разгромить. Подлинный же низложенный император дожил в монастыре до 1305 года, отличался набожностью, кротким нравом и совершенно не интересовался политикой{284}. Преступление Михаила VIII[141] не раз ставилось ему в упрек, в том числе и патриархом Арсением, отлучившим василевса от церкви. (Наказание было снято преемником Арсения и ставленником Палеолога, патриархом Иосифом.) Точка в этой печальной истории была поставлена уже после смерти Михаила, когда его сын и преемник Андроник II навестил монаха Иоасафа и покаялся перед ним за грех отца. Бывший император подтвердил свой отказ от прав на престол и даровал младшему Палеологу прощение.
Михаил VIII недаром совершил столь неблаговидный поступок, как ослепление мальчика Иоанна, без малого через три года после фактического захвата власти. К тому времени он мог не опасаться бунта или иной неблагоприятной для него реакции общества. Ведь парой месяцев ранее Палеологу удалось то, о чем греки мечтали более полувека: его войска заняли Константинополь. Именно «заняли», а не «взяли», поскольку, в отличие от 1204 года, на сей раз никакого штурма не было. (Хронист Салимбене де Адам то ли воспользовался ложной информацией, то ли защищал «честь мундира» единоверцев, когда писал, что Палеолог «в ожесточенном сражении… вновь обрел Константинополь»{285}.[142]) Никейские воины под командованием полководца Алексея Стратигопула проникли в город через лазы в обветшавших стенах, указанные им местными пастухами. Те знали, что венецианский флот с большей частью войска латинян отплыл незадолго до этого к острову Дафнусия, принадлежавшему Никейской империи, чтобы высадиться там и поживиться чем придется.
Когда западные воины вернулись обратно, было уже поздно. Конец Латинской империи выглядел трагикомично: «Император Балдуин, разбуженный поднявшейся суматохой, бежал, спасая свою жизнь. Пешком добравшись до небольшой гавани Буколеон, он смог переправиться на венецианском торговом судне на остров Эвбея, находившийся под контролем латинян. Тем временем люди Алексея подожгли венецианский квартал… Остававшихся в городе франков, числом примерно тысячу, охватила паника. Кто-то из них спрятался; кто-то просил убежища в монастырях; некоторые даже забрались в канализацию; но избиения не было. Постепенно они вылезли из своих укрытий и добрели до гавани, где находилось около 30 венецианских кораблей. Они тоже отплыли на Эвбею, видимо даже не взяв с собой каких-либо запасов провизии, поскольку есть сообщения о том, что многие беженцы умерли от голода, не достигнув цели»{286}.
15 августа 1261 года Михаил VIII торжественно въехал в новообретенный Константинополь и короновался в храме Св. Софии. Он, естественно, был преисполнен гордости и самодовольства, как и большинство греков, ликовавших в связи с возвращением древней столицы под власть их василевса. Однако, как отмечает современный историк, «наиболее дальновидные сокрушались, говоря, что как раз теперь-то все и погибло. И, как ни странно, эти последние оказались правы. Палеологи вновь извлекли на свет Божий пребывавшие в справедливом забытьи универсалистские идеи, но груз «Богохранимой империи ромеев», повелительницы мира, восстановленной Византии оказался не по плечу — и раздавил ее»{287}.
Латиняне и греки: хронология
1071 — взятие войском нормандцев Бари, последнего оплота власти Византии в Италии.
1077–1081 — политический кризис в Византии; приход к власти Алексея I Комнина.
Начало 1090-х — осада турками Константинополя. Император Алексей направляет папе послание к западным христианам с призывом о помощи.
1095 — папа Урбан II провозглашает крестовый поход на Иерусалим, ставя одной из его целей помощь восточным христианам.
1096–1102 — Первый крестовый поход, непростое взаимодействие греков и латинян. Основание крестоносцами государств в Утремере, часть из которых по договору с Византией признала себя вассалами константинопольского императора.
1081–1185 — правление династии Комнинов.
1185–1204 — правление династии Ангелов острый политический кризис в Византии.
1202–1204 — Четвертый крестовый поход, взятие Константинополя крестоносцами, создание Латинской империи (Романии). Первым латинским императором Константинополя избран Балдуин Фландрский.
1206 — основание Никейской империи, во главе которой встал Феодор I Ласкарис.
1206–1215 — ряд войн между Латинской и Никейской империями.
1221–1254 — правление никейского императора Иоанна III Ватаца; значительное укрепление позиций Никеи.
1228–1261 (номинально до 1273) — Балдуин II де Куртенэ — латинский император.
1237–1250 — союз Иоанна Ватаца с Фридрихом II Гогенштауфеном.
1253 — взятие никейскими войсками Фессалоники.
1253-12254 — дело Михаила Палеолога, закончившееся его оправданием.
1254-1255 — правление Феодора II Ласкариса.
1258–1261 — соправление Иоанна IV Ласкариса и Михаила VIII Палеолога.
1259 — битва при Пелагонии, победа Никейской империи над коалицией Сицилии, Эпира и Ахайи.
1261 — отвоевание Константинополя греками; ослепление малолетнего Иоанна IV и его отстранение от власти Михаилом VIII.
1262–1265 — отлучение Михаила Палеолога от церкви в связи с ослеплением Иоанна IV.
1264 — начало переговоров между Константинополем и Римом о перспективах церковной унии.
Между двумя Римами
Врагов у возрожденной Византии было более чем достаточно, а союзников и средств — крайне мало. Вдобавок возвращение Константинополя заставило Михаила VIII сосредоточить свои военные и дипломатические усилия на предотвращении попыток латинян вернуть утраченное: «Основными целями Михаила были прежде всего сохранение трона и новообретенной столицы, а также восстановление границ Византии в том виде, в каком они существовали до 1204 года. От этих целей его дипломатия не отклонялась никогда. Но, каковы бы ни были эти базовые ориентиры, методы, которыми он стремился достигнуть их, должны были быть весьма гибкими, зависящими от возможностей многочисленных оппонентов и от постоянно меняющейся политической сцены… Каждому новому давлению со стороны латинян находился соответствующий противовес. Таким образом, политику [Михаила] можно охарактеризовать как постоянные усилия по поддержанию благоприятного баланса сил в отношениях с разнообразными противниками»{288}. Это означало, что император, можно сказать, жил с лицом, обращенным на запад, в то время как в долгосрочной перспективе основная опасность его империи грозила с востока, со стороны турецких владений. Правда, крупный Иконийский (Румский) султанат, чья сила была подорвана столкновениями с монголами, при Михайле VIII переживал кризис, но уже его сыну Андронику II пришлось познать на себе тяжелую руку турок и сожалеть об ослаблении восточных окраин империи при первом Палеологе.
Ни Балдуин II, ни другие «франкские» государи Балкан не смирились с поражением, понесенным летом 1261 года. Крайне раздраженно отреагировало на вести о возвращении «второго Рима» грекам и папство. После 1266 года, когда юг Италии оказался под властью Карла Анжуйского, стало ясно, что на сцене появился новый сильный игрок, чье вмешательство в ситуацию на крайнем юго-востоке Европы могло бы вновь склонить чашу весов на сторону латинян. К делам Константинополя Карла I влекло сразу несколько факторов, субъективных и объективных. К числу первых относилась присущая ему предприимчивость в сочетании с воинственностью и уверенностью в правоте своего дела — все эти черты, как мы видели, сполна проявились при завоевании Карлом Сицилийского королевства. Но были и обстоятельства, которые, вероятно, заставили бы любого государя, правившего в тот момент на юге Италии, заинтересоваться противоположным берегом Адриатики и землями, лежащими далее на восток.
Дело в том, что уже Манфред Гогенштауфен оказался довольно глубоко вовлечен в балканские дела. Здесь он выступал как наследник Отвилей, много десятилетий враждовавших с Византией — ведь именно нормандцы когда-то окончательно изгнали восточную империю с Апеннинского полуострова, а при Роберте Гвискаре сами угрожали Константинополю. Правда, в середине XIII века прежней Византии более не существовало, а Манфред, который вступил в союз с эпирским правителем Михаилом II и женился на его дочери Елене, стал участником распрей между преемниками великой империи. Из этих конфликтов сицилийский правитель хотел извлечь свою выгоду: «Манфред имел виды на адриатическое побережье, находившееся как во власти его тестя, так и во власти Палеолога. В 1258 году он уже овладел Корфу, отнял у Никейской империи Диррахий[143] и у Эпирского царства Авлон и Берат. Не упускал Манфред из виду и возможности овладеть самим Константинополем…»{289}
В 1259 году У Пелагонии сицилийские войска приняли участие в сражении с армией Никейской империи. Союзниками Манфреда, лично участвовавшего в битве, были войска Эпирского царства и Ахейского княжества. Из-за отсутствия единства в рядах коалиции и ряда хитростей, примененных никейцами, их противники оказались разбиты, причем сицилийцы понесли наиболее тяжелые потери; самому Манфреду пришлось бежать. Его балканские планы потерпели крушение, а сама битва, ослабившая Эпир и Ахайю (Морею), стала прелюдией к занятию Константинополя никейцами. «На Балканском полуострове не оставалось более ни одной силы, способной остановить никейского императора»{290}. Однако, хотя Манфреду вскоре пришлось отвлечься на более насущные дела в Италии, а в 1266 году вступить в роковую для него схватку с Карлом Анжуйским, он продолжал следить за происходящим на Балканах. После падения Балдуина II он предложил низложенному императору помощь, «надеясь показать всему миру искренность своих крестоносных устремлений и тем самым избежать враждебности со стороны папства»{291}. Это, однако, Гогенштауфену не помогло.
Его преемник, чьи позиции были более прочными, чем у осажденного со всех сторон врагами Манфреда, тоже обратил внимание на этот регион. Он немедленно наложил руку на остров Корфу и ряд небольших прилегающих территорий, которые ранее находились во владении Манфреда в качестве части приданого его супруги Елены Дукены, ставшей пленницей Карла Анжуйского. Активная позиция на Балканах определялась не только и даже не столько экспансионистскими аппетитами Карла I. Для спокойствия самого Сицилийского королевства и успешного ведения торговли в Восточном Средиземноморье было важно обеспечить безопасность противоположного, балканского берега Адриатического моря, а еще лучше — подчинить его. Это понимали еще Отвили, чередовавшие в своих отношениях с Византией войны и дипломатические комбинации. Сознавал это и Карл. К тому же крах Латинской империи, который вовсе не представлялся тогдашней католической Европе, или по меньшей мере ее духовному лидеру — папе, окончательным, давал сицилийскому королю дополнительные аргументы в пользу экспансии в восточном направлении.
Среди тех, кто помог Карлу добыть королевскую корону, было немало вельмож и рыцарей, так или иначе связанных с Латинской империей и Балканами. Так, Гуго IV Бургундский, дед Маргариты, второй жены Карла, в январе 1266 года встретился с Балдуином II и пообещал ему военную и финансовую поддержку — в обмен на Фессалию, которую бургундец хотел получить в случае изгнания Палеолога с Балкан. «Фессалоника всегда была наиболее привлекательной из территорий Латинской империи; Гуго мог считать, что ему повезло… Но он, безусловно, знал, что ему и Балдуину вряд ли удастся своими силами вернуть утраченное в 1261 году»{292}. Восшествие Карла Анжуйского на трон Сицилийского королевства кардинально меняло ситуацию: в лице нового короля не только нищий латинский император, но и богатый бургундский герцог получали мощного союзника, что делало шансы на восстановление Романии из иллюзорных реальными. Оставалось договориться между собой и действовать.
Вскоре Константинополь стал важной целью политики Карла. Образ великого города над Босфором, «второго Рима» — хотя реальный Константинополь второй половины XIII века был лишь бледной тенью блестящей столицы Юстининана, Константина Багрянородного и Мануила Комнина[144], — будоражил воображение Карла Анжуйского. Будучи человеком практического склада, Карл уже через несколько месяцев после воцарения на юге Италии стал предпринимать шаги к тому, чтобы изгнать Палеолога из Константинополя.
Свергнутый император Балдуин, друживший с Манфредом, быстро переориентировался на того, кто погубил его бывшего благодетеля. Сближение Балдуина и Карла происходило при посредничестве папы Климента IV. У Балдуина, собственно, не оставалось иного выхода: Манфред был мертв, а переговоры с другими европейскими государями, за исключением Гуго Бургундского, особых надежд на возвращение Константинополя латинскому императору не принесли. К тому же Карл казался более вероятным покорителем Константинополя, чем Гуго. Неудивительно, что переговоры, которые начались весной 1267 года в городке Витербо неподалеку от Рима, быстро увенчались успехом. К ним подключился и Гийом II де Виллардуэн, князь Морейский, стремившийся покончить с последствиями унизительного поражения при Пелагонии[145]. В итоге в Витербо были подписаны два договора, суть которых сводилась к следующему. Первый договор, заключенный Карлом и Гийомом, был отчасти брачным контрактом. Согласно его положениям, князь обязался выдать свою единственную дочь и наследницу Изабеллу замуж за Филиппа Анжуйского, младшего сына сицилийского короля. После смерти Гийома Ахайя должна была перейти к молодым супругам или их детям, а при отсутствии таковых и в случае, если Филипп умрет раньше отца, — к самому Карлу Анжуйскому. Князю Гийому предоставлялось пожизненное право получения доходов (узуфрукта) с Ахайи. Иными словами, Гийом де Виллардуэн де-факто продал свои владения, которым ныне угрожал укрепившийся в Константинополе Палеолог, Анжуйской династии — в обмен на покровительство, военную помощь и обеспечение будущего его дочери и предполагаемых внуков.
Второй договор, подписанный Карлом I и Балдуином II, был обширнее. Вот его основные положения.
1) Карл обязался за себя и своих наследников предоставить в течение шести, максимум семи лет 2 тысячи конных рыцарей для ведения войны в Романии сроком на год.
2) В обмен на это император Балдуин обязался уступить сицилийскому королю права сюзерена над княжеством Ахайя — учитывая вышеописанное соглашение между Карлом и Гийомом де Виллардуэном.
3) Земли, составлявшие ранее приданое Елены Эпир-ской, супруги Манфреда Гогенштауфена, передавались во владение Карла — но на правах лена от императора Балдуина.
4) Все острова, лежащие вне пределов Абидосского залива, передавались Карлу, кроме Митилены, Самоса, Коса и Хиоса — эти четыре должны были остаться во владении Балдуина и его наследников.
5) Треть земель Романии, которые планировалось отвоевать у греков, должны были быть переданы Карлу в суверенное владение; остальные две трети, включая Константинополь и четыре острова (см. п. 4), составляли долю Балдуина.
6) Карл был вправе сам выбирать, какие земли составят его долю.
7) Карл был также вправе добавить к своей доле Фессалию, если лица, которым император Балдуин уже пожаловал эти земли в качестве феода, не выполнят своих вассальных обязательств.
8) Филипп де Куртенэ, сын Балдуина, обязался жениться на дочери Карла, Беатрисе Анжуйской, по достижении ею брачного возраста.
9) В случае если бы Балдуин и его сын Филипп умерли без законных наследников, императорский трон Константинополя перешел бы к Карлу и его наследникам.
10) Венеции гарантировались все ее былые права в Латинской империи{293}.
Карл Анжуйский одержал в Витербо крупную дипломатическую победу. Ею он был обязан как собственным недавним военным успехам, сделавшим из него столь привлекательного союзника, так и поддержке папы и, безусловно, незавидному положению двух других «высоких договаривающихся сторон» — князя Гийома, теснимого Михаилом VIII, и императора Балдуина, у которого уже не оставалось ничего, кроме его призрачного титула и связанных с ним территориальных претензий. Джин Дюнбабен, биограф Карла I, считает, что в Витербо король действовал по принципу «лучше синица в руках, чем журавль в небе» (впрочем, «синицы» были довольно тучными) и не стремился к овладению константинопольской императорской короной во что бы то ни стало. Хотя именно такое желание Карлу приписывают хронисты и историки на протяжении столетий — от его современника Сабы Маласпины до Стивена Рансимена в «Сицилийской вечерне».
«Стоит отметить три следующих обстоятельства, — пишет Джин Дюнбабен. — Во-первых, [по условиям соглашений в Витербо] Карл немедленно получал законные права правителя Албании[146], которую из-за ее положения считал крайне важной для себя; кроме того, он также немедленно становился сюзереном Ахайи, еще одной территории, где у него имелись существенные интересы. С другой стороны, экспедиция в Константинополь должна была состояться лишь в будущем, к тому же в недостаточно определенном будущем, и только одна экспедиция. В договоре ничего не говорилось о том, что если [обещанным Карлом] двум тысячам рыцарей не удастся покорить Константинополь, то будет предпринята другая попытка. Кроме того, сам Карл мог бы стать императором лишь в том случае, если бы за успешным отвоеванием Константинополя последовала смерть Филиппа [де Куртенэ] без законных наследников. Если Карл, как предполагает Рансимен, действительно вынашивал мечту об императорской короне, то он повел себя с поразительной тупостью при заключении договора, который вел к этой цели»{294}. Тупостью Карл никогда не отличался, а вот политического опыта ему к 1267 году уже было не занимать. Так что, скорее всего, он действительно сосредоточился на целях, достижение которых было близким и реальным. Мираж над Босфором манил, но не так сильно, чтобы во имя него ставить на карту все.
Подготовка к походу на Константинополь началась вскоре после того, как на подписанных в Витербо документах высохли чернила. Однако, несмотря на административные усилия Карла, нещадно подгонявшего своих сановников и военачальников, быстро построить флот и собрать армию не получилось. Большую часть 1268 года король был занят отражением угрозы со стороны Конрадина. К лету 1270 года приготовления к отплытию были почти закончены, но тут Карлу пришлось перебросить эти силы совсем в другом направлении — в Тунис, чтобы помочь Людовику IX в его злополучном походе. На обратном пути из Туниса большая часть анжуйского флота была уничтожена бурей (см. главу IV). Все приходилось начинать сначала.
Между тем распри между католическими иерархами, разгоревшиеся после смерти Климента IV, имели политические последствия, которые совсем не радовали сицилийского короля. На собрании кардиналов-выборщиков в Витербо сразу после смерти папы сошлись 19 иерархов. Пятеро из них представляли Рим, еще четверо — Францию, остальные происходили из других регионов Италии и из иных европейских стран. Собравшиеся оказались расколоты между сторонниками избрания очередного французского (или профранцузского) папы и теми, кто хотел видеть на престоле св. Петра итальянца — или по крайней мере папу, способного вывести церковь из-под влияния Франции, чрезмерно усилившегося при двух предыдущих понтификах. Победа Карла Анжуйского над Конрадином, фактически сделавшая сицилийского короля повелителем большей части Италии, придавала аргументам этой партии особую весомость: противники Карла выглядели в этих условиях как сторонники независимости церкви от светских государей. На эти политические соображения накладывались личные антипатии кардиналов и соперничество влиятельных родов Орсини и Анибальди, каждый из которых был представлен на конклаве тремя кардиналами{295}.
По мере того как конклав затягивался, конфликт между гвельфами и гибеллинами вновь вышел на поверхность. Карл понял, что следует ускорить ход выборов папы, пока баланс сил в Италии не изменился окончательно не в его пользу. Хотя в течение 1270 года королю удалось переманить на свою сторону часть противников, главной цели — избрания нового папы, благожелательно настроенного к Карлу, — добиться не удавалось. «Нерадивостью» кардиналов были возмущены и власти Витербо, которые в конце концов пошли на беспрецедентный шаг: члены конклава[147] были заперты в замке, где проходили заседания, а крышу здания частично разобрали, чтобы дождь и ветер заставили иерархов церкви быть расторопнее. Вдобавок кардиналов стали плохо кормить, едва ли не посадив на хлеб и воду. Двое из них умерли, не дожив до избрания папы. Слухи о том, кто именно стоял за этими решениями, ходили самые разные; некоторые историки указывают{296}на Карла Анжуйского, которого в таком случае можно считать «изобретателем» обычая изолировать кардиналов, избирающих папу.
В марте 1271 года произошло событие, которое испортило репутацию Карла (и без того весьма неоднозначную после казни Конрадина), хотя в данном случае он, судя по всему, не нес за случившееся никакой вины. Как сообщают летописи (в частности, «Хроника» англичанина Томаса Уайкса{297}), в момент, когда в Витербо находились как Карл I, так и Филипп III Французский, возвращавшийся из тунисского похода, в церкви Сан-Бьяджо было совершено жестокое убийство. Члены свиты короля Карла, Ги и Симон де Монфоры, напали прямо во время молитвы на Генриха Корнуэльского, который приходился племянником Генриху III Английскому, и несколькими ударами мечей убили его. Это был акт мести: в 1265 году Генрих участвовал на стороне короля в битве при Ившеме, в которой войско английских баронов, восставших против короны под предводительством Симона де Монфора-старшего, отца братьев, было разгромлено, а сам он убит, причем после битвы победители надругались над его телом.
Вот как, по сообщению одного из хронистов, отомстили Генриху сыновья де Монфора: «…У графа Ги был при себе отряд вооруженных всадников и пехотинцев, и он не удовольствовался совершением убийства… Он схватил Генриха за волосы и потащил его, мертвого, прежестоко прочь из церкви; а потом, совершив упомянутое святотатство и человекоубийство, уехал из Витербо и достиг целый и невредимый Мареммы на земле графа Россо, отца его жены… По этой причине Эдуард[148], став королем, никогда не проявлял дружественности ни к королю Карлу, ни к его подданным»{298}. Не исключено, что весть о громком преступлении, совершенном буквально в паре шагов от них, дошла и до запертых в епископском дворце участников конклава — и это вряд ли сделало Карла более популярным в их глазах, а значит, снизило шансы на избрание папой прелата, дружественного сицилийскому королю.
Лишь к концу лета 1271 года кардиналам удалось наконец найти приемлемую кандидатуру. Папой был избран Теобальдо Висконти, архидьякон Льежский, находившийся в тот момент на Ближнем Востоке, где он сопровождал в не слишком результативном крестовом походе[149] английского принца Эдуарда, будущего Эдуарда I. Висконти, принявший имя Григория X, до избрания папой не был кардиналом, но пользовался достаточно широкой известностью в церковных кругах. Он обладал немалым для своего времени кругозором, много путешествовал и большую часть жизни провел вне Италии. Это делало его компромиссной фигурой, не связанной ни с гвельфской, ни с гибеллинской партией. Кроме того, побывав на Востоке, новый понтифик проникся крестоносным духом, мечтая о восстановлении позиций христиан в Святой земле и возвращении Иерусалима. По мнению Григория X, для достижения этой цели следовало преодолеть раскол между латинянами и греками, восстановив единство христианской церкви. Это не сулило ничего хорошего Карлу Анжуйскому с его антивизантийскими устремлениями. Правда, первое свидание между папой и королем, который прибыл поприветствовать Григория X в январе 1272 года, сразу по его прибытии в Италию, было вполне дружелюбным. Но вскоре Карл смог убедиться, что новый папа — весьма крепкий орешек.
Крах унии
Тем временем Михаил VIII, утвердившись на константинопольском троне, стал искать пути к примирению с Западом — или по меньшей мере к поиску там сильных союзников. Поначалу он сделал ставку на Манфреда Сицилийского и даже вынашивал смелые матримониальные планы, намереваясь развестись с женой, императрицей Феодорой, и вступить в брак с сестрой Манфреда Анной, жившей в Византии вдовой бывшего никейского императора Иоанна Ватаца. Однако эта схема не вызвала восторга ни у советников Михаила, ни тем более у его супруги, ни, главное, у самого сицилийского короля. А после 1266 года, когда Манфред погиб, а на сицилийском троне утвердился Карл Анжуйский, ситуация и вовсе изменилась решительным образом.
Теперь наиболее действенным средством Палеологу казалась церковная уния с Римом, которая позволила бы ему избавиться в глазах католиков от клейма «схизматика» и тем самым обезопасить свое положение от вылазок изгнанных из Константинополя латинян. Надо заметить, что Климент IV идее унии с восточной церковью ничуть не противился. С одной стороны, он желал обрести славу восстановителя единства христиан, с другой — понемногу начинал опасаться чрезмерного усиления своего протеже — Карла. Византия в качестве противовеса честолюбивым устремлениям сицилийского короля выглядела вполне заманчиво. Однако Климент был неуступчив в вопросах теологии и церковной администрации. На переговорах с послами Палеолога папа «требовал не только согласиться с принятым на Западе толкованием учения о нисхождении Святого Духа и признать верховную власть Рима в вопросах веры, но и утвердить за папским престолом право разрешать споры о вероучении. Переговоры об унии зашли в тупик»{299}. После смерти Климента IV начался описанный выше долгий период sede vacante[150], во время которого, однако, византийская дипломатия не сидела сложа руки.
Зная о репутации Людовика IX не только как могущественного монарха, но и набожного христианина, Палеолог обратился к нему. На этот раз основной задачей Византии была попытка руками старшего Капетинга разрешить конфликт с младшим: «В начале 1270 года Михаил направил… послание королю Франции, объявляя в нем, что он сам, духовенство и народ готовы, во имя унии, безусловно подчиниться решению Людовика как арбитра в конфликте с Карлом… В июне 1270 года император отправил к Людовику представительное посольство — Иоанна Векка, хартофилакта собора Св. Софии, и Константина Мелитениота, архидьякона императорской церкви, с богатыми дарами… Лишь накануне смерти (24 августа) [Людовик] нашел в себе силы принять послов. Выразив горячую приверженность миру между его братом и Михаилом, он обещал способствовать этому, если выживет. Но его смерть, последовавшая [на следующий день], разрушила надежды Михаила»{300}. Новые надежды появились у василевса только после избрания на папский престол Григория X.
Этот понтифик продолжил линию своего предшественника, но более энергично и гибко. С одной стороны, он стремился держать открытой дверь к грекам, не прекращая переговоры с Палеологом об условиях церковной унии. С другой — папа Григорий был совсем не в восторге от дальнейшего усиления Карла Анжуйского и стремился выстроить в Италии, говоря сегодняшним языком, систему сдержек и противовесов. Именно поэтому, когда в 1273 году курфюрсты в Германии договорились об избрании новым «римским» королем графа Рудольфа Габсбургского, Григорий X немедленно поддержал нового монарха. Папа убедил Альфонса X, короля Кастилии, тоже претендовавшего на германский трон, отказаться от своих претензий, отверг протесты Пржемысла Отакара II, короля Чехии и главного соперника Рудольфа, и, наконец, сам «признал правомочия римского короля[151] не только в Германии, но и в Италии. Папа попытался заставить Карла отказаться в пользу Рудольфа от своего викариата[152] в Тоскане… Папско-имперское соглашение 1274 года было ясным напоминанием Карлу о том, что его не считают незаменимым»{301}. Происходило невиданное: папа вел, по сути дела, гибеллинскую политику!
Между тем в Константинополе кипели страсти. Михаил VIII ввязался в борьбу за унию, стоившую ему поддержки со стороны большей части православного духовенства и значительного числа светских подданных. Красноречие Палеолога, неоднократно выступавшего перед церковными иерархами Византии с речами в поддержку проекта церковной унии, на сей раз не имело успеха. Наиболее авторитетный греческий богослов того времени, хартофилакс Иоанн Векк (тот самый, что ездил в Тунис к умирающему Людовику IX), на церковном соборе осудил латинян как еретиков. Михаил в ярости приказал бросить Векка в тюрьму. Начались гонения на противников унии. Император ломал через колено византийскую церковь и общество: греки не были готовы к объединению с латинянами, тем более что условия такого объединения и с теологической, и с церковно-административной точки зрения представлялись куда более выгодными для Рима, чем для Константинополя. Вдобавок после событий 1204 года неприязнь и недоверие к западным «варварам» в византийском обществе оставались очень сильны, а возвращение Константинополя в 1261 году придало грекам уверенности в собственных силах. Ведь латиняне потерпели позорное поражение, что в средневековом общественном сознании не могло толковаться иначе как знак неприязни к ним Всевышнего — и наоборот, благосклонности небес к восточному христианству. Наконец, с чисто практической точки зрения православные иерархи опасались, что уния с Римом приведет к падению влияния константинопольского патриархата, который до сих пор «поддерживал престиж и влияние византийской цивилизации в Восточной Европе; он обеспечивал — и в основном успешно — лояльность славянских православных церквей Константинополю»{302}.
У императора Михаила, впрочем, были свои аргументы, носившие, правда, в основном политический характер. Позволю себе обширную цитату из исследования его царствования, которая исчерпывающим образом объясняет мотивы Палеолога: «Греческие авторы презрительно называли Палеолога латинопроном (пролатинянином). Конечно, его отношения с латинянами были более тесными, чем у его предшественников. Однако то, что антилатински настроенным современникам и православным ученым позднейших времен могло казаться уступчивостью по отношению к ненавистному врагу, сейчас скорее кажется частью умно просчитанной прогреческой политики, которая не может, во всяком случае без серьезных оговорок, быть названа латинопронской. Даже памятуя суровость наказаний, наложенных Палеологом на противников унии из числа греческих прелатов и монахов, чтобы добиться реализации унии, было бы опрометчивым говорить, будто он был сторонником скорее латинской веры, чем греческой. Догматические вопросы имели для него меньшее значение, чем выживание империи… Политика Михаила была просчитанным риском, и он полагал, что с помощью ловкой дипломатии сможет преодолеть возникавшие трудности — в отношениях как с папством, так и с собственным народом и клиром. С этой точки зрения его программу поддержки унии можно оценивать просто как продолжение в религиозной сфере его дипломатии в отношении латинян, направленной на сохранение своего трона и империи»{303}. К 1274 году Михаилу VIII удалось добиться временного успеха и заглушить самые откровенные проявления недовольства. Изрядно поразмыслив в тюрьме и помирившись с императором, перешел на сторону унии Иоанн Векк. Он составил богословское обоснование необходимости восстановления церковного единства и подготовил почву для отправки византийского посольства на западный церковный собор в Лионе. Наряду с этими усилиями василевс продолжал запугивать общество: жителей Константинополя заставляли приносить специальную присягу в духе унии; отказавшихся арестовывали или ссылали, в некоторых случаях подвергали пыткам. Такими методами Михаил сумел принудить греков к покорности. В конце июня 1274 года византийские представители прибыли в Лион, на собор, на котором председательствовал Григорий X. Была отслужена месса на двух языках, латинском и греческом, в знак объединения церквей. Наконец, 6 июля уния была формально провозглашена. «Было зачитано послание императора [Михаила], переведенное на латынь. Оно включало в себя символ веры — в том числе Filioque[153] — и содержало признание верховенства папы в церковных делах, сопровождавшееся лишь просьбой сохранить за византийской церковью… те ритуалы, которые не противоречили постановлениям экуменических соборов. Затем великий логофет[154] Георгий Акрополит принес клятву от имени императора»{304}.
Уния, однако, была сшита чересчур на живую нитку. Взаимное недоверие сторон сохранялось. Масла в огонь подливал и Карл Анжуйский, который, часто появляясь при папском дворе, прилагал все усилия для того, чтобы расстроить хрупкое согласие с греками. Впрочем, пока королю пришлось по прямому настоянию папы отложить поход на Константинополь, нарушив тем самым условия договора в Витербо, предполагавшего, что войско Карла выступит против Византии не позднее 1274 года. Отношения между Карлом и Григорием X были сложными: оба слишком по-разному смотрели на балканскую и ближневосточную политику. Если для папы главной стратегической целью был крестовый поход в Святую землю, если понадобится — с помощью греков, то для Карла путь в Иерусалим лежал через разгром Палеолога и возвращение Константинополя под власть латинян. В то же время папа и сицилийский король по-прежнему нуждались друг в друге: «Легитимность власти [Карла] в Regno основывалась на его положении папского вассала. Он не мог позволить себе разрыв со своим сюзереном. Григорий, удовлетворенный проявленной в 1275 году готовностью Карла принять крест[155], отчаянно пытался заручиться поддержкой последнего для [своих планируемых предприятий] в Утремере, где положение все более ухудшалось; кроме того, папа нуждался в союзниках и в Центральной Италии»{305}. С каким бы подозрением и неприязнью ни смотрели друг на друга король и понтифик, позволить себе полный разрыв они не могли.
Тем временем новообретенным греческим союзникам папы приходилось нелегко. Византийская делегация по возвращении из Лиона столкнулась с многочисленными обвинениями в свой адрес со стороны противников унии. Круг приверженцев объединения церквей по-прежнему ограничивался в основном придворными, чиновниками, частью высшей аристократии и зажиточных обитателей Константинополя, в той или иной мере связанных с Западом. В целом же общество отнеслось к заключенному соглашению крайне враждебно. Иоанн Векк, который в 1275 году был под давлением императора избран патриархом за свои заслуги в заключении и пропаганде унии, признавал: «Не только люди образованные, но даже женщины, их служанки, люди, ничего кроме земледелия и обычных занятий не знающие, считали нас чуть ли не злодеями и дерзко поносили тех, которые хотя бы осмелились намекнуть на унию»{306}.
Забегая вперед, отметим, что Лионская уния не продержалась и десятилетия. В 1281 году папа Мартин IV, близкий союзник Карла Анжуйского, обвинил Михаила Палеолога в несоблюдении условий церковного объединения (хотя заметная часть вины лежала на западной церкви, так и не продемонстрировавшей грекам в достаточной мере ни открытости, ни понимания) и отлучил василевса от церкви. Годом позже Михаил VIII умер, а его преемник Андроник II «торжественно провозгласил отказ от унии, патриаршую кафедру взамен низложенного Иоанна XI Векка снова занял Иосиф I»{307} (он был в свое время свергнут и сослан императором Михаилом за отказ поддержать унию). Раскол между западным и восточным христианством сохранялся до середины XV века, когда в последние годы существования Византии была предпринята новая попытка объединения — Флорентийская уния (1439). Она, впрочем, тоже не была признана большинством православных священнослужителей и верующих и, как и Лионская, оказалась мертворожденной.
Рассматривая эту ситуацию ретроспективно, трудно оценивать ее иначе как большую историческую трагедию. Корни ее лежали в разгроме крестоносцами Константинополя в 1204 году и полувековом существовании Латинской империи, которое окончательно утвердило в сознании византийцев образ латинян как брутальных и коварных врагов. Даже Михаил VIII, вроде бы стремившийся расширять не только церковные, но и политические, и экономические контакты с Западом, всегда держал это в уме: «Назначение латинян командующими императорскими флотами и армиями, передача им земель в феод (пронию) и даже их принятие в ряды византийской знати показывают значительную степень западного влияния в Византии в правление Михаила. Тем не менее можно с уверенностью сказать, что… привлечение людей Запада на императорскую службу имело своей конечной целью защиту Греческой империи от западной агрессии»{308}. 1261 год не перечеркнул 1204-й, а 1274_й, год Лионской унии, не «отменил» последствия этих двух.
На теологические расхождения, значения которых для людей Средневековья никак не следует преуменьшать, накладывались политические и экономические противоречия — от борьбы Византии и «франкских» государей за земли и влияние на Балканах до конкуренции между греческими и итальянскими купцами. Небезосновательные опасения православных церковников относительно упадка Константинопольского патриархата, которым могла обернуться уния, сочетались с взаимными культурными предрассудками и стереотипами, мешавшими примирению. Именно события XIII века укрепили во многих византийцах такое отношение к Западу, которое позднее, в XV столетии, накануне окончательного падения того, что еще оставалось от Восточной Римской империи, нашло свое выражение в самоубийственном лозунге «Лучше турецкая чалма, чем папская тиара».
В исторической перспективе это означало, что запад и восток христианского мира остаются разъединенными перед лицом стремительно набиравшего силу мусульманского государства, основанного в Малой Азии одним из турецких эмиров — Османом. Превратившись в XIV — начале XV в. в мощную империю, эта держава стала не только могильщицей Византии, но и несколько столетий представляла собой головную боль всей Европы, в первую очередь Восточной и Юго-восточной. Борьба с натиском Османской империи обернулась сотнями тысяч, если не миллионами жертв с обеих сторон, опустошением в результате многочисленных войн обширных регионов — от Адрианополя до Буды и предместий Вены. Именно под Веной в 1683 году османское наступление было остановлено окончательно и сменилось новым постепенным проникновением христианских держав на Балканы. Как знать, не удалось бы избежать всего этого, если бы в XIII веке Рим и Константинополь не оказались столь непримиримыми.
Лев и Змей
Противостояние Карла Анжуйского и Михаила Палеолога было одним из главных факторов, воспрепятствовавших попыткам церковного объединения. Хотя поход на Константинополь Карлу пришлось отложить, боевые действия на Балканах велись довольно активно. Если, подобно средневековым хронистам, прибегнуть к метафорическому языку, то многолетнюю борьбу сицилийского короля и византийского василевса можно сравнить с поединком льва и змея. Карл действовал относительно прямолинейно, полагаясь прежде всего на силу оружия и лишь во вторую очередь — на дипломатическое искусство. Михаил был более изворотлив и пытался не только нанести противнику поражение на поле битвы, но и ослабить его позиции с помощью дипломатических ухищрений и заговоров. В конце концов ему это удалось — «Сицилийская вечерня», как мы увидим, хоть и стала спонтанным массовым выступлением против власти Анжуйского дома, однако почва для нее была подготовлена не в последнюю очередь византийскими интригами и деньгами. Впрочем, всех последствий этого Палеолог, скончавшийся в декабре 1282 года, уже не увидел.
Предыдущее десятилетие, однако, протекало на Балканах под знаком почти непрерывных столкновений между войсками возрожденной Византии и силами Карла Анжуйского и его союзников. Одновременно шли войны между местными государями, которые из тактических соображений вставали в конфликте сицилийского короля и византийского императора то на одну, то на другую сторону. Так, Эпирское царство, чей правитель Михаил II скончался в 1268 году[156], было ослаблено распрей между двумя его сыновьями — законным наследником Никифором и бастардом Иоанном, правившим Фессалией. Карл воспользовался ситуацией и занялся расширением своих владений в Албании за счет эпирцев. В 1271 году он занял Дураццо (или Диррахий, ныне Дуррес) и при поддержке части местных феодалов и горожан, встревоженных угрозой со стороны усилившегося Сербского королевства, был в начале следующего года провозглашен королем Албании{309}. Фактически власть Карла в этой неспокойной горной стране была непрочной, а в 1277 году Византия начала контрнаступление, отбив большую часть занятых ранее анжуйцами территорий. Дураццо и окрестности, впрочем, Анжуйский дом удерживал до 1368 года (с перерывом в 1294_1304 годах, когда город находился под контролем византийцев). Название «Дураццо» надолго вошло в генеалогию династии, основанной Карлом: титул «герцога Дураццо» стал наследственным в одной из младших ветвей рода[157]. В «анжуйской» Албании постепенно сложилось специфические мультикультурное общество, о чем, в частности, есть упоминания в записях двух ирландских монахов — Симона и Гуго, которые останавливались в Дурресе в 1322 году по пути в Иерусалим. Они отмечали, что город «населен латинянами, греками, коварными евреями и дикими албанцами»{310}.
Албания, как и большая часть земель на Балканах, над которыми ему удалось установить контроль в 1270-е — начале 1280-х годов, имела для Карла I главным образом стратегическое значение. В остальном королю «его балканские владения принесли немного. Доходов с них едва хватало на содержание администрации»{311}. К тому же Карл придерживался на Балканах той же линии, что и в других своих владениях: не доверяя местной знати, он посылал туда в качестве войсковых командиров и гражданских администраторов своих доверенных лиц из числа французов или провансальцев, реже — итальянцев. Так, королевским наместником в Албании в 1272 году стал неаполитанец Гаццо Кинардо, а семью годами позже вся высшая военная и гражданская власть в Албании и на Корфу была по распоряжению короля сосредоточена в руках одного из близких сподвижников Карла, француза Гуго де Сюлли по прозвищу Le Rousseau — «Рыжий». Такая политика, которую Джин Дюнбабен с некоторой натяжкой называет «имперской администрацией», в рамках которой «люди, рожденные и воспитанные в одном владении, использовались для управления другим»{312}, могла быть эффективной лишь в краткосрочной перспективе. С течением времени она неизбежно приводила к трениям между анжуйскими администраторами и местным населением, прежде всего землевладельческой элитой. Это аукнулось Карлу на Сицилии и привело к ряду проблем и на Балканах, где к началу 1280-х годов часть влиятельных албанских родов, недовольных действиями Кинардо, де Сюлли и их подчиненных, стала склоняться к союзу с византийцами.
Балканская ситуация в целом, однако, была столь запутанной и переменчивой, что, помимо не стихающей вражды анжуйского «Льва» и константинопольского «Змея», в ней почти не существовало каких-либо постоянных факторов. Союзы заключались и распадались в зависимости от сиюминутных интересов и расстановки сил на данный момент. Так, Иоанн Дука Фессалийский, враждовавший со своим братом Никифором I Эпирским, в 1272 году выдал свою дочь за племянника Михаила VIII, заключил с константинопольским василевсом союз и получил от него почетный титул севастократора[158]. Это не помешало ему вступить в союз с франкскими государями Балкан, в частности герцогом Афинским, в 1275 году нанести армии Палеолога болезненное поражение, а затем, временно помирившись с братом, договориться о союзе против Византии с Эпиром, Сербией, Болгарией и, наконец, с Карлом Анжуйским. В то же время в религиозной политике Иоанн придерживался ортодоксальной линии, резко осуждал унию с Римом и даже собрал в 1277 году собственный церковный собор с участием монахов с горы Афон. На этом соборе Михаил VIII, патриарх Иоанн Векк и римский папа были преданы анафеме.
Карл Анжуйский чувствовал себя посреди этих политических хитросплетений довольно уверенно. Убедившись к середине 1270-х годов в том, что победить Палеолога в одиночку будет, судя по всему, невозможно, король начал выстраивать мощную антивизантийскую коалицию. К участию в ней Карл решил привлечь правителей Сербии, Болгарии и Венгрии, с тем чтобы раздавить Византию, одновременно обрушившись на нее с запада и севера. Как отмечает Димитрий Оболенский, «правители [этих государств], и пальцем не шевельнувшие, чтобы помочь Византии, когда на нее напали крестоносцы, оказались очень даже готовы присоединиться к коалиции, организованной против Михаила VIII Карлом Анжуйским»{313}. В случае с Венгрией дело не ограничилось тактическим союзом. Карл договорился с королем этой страны Белой IV о двойном браке: его младшая дочь Елизавета вышла замуж за внука Белы — принца Ласло (будущего Ласло IV Кумана[159]), а старший сын и наследник сицилийского короля Карл (будущий Карл II Хромой) взял в жены сестру Ласло, Марию.
Если первый из этих браков остался бездетным, то второй положил начало венгерской линии Анжуйского дома, представители которой правили в XIV веке Венгрией и Польшей. Оба брака были заключены в 1269–1270 годах, когда все четыре королевских отпрыска были еще детьми. С политической точки зрения, однако, союз с Венгрией не принес Карлу I тех немедленных плодов, которые от него ожидались. Междоусобицы, охватившие страну в правление Ласло IV, вступившего на престол несовершеннолетним, не позволили Венгрии принять заметное участие в действиях против Михаила VIII. Те же проблемы были и с Сербией: ее король Стефан Урош враждовал с собственным сыном Стефаном Драгутином; вдобавок он конфликтовал с Венгрией. Однако в 1276 году Драгутин одержал победу и сверг отца, заняв трон. Это сыграло на руку Карлу Анжуйскому, поскольку новый король был последовательным противником Палеолога{314}.
Тем временем из Рима начали одна за другой поступать новости о переменах на папском троне. После того как в начале 1276 года скончался неуступчивый Григорий X, кардиналы, наученные горьким опытом конклава 1268–1271 годов, быстро избрали его преемника, савойского кардинала, ставшего Иннокентием V. Но тут вмешались высшие силы, и в течение 1276 года на папском престоле сменилось четыре понтифика. Папа Иннокентий правил пять месяцев и умер от болезней; его преемник Адриан V продержался лишь месяц, скончавшись от лихорадки; португальский кардинал, вступивший затем на престол под именем Иоанна XXI, протянул восемь месяцев, пока не погиб, наверное, самой странной смертью, которой когда-либо доводилось умирать римскому первосвященнику: на него рухнул потолок в одном из папских покоев. Через полгода, в ноябре 1277 года, новым понтификом был избран представитель одного из самых знатных римских родов — Джованни Гаэтано Орсини, принявший имя Николая III. Ему было суждено занимать престол св. Петра несколько дольше, чем трем его предшественникам. Папа Орсини был умным и весьма образованным человеком, правда грешившим непотизмом — он тут же принялся раздавать своим родственникам хлебные придворные должности. Для Карла Анжуйского, однако, опасность представляли политические планы папы Николая. Новый глава католической церкви, как и Григорий X, склонялся к укреплению Лионской унии, а значит, был склонен к дальнейшим переговорам с Михаилом VIII. Это крайне тревожило сицилийского короля, часто бывавшего в эти месяцы при папском дворе.
Николай III, в свою очередь, опасался могущества Карла, однажды — эти слова приводит хронист Гийом де Нанжи — заметив по адресу короля Сицилии: «Других мы можем уничтожить, но не его»{315}. Именно поэтому папа стремился использовать в качестве противовесов Карлу Анжуйскому как византийцев, так и короля Германии Рудольфа Габсбурга, мечтавшего о коронации императорской короной. С последним, однако, Карлу удалось договориться, полюбовно разрешив спор, возникший между ними по поводу Прованса и его отношений с императорской властью: «Рудольф признал Карла в качестве графа Прованского, но получил от него оммаж за это графство. Королевство Арелат[160] было реорганизовано, видимо без Прованса, и должно было достаться старшему сыну Карла, Карлу Салернскому, которому надлежало владеть им до тех пор, пока Карл Мартелл[161] и Клеменция не достигнут подходящего возраста»{316}.
Таким образом, в целом обстановка в конце 1270-х годов, казалось, вновь начала благоприятствовать Карлу. В 1278 году умер Гийом де Виллардуэн, князь Ахейский (Морейский). К тому времени Филиппа, младшего сына Карла I и мужа единственной дочери Гийома — Изабеллы, тоже не было в живых: он скончался годом раньше от какой-то болезни; детей у Филиппа и Изабеллы не было. Таким образом, вступил в силу один из пунктов соглашения, заключенного в Витербо, и Карл стал наследником Гийома, прибавив к своим титулам еще один — князя Морейского. Это усилило его позиции на Балканах.
Король с присущим ему педантизмом занялся переброской войск и необходимых запасов на будущий театр боевых действий. Командующим армией на Балканах был, как уже говорилось, в 1279 году был назначен близкий соратник Карла Гуго де Сюлли. Он намеревался наступать вдоль Via Egnatia (Эгнатиевой дороги), построенной еще римлянами во II веке; она вела от Дураццо через всю южную часть Балканского полуострова к Константинополю. Важной задачей, однако, было взятие города Берата, находившегося в руках византийцев. Он представлял собой «ключ к Via Egnatia и всей Македонии»{317}. Учитывая, что значительная часть Греции уже находилась в руках Карла и его союзников, падение Берата открывало дорогу на Константинополь.
На исходе лета 1280 года Сюлли повел на Берат армию, насчитывавшую 2 тысячи рыцарей и около б тысяч пеших воинов. Узнав об этом, Михаил VIII направил в этот район крупное войско, которое возглавили один из лучших византийских полководцев, великий доместик[162] Михаил Тарханиот, и зять императора Михаил Комнин Дука. К началу зимы анжуйцы захватили ряд небольших крепостей в окрестностях Берата и проникли на его окраины, но сам город держался. Карл бомбардировал Сюлли письмами, требуя взять Берат до подхода византийской армии. Сделать этого не удалось, и к началу весны 1281 года войско Тарханиота встало лагерем у реки Осум. По ней греки на плотах стали переправлять провизию и оружие осажденным, что заметно улучшило положение гарнизона{318}. В то же время ввязываться в генеральное сражение византийцы не решались.
Им помог случай. В один из дней, готовясь дать грекам бой, Сюлли с небольшой свитой выехал из лагеря, чтобы лично провести рекогносцировку местности. То ли разведка у «франков» была поставлена не лучшим образом, то ли их командующий повел себя чересчур самонадеянно — как бы то ни было, они подъехали слишком близко к позициям противника. Турецкие наемники на службе византийцев, увидев добычу, ринулись на рыцарей, у которых не было шансов из-за численного перевеса врагов. Большая часть свиты Сюлли погибла, остальные бежали, сам же незадачливый полководец, под которым убили коня, был взят в плен. (Позднее Палеолог в соответствии с римской традицией устроил в Константинополе триумфальное шествие в честь победы при Берате, и Гуго де Сюлли провели в нем в качестве главного трофея.) При известии о пленении их командующего латинян охватила паника, они начали в беспорядке отступать — и, увидев это, Тарханиот повел своих воинов в атаку. Разгром был полный, уцелела лишь небольшая часть анжуйской армии. Со времен битвы при Пелагонии Михаил VIII не одерживал столь решительной победы. План сухопутного наступления на Константинополь, разработанный Карлом I, был сорван. В церквях византийской столицы греки возносили благодарственные молитвы.
Этот разгром не отвратил сицилийского короля от конечной цели — завоевания Константинополя. «Как ему и было свойственно, неудача заставила Карла изменить планы, но не отказаться от них»{319}. Уже летом 1281 года в Орвьето, городке на полпути между Римом и Флоренцией, в папском дворце король заключил договор с Венецией и своим зятем, титулярным константинопольским императором Филиппом де Куртенэ[163]. По условиям этого соглашения, Карл и Филипп (последний — скорее формально, поскольку средств у него практически не было) должны были выставить 8-тысячное войско для похода на Константинополь и переправить его к берегам Босфора морским путем. Венецианцы обязались предоставить для этой цели 40 галер. Филипп де Куртенэ, дож Венеции Джованни Дандол[164] и Карл I пообещали лично принять участие в походе — для Карла, впрочем, была сделана оговорка: вместо него мог отправиться Карл Салернский, его последний остававшийся в живых сын.
Отплыть предполагалось из Бриндизи на крайнем юго-востоке Италии не позднее апреля 1283 года. Интересно, что в качестве одного из условий договора указывалось сохранение унии западной и восточной церквей — правда, на условиях, исключительно выгодных для Рима. Неудивительно, что вскоре после подписания договора в Орвьето новый папа Мартин IV объявил об отлучении Михаила VIII от церкви: унию теперь предполагалось навязать грекам силой. Мартин, в миру Симон де Брион, был первым французом на папском престоле со времен Климента IV. Его избрание в феврале 1281 года Карл Анжуйский мог считать своей несомненной удачей: новый понтифик был всей душой предан Капетингам и во многом стал послушным орудием в руках как Франции, так и сицилийского короля, тем более что Филипп III и Карл I действовали в полном согласии. Кончилась долгая эпоха, на протяжении которой Карл, оставаясь вассалом папы и на первый взгляд бесспорным и лояльным Риму лидером гвельфской партии, в действительности вел с папской курией напряженную дипломатическую игру, в которой победы чередовались с поражениями.
Карл надеялся, что уже через несколько месяцев, от силы через пару лет, Константинополь превратится для него из миража в реальность. В действительности, однако, он стоял на пороге самого крупного поражения в своей жизни. Змей перехитрил Льва и ударил сзади, там, где тот меньше всего ожидал атаки.
ГЛАВА VI. Колесо Фортуны: вниз
Двойной славы добьется тот, кто создаст государство и упрочит его хорошими законами, хорошими союзниками, хорошим войском и хорошими примерами, так же как вдвойне опозорит себя тот, кто, являясь государем, из-за недостатка мудрости потеряет власть.
Никколо МакиавеллиКартина шестая. Арагонская корона
В КОНЦЕ лета 1134 года Альфонсо I, король Арагона, небольшого государства на северо-востоке Пиренейского (Иберийского) полуострова, осаждал пограничную крепость Фрага. Это была одна из многочисленных войн с арабами, контролировавшими тогда большую часть полуострова, которые вел этот храбрый и воинственный король, полностью заслуживший свое прозвище — Воитель. Сарацины на сей раз оказывали особенно упорное сопротивление. Альфонсо, видимо, не рассчитал силы — штурм был отбит, арагонцы начали отступать, и король лично возглавил арьергард, отбиваясь от наседавших врагов. В бою он был ранен, его успели довезти до монастыря Сан-Хуан-де-ла-Пенья, и там в ночь на 8 сентября Альфонсо Воитель скончался.
Не имея детей и десятилетиями ведя жизнь воина-аскета, Альфонсо завещал свое королевство двум рыцарским орденам — тамплиерам и госпитальерам. Но воля короля выполнена не была. Владетельные сеньоры и рыцарство, собравшись в городке Хака, после некоторых препирательств избрали на трон младшего брата Альфонсо — Рамиро II, прозванного Монахом. Он, собственно, монахом-бенедиктинцем и был, и потому не фигурировал в завещании брата в качестве наследника{320}.
Поскольку арагонская династия оказалась на грани вымирания, 60-летний новый король добился в Риме разрешения сложить с себя монашеские обеты и женился на Агнессе, дочери Гийома Трубадура[165], герцога Аквитанского, и вдове одного из окситанских вельмож. Невесту выбрали специально из уже рожавших женщин, дабы больше была вероятность того, что брак Рамиро II принесет потомство. Так и случилось: летом 1136 года у королевской четы родилась дочь Петронилла. К тому времени Рамиро жестко усмирил недовольных вельмож[166], а годом позже, не прельстившись ни властью, ни браком, вновь удалился в монастырь, оставив трон малолетней дочери. Петрониллу в младенческом возрасте обручили со вполне уже взрослым Раймундом (Рамоном) Беренгером IV, графом Барселонским, который, пока невеста подрастала, был регентом королевства. Этот брак положил начало правлению Барселонского дома[167]. Первым его представителем на арагонском троне стал Альфонсо II, сын Петрониллы и Раймунда Беренгера[168].
В истории нередко бывает так, что острый кризис, пережитый обществом, дает старт многолетнему подъему и расцвету. Именно это произошло в середине XII века с Арагоном, чья правящая династия тогда едва не прервалась, а само королевство оказалось на грани краха. Это государство, сшитое, как из лоскутов, из целого ряда небольших пиренейских и приморских княжеств, в X–XII веках непрерывно расширяло свои пределы. К середине XII столетия относится не только воцарение в Арагоне Барселонского дома, но и провал планов соседней Кастилии объединить вокруг себя христианские государства Иберийского полуострова, начавшие теснить своего главного противника, арабов, на юг. Альфонсо VII, король Леона и Кастилии, принял в 1135 году титул «императора всея Испании» (Iтperator Totus Hispaniae), но признания своего первенства со стороны Арагона и другого небольшого северного королевства, Наварры, так и не добился. Да и Португалия не стремилась под скипетр новоявленного кесаря. В силу этого, а также потому, что перед смертью Альфонсо VII разделил свои владения между сыновьями, «Испанская империя» до поры до времени осталась лишь историческим эпизодом. Некоторые современные историки до сих пор упрекают в этом Альфонсо VII, обвиняя его в том, что он «принес судьбу Испании в жертву собственному тщеславию… Результатом его политики стал раскол между христианскими государствами как следствие попытки укрепить на всем полуострове приходящий в упадок феодальный строй»[169]. В результате «Кастилии и Леону для нового объединения понадобилось почти сто лет (1230); Наварра и Арагон также остались разделенными, причем Наварра воссоединилась с остальными государствами полуострова только при Фердинанде II Католике (1515)»{321}.
«Сращивание» испанских регионов, впрочем, оказалось делом непростым и много позднее, в XV–XVII веках, когда большая часть государств, возникших в Средние века на Пиренейском полуострове, наконец объединилась под властью одной династии. Что же касается XII–XIII столетий, то тогда казалось, что пути Кастилии и Арагона расходятся все дальше. Укрепившись на средиземноморском побережье и в восточной части Пиренеев, королевство вступило в фазу бурного экономического развития и относительной политической стабильности, породивших любопытный феномен истории юга Европы — владения Арагонской короны, иногда называемые «Арагонской империей». Характерной особенностью Арагонской короны под властью Барселонского дома была именно «лоскутность», децентрализованность, которая сохранялась на протяжении всего периода существования этого необычного государства, одно время распространявшего свою власть на большинство островов Средиземноморья и даже на часть Греции. Автора этих строк, немало лет занимавшегося историей Центральной и Восточной Европы, так и тянет назвать Арагонскую корону «Габсбургской империей Западного Средиземноморья». Хотя эта аналогия очень уж широка и отдает анахронизмом, общим для обеих держав было стремление верховной власти поддерживать баланс политических сил и экономических интересов разных частей этих «сложносочиненных» государственных образований.
Брак королевы Петрониллы и графа Раймунда Беренгера IV соединил под властью Барселонского дома весьма непохожие регионы — собственно Арагон, находящийся в предгорьях Пиренеев, и лежавшее на побережье графство Барселонское, ядро современной Каталонии. Как отмечает Норман Дэвис, в Арагоне «никогда не было ни значительных поселений арабов, ни существенного франкского влияния, характерного для Каталонии… Арагон был невелик и беден. В отличие от Кастилии, он не мог собирать большие армии, и, хотя тамошнее общество было свободно от большинства феодальных повинностей, оно не располагало ни коммерческим потенциалом Каталонии, ни ее контактами с внешним миром. Таким образом, Арагон мог удовлетворить своих клиентов и партнеров, только предоставив им значительную степень автономии. В отличие от традиций, существовавших в Кастилии, «арагонизм» означал уважение к местным законам и некоторую отстраненность центральной власти»{322}.
Рамиро II мог «изготовить» свой жуткий «колокол Уэски», а испуганные бароны могли после этого смириться с прерогативами короны, но это не означало, что королевская власть в Арагоне стала деспотической, а права сословий были попраны. Напротив, из десятилетия в десятилетие, из века в век эти права подтверждались, сословные прерогативы сохранялись, однако при этом — в отличие, скажем, от Речи Посполитой в XVII–XVIII веках, — власть монарха не превращалась в фикцию, а королевская казна пополнялась положенными ей разумными по величине налогами. Так и получилось, что «в период между концом XIII и концом XIV столетия страна с населением менее полумиллиона человек завоевала и организовала заморскую империю, создав как дома, так и в своих средиземноморских владениях политическую систему, в рамках которой свобода и порядок уникально гармонично уравновешивали друг друга»{323}. Нас интересует самое начало этого процесса, связанное с борьбой Барселонского и Анжуйского домов за Сицилию и, шире, — за влияние в Средиземноморье.
Арагонским королям, как и французским Капетингам, повезло в том, что на протяжении двух с половиной столетий — десяти поколений — трон переходил в их роду от отца к сыну или от брата к брату без крупных междоусобиц или (за единственным исключением) долгих регентств при малолетних королях, как это было, например, в соседней Кастилии. Более того, большинство представителей Барселонского дома оказались весьма способными правителями, что зачастую дополнялось полководческим талантом. Большую часть XIII столетия (с 1213 по 1276 год) королем-графом был Хайме I, прозванный Завоевателем — при нем к владениям Арагонской короны были присоединены Балеарские острова и Валенсия. В самом начале его долгого правления, в I216 году, состоялся совместный съезд рыцарских сословий Арагона и Каталонии в Ллейде. Он считается точкой отсчета парламентской традиции земель Арагонской короны: с этого момента сословные собрания (кортесы) проводились в каждом из владений арагонского короля регулярно. В результате «дворянство приобрело сильное чувство взаимной солидарности и равенства со своими правителями…[170] Как заметил позднее Педро IV, “разъединить дворян Арагона столь же трудно, как объединить дворян Кастилии”»{324}. В свою очередь, королевская власть, нередко конфликтовавшая с местными феодалами, все чаще опиралась в этой борьбе на помощь быстро богатевшей Барселоны и других торговых городов, а также специфического слоя «рыцарей-наемников» (caballeros de mesnada), которые причислялись к благородному сословию королевским патентом; родовитые феодалы смотрели на этих «выскочек» свысока, те платили им той же монетой{325}.
Король Хайме решал политические вопросы не только огнем и мечом (военные средства он использовал в основном против традиционного врага — арабов), но и с помощью дипломатии, которую предпочитал в отношениях с христианскими соседями. Так, Хайме не стал ввязываться в войну из-за Наварры, хотя тамошний бездетный король Санчо VII предпочитал видеть своим наследником именно его, а не собственного племянника, графа Тибо Шампанского — того самого, который посвящал куртуазную лирику вдовствующей королеве Франции Бланке (см. главу I). Но наваррские бароны поддержали Тибо, и Хайме благоразумно уступил. Зато он преуспел в многолетней тяжбе с Францией, добившись в 1258 году от Людовика IX отказа от французских притязаний на Каталонию, уходивших корнями еще в каролингскую эпоху. Ранее, в 1244-м, арагонский король заключил соглашение с Альфонсо X Кастильским — стороны договорились о разграничении владений двух королевств в Мурсии, провинции, которую они совместными усилиями отвоевывали у арабов. Договор этот, правда, не раз нарушался, в основном кастильцами.
Хайме I был многодетным отцом, причем его потомство от внебрачных связей было едва ли не столь же многочисленным, как и от трех официальных браков[171]. Отношения между детьми короля, прежде всего отпрысками его второй жены, Иоланты Венгерской, и незаконнорожденными сыновьями Ферраном (Фернандо) Санчесом и Педро Фернандесом, были напряженными. В 1269 году Ферран и Педро приняли участие в военной экспедиции в Святую землю, не ставшей, впрочем, полномасштабным крестовым походом. На обратном пути братья остановились на Сицилии, и там Ферран был возведен в рыцари Карлом Анжуйским{326}. Карл рассчитывал на помощь Феррана в своих военных предприятиях: арагонский принц обещал явиться в распоряжение сицилийского короля с 40 рыцарями и го конными лучниками и служить Карлу на протяжении года — в обмен на солидную сумму в 8 тысяч турских ливров{327}. Обещания своего Ферран Санчес, известный вероломством, не выполнил, однако своими связями с Карлом I навлек на себя гнев наследного принца Педро (будущего Педро III), женатого на Констанции, дочери Манфреда Гогенштауфена, и потому враждебно настроенного к Карлу[172]. Этот эпизод стал предвестием конфликта, вспыхнувшего между двумя династиями 13 лет спустя, когда Педро уже был королем. Ссора между братьями имела трагический конец. Ферран, известный своим непокорством и склонностью к интригам, примкнул к заговору ряда баронов против Хайме I. Старый король отправил против бунтовщиков старшего сына; Педро пленил Феррана и убил его — судя по всему, с согласия отца, рассерженного коварством своего незаконного отпрыска{328}.
В 1276 году, незадолго до смерти, будучи уже тяжело больным, король Хайме отрекся от престола в пользу Педро III. Тому, однако, достались не все владения отца: Балеарские острова и графства Руссильон и Сер-данья на материке получил младший сын, Хайме II, чьи владения были объединены в королевство Майорка[173]. Как отмечает Генри Дж. Чейтор, «смерть Хайме означала конец эпохи. С новым правлением начался иной период во внутренней и внешней политике [Арагонской короны]. В ходе борьбы короля с дворянством были выработаны основы постоянного политического устройства. В рамках самой Испании были достигнуты границы внешней экспансии [Арагонской короны], войны с маврами достигли своей цели. Связь с Сицилией ввела Арагон в мир европейской политики, и его влияние в Средиземноморье стало непрерывно расти»{329}. Именно в этом заключались достижения Педро III, которые принесли ему в истории прозвище «Великого».
Арагонская корона: хронология
760 — Каролинги основывают «Испанскую марку» (Мarсa Hispanica) на землях, прилегающих к Пиренеям, для противостояния арабам.
X–XI века — формирование полутора десятков практически независимых графств на землях «Испанской марки».
1005–1035 — правление Санчо Великого («короля Памплоны»), объединившего большую часть пиренейских территорий под своей властью.
1035–1063 — правление Рамиро I, первого короля Арагона.
1089–1090 — папа Урбан II объявляет Арагон и графство Барселонское протекторатами («подзащитными территориями») римско-католической церкви.
1104–1134 — правление Альфонсо I Воителя. Расширение территории Арагона.
1118 — разгром Сарагосского эмирата, переход Сарагосы под власть Арагона.
1134 — гибель Альфонсо Воителя, династический кризис.
1134–1137 — правление Рамиро II Монаха.
1137 — помолвка Рамона Беренгера IV, графа Барселонского, и малолетней Петрониллы, дочери Рамиро II. Фактическое начало правления Барселонского дома в Арагоне.
1205 — Педро 11 Арагонский признает папу своим сюзереном. Коронация Педро Иннокентием III.
1213 — гибель Педро II в битве с крестоносным войском Симона де Монфора-старшего при Мюре в окрестностях Тулузы.
1213–1276 — правление Хайме I Завоевателя.
1221–1227 — междоусобные войны между королем и баронами в Арагоне.
1234 — король Хайме отказывается от наследства в графстве Шампанском в пользу графа Тибо IV.
1229–1235 — покорение арагонскими войсками Балеарских островов.
1244 — договор между Арагоном и Кастилией о разделе сфер влияния и экспансии на юге Испании.
1258 — договор в Корбейле между Арагоном и Францией; окончательный отказ французской короны от претензий на сюзеренитет над Арагоном.
1265–1275 — конфликты между законными и незаконнорожденными детьми Хайме I.
1269 — король Хайме отказывается от участия в крестовом походе в Святую землю.
1276 — отречение короля Хайме в пользу старшего сына, Педро III.
Анжуйский режим
Мы не знаем, сколько часов в день обычно спал Карл Анжуйский, но можно предположить, что немного. Архив королевской канцелярии, дошедший до наших дней, далеко не полон[174], однако и то, что сохранилось, если говорить об эпохе Карла I, — впечатляюще обширный массив документов, посвященных самым разным аспектам государственного управления. Они демонстрируют необычайно активное участие короля в работе административного механизма. Карл был трудолюбивым и педантичным монархом, вникавшим во многие детали, которые иным показались бы несущественными. В его северных владениях, Анжу и Провансе, для поддержания стабильности достаточно оказалось подобрать верных и послушных чиновников и осуществлять за ними регулярный контроль: после усмирения мятежей баронов и волнений марсельских горожан в конце 1250-х годов крупных выступлений против власти Карла как графа Прованского не наблюдалось. А вот ситуация в Сицилийском королевстве с самого начала была куда более сложной.
Начнем с того, что Карл I был королем-должником. Придя к власти в результате военной экспедиции, деньги на которую предоставила главным образом церковь, он должен был с самого начала думать о возврате долгов. А это означало, что, в отличие от других монархов, в том числе от своего предшественника Манфреда, Карл не мог начать правление с финансовых послаблений — испытанного способа снискания популярности. Наоборот, уже в декабре 1266 года он объявил о взимании всеобщего налога — subventio generalis, что вызвало немалое недовольство: ведь всего за год до этого аналогичный налог собрал Манфред — как раз на борьбу с Карлом. Сама же эта подать «была изобретена Фридрихом II в 1223 году Для чрезвычайных случаев и позднее была осуждена церковью как тираническая — после того, как ее взимание стало ежегодным»{330}. Королевство было разделено на 11 округов, во главе каждого из которых Карл поставил специального чиновника — юстициара, ответственного как за правосудие, так и за взимание налогов. Обложению subventio generalis подлежали все жители Regno, за исключением рыцарей (они «расплачивались» с королем военной службой), большей части чиновничества, студентов университета и беднейших подданных. Кроме того, в первые годы правления королевская казна активно брала в долг у банкиров Неаполя и Бари и зажиточных горожан — многие из этих кредитов выдавались под давлением со стороны «государевых людей». Это было не лучшее начало царствования.
Суровость налогообложения сохранялась и в дальнейшем — ее принято считать одной из причин «Сицилийской вечерни», этой, по выражению Уильяма А. Перси, «самой ранней революции против “современного государства”»[175]. Вот пример того, как анжуйский режим, стремясь выжать из подданных побольше денег, не обращал внимания на возникавшие дисбалансы. В 1277 году остров Сицилия был обложен налогом в размере 15 тысяч унций золота, причем распределены они были поровну между округами citra Salsum (то есть к востоку от реки Сальсо) и ultra Salsum (к западу от нее). Собрать всю сумму не удалось: сохранившаяся отчетность говорит, что власти не добрали более 350 унций. Но интереснее другое: шесть лет спустя, в первый год после «вечерни», воцарившийся Педро III увеличил общее налоговое бремя острова, определив его в 20 тысяч унций, однако разделил их неравномерно: 12 тысяч с восточной части Сицилии и лишь 8 тысяч — с западной{331}.[176] Можно предположить, что новые власти приняли во внимание произошедшее за последние десятилетия перемещение населения с запада на восток острова (об этой перемене есть и другие косвенные свидетельства). В силу близости к континенту восточные районы Сицилии стали более экономически развитыми и густонаселенными. Если учесть, что «вечерня», как мы увидим, началась в Палермо, старой столице Сицилии, находящейся в ее западной части, можно предположить, что недовольство местных жителей подогревалось налоговым бременем, которое ложилось на них сильнее, чем на их соседей в восточной части острова и на материке.
Другой важнейшей проблемой, которую пришлось решать Карлу Анжуйскому, стали отношения с местной элитой. Как уже отмечалось в главе IV, бароны Regno не были безмерно преданы дому Гогенштауфенов. После битвы при Беневенто большинство из них поспешило выразить лояльность новому государю. Карл тоже постарался показать себя с лучшей стороны — как монарх милосердный и снисходительный. Представители знатнейших фамилий Неаполя, Калабрии, Апулии и Сицилии были приглашены ко двору, многие из них получили щедрые дары и почетные должности. Правда, в целом Карл оставался государем довольно прижимистым, причиной чему была описанная выше ограниченность в средствах. Существовала и другая группа влиятельных сеньоров итальянского Юга, которые вернулись с армией Карла в Regno, откуда были изгнаны ранее Гогенштауфенами. К числу таких родов, которым были возвращены прежние владения, принадлежали Сан-Северини, Руффи, Пиньятелли, Лентини и еще несколько семей, ставших опорами анжуйского режима.
Однако если Карл хотел, чтобы его власть была прочной, а правление Анжуйского дома — долгим, «ему следовало завоевать расположение местных феодалов, которые поначалу поддержали его, но в начале 1268 года поддались зову сирен, певших о возможной реставрации Гогенштауфенов»{332}. Битва при Тальякоццо означала водораздел в отношениях Карла со значительной частью местной знати, поворот короля от дипломатичной благосклонности к недоверию и репрессиям. Начались конфискации земель и имущества не только у тех, кто открыто выступил на стороне Конрадина, но и у тех, кто недостаточно активно поддержал Карла. Не будем забывать также, что и после разгрома последнего Гогенштауфена на Сицилии еще более двух лет продолжалось восстание против анжуйского режима, пошедшее на убыль только после крутых мер, принятых Карлом, — в том числе варварской расправы с мятежным городом Аугуста (1270). Многие из тех, кому пришлось бежать из Regno в 1268–1270 годах, объявились на сцене более десятка лет спустя в связи с событиями «Сицилийской вечерни» — как правило, на службе Педро III, нового неприятеля ненавистного Анжуйца.
Карлу приходилось не только наказывать противников, но и вознаграждать своих сторонников. После Тальякоццо он стал во все большей мере полагаться на тех, кто пришел с ним с севера, прежде всего на французских и провансальских баронов и рыцарей. Многим из них были розданы поместья, конфискованные у мятежников. Карл принимал меры для того, чтобы обезопасить себя перед возможными мятежами: он стремился давать в лен лишь небольшие владения, чтобы предотвратить формирование слоя крупной земельной аристократии, которая могла бы со временем угрожать прерогативам короны — уроки первых лет правления Людовика IX не были забыты его младшим братом. Кроме того, король издал указ о том, что землевладельцы, покинувшие Regno более чем на год, не имея на то специального разрешения, утрачивали права на свои поместья. (Предполагалось, что запрет на долгое пребывание за границей лишит баронов и рыцарей с юга Италии возможности вступить в заговор с иностранными противниками анжуйского режима.) В то же время позднейшая репутация Карла I как короля-оккупанта, заполонившего покоренное им государство пришельцами-французами, требует корректировки. В действительности картина представляется более сложной. Во-первых, количество рыцарей с севера, решивших остаться в Regno, было не столь велико, как может показаться: по подсчетам Сильвии Полластри, основанным на документах королевской канцелярии с 1268 по 1274 год, то есть в период, когда закладывался фундамент анжуйского режима, землями в Regno были наделены чуть более 350 французских и провансальских рыцарей — совсем небольшая часть тех тысяч, что составляли войско, пришедшее с Карлом{333}. «Большинство фьефов в Regno были слишком малы для того, чтобы стать источниками дохода для большого числа новых поселенцев. Ясно, что подавляющая часть французских воинов вернулась домой, как только это стало возможным, исходя из их обязательств и соображений чести»{334}.
Проблема, из-за которой Карлу так и не удалось преодолеть раскол между «местными» и «пришлыми» в своем королевстве, заключалась в неодинаковом понимании ими сути и характера феодальных отношений. Карл принес с собой более жесткую систему, которая сложилась во Франции и укрепилась там при Людовике IX. «Феодализм до сих пор работал на Сицилии прежде всего как система отношений “патрон — клиент”, основанных на семейных обязательствах, передававшихся из поколения в поколение. Но во Франции феодализм эволюционировал — земли, данные когда-то в ленное владение, стали теперь фактической собственностью вассалов, а бароны лишились части властных полномочий в пользу короля. Французские чиновники, [пришедшие с Карлом], полагали, что король будет располагать абсолютной властью в своих новых владениях, в то время как сицилийские землевладельцы… ожидали, что он будет обходиться с ними в соответствии с определенным кодексом взаимных обязательств»{335}.
Основная масса пришельцев с севера постоянно находилась при королевском дворе, языками которого были французский и провансальский. Это создавало у местных жителей ощущение чужеродности короля и его окружения, хотя сделать придворную и чиновную карьеру при первом государе Анжуйского дома удавалось далеко не только выходцам из Франции или Прованса. Доля итальянцев (при всей условности этого понятия для того времени) в окружении короля и на верхних этажах административной пирамиды постепенно росла, хотя процесс этот растянулся на десятилетия. Только при Карле и «французскость» неаполитанского двора стала уже в значительной мере делом прошлым. Вот пример карьеры уроженца Regno при анжуйском режиме. Джованни Манселла, мелкий рыцарь из окрестностей города Салерно, был принят на придворную службу в 1271 году. На следующий год он сражался под королевскими знаменами у Пьяченцы — в одном из многочисленных конфликтов между Карлом и коалицией городов и феодалов Северной Италии. Вернувшись в Regno, Манселла служил в качестве подеста (выборного главы городской администрации) в городке Асколи неподалеку от Фоджи, получил во владение фьеф и вошел в число баронов королевства. К концу правления Карла I этот человек занимал высокую должность юстициара в Катепанате — округе на восточном побережье Regno{336}. Однако в целом среди юстициаров, назначенных Карлом Анжуйским, французы и провансальцы все же явно преобладали, составляя примерно 70%{337}.
Двор Карла поначалу был «кочевым», он перемещался по стране, останавливаясь на несколько недель или месяцев в том или ином замке — обычное явление для тех времен. Однако постепенно и сам двор, и большая часть чиновничества сосредоточились в Неаполе, который к концу правления Карла I стал в значительной мере играть роль постоянной столицы Regno. Короли Анжуйской династии полюбили этот город и многое сделали для его благоустройства, хотя большая часть этих работ пришлась на долю не Карла I, а его сына и внука. Возвышение Неаполя, однако, имело и свою обратную сторону. При Отвилях остров Сицилия и его столица — Палермо играли роль центра власти и средоточия политической и деловой активности в королевстве; Гогенштауфены тоже худо-бедно поддерживали баланс между материковой и островной частью Regno. А вот при Карле Анжуйском этот баланс окончательно сместился в сторону материка. Сам Карл за почти 20 лет царствования побывал на Сицилии не более трех раз. Стивен Рансимен полагает, что король испытывал неприязнь к обитателям острова, памятуя первое тамошнее восстание, которое ему пришлось подавлять несколько лет. Возможно, причина была более прозаичной: Карлу приходилось много заниматься делами Северной Италии и Балкан, а это было удобнее делать, находясь на материке, а не на отдаленном острове. Однако в эпоху, когда личное присутствие государя толковалось подданными как знак благоволения (а отсутствие — как признак немилости), нежелание короля посещать Сицилию порождало недовольство: «…Островитянам напоминали, в еще большей степени, чем при Гогенштауфенах, что они — обитатели провинции, чьи интересы значат немного в сравнении с интересами жителей материковой части королевства»{338}. Почва для «Сицилийской вечерни» была подготовлена задолго до того, как ее удобрили византийское золото и арагонские интриги.
Как бы то ни было, вряд ли можно согласиться с суждением о том, что «когда королевство перешло в руки Анжуйского дома, оно оказалось обречено на упадок и застой»{339}. Карл I в значительной мере продолжал политику своих предшественников, в том числе административную и фискальную. Основы былого богатства Regno были подорваны уже Фридрихом II, финансировавшим свои бесконечные войны. Объективные военно-политические и экономические обстоятельства прихода Карла I к власти не способствовали тому, чтобы эта неблагоприятная тенденция была переломлена. Ошибки анжуйского режима усугубили ситуацию: «Непокорность и нелояльность, проявленные сицилийцами по отношению к Карлу начиная с 1282 года, были неудивительны. Если бы большему числу влиятельных островитян дали возможность узнать своего короля и наладить с ним добрые отношения, “Сицилийская вечерня”, быть может, и не положила бы конец его правлению на острове»{340}.
Однако политика Карла вовсе не состояла из одних ошибок — в противном случае он и его династия вряд ли удержались бы на поначалу довольно шатком троне Regno. Надо заметить, что Карлу было за что благодарить Гогенштауфенов: он унаследовал от них весьма развитую по тем временам систему государственного управления, которая, по оценкам большинства историков, «значительно опережала (в смысле развития бюрократических структур) ту, что существовала во Франции по состоянию на 1266 год»{341}. Карл укрепил и несколько обновил это наследие. Сама упорядоченность документации королевской канцелярии, как и активная переписка короля с его чиновниками и генералами на местах, свидетельствует о том, что система работала бесперебойно. Иное дело, что целью этой работы оставалось главным образом пополнение королевской казны, и чем эффективнее работала анжуйская бюрократия, тем сильнее было недовольство тех слоев населения, на которые приходилась основная часть налогового бремени.
Активная внешняя политика Карла I требовала значительных расходов на содержание войска и флота. Хотя постоянных армий в ту эпоху не существовало, Карл Анжуйский воевал столь часто, что вынужден был практически непрерывно расходовать значительные суммы на организацию военных экспедиций — на север Италии, на Балканы, в Тунис… Армии Карла были наемными, причем большая часть наемников набиралась во Франции, Провансе или Испании, — в результате войско, действовавшее, к примеру, на севере Италии или на Балканах (то есть в чужой для него среде), было более надежным, чем если бы оно набиралось из местных жителей. Однако оплата услуг наемников ложилась тяжелым бременем на казну. Так, в 1273 году Карл платил каждому из французских и провансальских рыцарей, находившихся в его войске в Ломбардии и Тоскане, по 4 унции золотом в месяц (рыцаря должен был сопровождать оруженосец и не менее четырех лошадей){342}. Неудивительно, что король стремился разделить свои расходы на содержание армии с союзниками, в частности с Флоренцией (в договоре от 1281 года) и другими итальянскими городами, выступавшими на его стороне.
Карл, издевательски называвший Манфреда «султаном» за то, что тот пользовался воинскими услугами сарацин юга Италии, после Беневенто без особых колебаний принял их на свою службу. Правда, после 1268 года, когда часть сарацин изменила Карлу, и позднее, когда король принял решение выселить восставших арабов из места их компактного проживания в городе Лючера, их численность в королевском войске резко упала. Зато все больше становилось солдат из самого Regno — это были прежде всего stipendiant, наемные, в основном пешие воины и лучники, чье социальное происхождение было пестрым: среди них встречались и младшие отпрыски обедневших рыцарских семей, и горожане, и крестьянские сыновья{343}. Во время некоторых операций, в частности осады упомянутой Лючеры (1269), Карл мобилизовывал не только воинов, но и ремесленников — для ведения осадных работ.
Иногда результаты тщательной подготовки военного предприятия шли прахом — как это случилось в 1270 году, когда при возвращении из злосчастного тунисского похода буря уничтожила почти весь королевский флот, который предназначался для экспедиции против Византии. Заботы о флоте вообще не оставляли короля — и не только в силу его воинственных устремлений. Владения Карла Анжуйского к концу его правления были разбросаны и отделены друг от друга морями. Так, путь из Regno в Валону (ныне Влёра в Албании) занимал до четырех дней; плавание в Прованс было куда более долгим, так как его маршрут из-за преобладавших неблагоприятных ветров пролегал вдоль побережья Италии. Все это требовало содержания постоянного флота, военного и транспортного, что в те времена было необычным: как правило, флот строился для конкретной экспедиции (как это делал, например, Людовик IX для своих крестовых походов).
Основными центрами судостроения во владениях Карла были Неаполь, Салерно, Марсель и Ницца. Анжуйский флот состоял в основном из боевых галер того типа, что участвовали в первом крестовом походе Людовика IX{344}. В случае большой войны Карл без стеснения реквизировал стоявшие в портах его королевства частные суда, в том числе иностранные. Правила морского боя в XIII веке были довольно примитивны: корабли противников сталкивались, сцепляясь бортами, после чего начинался ожесточенный абордажный бой, приносивший успех той или иной стороне. «Дальнобойным» оружием, отчасти заменявшим появившуюся намного позднее артиллерию, был «греческий огонь» — изобретенная византийцами горючая смесь, которую с помощью специальных сифонов пускали на корабли противника{345}. (В 941 году, например, именно таким образом византийский военачальник Феофан сжег ладьи киевского князя Игоря, пытавшегося прорваться в Константинополь, о чем есть запись в «Повести временных лет».) Греки долгое время держали в секрете технологию производства «греческого огня», но к середине XII века ее уже знали на Западе. Что касается флота Карла I, то он был снабжен этим оружием, что, однако, не уберегло анжуйцев от жестоких поражений от арагонского флота. Его многолетний командующий Рожер де Лауриа, о котором еще не раз пойдет речь, владел искусством маневра на море гораздо лучше адмиралов Regno, не говоря уже о французах, которые только начинали осваивать науку морской войны. Уступали флотоводцы Карла, очевидно, и грекам: в июле 1281 года одно лишь появление эскадры Палеолога, состоявшей из восьми боевых кораблей, у побережья Апулии в районе Отранто вызвало настоящую панику среди местных чиновников{346}.
Экономическая политика Карла I основывалась на простых принципах: «Ресурсам королевства следует дать время и возможности для процветания. Но это процветание должно быть использовано на благо короны. [Карл] хотел оставить в неприкосновенности и далее развивать механизмы, созданные Фридрихом II для пополнения казны за счет прибылей сельского хозяйства и торговли»{347}. Короля Карла можно назвать государственным менеджером на троне: сохраняя — в соответствии с традицией, сложившейся еще при Отвилях, — значительный королевский домен, он стремился, чтобы его владения приносили максимальную прибыль. С этой целью местные чиновники получали распоряжения о строительстве оросительных каналов, разведении рыбы в прудах, закупке овец более продуктивных пород и т.д.
Здесь, однако, хозяйственная политика короля иногда вступала в противоречие с его фискальной политикой. Для крестьян было невыгодно жить на королевских землях, где они не могли спастись от всевидящего ока мытарей. Во владениях баронов и на церковных землях, а также в городах жилось вольготнее, крестьяне убегали туда, и меры королевской администрации, направленные против этого явления, судя по некоторым сохранившимся документам, не приносили особого успеха{348}. После разгрома восстаний в Лючере и Аугусте, когда в разоренных окрестностях этих городов просто не осталось рабочих рук, Карл даже попытался организовать переселение туда крестьян-колонистов из Прованса; подробности о том, во что вылилось это начинание, до нас не дошли.
Важным экономическим инструментом были различные монопольные права и привилегии. Так, с 1278 года Карл I ввел в королевстве монополию короны на торговлю солью. Королевские агенты скупали всю продукцию у владельцев соляных приисков и затем продавали ее со значительной прибылью. Поскольку в Regno имелись залежи полезных ископаемых (там добывались свинцовая руда, золото, серебро и бронза), король предоставлял права на добычу этих природных богатств тем или иным концессионерам, исходя из собственных интересов. Подобным образом он поступал и с другими видами хозяйственной деятельности — правом рубки леса, рыбной ловли и т.д. Так, в 1272 году в Мессине была введена монополия местных производителей на винную торговлю{349}. Однако в целом итальянские владения Карла Анжуйского были не так уж богаты, учитывая задолженность короля: сельскохозяйственные земли королевского домена, леса и добыча ископаемых были источником лишь примерно 10% доходов казны{350}.
Именно поэтому военные предприятия короля имели и экономический смысл: так, мирное соглашение, заключенное Карлом в 1270 году с эмиром Туниса, приносило сицилийской казне недурной стабильный доход золотом. Это позволило Карлу активно чеканить монеты — с 1278 года в оборот были пущены золотые и серебряные единицы с его изображением, так называемые carlini. Как ни странно, определенный позитивный эффект имели и поражения, которые потерпел Карл в Северной Италии в 1278–1280 годах: он был вынужден отказаться от викариата (наместничества) в Тоскане, утратил почти все свои владения в Ломбардии и перестал быть римским сенатором. Однако власть Карла в северных и центральных районах Апеннинского полуострова никогда не была особенно прочной, и он практически непрерывно вынужден был защищать ее, тратя немалые средства на походы против городских лиг и непокорных баронов. И поэтому фактическое отступление из Ломбардии, Тосканы и Рима, где вновь усилилась гибеллинская партия, привело к тому, что «он заметно улучшил свое финансовое положение. В 1280 году он был богаче, чем пятью годами ранее. И мог снова позволить себе вернуться к планированию похода на Константинополь»{351}.
В целом, несмотря на несколько лет неурожая, эпоху Карла I нельзя назвать ни голодной, ни кризисной. Экономика Regno была сбалансированной, остров Сицилия и материковая часть дополняли друг друга. Вот почему «их разделение в 1282 году… сделало более бедными обеих. В той мере, в какой Карл несет ответственность за “Сицилийскую вечерню”, на нем лежит и вина за подрыв основ экономики [итальянского Юга]»{352}. Но насколько велика была ответственность короля за события 1282 года? Что должно было произойти, чтобы анжуйский режим вызвал против себя столь резкую и массовую вспышку народного гнева, какой стала «вечерня»? Режим этот был, безусловно, жестким. Но нет никаких оснований говорить о том, что он выделялся среди других королевств тогдашней Европы каким-то из ряда вон выходящим деспотизмом — скорее уж бюрократической упорядоченностью.
Среди основных причин, которые привели к восстанию 1282 года, обычно называют немилосердную налоговую политику Карла Анжуйского и неприязнь сицилийцев к чужеземному окружению сурового короля. Что касается налогов, то, как мы уже выяснили, в этом плане Карл шел по следам своих предшественников, а жалобы подданных на суровость мытарей часто слышал еще Фридрих II. Недаром восстания баронов против его власти то и дело сопровождались лозунгом возврата к «обычаям золотых дней короля Вильгельма Доброго». В то же время и сам Фридрих, в действительности меняя законы и политическую практику, любил ссылаться на обычаи и установления своих нормандских предков, которые он якобы воскрешал и укреплял{353}. Это не мешало ему вести суровую фискальную политику, которая, тем не менее, не приводила к восстаниям, способным поставить под угрозу само правление Фридриха. (Вернувшись в 1229 году из крестового похода, император быстро и без особых проблем разгромил мятеж, поднятый против него некоторыми баронами при поддержке папства.) Карл, готовясь к походу на Константинополь, объявил в 1281 году очередной subventio generails, ставка которого была по меньшей мере в полтора раза выше обычной. Это считается одним из главных факторов, приведших к «вечерне», — но не преувеличивается ли его значение? Достаточно жесткой была и налоговая политика его тогдашних главных противников — Педро III и Михаила VIII, однако ни один из них не утратил власти над частью своих владений в результате массового восстания.
Не так уж однозначен и аргумент о чужеродности анжуйского режима, хотя, как мы увидим, свою роль в ходе мятежа на Сицилии он действительно сыграл. Карл Анжуйский был далеко не первым королем, в том числе и сицилийским, который добыл себе корону мечом, — достаточно вспомнить хоть Вильгельма Завоевателя, хоть Рожера II, хоть Генриха VI. Как и эти монархи, он властвовал над подданными, которые не говорили на его родном языке, а он — на их наречиях. Тем не менее и Вильгельм, и Рожер не только удержались на троне, но и основали династии, правившие еще не одно десятилетие после смерти родоначальников. Карлу, кстати, удалось то же самое, правда применительно лишь к материковой части его владений. Но не говорит ли сам этот факт о специфике скорее сицилийского общества, нежели анжуйского режима? Почему для жителей Сицилии оказалось невыносимым и неприемлемым то, что приняли обитатели Неаполя, Калабрии, Апулии?
Можно вспомнить эпизод с незадачливым Стефаном дю Першем (см. главу IV), благонамеренным, хоть и слишком прямолинейным реформатором, изгнанным в 1168 году островитянами после пары лет правления в качестве фактического регента. Вероятно, уже тогда начала складываться специфическая сицилийская идентичность, во многом сохранившаяся, кстати, по сей день — редкий житель острова назовет себя «итальянцем». Островитяне «смотрели на пришельцев как на “них”, а самим аборигенам, будь они греками или латинянами, становилось все легче думать о самих себе как о “нас”. Это была финальная стадия превращения сицилийцев в единое христианское (арабов к концу XIII века на острове почти не осталось. — Я.Ш.) сообщество, для которого нормандские короли стали священным символом»{354}. Карл представлялся чужаком не потому, что он и его двор говорили по-французски, а потому, что он был победителем и убийцей двух последних Гогенштауфенов. Их, в свою очередь, сознание многих сицилийцев воспринимало не как потомков такого же, как и Карл, пришельца-северянина Генриха VI, а как побеги родового древа Отвилей — через супругу Генриха Констанцию, дочь Рожера II. Гогенштауфены, выросшие (за исключением Конрадина) на Сицилии, были «своими», а Карл — чужим.
Однако это было в первую очередь особенностью исторической памяти сицилийцев и лишь во вторую — следствием политики самого Карла. У «вечерни» хватало куда более сложных и комплексных причин, чем те простые объяснения, которые предлагает миф о «первой европейской революции», окрашенный в анахронистские романтические тона.
Заговор
В последних числах августа 1280 года до Карла дошла весть о смерти папы Николая III, с которым сицилийского короля связывали непростые отношения. Конклав, собравшийся после смерти папы в городе Витербо, протекал бурно: на нем партия Орсини, влиятельного римского рода, к которому принадлежал Николай III, вступила в прямое столкновение с кардиналами, которых вовсю обхаживали агенты Карла Анжуйского. Король Сицилии стремился к избранию более «покладистого» по отношению к нему кандидата. О том, насколько важной считал Карл эту задачу, говорит тот факт, что он лично прибыл в Витербо. В результате неприкрытого давления со стороны короля двое кардиналов Орсини — Джордано и его племянник Маттео — были арестованы городской администрацией под тем предлогом, что их интриги якобы поставили конклав под угрозу срыва. Анжуйская партия получила перевес, и новым понтификом был в феврале 1281 года избран француз Симон де Брион, принявший имя Мартина IV{355}.[177] Уже в первые месяцы своего понтификата тот исполнил все желания Карла Анжуйского: отлучил от церкви Михаила Палеолога, окончательно похоронив Лионскую церковную унию, благословил готовившийся сицилийским королем поход на Константинополь и вновь даровал Карлу звание римского сенатора. Характерно, что сам понтифик в Рим не переехал, опасаясь за свою безопасность: там было очень сильно влияние рода Орсини. Впрочем, вне стен Вечного города обитало большинство пап второй половины XIII века.
3 июля Карл добился нового дипломатического успеха: в этот день в Орвьето в Центральной Италии он подписал договор о военном союзе с Венецианской республикой. Соглашение, под которым также стояла подпись Филиппа де Куртенэ, титулярного императора Константинопольского и зятя Карла Анжуйского, предусматривало совместную подготовку похода на греческую столицу. Сицилийский король обеспечивал сухопутные силы (8 тысяч конных рыцарей и пеших воинов) и транспортную флотилию для их переправы, Венеция же предоставляла 40 боевых галер для защиты этого войска и борьбы с византийским флотом. В обмен венецианцам было обещано восстановление всех привилегий, которыми они пользовались в Константинополе при латинских императорах. Начать операцию планировалось не позднее апреля 1282 года. Предполагалось также возобновление активных боевых действий на западе Балканского полуострова: с этой целью не позднее 1 мая 1282 года на острове Корфу должна была сконцентрироваться вспомогательная флотилия союзников. Туда должен был быть переброшен отряд из 300 тяжеловооруженных рыцарей, нанятых Карлом; их целью было подкрепить ослабленные недавним поражением при Берате (1281; см. главу V) войска короля на Балканах{356}. Судя по всему, речь шла о том, чтобы отвлечь значительные силы греков и не позволить им собрать все войска для обороны Константинополя. Карл и венецианцы рассчитывали также на помощь эпирского деспота Никифора Комнина, противника Михаила VIII.
Для византийского императора подобные планы неожиданностью не были. После разгрома анжуйского войска при Берате Палеолог чувствовал себя довольно уверенно, но прекрасно понимал, что Карл не отступится от своих планов разгрома его империи. Избрание нового папы и его, Михаила, отлучение от церкви, последовавшее 18 октября 1281 года, показали василевсу, что на сей раз компромисса с латинянами, видимо, достичь не удастся. Более того, образовавшаяся коалиция Regno, Венеции и папства выглядела грозной как никогда. Палеолог остро нуждался в союзниках. Наиболее естественным партнером выглядел Педро III Арагонский, чья враждебность по отношению к Карлу была хорошо известна. Более того, ряд источников — в частности, хроника Сабы Маласпины и арагонские документы, опубликованные еще в конце XIX века итальянским историком Карини{357}, — свидетельствуют о том, что Педро предпринимал военно-дипломатические усилия по подрыву власти Карла в Regno задолго не только до «Сицилийской вечерни», но и до формального соглашения с Византией, достигнутого в конце 1281 года и направленного против Карла. (Об этом договоре упоминает другой хронист — Бартоломео из Лукки, впоследствии секретарь папской курии{358}.)
При арагонском дворе уже давно жила большая группа изгнанников из Regno, потерявших свои владения либо после гибели Манфреда, либо после поражения Конрадина. Эти люди, среди которых выделялся уже упоминавшийся кондотьер-флотоводец Рожер (Руджеро) ди Лауриа, служили королеве Констанции, дочери Манфреда и супруге Педро III, как своей законной государыне, надеясь на свержение анжуйского режима и установление власти Барселонского дома, в котором они видели преемника Гогенштауфенов. Другой важной фигурой в этом, как выразились бы сегодня, эмигрантском кругу был врач и некогда состоятельный землевладелец родом из Салерно по имени Джованни да Прочида. Это был уже весьма немолодой человек (большинство источников указывают, что он родился в 1210 году), успевший послужить в качестве придворного лекаря Фридриху II, Конраду IV и Манфреду. Джованни да Прочида был весьма образован, говорил на множестве языков и перевел на латынь ряд арабских медицинских трактатов. Он владел многочисленными поместьями в окрестностях Неаполя, пожалованными ему Гогенштауфенами. Успешная карьера этого человека, однако, прервалась в 1269 году, когда Карл Анжуйский лишил его всех владений, обвинив в поддержке Конрадина, чему имелось немало доказательств. Джованни бежал вначале в Венецию, затем в Барселону. «Говорили, что с его женой дурно обошлись, одна из его дочерей была изнасилована, а один из сыновей — убит наглым французским рыцарем, явившимся, чтобы изгнать семью из их дома»{359}. Если дела в действительности так и обстояли, у Джованни было более чем достаточно оснований для глубокой ненависти к Карлу Анжуйскому и желания отомстить ему.
За Джованни да Прочидой закрепилась репутация главы заговорщиков, подготовивших почву для «Сицилийской вечерни». К 1280 году он занимал при арагонском дворе высокий пост канцлера. Однако историки расходятся во мнениях относительно того, действительно ли Джованни находился в самом центре паутины, соединившей двор в Барселоне с Константинополем, итальянскими противниками Карла Анжуйского и немногочисленными гибеллинами, остававшимися в самом Regno. По мнению Стивена Рансимена, Джованни «контролировал внешнюю политику короля [Педро]»{360}. Джин Дюнбабен, однако, полагает, что Прочида «был далеко не единственным агентом, вовлеченным [в организацию заговора], и его прямое влияние на Педро, вероятно, имело большее значение, чем его [дипломатические] интриги»{361}. Хроника Lu Rebellamentu di Sichilia («Восстание Сицилии»){362}, чья достоверность в изложении фактов, связанных с «Сицилийской вечерней», часто подвергалась сомнению{363}, является главным источником, на основании которого за Прочидой закрепилась репутация героя, подготовившего патриотическое восстание. Согласно этой хронике, Джованни добрался даже до Константинополя, где провел несколько месяцев и был принят Михаилом VIII, с которым обсуждал детали заговора против короля Карла. Двигателем всей комбинации он считал Прочиду и Джованни Виллани.
Современные историки, однако, относятся к этим сведениям скептически: «…Прочида не играл главной посреднической роли, приписываемой ему Виллани. Ведь документы, несущие его подпись, доказывают, что в то время, когда он якобы находился в Константинополе, на Сицилии или в папской курии, в действительности он подписывал официальные бумаги в Арагоне… Он мог в это время совершить пару поездок, но… его роль в подготовке “Сицилийской вечерни” была более ограниченной и заключалась главным образом в переговорах с сицилийскими баронами»{364}. Эти бароны — неважно, через самого Джованни или других арагонских эмиссаров, которыми могли быть, по разным данным, сыновья этого хитроумного врача-дипломата, — заверяли Педро III и его супругу в своей преданности и призывали их покончить с анжуйским правлением. В числе заговорщиков источники называют, в частности, видных нобилей Regno — Пальмьери Аббате, Алаймо Лентини и Гуальтерио ди Кальтаджироне{365}.
Некоторые современники считали, что к подготовке заговора был причастен в последние месяцы жизни даже папа Николай III. Салимбене де Адам прямо утверждает, что папа «с согласия некоторых кардиналов, входивших тогда в курию, отдал [Сицилию Педро Арагонскому] из ненависти к королю Карлу»{366}. В этом, впрочем, тоже есть обоснованные сомнения: «Конечно, [папа Николай] не слишком жаловал Карла, к тому же он был алчен и был бы рад денежному преподношению[178] от [византийского] императора. Но целями его политики являлись умиротворение, независимость папских Владений и обогащение клана Орсини. Ни в одном из папских документов того времени нет и намека на то, что понтифик обдумывал устранение Карла с сицилийского трона и его замену Педро Арагонским»{367}. Но «Михаил Палеолог, тем не менее, посылал “греческое золото” Педро и антианжуйски настроенным кардиналам (если не самому папе Николаю III), что подтверждается несколькими греческими и латинскими источниками»{368}. Они, в частности, называют имя генуэзца Бенедетто Захарии, который служил посредником и финансовым курьером между Византией, Арагоном и своей родной Генуей (которая была сильно обеспокоена союзом Карла I со старой соперницей генуэзцев — Венецией). К началу 1282 года «Альфонсо [X Кастильский], Педро Арагонский, Гийом Монферратский[179] и Генуя — все они, в той или иной степени, находились в дипломатическом контакте с Палеологом»{369}.
Какая картина вырисовывается из всей этой пестрой смеси сведений? В начале 1280-х годов положение Карла Анжуйского после ряда поражений на Балканах и севере Италии вновь начинает укрепляться. Он возвращается к планам похода на Константинополь и обзаводится влиятельным союзником — Венецией. Новый папа Мартин IV — его креатура, таким образом, многолетняя проблема отношений с Римом, сдерживавшим экспансию сицилийского короля, разрешена. Но одновременно противники Карла, прежде всего Византия, Арагон и Генуя, а также остатки гибеллинской партии в Сицилийском королевстве, вступают в контакт друг с другом и формируют негласную коалицию. Совершенно невозможно предположить, дошло ли бы дело до превентивного удара противников Карла и в какой форме этот удар был бы осуществлен. Восстание «Сицилийской вечерни», начавшееся 30 марта 1282 года, не было в строгом смысле слова подготовлено извне, хотя недовольство анжуйским режимом на острове зрело давно и подогревалось «греческим золотом» и усилиями арагонских агентов. Начало мятежа застало врасплох короля Карла, но не его противников, которые к тому времени уже были готовы быстро и активно поддержать сицилийских повстанцев. Недаром позднее Михаил VIII напишет в своей автобиографии: «Сицилийцы, отнесшись с презрением к остальной его (Карла, — Я.Ш.) силе, как ничтожной, дерзнули поднять оружие и освободиться от рабства; поэтому, если я сказал бы, что свободу, которую уготовил им Бог, уготовил через нас, то я сказал бы согласное с истиной!»{370}
Мятеж
Мы не будем очень подробно анализировать ход мятежа на Сицилии, на некоторое время перекинувшегося также в Калабрию. Книга Стивена Рансимена «Сицилийская вечерня», написанная в конце 1950-х годов, неоднократно нами цитировавшаяся и переведенная несколько лет назад на русский язык, остается наиболее известным и популярным исследованием самого восстания и событий, предшествовавших ему. Это фактологически точная, достаточно глубокая и очень живо написанная работа, хотя автор этих строк не склонен соглашаться со всеми данными в ней оценками. Есть и довольно обширная сугубо научная литература, посвященная «Сицилийской вечерне», — начиная с изданного еще в XIX веке фундаментального труда Микеле Амари «О войне Сицилийской вечерни»{371}. Ко всем этим работам я и позволю себе отослать читателя, интересующегося подробностями восстания 1282 года. Мы лишь вкратце остановимся на наиболее важных событиях, сосредоточившись на реакции короля Карла на случившееся, его действиях в те неполные три года, которые отвела ему судьба после «вечерни», и на причинах как того, почему анжуйский режим потерпел поражение, так и того, почему это поражение все-таки оказалось лишь частичным.
Итак, мятеж вспыхнул в Палермо в пасхальный понедельник 30 марта 1282 года. Согласно наиболее распространенной версии, отраженной в хронике Сабы Маласпины, поводом к нему стал инцидент на площади перед церковью Святого Духа, когда верующие собирались на вечернее богослужение — отсюда название, закрепившееся за этими событиями. Некий подвыпивший французский солдат по имени Друэ, сопровождавший вместе со своими товарищами на молитву группу чиновников, стал приставать к одной из женщин, находившихся на площади. За женщину вступился ее муж, началась поножовщина, в результате которой сицилийцы, намного превосходившие числом французов, убили не только зачинщика, но и всех, кто находился вместе с ним. Слух о случившемся быстро разнесся по городу, и столкновение у церкви Святого Духа стало искрой, от которой разгорелось пламя восстания. Вначале Палермо, а затем и большая часть Сицилии стали ареной погромов и избиений французов и провансальцев{372}.
Точное число жертв установить невозможно. Микеле Амари считал, что только в первые часы восстания в Палермо толпой, кричавшей «Смерть французам!», были убиты около 2 тысяч человек{373}. Джованни Виллани пишет о 4 тысячах погибших на всей Сицилии{374}. Хронисты (в том числе Бартоломео ди Неокастро, сам активный участник восстания, в своей «Истории Сицилии» — Historia Siculd) и позднейшие историки приводят много трагических подробностей. Чужеземцев убивали целыми семьями, не исключая беременных женщин, в том числе и местных, вышедших замуж за французов, — им разрезали животы и вырывали оттуда нерожденных младенцев, «франкское семя». Пойманных толпа заставляла повторять слова, трудные для французского произношения (например, ceci — нут, или турецкий горох; это слово произносится «чечи», но северяне выговаривали его как «сеси»), и, услышав акцент, на месте расправлялась с несчастными{375}.
Впрочем, даже в этой ситуации картина не была столь однозначной. Хотя до начала мая восстание распространилось по всему острову, не везде оно имело столь кровавые последствия, как в Палермо. Как пишет Салимбене де Адам, «жители города Мессины не учинили такой жестокости по отношению к французам, но отняли у них оружие и имущество и отправили их к господину Карлу, который в эти дни ушел прочь, боясь потерять Неаполь»{376}. (Возможно, милосердие, проявленное мессинцами, было связано с тем, что этот город пользовался определенной благосклонностью Карла, предоставившего Мессине ряд торговых привилегий; тем не менее и она присоединилась к восстанию.) Вице-юстициар западной Сицилии, Гийом де Порселе, живший в городе Калатафими, пользовался уважением местного населения, а потому его, не причинив никакого вреда, доставили в Палермо, откуда вместе с семьей ему было позволено отплыть в Прованс. В городе Сперлинга французский гарнизон не тронули и позволили уйти на север{377}.
В целом «отношения между [анжуйскими] солдатами и местным населением были куда более сложными, по меньшей мере до начала восстания, чем можно было бы судить по лозунгу «Смерть французам!»… В еще большей мере, чем к Сицилии, это относилось к югу Италии, где отношение к анжуйскому правлению было куда менее враждебным, а в ряде мест и вполне позитивным… Тем не менее общую картину не следует искажать; средний французский солдат [в Regno] проводил большую часть времени в походах или в казарме, и у него было довольно мало возможностей для братания [с местным населением]»{378}. Несколько лучшим было отношение коренных жителей Сицилии к провансальцам, которые воспринимались ими как более близкие по языку и культуре. Впрочем, разделение на «свой — чужой» проходило не только по этнической линии. «Сицилийская вечерня» была в первую очередь социально-политическим конфликтом, принявшим форму национально-освободительного восстания или ксенофобского бунта — определение тут, как часто бывает, зависит от угла зрения. От гнева мятежников пострадали не только чужаки, но и те коренные сицилийцы, которые служили анжуйскому режиму. Так, влиятельная семья де Ризи из Мессины, лояльная Карлу, была почти полностью перебита; Россо, другой фамилии из того же города, повезло больше: поначалу поддержав короля, ее представители вовремя перешли на сторону восставших, а потому уцелели.
Как бы то ни было, в течение нескольких недель власть Карла I была свергнута на всем острове. Наместник короля на Сицилии, Герберт Орлеанский, потерпел поражение от восставших; эскадра, посланная королем к Палермо, была разбита подоспевшим мессинским флотом. Все эти события заставили Карла принять крайне болезненное для него решение — отложить поход на Константинополь, последние приготовления к которому весной 1282 года уже завершались. Собрав все свои сухопутные и морские силы, Карл выступил к Мессине. На помощь к нему спешили отряды флорентийских гвельфов и подкрепления из Франции во главе с двумя племянниками Карла — Пьером, графом Алансонским, младшим сыном Людовика IX, и Робертом II д'Артуа, сыном Роберта-старшего, погибшего некогда в Египте. (Роберт II стал одним из самых верных и наиболее способных сторонников Карла Анжуйского; позднее, после смерти Карла, он некоторое время был фактическим регентом Regno.) Войско короля высадилось в окрестностях Мессины 25 июля.
Дальнейшие события превратились для Карла в сплошной кошмар. Защитники города отбили несколько штурмов. Осада городов была особым видом военного искусства — и, судя по всему, сицилийский король был знаком с ним в куда меньшей мере, чем с тактикой битв на открытом пространстве, принесших ему полководческую славу. 14 сентября Карл едва не погиб, когда огромные камни, пущенные оборонявшимися с помощью катапульт, размещенных на городских стенах, упали туда, где находился король со свитой, убив нескольких французских рыцарей. Мессина держалась, перекрывая Карлу путь вглубь острова. Королевское войско теснилось на прибрежном плацдарме, где высадилось в конце июля. Боевой дух рыцарей и солдат короля быстро падал. Карл решил прибегнуть к переговорам и пойти на некоторые уступки.
Однако его попытки договориться с Алаймо Лентини, сицилийским гибеллином-заговорщиком, которого жители Мессины избрали своим предводителем (капитаном), успеха не принесли, хотя король обещал мессинцам амнистию, требуя выдать лишь нескольких горожан для примерного наказания. Характерно, что не возымел действия и эдикт Карла, обнародованный еще до похода против мятежников — 10 июня. Король вводил запрет для чиновников заниматься какими-либо поборами и реквизициями, выходящими за рамки установленных короной; он запрещал содержать людей под стражей без достаточных на то законных оснований, требовал прекращения практики «подарков» и преподношений королевским назначенцам от городов и сел, находящихся под их надзором, и т.д.{379} Но было поздно: Сицилия не доверяла королю, который долгие годы словно не помнил о ее существовании и нуждах, а теперь явился вновь покорять ее — огнем, мечом и обещаниями. Кроме того, память о 12-летней давности расправе над Аугустой не способствовала укреплению веры сицилийцев в посулы Карла. Возможно, дело было и в том, что «примирительное» распоряжение короля «не предполагало фундаментального изменения системы. Он обвинял своих чиновников в том, что они не соответствовали тем высоким требованиям, которые он к ним предъявлял. Он вновь подчеркивал те принципы, в соответствии с которыми собирался править, и требовал полного повиновения»{380}.
Характерно, что руководители восстания поначалу стремились действовать в рамках феодального права. Поскольку верховным сюзереном Regno оставался папа, они направили к нему делегацию, прося признать остров федерацией городских коммун и сельских общин, находящейся в вассальной зависимости от Святого престола. Однако Мартин IV, верный союзу с Карлом, благодаря которому он стал папой, отверг просьбу мятежников. Более того, специальной буллой они были отлучены от церкви. Отвергнутые Римом, сицилийцы обратились к тому, с кем уже давно связывала надежды гибеллинская партия, — Педро III Арагонскому. Сделать это было не так уж легко для них: «Сицилийцы поначалу не желали заменить правление одного иноземного государя властью другого. Но они не могли бороться в одиночку. В конце концов, Констанция, королева Арагонская, происходила из рода Гогенштауфенов, будучи последней наследницей этой великой династии… Соображения как благоразумия, так законности советовали им принять Педро и Констанцию в качестве своих короля и королевы»{381}.[180]
Король Педро к лету 1282 года находился в полной боевой готовности — настолько полной, что его сосед, Филипп III Французский, по наущению своего дяди Карла заинтересовался тем, для чего, собственно, ара-гонцами собран столь солидный флот. Слово хронисту Салимбене: «…Король Франции отправил к нему официальных посланцев… сказать ему, что сам Педро не должен никоим образом идти ни против короля Карла, ни против его сына[181] и не вторгаться в его королевство, потому что если он причинит какую-либо обиду самому королю Карлу или его наследнику, то пусть он поразмыслит о собственной безопасности. Каковой Педро вышеназванным посланцам учтиво и благосклонно ответил, что он совершенно не желает причинять какую бы то ни было обиду господину королю Карлу или его наследнику, а намеревается идти за море против вероломных сарацин, и всю землю, которую он сможет приобрести и захватить, он передаст и подарит своему сыну, который собирается вступить в брак[182] с… дочерью сына короля Карла»{382}.
Виллани, однако, отмечает, что папскому посланнику Педро дал совсем не столь однозначный ответ: «Когда посол прибыл в Каталонию и передал слова папы, король благодарил его и заверил папу Мартина в своей преданности, но сообщить, куда он идет, наотрез отказался. При этом он высказался очень подозрительно, что если бы одна его рука открыла это другой, то он бы отсек ее. Не дожидаясь другого ответа, посол возвратился и передал его папе и королю Карлу, и папе Мартину этот ответ пришелся сильно не по душе. Карл же, который был велик духом и уверен в своем могуществе, не придал ему значения и только презрительно сказал папе: “Не говорил ли я вам, что Педро Арагонский вероломная шельма?” Но король Карл позабыл простонародную поговорку, которая гласит: “Коли утверждают, что у тебя отвалился нос, потрогай это место”. В своей беспечности он не хотел и слышать о заговорах и измене мессера Джанни ди Прочида и других баронов Сицилии, но если Бог желает кого-то наказать, за средствами дело не станет»{383}.
Как бы то ни было, усыпив бдительность французов, Педро принял делегацию сицилийских повстанцев, покорно просивших его и его супругу принять их остров в свое владение. Король повел себя осторожно: он посоветовался с приближенными, еще раз проверил степень готовности армии и флота и, наконец, направил к папе Мартину специального посланника с письмом, в котором пытался объяснить и оправдать свои мотивы. Во второй половине августа войско Педро погрузилось на корабли и 30 августа высадилось на западном побережье Сицилии, в районе Трапани. Фактически с этого дня началось правление Барселонского дома на острове, ставшем частью средиземноморских владений Арагонской короны. 4 сентября в Палермо Педро III был торжественно провозглашен королем Сицилии — и, как большинство его предшественников, пообещал править в соответствии с законами и обычаями «золотых дней короля Вильгельма Доброго».
Война и смерть
17 сентября, через пару дней после того, как осажденные жители Мессины отбили очередной штурм, к Карлу явились послы Педро. Они сообщили о прибытии их государя на остров и о том, что он считает себя законным королем Сицилии. Карл был разгневан, но, посовещавшись со своими баронами, понял, что натиска арагонского войска, когда оно прибудет к Мессине, его армия, измотанная длительной осадой, не выдержит. Нужно было уходить. Когда в последних числах сентября анжуйское войско грузилось на корабли, в окрестностях Мессины появился авангард арагонской армии. Большая часть солдат Карла успела переправиться в Реджо на материковом берегу Мессинского пролива, но значительную часть оружия и снаряжения анжуйцы бросили в оставленном лагере под Мессиной. После того как в середине октября арагонский флот не позволил анжуйской эскадре вырваться из гавани Реджо в Неаполь, причем анжуйцы потеряли почти половину боевых галер, стало ясно, что Карл I потерпел небывалое поражение. Более того, ситуация продолжала ухудшаться: «Прибытие Педро дало старт множеству небольших восстаний на материке; грозила потеря значительной части Калабрии. Начались мятежи в Риме[183]; проблемы возникли в Умбрии и Романье»{384}. Только зимой ситуация несколько стабилизировалась. Карл метался по своим сократившимся владениям, следил за набором новых наемников, писал папе, Филиппу III Французскому, венецианскому дожу, изыскивая все возможности укрепить оборону Regno и переломить ход войны.
Вскоре после Рождества из Византии пришла весть о смерти Михаила VIII. Палеолог умер, ненавидимый многими своими подданными за деспотизм, вечные войны, неудачную унию с латинянами, рост налогов, порчу монеты и прочие грехи, не в последнюю очередь — расправу с законным василевсом Иоанном IV, о которой хорошо помнили. Его сын и преемник Андроник II, опасаясь волнений, даже не решился устроить в Константинополе погребальную церемонию, соответствовавшую положению покойного. И все же, умирая, Михаил мог быть доволен: его главного достижения, возврата грекам Константинополя, не оспаривал никто, а его главный враг, Карл Анжуйский, был не только отброшен с Балкан, но и вынужден отчаянно бороться за сохранение своего трона. И поэтому известие о кончине византийского императора вряд ли так уж обрадовало сицилийского короля. (Отныне более правильным будет называть его королем Неаполитанским, хотя, несмотря на потерю острова, Карл I, а затем и его преемники, упорно держались названия «Сицилийское королевство».) Неизвестно, задумывался ли об этом сам Карл, но судьба никогда не оставляла его без «присмотра»: как только со сцены уходил один противник — Беатриса Савойская, Манфред, Конрадин, — на смену ему тут же являлся другой, не менее опасный. Так случилось и на сей раз: Михаила Палеолога в роли главного врага Анжуйского дома сменил Педро Арагонский.
В самом начале 1283 года Карл уехал из Regno во Францию. Интерпретировать эти его действия можно прямо противоположным образом. С одной стороны — как признак серьезности ситуации, когда помощь извне[184] (а это была одна из главных целей поездки) становилась для Анжуйского дома жизненно важной.
С другой — наоборот, как свидетельство того, что, несмотря на потерю Сицилии, режим оставался достаточно прочен, чтобы перенести многомесячное отсутствие короля. Бразды правления временно взяли в свои руки Карл Хромой (ему тогда шел 29-й год) и его двоюродный брат и главный советник, Роберт II д'Артуа. Однако прежде чем остановиться на довольно важных результатах их деятельности, нам нужно упомянуть о другом эпизоде, который составлял главную официальную цель вояжа короля Карла, — его предполагавшемся поединке с Педро Арагонским.
Разрешение конфликта между двумя государями «Божьим судом» (то есть непосредственно поединком между ними) казалось экстравагантным и несколько анахроничным уже современникам. Тем не менее именно такое решение было принято двумя королями после того, как в самом конце 1282 года Карл послал через Мессинский пролив в лагерь арагонцев некоего доминиканского монаха с предложением сопернику — решить судьбу войны в личной схватке. Позднее были внесены некоторые коррективы: «Карлу было уже без малого 56 лет, по средневековым меркам его можно считать стариком, в то время как Педро был на 15 лет моложе. Вместо этого каждого короля должна была сопровождать сотня рыцарей по его собственному выбору, которые сражались бы на его стороне. Встреча была назначена на 1 июня 1283 года в Бордо, столице французских земель, принадлежавших королю Эдуарду Английскому»{385}.
Сама эта коллизия очень хорошо показывает, что Карл до конца своих дней был в большей степени воином, чем политиком: ему казалось естественным разрешить спор о сицилийской короне честным рыцарским поединком. Стивен Рансимен не исключает и религиозных мотивов действий Карла Анжуйского: «При всей своей суровости и амбициях он был благочестивым человеком. Вероятно, он действительно верил, что обладание Сицилией, дарованной ему Святой Церковью, будет гарантировано ему самим Богом»{386}. Впрочем, за решением Карла могли скрываться и прагматические соображения. Потеря Сицилии нанесла сильнейший ущерб казне Regno, и Карл всерьез опасался, что будет попросту не в состоянии вести затяжную войну. Интерес к быстрому окончанию кампании был и у Педро: его финансовое положение тоже нельзя было назвать блестящим. Вдобавок политическая система Арагона с ключевой ролью сословного представительства — кортесов ограничивала самостоятельность короля в денежных вопросах.
Тем не менее из затеи с поединком ничего не вышло. Мартин IV скептически отнесся к этому проекту, «насколько было возможно, противился этому и, по совету и с одобрения братьев своих кардиналов, запретил это делать»{387}. В результате вместо поединка в Бордо 1 июня 1283 года произошел фарс. Оба государя явились в назначенное место, но в разное время, и каждый обвинил соперника в том, что тот уклонился от боя. Этот факт активно использовался пропагандой обеих сторон. Так, Салимбене, симпатизирующий Карлу, утверждает, что «перед великим множеством судейских и должностных лиц названного короля[185]… в городе Бордо… предстал… только светлейший король Карл, прославленный оплот и покровитель священной матери нашей Римской церкви и христианской веры, и с ним сотня его рыцарей»{388}. Впрочем, объективности ради этот хронист (чье стремление представить точки зрения разных сторон выгодно выделяет его среди других летописцев того времени) добавляет: «Тем не менее некоторые оправдывают Педро, короля Арагона, в том, что он уклонился от условленного сражения, говоря, что он сделал это потому, что король Франции со своими рыцарями находился неподалеку… готовый в случае необходимости поддержать своего дядю, короля Карла»{389}. Из этого замечания следует, что уже в середине 1283 года конфликт вокруг Сицилии начал восприниматься как выходящий за пределы Италии. В него быстро втягивались Франция и папство.
Тем временем Карл Хромой (или, если именовать его официальным титулом, принц Салернский) в срочном порядке пытался решить внутренние проблемы королевства. По его инициативе в Сан-Мартино под Неаполем вскоре после отъезда короля собрался своего рода парламент — совещание представителей сословий Regno. На нем была одобрена целая программа реформ, куда более глубоких, чем те, что обещал сицилийцам Карл I в эдикте от 10 июня 1282 года: «Ассамблея распорядилась внести крупные изменения в налоговую систему, установив необходимость согласия [сословного представительства] с взиманием subventiones generales и отмены принудительной продажи биллонов[186]. Также отменен был соляной налог — gabelle. Нобили получили большую свободу при заключении браков своего потомства[187], право сословного суда, возможность откупа от военной службы на срок до трех месяцев и право взимать умеренные подати со своих вассалов без королевского разрешения»{390}. Речь шла о заметной децентрализации административно-правовой системы королевства. Таким образом, еще при жизни Карла I его наследник начал выводить Regno из режима «ручного управления», заведенного отцом. То, что эти реформы не вызвали ни критики, ни серьезного противодействия со стороны Карла-старшего по его возвращении домой, говорит об их своевременности и неизбежности в условиях, когда устои власти Анжуйского дома были поколеблены. Карл, очевидно, понимал это, хотя вряд ли нововведения были ему по нраву.
Заодно корона нашла козлов отпущения в лице семей делла Марра и Руфоло родом из Амальфи. В 1270-е годы им был фактически отдан на откуп сбор налогов в большинстве регионов Сицилии — и именно эти люди были жестоко (в основном без достаточных на то оснований) наказаны в 1283 году, после того как остров был потерян для Анжуйского дома. Характерно, что ни эти меры, ни «реформы Сан-Мартино» в целом никак не повлияли на ход войны за Сицилию — жители острова сохранили верность Арагонской короне. Зато перемены явно упрочили положение Анжуйского дома в «остаточном» Regno, или Неаполитанском королевстве. Важным последствием решений, принятых в предпоследний год правления Карла Анжуйского, стало увеличение финансовой зависимости короны от сословий — в этом смысле политико-экономическая система Regno заметно приблизилась к арагонской. В результате преемникам Карла I стало гораздо труднее организовывать крупные военные экспедиции: сословия попросту отказывались финансировать их. В сочетании с природным миролюбием Карла Хромого это определило преимущественно реактивный (в смысле — определяемый реакцией на события, а не инициированием этих событий) характер внешней политики Неаполя в последние годы XIII — начале XIV века (подробнее об этом см. в заключении настоящей книги).
Между тем война на море разворачивалась для анжуйцев неудачно. Рожер ди Лауриа был хозяином положения у берегов Неаполя и Калабрии; арагонцы захватили острова Капри и Искья у входа в Неаполитанский залив. Карл I, уезжая из Regno, отдал распоряжение о строительстве новых боевых кораблей; Карл Хромой контролировал ход работ. Однако наследнику было строго наказано не ввязываться в бой с арагонским флотом. 5 июня 1284 года принц Салернский нарушил этот запрет, едва не погубив себя и династию. Хитроумный арагонский адмирал обманул противника, появившись в Неаполитанском заливе лишь с частью своей эскадры. Когда анжуйцы под командованием Карла Хромого выплыли ему навстречу, Рожер изобразил поспешное отступление, выманив противника в район построенной Фридрихом II крепости Кастелламаре, где курсировали остальные силы арагонского флота. Когда анжуйцы поняли, что численный перевес уже на стороне противника, было поздно. Арагонский флот выстроился полумесяцем и атаковал корабли Карла-младшего с флангов. Большей части анжуйского флота удалось вырваться обратно в Неаполь, но с десяток галер, включая флагманскую, на которой находился принц Салернский, были окружены и после жестокого абордажного боя сдались. Карл Хромой стал пленником арагонского адмирала{391}.
Отец и сын разминулись всего на день: Карл I пристал в Гаэте, порту на севере Regno, 6 июня. Узнав о том, что случилось с наследником, король пришел в ярость: он «сказал, что его сын глуп, туп и безрассуден и что он поступил неразумно, когда отправился воевать, не посоветовавшись с отцом, и поэтому он не хочет заботиться о нем, как если бы он никогда и не родился»{392}. Эти слова стоит отнести на счет вполне объяснимого гнева короля, но все же они многое объясняют в отношениях обоих Карлов. Отец, один из лучших рыцарей Европы, человек, сохранявший и в конце шестого десятилетия жизни (для тех времен возраст уже старческий) отличную физическую форму и колоссальную энергию, наверняка досадовал на то, что волею судьбы его наследником стал этот калека, на которого трудно положиться в настоящем деле — а настоящим для этого короля-рыцаря всегда было прежде всего дело военное. Отсюда, видимо, проистекал и данный им сыну запрет на активные самостоятельные действия против арагонцев. Впрочем, само наличие такого запрета можно интерпретировать двояко: и как выражение презрения отца к неспособному сыну, и наоборот, как свидетельство того, что Карл знал: принц не трус и не станет избегать битвы.
У наследника, однако, были свои мотивы для того, чтобы ослушаться отца. Они, вероятно, заключались не только в том, что принц Салернский не знал, когда вернется король, и опасался за судьбу столицы Regno. Карл Хромой хотел наконец показать себя. Ему было уже зо лет, но он до сих пор жил в тени знаменитого и могущественного отца, чей тяжелый характер наверняка не раз познал на себе. Возможно, надеясь на победу, он хотел преподнести королю подарок и тем самым упрочить свою репутацию как в глазах его и всего королевства, так и в своих собственных, обрести уверенность в своих силах, которой ему часто не хватало. К тому же речь шла о морском сражении, которое, в отличие от сухопутной битвы, не требовало от принца таких физических усилий, какие были для него слишком тяжелы в силу его хромоты. Но все эти расчеты Карла Салернского похоронили Рожер ди Лауриа и его хитрая тактика.
Несмотря на катастрофу в Неаполитанском заливе, король Карл не терял надежды на перелом в войне. Он быстро и жестко восстановил порядок в Regno, подавив вспыхнувшее было в Неаполе восстание и жестоко наказав жителей города Сорренто, которые, узнав о пленении Карла Хромого, снарядили делегацию с поздравлениями к адмиралу ди Лауриа. Затем король стал собирать новое войско и флот для похода на Сицилию. Он выступил на юг с внушительной армией в конце июня и три недели спустя осадил Реджо — портовый город, расположенный на кончике «носка итальянского сапога». Однако военная удача, похоже, окончательно изменила Карлу. Рожер ди Лауриа, верный своей репутации, и на этот раз переиграл анжуйцев: его флот, блокированный в Мессине, сумел вырваться в открытое море, а затем начал опустошать побережье в тылу армии Карла. Взять Реджо с ходу не удалось. Боевой дух наемного войска упал. Король снял осаду и отступил на север, фактически отдав всю Калабрию противнику. Он занял крупные суммы у флорентийских банков и ломбардских городов и объявил, что вернется весной, чтобы покорить наконец мятежный остров. На зиму король отправился в Апулию, самую спокойную из остававшихся у него провинций.
Последние месяцы жизни Карла Анжуйского хронисты и историки обычно описывают в мрачных тонах. Действительно, поводов для радости у короля было немного: помимо утраты Сицилии и пленения наследника, рассчитывать на какую-либо экспансию на Востоке — а этой цели Карл посвятил полтора десятилетия — более не приходилось. «Княжество Ахайя было мирным и относительно лояльным ему, пока в роли его наместников выступали тамошние магнаты… Он по-прежнему владел Корфу и одной или двумя крепостями на побережье напротив этого острова… Из всего королевства Албания у него остался лишь город Дураццо… В Иерусалимском королевстве его власть была ограничена Аккрой»{393}. Но в этих рассуждениях опять-таки видна склонность к оценкам ex post. Зная, что анжуйцам в конце концов так и не удалось отвоевать Сицилию, а остатки владений крестоносцев на Ближнем Востоке были разгромлены мусульманами уже в 1291 году, когда пала та самая Аккра, нетрудно рассматривать положение, в котором к концу 1284 года оказался Карл I, как полнейший упадок без каких-либо перспектив.
Но в тот момент ситуация могла видеться и иначе. Опорные пункты на Балканах и Востоке в сложившемся положении действительно были уже не так важны для неаполитанского короля, но они были — и давали определенную надежду на будущее. К тому же новый византийский император Андроник II выглядел правителем куда более слабым и пассивным, нежели Михаил VIII, так что Карл вполне мог рассчитывать на возобновление балканской кампании, как только настанет подходящее время. Что же касается главного театра военных действий, то поражение под стенами Реджо не поколебало воли Карла к продолжению борьбы. Его ресурсы еще не были исчерпаны — ни финансовые, ни политические, ни психологические: «Если наедине с собой Карл и сравнивал фиаско своей последней кампании со славными днями Беневенто и Тальякоццо, то на публике его мрачная и энергичная решимость оставалась неизменной»{394}. Да, пленение Карла Хромого стало для короля большим унижением, тем более что по требованию арагонцев Карл I был вынужден освободить Беатрису, дочь Манфреда и сестру Констанции Арагонской, к тому времени уже 18 лет содержавшуюся под стражей в Regno. (Карлу намекнули, что, если принцесса не будет передана ее арагонской родне, та не сможет ручаться за жизнь принца Салернского, который пока находился в одном из замков на Сицилии.) Однако у короля имелись и свои козыри: в последние месяцы 1284 года в войне, разгоревшейся из-за «Сицилийской вечерни», появился второй фронт. На стороне Карла выступила Франция.
Мартин IV не простил Педро Арагонскому захвата Сицилии. Папа издал буллу, объявлявшую крестовый поход против Арагона[188]. Салимбене в своей «Хронике» приводит причины, которыми церковь оправдывала свои действия: «Во-первых, Педро Арагонский захватил церковные земли и владеет ими, не желая подчиняться требованию Римской церкви освободить их. Во-вторых, необходимо было поддержать короля Карла и помочь ему, ибо именно ему Церковь доверила владеть этими землями. В-третьих, потому, что там умножались еретики, и преизрядно, а инквизиторы еретической порочности не могли туда попасть из-за людей Педро Арагонского, там находящихся. Четвертая причина заключалась в том, что Педро Арагонский держал в Сицилии свои войска, и нельзя было оказать исстари поступавшую оттуда помощь Святой земле продовольствием, оружием и ратниками»{395}.
Позиция Арагона была уязвима с правовой точки зрения. В 1205 году арагонский король Педро II, прозванный за свою набожность Католиком, признал верховную власть Святого престола над своими владениями, за что тогдашний папа Иннокентий III торжественно короновал Педро в Риме[189]. Таким образом, с точки зрения папства Арагонское королевство находилось в таком же положении, как и Сицилийское, — было папским леном, который глава церкви мог отнять у неугодного государя и передать другому, лояльному. Мартин IV так и поступил, предложив арагонский трон еще одному Карлу — юному графу де Валуа (ему шел 15-й год, и он был только что посвящен в рыцари), младшему сыну Филиппа III, короля Франции. Претендент приходился не только внучатым племянником Карлу Анжуйскому, но и племянником Педро III: его матерью, к тому времени давно покойной, была Изабелла, младшая сестра Педро. Король Франции и его сын, не мешкая, выступили в поход. Войско, которое они вели против Педро, кажется огромным — 16 тысяч конных рыцарей, 17 тысяч лучников и 100 тысяч пехоты{396}, — но речь, видимо, идет о свойственных средневековым хронистам преувеличениях. В любом случае армия, собранная французским королем, была, очевидно, весьма мощной, а учитывая, что против Педро выступил и его младший брат Хайме II, король Мальорки, ничто не предвещало, что это предприятие заслужит позднее уничижительную оценку историков — как «возможно, самое несправедливое, ненужное и катастрофическое за всю историю монархии Капетингов»{397}. Правда, уже в первые недели похода армия вторжения увязла на севере арагонских земель.
Как бы то ни было, направляясь в предпоследний день 1284 года из Мельфи, где он провел Рождество, в недалекую Фоджу, где 60 годами раньше Фридрих II построил один из своих замков-крепостей, Карл Анжуйский мог надеяться на то, что движение колеса Фортуны вниз, столь заметное для него в последние три года, замедлится, а может, и сменится новым подъемом. Как обычно, король много работал, отдавал распоряжения, подписывал эдикты. Но одной воли, даже столь сильной, как у Карла, было уже недостаточно для того, чтобы продолжать бороться. Король был стар, последние годы он провел в постоянном нервном напряжении, и его необычайно крепкое здоровье вдруг сдало. В Фодже Карл слег. Чем именно он заболел, сказать трудно: медицина XIII века знала немного диагнозов, кроме весьма расплывчатых «горячки» и «лихорадки». Болезнь была очень скоротечной: уже б января король отдал последние распоряжения, а в ночь на 7-е исповедался и причастился. Его последняя молитва была простой и касалась того, что он считал главным в своей жизни: «Господи Боже, истинно верую в Тебя, моего Спасителя, и прошу — смилуйся над моею душою. Ты знаешь, что я принял Сицилийское королевство во имя Святой Церкви, но не ради своей выгоды. Помилуй, Господи, и прости мне мои грехи»{398}. Вскоре после этого Карл I, король Сицилии, Неаполя, Албании и Иерусалима, князь Ахейский, граф Прованса, Форкалькье, Анжу и Мэна, впал в забытье и умер, не дожив два с половиной месяца до 58 лет. Колесо Фортуны, столь активно вращавшееся всю его беспокойную жизнь, остановилось. Как отметил Салимбене де Адам, «почил он в тот самый день, в который короновался много лет тому назад[190]. Был он прекрасным воином и снял посрамление с французов, которое те навлекли на себя при Людовике Святом в заморских землях. И оставил он после себя добрых наследников — сыновей и внуков»{399}. Немного напоминает последние слова какой-нибудь сказки, которую читают детям на ночь.
О наследниках Карла I у нас еще будет возможность поговорить в заключении настоящей книги. Пока же отметим, что позитивный отзыв процитированного хрониста отражает в первую очередь мнение гвельфской части тогдашнего итальянского общества, для которой Карл был фигурой легендарной и безусловно позитивной. Горевали о Карле, конечно, и при французском дворе, где понимали, что, несмотря на поражения, преследовавшие сицилийского короля в последние годы, в его лице Франция утратила сильного союзника. На отложившемся от Карла острове Сицилия и в других владениях Арагонской короны, естественно, ликовали; воспряли духом остатки гибеллинской партии в городах Центральной и Северной Италии; наверняка обрадовались новости о кончине давнего врага и в Константинополе. Остальная Европа, судя по всему, восприняла эту весть более или менее нейтрально.
Негативные отзывы о Карле свойственны в наибольшей мере историографам позднейшего времени. «Двенадцать лет он властвовал в Средиземноморье, снедаемый ненасытным честолюбием и влекомый неукротимой энергией; и то и другое не давало ему покоя, — осуждает Карла Джон Норвич. — Присущее ему неподдельное благочестие не сочеталось ни со смирением (ибо он всегда видел себя избранником, орудием в руках Божьих), ни с гуманностью, ни с милосердием»{400}. Справедливости ради следует заметить, что тема избранности, точнее, предназначенной ему Богом миссии в еще большей мере, чем у Карла, проходит через всю жизнь его старшего брата Людовика IX — однако никто из историков не ставит это в вину святому королю. Разница здесь, вероятно, обусловлена тем поступком, который навеки запятнал репутацию Карла Анжуйского и о котором Норвич не забывает упомянуть: «Совершенная им казнь шестнадцатилетнего Конрадина потрясла Европу и служила поводом для обвинений в его адрес всю его жизнь. Порой он мог вызывать восхищение, но любовь — никогда»{401}.
Стивен Рансимен пытается подвести баланс качеств Карла как политика и человека: «По своим представлениям он был человеком чести, но это были узкие и эгоистичные представления. Многие могли восхищаться им; его придворные и министры служили ему верой и правдой… Но мало кто из них любил его, да и у своих подданных он, как правило, любви не вызывал… Его планы разрабатывались тщательно и детально, но в них не учитывалось то сопротивление, которое они вызывали в людских сердцах. Когда он осудил на смерть Конрадина, он сделал это из ясного политического расчета; но, будучи безжалостным, он не мог предвидеть, какую волну сожаления вызовет эта казнь в мире. К его человеческим недостаткам принадлежало определенное тщеславие, которое заставляло его гнаться за столь бессмысленными титулами, как король Иерусалимский, и чрезмерная самоуверенность, которая с годами привела его к тому, что он начал недооценивать своих врагов»{402}. Здесь мы снова сталкиваемся с противопоставлением «восхищения» и «любви»: за Карлом признается способность вызывать своими достижениями первое, но неспособность снискать вторую.
Все это вполне правдоподобные толкования характера и образа действий Карла Анжуйского. Но им, на наш взгляд, недостает чего-то, что можно назвать контекстуальной уравновешенностью. Недостатки Карла-монарха не воспринимаются его критиками как продолжение его достоинств, точнее — как сами достоинства, которые и сделали его королем. Ведь, в отличие от большинства современных ему европейских государей, Карл не был рожден для королевской короны. Этот младший французский принц завоевал положение более высокое, чем было определено ему рождением, как раз благодаря упорству, вере в собственные силы и миссию, возложенную на него Богом, а также холодной беспощадности, которая часто свойственна таким «людям миссии». Достижения Карла были следствием свойств его характера, эти свойства усиливались по мере того, как приносили плоды — пока в изменившейся ситуации наконец не явились одной из причин поражений. Ведь то, что хорошо для воина-кондотьера (в роли которого Карл выступал, например, во Фландрии в середине 1250-х годов) или претендента на престол, вовсе не обязательно годится для царствующего монарха.
Однако последнее поражение Карла не стало окончательным: анжуйцы в конце концов удержали юг материковой Италии и большую часть владений на Балканах. В Анжу, Мэне и Провансе власть Карла и его наследников была абсолютно прочной. (Графство Анжу, впрочем, в 1290 году перешло во владение Карла де Валуа — того самого, которому Мартин IV хотел передать корону Арагона; Карл получил это графство в качестве приданого своей жены Маргариты Анжуйской — старшей дочери Карла II Хромого[191].) Да, Карла I трудно назвать государем, которого любили подданные. Но не таковы ли были очень многие из современных ему, равно как и предшествовавших, и позднейших правителей? Фридриха II Гогенштауфена называли stupor mundi, «дивом света», но не звучало ли в этом прозвище то же, в чем упрекают Карла, — восхищение, не дополняемое любовью? Напротив, большинство дошедших до нас характеристик Манфреда подчеркивают, что он был популярным королем, — но это не помогло ему в роковой день битвы при Беневенто.
Казнь Конрадина и «Сицилийская вечерня» были наиболее громкими событиями, связанными с именем Карла Анжуйского в сознании его современников. Смерть юноши королевской крови на плахе отчасти затмила военную славу Карла; восстание на Сицилии подорвало его репутацию сильнейшего государя христианского Средиземноморья. Карл I был фигурой, чья судьба отличалась необычайными перипетиями — и, будь ему известен жанр романа, он мог бы на закате своих дней воскликнуть, подобно Наполеону: «Что за роман моя жизнь!» Но если посмотреть на основателя Капетингской Анжуйской династии с несколько более прозаичной точки зрения, то Карл вполне органично впишется в ряд крупных государей, правивших в Европе конца XIII — начала XIV столетия. Он — один из тех монархов христианского Запада, которые олицетворяли закат классической, наиболее славной эпохи рыцарства, связанной с крестовыми походами, и начало нового периода, когда на передний план выходят другие социальные силы — чиновничество, на которое во все большей мере опирается усилившаяся королевская власть, и зажиточные городские слои, чьи хозяйственные интересы все чаще оказывают влияние на политику.
В этом контексте Карл Анжуйский выглядит как необычайно предприимчивый и энергичный, во многом успешный, в чем-то невезучий, но в чем-то и вполне типичный представитель своего времени и круга: «Если лихорадочный поиск Карлом денег и людей в период между 1279 и 1285 годом [192] имел немного прецедентов в прошлом, за исключением последних лет Фридриха 11, то в будущем у него оказалось множество параллелей. Царствования Эдуарда I в Англии после 1294 года и Филиппа Красивого во Франции в тот же период точно так же отмечены ростом прямого налогообложения и таможенных сборов, принуждением [банкиров] к выдаче кредитов [короне] и — в случае с Филиппом — экспериментами с порчей монеты… Обоим пришлось бороться с восстаниями, но далеко не столь масштабными, как те, что сделали столь бурным царствование Карла. Оба [Эдуард и Филипп] опирались на долгую традицию правления своих династий. Возможно, Карл оказался менее удачлив, чем они, просто потому, что был новым правителем в чужой стране»{403}.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: династия, Сицилия, Европа
ТРОН Анжуйской династии после смерти Карла I зашатался, но не упал. Формально преемником деда (в отсутствие Карла Хромого, по-прежнему находившегося в арагонском плену) был девятилетний Карл Мартелл, носитель громкого имени, связанного с историей дома Каролингов[193]. Фактически правителем Regno на несколько лет стал Роберт II, граф д'Артуа, племянник покойного короля. Роберт называл себя «бальи Сицилийского королевства, утвержденным Святой Римской Церковью посредством достопочтенного отца Герарда, легата Апостольского престола»{404}. Тем самым подчеркивалось, что верховным источником власти в Regno является папство. Решительные меры, принятые Робертом в первые годы после смерти Карла Анжуйского, позволили усмирить мятежных баронов, часть из которых подумывала о переходе на сторону Арагона, наладить работу государственного механизма, обезопасить побережье Regno от возможной высадки неприятеля и несколько пополнить вечно пустующую неаполитанскую казну, которая с трудом оправлялась от утраты Сицилии. Граф Роберт оставался на юге Италии до осени 1291 года, когда отбыл на север, в свои наследственные владения в Артуа.
Между тем смерть Карла I открыла череду кончин главных действующих лиц драмы, начавшейся «Сицилийской вечерней». В конце марта 1285 года заболел и умер папа Мартин IV. Его преемник Гонорий IV, избранный в мае, был более миролюбивым человеком, и, хотя продолжал оказывать поддержку Анжуйскому дому, в принципе не видел ничего дурного в его примирении с Арагоном. Тем более что крестовый поход французского войска против арагонцев складывался из рук вон плохо. Карл де Валуа, которого папа Мартин объявил королем Арагонским, стал лишь предметом насмешек — из-за своей коронации, на которой не было короны, остававшейся у Педро III, и кардинал Шоле, проводивший обряд, вместо нее возложил юноше на голову собственную шляпу. Осажденная Жирона, один из крупнейших городов Каталонии, не собиралась сдаваться французам. К тому же на море вновь показал себя Рожер ди Лауриа: в битве у Ле-Формиг 4 сентября он разгромил франко-генуэзскую эскадру и захватил несколько сот пленных.
К тому времени французское войско находилось в плачевном состоянии: в нем вспыхнула сильнейшая эпидемия дизентерии. «И из королевского войска умерло немало народу, сраженного не врагом, а волей Божией, от которой и зависит жизнь и смерть всего сущего»{405}. Не избежал болезни и Филипп III. Крестоносцы запросили пощады: к арагонцам были направлены парламентеры с просьбой о перемирии и позволении мирно уйти восвояси через пиренейские перевалы. Педро III пообещал безопасность французской королевской семье, но не всему войску. В результате изможденные болезнью французы подверглись нападению арагонцев в ущелье Коль-де-Паниссар и были почти полностью перебиты{406}. Однако Педро сдержал слово: умирающего короля Филиппа и членов его семьи арагонские воины пропустили на север. Несколько дней спустя Филипп III скончался в Перпиньяне. В историю он вошел с прозвищем «Смелый», хотя более уместным было бы, наверное, менее льстивое — «Безрассудный».
Хронист Рамон Мунтанер сообщает, что в Барселоне более недели продолжались празднества по случаю победы. Однако радость Педро III была недолгой: он заболел и 2 ноября скончался, пережив своего противника, короля Франции, лишь на месяц. На смертном одре Педро заявил, что захватил Сицилию по праву наследования, но не вопреки правам церкви, чьим верным сыном всегда стремился быть. Как бы то ни было, отказываться от острова Барселонский дом не собирался, и сын Педро, Альфонсо III, унаследовавший корону, продолжал активные боевые действия против анжуйцев и их союзников. Хотя у Альфонсо хватало проблем в самом Арагоне (вновь оживилась баронская оппозиция), он сумел отобрать Балеарские острова у своего дяди Хайме, выступившего на стороне Франции и Неаполя. В июне 1287 года у неаполитанских берегов вновь проявился флотоводческий гений Рожера ди Лауриа: он нанес сокрушительное поражение анжуйскому флоту, почти вдвое превосходившему по численности его эскадру. Одновременно не удалась высадка собранного папой войска на Сицилию — после непродолжительной осады Аугусты армия вторжения уплыла на материк. Война не клеилась, анжуйцам пора было искать мира.
Карл Хромой, по-прежнему пребывавший в комфортабельном, но унизительном плену, понимал это лучше других. При посредничестве английского короля Эдуарда он начал договариваться с Арагоном. В ноябре 1288 года Карла наконец отпустили на свободу, но на весьма жестких условиях. Он обязался заплатить арагонцам 30 тысяч марок серебром, заставить своего родственника Карла де Валуа отказаться от претензий на арагонскую корону, признать (по крайней мере де-факто) власть над Сицилией Хайме, младшего брата Альфонсо III[194], а в качестве гарантии выполнения этих обещаний — оставить вместо себя в плену заложников: трех своих младших сыновей и несколько десятков баронов и рыцарей. Карл согласился на все (очень трудно представить себе в этой роли его отца), но по возвращении в Regno был официально избавлен от своих обязательств новым папой Николаем IV, который подтвердил отлучение арагонского короля от церкви. В 1289 году Карл II наконец короновался, но вскоре отбыл в Прованс, откуда продолжил переговоры с противником. Перемирие, заключенное сроком на два года, не мешало Рожеру ди Лауриа со своим флотом то и дело совершать набеги на побережье Regno. В свою очередь, французы, не слишком довольные миролюбием Карла II, которое, по их мнению, граничило с капитулянством, по-прежнему вынашивали планы военных экспедиций против Арагона и Сицилии{407}.
Однако стремление Карла Хромого к миру принесло неожиданные плоды. Альфонсо III, чья власть в Арагоне была нестабильна, а отношения с младшим братом, правившим Сицилией, оставляли желать лучшего, согласился на большие уступки. В феврале 1291 года в Тарасконе на юге Франции был заключен мир, по условиям которого король Альфонсо соглашался лишить собственного брата короны Сицилии и вернуть остров анжуйцам. В обмен на это папа обещал снять с Альфонсо и жителей Сицилии отлучение от церкви и отказаться от признания Карла де Валуа королем Арагона. Франция и Неаполь, в свою очередь, обязались заключить с Арагоном мир{408}. Но не успели просохнуть чернила на тексте этого соглашения, как Альфонсо III скоропостижно скончался в возрасте всего 26 лет. Ему наследовал тот самый Хайме (в качестве короля Арагонского — Хайме II), который до этого правил Сицилией и, конечно, не собирался признавать условия Тарасконского мира. Война продолжалась.
Еще через четыре года Хайме II, оставшись с опустошенной казной перед лицом коалиции непокорных баронов, вынужден был, в свою очередь, согласиться на мир. История повторилась: по условиям договора, подписанного в Ананьи (1295)) теперь уже Хайме обязался передать Сицилию папе и анжуйцам, но против этого был младший брат арагонского короля — Фридрих (Федериго), которому Хайме ранее поручил управление островом (правда, без королевского титула). Федериго, характером несколько напоминавший своего деда по матери — Манфреда, был популярен среди сицилийцев, и в начале 1296 года сословный парламент острова провозгласил его королем Сицилии. Хайме II испил чашу унижения до дна: по условиям договора в Ананьи его флот, многократно бивший анжуйцев и французов, теперь должен был в союзе с ними выступить против Федериго.
Младший брат, однако, оказался решительнее и предприимчивее старшего. С одной стороны, он разжигал пламя баронских мятежей в Арагоне и графстве Барселонском, с другой — провел несколько смелых операций на побережье Regno, с третьей — поощрял гибеллинов Северной и Центральной Италии, поднявших в конце 1290-х годов серию восстаний против папы и его неаполитанских союзников. Однако на стороне Хайме II и Карла II, неожиданно ставших союзниками, оказались время, ресурсы и, выражаясь сегодняшним языком, кадры: даже Рожер ди Лауриа сохранил верность арагонскому королю и выступил против мятежного Федериго, разгромив сицилийскую эскадру в сражении у мыса Орландо. Франция и Неаполь попытались решить исход войны, направив на Сицилию новую армию вторжения — на сей раз во главе с Карлом де Валуа, несостоявшимся королем Арагонским. Но Карла ждала неудача: сицилийцы упорно сопротивлялись, а в его войске вспыхнула эпидемия чумы. Кроме того, король Федериго через своих посланцев упрекнул французского принца в неблагодарности: как пишет Рамон Мунтанер, он напомнил ему, как его отец Педро III, проявив благородство, когда-то позволил французской королевской семье, в том числе и самому Карлу де Валуа, уйти домой, избежав смерти или плена в битве при Коль-де-Паниссар. Неизвестно, сыграл ли свою роль этот упрек, но Карл покинул Сицилию, а между противниками вновь начались мирные переговоры.
Мир, завершивший «войну Сицилийской вечерни», был подписан в Кальтабеллотте на западе Сицилии 31 августа 1302 года. Федериго выиграл: Сицилию оставили в его власти, хотя ему запретили «именоваться королем Сицилийским, вместо этого предложив титул “короля Тринакрии” (старинное греческое название острова), так что имя Сицилийского королевства сохранялось за его материковой частью, находившейся в руках анжуйцев. Договор, заключенный в Кальтабеллотте, устанавливал, что после смерти Фридриха II[195] остров Сицилия должен вернуться к Анжуйскому дому, который тем самым вновь правил бы “большой” Сицилией — Regno»{409}. Остается добавить, что Федериго согласился взять в жены Элеонору, дочь Карла II, и освободить его младшего сына Филиппа, который несколькими годами ранее попал в плен к сицилийцам, а также уйти из Калабрии, где в ходе войны захватил определенные территории. Карл Хромой, в свою очередь, обязался передать во владение своего зятя либо Сардинию, либо Кипр, на которые сами анжуйцы, впрочем, лишь претендовали, не владея этими островами.
Двадцатилетняя война наконец закончилась, но ненадолго: уже в 1313 году Федериго нарушил условия мира и, вступив в союз с германским императором Генрихом VII, выступил против неаполитанского (официально — по-прежнему сицилийского) короля Роберта, сына Карла II. Вражда между сицилийской ветвью Барселонского дома и домом Анжуйским продолжалась еще не одно десятилетие: Федериго и не подумал передать остров анжуйцам, как предполагали условия мира в Кальтабеллотте, а завещал корону своему сыну Педро.
Эта вражда подрывала ресурсы Сицилии и Неаполитанского королевства, не позволяя в полной мере проявиться ни потенциалу этих земель, ни талантам некоторых их правителей — например, того же Роберта, прозванного Мудрым: «…У Роберта были данные, чтобы стать великим правителем. Он был ученым, чья искренняя любовь к литературе сделала его щедрым покровителем поэтов и писателей — особенно Петрарки, который был его личным другом и восхищался им настолько, что выразил надежду, что в один прекрасный день тот станет повелителем всей Италии. В более спокойные времена он смог бы очистить Сицилийское королевство от заполонивших его миазмов. Увы, ему не выпало такой возможности. Бесконечные войны с его соперниками из Арагона опустошили казну, и даже дома ему приходилось постоянно бороться с мятежными баронами, не дававшими ему ни минуты покоя»{410}.
Как отмечает Хироси Такаяма, «самым заметным и долгосрочным результатом [«войны Сицилийской вечерни»] явилось сосуществование двух соперничающих королевств на юге Италии, ставшее фундаментальным политическим фактором для этого региона. Каждое из этих государственных образований тесно сотрудничало с внешними силами… в своем противостоянии и привело юг Италии в состояние почти непрерывной войны, разрушавшей местную экономику»{411}. Пожалуй, именно с этого момента, а не с завоевания Regno Карлом Анжуйским, следует вести отсчет долговременного социально-экономического упадка юга Апеннинского полуострова и Сицилии. Династия, основанная Карлом I, правила в Неаполе до 1435 года, когда скончалась бездетная королева Джованна II, последний прямой потомок Карла Анжуйского на троне Regno. Ее наследником после нескольких лет борьбы за престол стал Альфонсо V, прозванный Великодушным, к тому времени объединивший под своей властью Арагон и Сицилию. Противостояние острова и полуострова, длившееся полтора столетия, закончилось.
С тех пор и до 1714 года[196] юг Италии находился в орбите испанской государственности[197], оставаясь, однако, на ее периферии. С одной стороны, открытие Америки и смещение торговых путей и центров европейской экономической жизни на северо-запад континента и в сторону Атлантики, с другой — экспансия Османской империи в Леванте и на Балканах привели к тому, что Сицилия и итальянский юг, в раннем Средневековье — богатейшие провинции Средиземноморья, стали бедными провинциальными территориями. Вполне возможно, что Regno смогло бы лучше противостоять новым неблагоприятным геополитическим и экономическим условиям, не будь оно столь ослаблено затянувшимся конфликтом анжуйцев и арагонцев. Но случилось так, что исторический надлом, которым стала «Сицилийская вечерня», имел очень долговременные последствия, которые отчасти ощущаются по сей день: юг Италии, Mezzogiorno, границы которого практически совпадают с былыми границами Regno, является одним из наиболее отсталых регионов не только нынешней Итальянской Республики, но и Западной Европы в целом.
Судьба Анжуйского дома после смерти его основателя, впрочем, оказалась связана не только с южной частью «итальянского сапога», но и с куда более отдаленными странами. Карл Роберт, старший сын рано умершего Карла Мартелла, стал претендентом на трон Венгрии — после того, как в 1301 году там пресеклась династия Арпадов. (Бабка Карла Роберта, супруга Карла II Мария Венгерская, приходилась сестрой предпоследнему королю этой династии, Ласло IV.) После долгой борьбы с другими претендентами и венгерскими магнатами Карл Роберт к 1312 году относительно прочно утвердился на троне Венгрии, который и занимал на протяжении следующих трех десятилетий. Долгие царствования этого монарха и его сына Людовика (Лайоша) Великого (1342–1382) стали «золотым веком» позднесредневековой Венгрии, эпохой внутреннего мира и экономического процветания, разительно отличавшегося от бед, преследовавших в XIV веке Западную Европу.
В 1370 году Людовик Венгерский унаследовал от своего тестя Казимира III также польскую корону, которая после смерти Людовика перешла к его дочери Ядвиге. Выйдя замуж за великого князя Литовского Ягайло (Ягелло), ставшего в христианском крещении Владиславом II, рано умершая Ядвига не стала родоначальницей новой династии, но стала святой (канонизирована в 1997 году папой Иоанном Павлом II), глубоко почитаемой в Польше. Царствование Ядвиги (1384–1399) послужило переходным этапом между бурным польским Средневековьем и более стабильной эпохой Ягеллонов, потомков ее супруга от последующих браков (Владислав-Ягайло остался королем и после смерти жены). Уния Польского королевства и Великого княжества Литовского, впервые появившаяся в результате брака Ядвиги и Ягайло, с 1569 года — «Речь Посполитая обоих народов», играла важную роль в истории Центральной и Восточной Европы вплоть до XVIII столетия.
Эти события, конечно, уже не имеют отношения к биографии основателя Анжуйской династии — они лишь свидетельствуют о том, что крона посаженного Карлом I династического древа оказалась достаточно широкой. Но роль самого Карла, естественно, не сводится к функции родоначальника одной из европейских королевских династий — в этом отношении можно найти и более впечатляющие примеры. Карл своей беспокойной жизнью короля-воина, «меча Христова», прощупывал границы христианского Запада, закрывая эпоху его формирования и экспансии. На смену ей в XIV столетии пришли времена внутреннего кризиса и натиска извне, прежде всего с юго-востока, где набрала силу Османская империя. Однако обаяние его судьбы еще и в том, что этот человек, при всей его воле и непреклонности, ушел из жизни не в момент победы, а в разгар борьбы, когда колесо Фортуны двигалось вниз, — и это придает жизни Карла I Анжу-Сицилийского, по крайней мере ее завершению, неожиданно человечный оттенок. Суровый государь, столько раз бравший судьбу в свои руки, ушел в смятении и несчастье.
И Салимбене, описывая сон, который якобы видела некая знатная госпожа из города Барлетта вскоре после смерти короля, находит очень удачный образ Карла, одновременно наводящий страх и вызывающий сострадание: «Когда почил король Карл, эта женщина увидала… сон, о котором она поведала братьям-миноритам в следующих словах: “Узрела я себя в некоем большом саду красоты неописуемой, а в нем огромного и страшного дракона, при виде которого я пустилась бежать, — так сильно я его напугалась. А дракон пустился за мной вдогонку с величайшей быстротой, взывая ко мне человеческим голосом и умоляя меня его подождать, ибо ему надобно мне кое-что поведать… Я остановилась, желая выслушать, что же такое он мне скажет. Обернулась я к нему и спросила: “Кто вы и что мне хотите поведать?” И сказал он в ответ: “Я король Карл и жил в том чудесном вертограде, из которого с помощью куска плоти изгоняет меня Педро Арагонский”. Это он говорил о жене Педро Арагонского, из-за которой тот выступил против Карла и занял Сицилийское королевство. А что под словом “плоть” подразумевается женщина, говорится у Иоанна (1: 13): “Ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, а от Бога родились”. Когда братья-минориты услыхали о кончине короля Карла, поняли они, что в видении открылась той женщине правда»{412}.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Источники и литература на русском языке
Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. Екатеринбург, 1999.
Блок М. Феодальное общество. М., 2003.
Брандедж Дж. Крестовые походы. Священные войны Средневековья. М., 20п.
Виллани Дж. Новая хроника, или История Флоренции. М., 1997.
Георгий Акрополит. История. СПб., 2005
Гергей Е. История папства. М., 1996
Голдстоун Н. Четыре королевы. М., 2010.
Город в средневековой цивилизации Западной Европы: Сб. статей. М., 1999.
Данте Алигьери. Божественная комедия/Пер. М. Лозинского. M., 1986.
Дашков С. Императоры Византии. М., 1990
Диль Ш. История Византийской империи. М., 1948.
Добиаш-Рождественская О. Эпоха крестовых походов. Запад в крестоносном движении. М., 2011.
Жуанвиль Жан де. Книга благочестивых речений и добрых деяний нашего святого короля Людовика. СПб., 2012.
Жуанвиль Ж. де, Виллардуэн Ж. де. История крестовых походов. М., 2008.
Жизнеописания трубадуров. М., 1993.
История Византии / Под ред. С.Д. Сказкина. В 3 т. М., 1967.
Комнина Анна. Алексиада. СПб., 1996
Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. М., 2001.
Ле Гофф Ж. Рождение Европы. М., 008.
Лозинский С. Г. История папства. M., 1986.
Макиавелли Н. Государь. M., 2002.
Норвич Дж. Нормандцы в Сицилии. Второе нормандское завоевание, 1010–1130. М., 2005.
Норвич Дж. Нормандцы в Сицилии. Расцвет и закат Сицилийского королевства. М., 2005.
Норвич Дж. Срединное море. История Средиземноморья. М., 2010.
Оболенский Д. Византийское содружество наций. М., 1998.
Осокин Н. История альбигойцев и их времени. М., 2003.
ПальЛи фон. История империи монголов. СПб., 2010.
Пахимер Георгий. История о Михаиле и Андронике Палеологах. СПб., 1868.
Перну Р. Ричард Львиное Сердце. М., 2000.
Пти-Дюшайи Ш. Феодальная монархия во Франции и в Англии X–XIII вв. Мн., 2010.
Салимбене Ааам де. Хроника. М., 2004. Сборник документов по социально-политической истории Византин / Отв. ред. акад. К.А. Косминский. M., 1951
Рыжов К. Все монархи мира. Западная Европа. M., 1999.
Сугерий, аббат Сен-Дени. Жизнь Людовика VI Толстого, короля Франции
(1108 — 1137). М., 2006.
Хачатурян Н.А. Сословная монархия во Франции XIII–XV вв. M., 1989.
Эпоха крестовых походов / Под ред. Э. Лависса и А. Рамбо. Смоленск, 2010.
Источники и литература на иностранных языках
Abulafia D. Frederick II. A Medieval Emperor. Oxford, 1992.
Abulafia D. (ed.) Italy in the Central Middle Ages. Oxford, 2004.
Avian M. La Guerra del Vcspro Siciliano. Firenze, 1876.
Arlela A., Camphtol J. aj. Dějiny Spanělska. Praha, 1995.
Barllell R. The Making of Europe. Conquest, Colonization and Cultural Change 950–1350. L., 1994.
Benjamin S. Sicily: Three Thousand Years of Human History. Hanover, NH, 2006.
Benton J. F. The Revenue of Louis VII. In: Speculum, 1967. Vol. XLII.
Blagojevié M. Srbija u doba Nemanjića. Beograd, 1989.
Bressler R. Frederick II. The Wonder of the World. Yardley, Pn., 2010.
Chalandon E Histoire de la domination normande en Italie et en Sicilic. Paris, 1907.
Chaylor H.J. A History of Aragon and Catalonia. L., 1933.
Davis N. Vanished Kingdoms. The History of Half-Forgotten Europe. L., 2012.
Denholm-Young N. Thomas de Wykes and his Chronicle. In: The English Historical Review, 1946. LXI (CCLX). P. 157–179.
Denieul-Cormier A. Wise and Foolish Kings. The First Mouse of Valois, 1328–1498. NY, 1980.
Duby G. The Legend of Bouvines: War, Religions and Culture in the Middle Ages. LA, 1990.
Duby G. France in the Middle Ages 987–1460. Oxford, 2009.
Dunbabin J. The household and entourage of Charles I of Anjou, king of the Regno, 1266–1285. In: Historical Research. Vol. 77. No. 197. 2004.
Dunbabin J. Charles I of Anjou. Power, Kingship and State-Making in Thirteenth-Century Europe. L., 1998.
Dunbabin J. The French in the Kingdom of Sicily 1266–1305. Cambridge, 2011.
Ehlers J., Millier H., Schneidmuller, B. (eds). Die französischen Könige des Mittelalters. Von Odo bis Karl VIII. (888–1498). München, 1996.
Elliott J. H. Imperial Spain 1464–1716. L., 1975.
Epstein S. R. An Island for Itself. Kconomic development and social change in late medieval Sicily. Cambridge, 1992.
Fawtier R. The Capetian Rings of France. NY, 19(16.
Ferro M. Dějiny Francie. Praha, 2006.
France J. Western Warfare in the Age of the Crusades 1000–1300. L., 1999.
Geanakoplos Deno J. Imperor Michael Palaeologus and the West 1258–1282. A Studi in Byzantine — Latin Relations. Cambridge, Ms, 1959.
Gobbets J. Das Militanvesen im Königreich Sizilien zur Zeit Karls I. von Anjou. Stuttgart, 1984.
Gilmour D. The Pursuit of Italy. L., 2012.
Giuseppe di Giudice. Codice diplomatico del regno di Carlo I. c II. d'Angiô dal 1265–1309. Vol. 11. Napoli, 1869.
Gregorovius F. The History of Rome in the Middle Ages. Cambridge, 2010.
Hallam E.D., Everard J. Capetian France, 987–1328. L., 2001.
Hampe К. Geschicte Konradinsvon Hohenstaufen. Leipzig, 1942.
Harding A. F.ngland in the Thirteenth Century. Cambridge, 1993.
Herde P. Karl von Anjou. Stuttgart, 1979.
Holden A.J. Le Roman de Rou de Wace. Paris, 1970.
Holmes G. (ed.). The Oxford Illustrated History of Medieval Europe. Oxford, 1988.
Howarth S. Knights Templar: The Essential History. Bloomsbury, 2006.
Humphreys S. From Saladin to the Mongols: The Ayyubids of Damascus, 1193–1260. L., 1977.
Joranson E. The Inception of the Career of the Normans in Italy — Legend and History. In: Speculum. Vol. 23. No. 3 (Jul., 1948).
Kantorowicz E. Frederick the Second, 1194–1250. L., 1957.
Keen M. A History of Medieval Europe. NY, 1982.
Kiesewetter A. Die Anfange der Regierung Konig Karls II. von Anjou (1278–1295). Hu-sum, 1999.
Kosztolnyi Z-J. Hungary in the Thirteenth Century. In: American Historical Association (AHA) Monograph Series. Vol.439. Cambridge, 1996.
Kronika uhorských králov zvaná Dubnická. Připrava vydání Július Sopko. Budmerice: Vydavatelstvo Rak, 2004.
Lala E. Rcgnum Albaniae, the Papal Curia, and the Western Visions of a Borderline Nobility. Central European University. Budapest, 2008.
L'état angevin. Pouvoir, culture et société entre XIIIe et XIVe siècle. Acte du Colloque international (Rome-Naples, 7–11 novembre, 1995). Rome, École Française de Rome, 1998.
Le Goff J. Sredověky člověk //In: Stfedověky člověk a jeho svět / Ed. J. Le Goff. Praha, 1999.
Lewis A. W. Royal Succession in Capetian France: Studies on Familial Order and the State. Cambridge, Mass., 1981.
Lu Rebellamentu di Sichilia. Codice délia Biblioteca Régionale di Palermo. Ed. Y. Evo-la. Palermo, 1882.
Matthew D. The Norman Kingdom of Sicily. Cambridge, 2004.
Maritain J. Man and the Slate. Chicago, 1951.
Meyer Setton K. The Papacy and the Levant: 1204–1571: The Thirteenth and Fourteenth Centuries. Colingdale, l'A, 1976.
Michael Gerli Е. & Samuel G. Armistead (eds.). Medieval Iberia: An Encyclopedia. Routledge, 2003.
Mundy J.H. Europe in the High Middle Ages 1150–1300. L., 2000.
The Croniclc of Ramon Muntaner, translated into English by Lady Goodenough. Cambridge, Ontario, 2000.
Mortimer I. Medieval Intrigue: Decoding Royal Conspiracies. L., 2010.
Norwich J. A Short History of Byzantium. L.; NY, 1997.
O'Callaghan J. F. A History of Medieval Spain. Cornell University Press, 1983.
O'Connell D. The Teachings of Saint Louis. Chapel Hill, 1972.
Matthew Paris. Chronica Majora / Ed. H. R. Luard. L., 1972.
Perry G. E. The History of Egypt — The Mamluk Sultanate. Greenwood, 2004.
Percy W.A.Jr. The earliest revolution against the “modern state”: direct taxation in medieval Sicily and the Vespers. In: Italian quarterly, 1981. Vol. 22. No. 85. P. 73–85
Pispisa E. II regno di Manfredi. Proposte di interpretazione. Napoli, 1991.
Pollastri S. La presence ullramontaine dans le midi italien (1265–1340). In: Studi Storici Meridionali. Vol. 12. 1995.
Prestwich M. Edward I. New Haven, 1997.
Privitera J.F. Sicily. An Illustrated History. NY, 2002.
Pryor J. The galleys of Charles I of Anjou, King of Sicily. In: Studies in Medieval and Renaissance History, 1993. Vol.14. P. 33–104.
Registri delta Cancelleria Angioina (RCA). Napoli, 1950–1998.
Roger II and the Creation of the Kingdom of Sicily. Selected Sources translated
and annotated by G.A. Loud. Manchester, 2012.
Runciman S. The Sicilian Vespers. Cambridge, 1958.
Runciman S. A History of the Crusades. NY, 1964.
Saba Malaspina. Chronicon. CentreTraditio Litterarum Occidentalium (CTLO), 2010.
Sassier T. Hugues Capet. Naissance d'une dynastie. Paris, 1987.
Schmale F.-J. (ed.). Quelle zur Investiturstreit. München, 1978.
Sivéry G. Blanche de Castille. Paris, 1990.
Sladen D. B. W, Bourne, F. The Secrets of the Vatican. L., 1907.
Sternfeld R. Karl von Anjou als Graf dcr Provence. Berlin, 1888.
Sturdza M. D. Dictionnaire Historique et Généalogique des Grandes Familles de Grèce, d'Albanie et de Constantinople. Paris, 1999.
Tiemey B. The Crisis of Church and State (1050–1300). NY, 1964.
Van Houls E. The Normans in Europe. Manchester, 2000.
VanTricht F. The Latin renovatio of Byzantium: The Empire of Constantinople (1204–1228). Leiden, 2011.
Vivoli M. Raymond-Bérenger V de Provence et ses quatre Hlles. Paris, 2000.
Wickham G. The Inheritance of Rome. L., 2010.
Wieruszowski H. Der Anteil Johanns von Procida an der Verschwôrunggegen Karl von Anjou. In: Politics and Culture in Medieval Spain. Rome, 1971. P. 173–183.
Williams G. Papal Genealogy: The Families and Descendants of the Popes. L., 2004.
Wood H. H. The Battle of Hastings: The Fall of Anglo-Saxon England. Atlantic, 2008.
Wood C.T. The French Apanages and the Capetian Monarchy, 1224–1378. In: Harvard
Historical Monographs, LXI. Cambridge, Mass., 1966.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Карл I Анжуйский
Коронация Людовика VIII и Бланки Кастильской, родителей Карла Анжуйского, в Реймсе в 1223 году. Миниатюра из «Больших французских хроник» (середина XV в.)
Людовик Святой и его приближенные отправляются в крестовый поход в Египет (1248). Миниатюра из хроники Гийома де Сен-Патю
Крестоносные государства Ближнего Востока. Карта, составленная в XVIII веке
Карта крестовых походов XIII века
Людовик IX Святой. Картина Эль Греко (XVI в.)
Император Фридрих II Гогенштауфен. Со средневековой миниатюры
Папа Иннокентий III
Золотые монеты Карла Анжуйского
Рожер II, король Сицилии. Изображение из хроники Петра Эболийского (1196)
Коронация Манфреда Гогенштауфена (1258). Иллюстрация к «Новой хронике» Джованни Виллани
Казнь Конрадина в Неаполе. Иллюстрация к «Новой хронике» Джованни Виллани
Смерть Людовика IX во время крестового похода в Тунисе (1270). Миниатюра из «Больших французских хроник»
«Вступление крестоносцев в Константинополь». Картина Эжена Делакруа
Карта восстановленной Византийской империи и соседних государств в 1265 году
Юный император Иоанн IV Ласкарис, впоследствии ослепленный своим соперником Михаилом Палеологом
Современный вид города Берат (Албания). Видны крепостные стены и цитадель
Папа Николай III
«Колокол Уэски». Картина Хосе Касадо дель Алисаля
Хаймс I Арагонский
«Сицилийская вечерня». Одно из полотен художественного цикла итальянского живописца Франческо Айеца, посвященного «вечерне» (1822)
Педро III Арагонский с войском высаживается на Сицилии (1282). Изображение из средневековой арагонской хроники
Педро III наблюдает за разгромом французского войска в ущелье Коль-де-Паниссар (1285). Картина Мариано Барбасана (188g)
Карл II Хромой, его жена Мария Венгерская и их дети. Изображение из «Неаполитанской Библии», или «Библии Анжуйского рода»
* * *
Примечания
1
В этом произведении наш герой помещен в Чистилище, «долину земных властителей», где малопочтительно назван Носачом. Данте изображает сто в довольно комичном виде — поющим хором со своим прижизненным соперником Педро III Арагонским:
A этот кряжистый, поющий в лад С тем носачом, смотрящим величаво, Был опоясан всем, что люди чтят.(Данте Алигьери. Божественная комедия/ Пер. М. Лозинского. М., 1986. с. 180).
(обратно)2
Аллод — свободное землевладение, полная собственность без всякой подати с безусловным правом отчуждения.
(обратно)3
Слово «друзья» в данном случае следует понимать в контексте феодальных отношений. Принесение вассалом оммажа (клятвы верности) сеньору связывало обе стороны взаимными обязательствами службы (со стороны вассала) и покровительства (со стороны сеньора), которые в совокупности иногда трактовались как «дружба» (хоть и неравных по своему положению людей). Личные отношения вассала и сеньора, а уж крупных вельмож и королей — в особенности, при этом могли быть как действительно дружескими, так и весьма напряженными.
(обратно)4
Апанаж — часть наследственных земельных владений или денежное содержание, которые передавались некоронованным членам королевской семьи.
(обратно)5
Королевский домен — земли, находившиеся в непосредственном владении короля, в отличие от других территорий королевства, владельцы которых были связаны с монархом вассальными отношениями.
(обратно)6
Имеется в виду война Франции (в союзе с Карлом I Анжуйским, а затем его наследником в Неаполе Карлом II Хромым) против Арагонского королевства, которой проанжуйский папа Мартин IV придал характер крестового похода. Причиной войны было восстание «Сицилийской вечерни» (1282), свержение власти Анжуйского дома па острове Сицилия и его переход под власть Арагонской короны. Подробнее обо всем этом см. в главе VI и заключении настоящей книги.
(обратно)7
Вот одна из таких судеб> возможно, наиболее яркая. Генрих (Энрике), младший сын короля Кастилии Фердинанда III (и двоюродный брат Карла Анжуйского по матери), в юности несколько раз поднимает мятежи против старшего брата Альфонса X, некоторое время живет в Англии при дворе Генриха III, затем бежит в Африку, где служит наемником тунисского эмира. В 1266 г. он присоединяется к походу Карла Анжуйского на юг Италии и даже субсидирует своего родственника, надеясь с лихвой окупить средства, вложенные в предприятие Карла. С подачи последнего Генрих становится сенатором (фактическим наместником) Рима. Но с деньгами у Карла туго, помочь же родственнику добыть какую-то из итальянских корон новоиспеченный король Сицилии не спешит. Тогда обиженный Генрих переходит на сторону противников Карла, присоединяясь к его сопернику в борьбе за сицилийский троп, юному Конрадину Гогенштауфену. После разгрома последнего в 1268 г. незадачливый кастилец попадает в плен и проводит в заточении почти четверть века, занимаясь сочинением грустных стихов и песен, а также, по мнению некоторых историков, знаменитого рыцарского романа «Амадис Гальский», вопрос об авторстве которого до конца не решен. Судьба улыбнулась Генриху лишь на закате жизни: вернувшись в Кастилию уже пожилым человеком, он в 1298 г. становится регентом королевства при малолетнем Фердинанде IV.
(обратно)8
Jure uxoris (лат.) — по праву супружества; владение или распоряжение одним из супругой имуществом другого.
(обратно)9
Вальденсы — христианское течение, последователи Пьера Вальдо (Петра Вальдуса), купца-проповедника из Лиона, жившего в конце XII п. Вальденсы призывали к возврату к идеалам раннего христианства, добровольной бедности, высказывались за свободу мирской проповеди, критиковали «стяжательство» представителей официальной церкви. Общины вальденсов распространились в Пьемонте, Савойе, Тоскане, на юге Франции, позднее также в Венгрии и Богемии. Подвергались жестоким преследованиям, были объектами нескольких крестовых походов. В период Реформации некоторые вальденсы примкнули к различным протестантским течениям. Впервые вальденсы были легализованы и получили статус официальной церкви в Пьемонте (Сардинском королевстве) в середине XIX в. В настоящее время в Европе, Северной и Южной Америке существуют общины вальденсов общей численностью в несколько десятков тысяч человек.
(обратно)10
Альбигойцы, или катары («чистые»)., — последователи христианского религиозного движения дуалистического толка, испытавшего влияние идей гностицизма, неоплатонизма и манихейства. Считали видимый, земной мир творением злого начала, в отличие от творения Божьего, которое «не от мира сего, который во зле лежит». Отрицали наличие у Христа человеческой природы, не соглашались с учением об искупительной жертве Христа, критиковали культ святых и церковную иерархию, хотя обладали собственным клиром и зачатками церковной организации. Проповедовали неприятие насилия, отличались необычным для тогдашней Европы эгалитаризмом по отношению к женщинам и иноверцам. Катар из м был очень широко распространен прежде всего па юге Франции в конце XII — начале XIII в. В результате крестового похода против альбигойцев и более поздних преследований к середине XIV в. катары были практически полностью истреблены или обращены в католицизм.
(обратно)11
Stupor mundi (лат.) — чудо света, предмет восхищения всего света.
(обратно)12
«Священная Римская империя германской нации», основанная в X в. Оттоном I Саксонским, считалась преемницей империи Карла Великого и формально просуществовала до 1806 г. Однако после пресечения династии Гогенштауфенов императорская власть становилась все более эфемерной и политической и военной опорой последующих императоров служили, как правило, земли, которыми они обладали в качестве наследственных государей — как в пределах империи, так и вне ее. Особенно ярко это проявилось в период после 1437 г., когда императорская корона — с одним коротким перерывом — принадлежала представителям австрийской династии Габсбургов.
(обратно)13
Названия обеих партий являют собой искаженные итальянцами немецкие слова: Welf — герцогская династия Вельфов, соперничавшая с Гогенштауфенами и даже давшая одного императора — Оттона IV (1209–1215); Weiblingen — одно из родовых владений Гогенштауфенов. Постепенно названия обеих партий превратились в своего рода «ярлыки», обозначавшие в XIV–XV вв. соперничавшие политические группировки в итальянских городах, уже не отличавшиеся особо тесными связями ни с папством, ни с императорской властью.
(обратно)14
Roma Aeternа (лат.) — Вечный Рим.
(обратно)15
Западного императора Отгона I.
(обратно)16
Этот греческий титул буквально означает «повелитель римлян»; западных монархов греки именовали «регас», от латинского тех — король.
(обратно)17
Лангобарды (ломбарды) — германское племя, в VI в. проникшее из Паннонии (территория нынешней Венгрии) через Альпы на север Италии, где основами свое государство. Неудачно осаждали Рим. Экспансия Лангобардского королевства была остановлена королем франков Пипином Коротким, пришедшим на помощь папе Стефану III (755). Позднее лангобарды были окончательно разгромлены сыном Пипина Карлом Великим, а их владения присоединены к франкской державе. «Воспоминанием» о лангобардах является название итальянской провинции Ломбардия. Как ни странно, в качестве государственного образования, пусть и эфемерного, Итальянское королевство, основанное лангобардами, просуществовало очень долго, являясь частью империи Каролингов, а затем — Священной Римской империи. Наполеон I. рассматривавший себя в качестве наследника Карла Великого, в 1805 г. короновался железной короной лангобардов, провозгласив себя королем Италии.
(обратно)18
Традиция провозглашения (аккламации, acclamatio) короля сохранилась во Франции и в более поздние времена, до XIV в., однако тогда она уже носила скорее формальный характер. Наследственный принцип возобладал окончательно.
(обратно)19
Здесь и далее рядом с именами монархов указываются даты начала и конца правления, если не оговорено иначе. В случае, если монарх какое-то время был младшим соправителем при отце или ином предшественнике (к примеру, Людовик VII — при Людовике VI с 1131 г.), первая дата обозначает начало его самостоятельного правления.
(обратно)20
Правда, Филипп II стал в 1180 г. королем в 15 лет, но в те времена это был уже порог взрослого возраста, мальчиков нередко посвящали в рыцари 14-летними.
(обратно)21
Филипп, кстати, был наполовину славянином — его матерью была Анна, дочь киевского великого князя Ярослава Мудрого, давшая сыну столь необычное в то время для франков имя — по наиболее распространенной версии, в честь апостола Филиппа из Вифсаиды, особо почитавшегося в Византии и на Руси.
(обратно)22
Спор об инвеституре — политический конфликт между римско-католической церковью и светской властью, в первую очередь монархами Священной Римской империи — представителями Салической династии, во второй половине XI — начале XII в. С формальной точки зрения речь шла о борьбе за право инвеституры (введения в должность) епископов, которое ранее принадлежало светским правителям, что находилось в противоречии с идеей о полноте власти папы в рамках церкви. Эта идея, активно пропагандировавшаяся Григорием VII и другими сторонниками церковных реформ, привела к столкновению между Римом и императорской властью, которое длилось полвека и формально завершилось в 1123 г. подписанием специального соглашения — Вормсского конкордата. В ходе спора об инвеституре светские государи Европы становились на сторону папы или императора, исходя из своих политических интересов, нередко переходя из одного лагеря в другой, в зависимости от расстановки сил.
(обратно)23
«Анжуйская империя» (Angevin Empire) — термин, которым в западной историографии нередко обозначают все территории, принадлежавшие династии Плантагенетов при Генрихе II и его сыновьях, во второй половине XII — начале XIII в. Впервые употреблен Кейт Норгейт в двухтомном труде «Англия при королях Анжуйского дома» (England Under the Angevin Kings, 1887), широкое распространение получил после выхода в свет работы Джона Гиллингэма «Анжуйская империя» (The Angevin Empire, 1984). Во избежание путаницы следует отметить, что династия Плантагенетов, которую часто называют Анжуйской — отец Генриха II Английского, Джеффри (Жоффруа) V, носил титул графа Анжуйского, — не имеет ничего общего с династией, основанной впоследствии Карлом Анжуйским. Собственно, наследование графства Анжу Карлом стало возможным как раз благодаря потере этого графства Плантагенетами и его включению в состав французского королевского домена при Филиппе Августе.
(обратно)24
Фридрих I Барбаросса («Рыжебородый») — император «Священной Римской империи германской нации» и 1155–1100 гг., из династии Гогенштауфенов.
(обратно)25
У Людовика были и личные причины для неприязни к английскому королю: в ранней юности французского принца связывали дружеские отношения с Артуром Бретонским, племянником Иоанна и претендентом на английский престол после смерти короля Ричарда Львиное Сердце. Артур впоследствии попал в плен к Иоанну и в 1203 г. погиб при до конца не выясненных обстоятельствах — большинство историков склоняется к тому, что юношу убили по приказу или с ведома короля Англии.
(обратно)26
Mеровинги — династия франкских королей, предком которых считался вождь салических франков Меровей, фигура скорее легендарная, чем реальная. Правление Меровингов, значительно расширивших земли франков, занявших большую часть древней Галлии, продолжалось со второй половины V до середины VIII в. Власть меровингских королей начиная с VII в. пришла в упадок (так называемые ленивые короли — les rois fainéants), реальные властные полномочия сосредоточились и руках их приближенных — майордомов, чья функция стала наследственной. Последнего Меровиига — Хильдерика III в 751 г. отстранил от власти и отправил в монастырь майордом Пипин, прозванный Коротким — отец Карла Великого, с согласия папы присвоивший королевскую корону.
(обратно)27
Войны отдельных феодальных сеньоров между собой. Как известно, с правовой точки зрения одним из признаков государственного единства является то, что право объявлять и вести войну принадлежит только центральной власти.
(обратно)28
Во Французском королевстве парламентами назывались органы, выполнявшие главным образом судебные функции.
(обратно)29
Значительно раньше, в 1250 г., Карл совместно с Альфонсом затеяли другую тяжбу, касавшуюся апанажа: они попытались добиться выделения им части земель, принадлежавших умершему последнему наследнику Филиппа Строптивого, младшего сына Филиппа Августа. Дело тянулось восемь лет и закончилось поражением братьев — оспариваемые ими владения были присуждены короне. Подробнее см. Wood С.Т. Ор. cit. P. 35-40.
(обратно)30
Так, после воцарения малолетнего Карла VI (годы правления 1380–1422), который к тому же впоследствии сошел с ума, соперничество между дядями короля — каждый из них владел крупным апанажем, который передал своим наследникам, — привело к резкому ослаблению центральной власти и, в совокупности с другими внешними и внутренними факторами, к глубокому кризису во Франции начала XV в.
(обратно)31
Людовик VIII стал жертвой дизентерии, эпидемия которой свирепствовала в его войске — что очень часто случалось в те времена в период длительных военных кампаний.
(обратно)32
Матвей Парижский (Matthew Paris, Matthceus Parisiensis) — один из наиболее известных английских средневековых хронистов, монах-цистерцианец. Его наиболее известное произведение — «Великая хроника» (Chronica majora), рассказывающая о событиях английской и европейской истории середины XIII в. Происхождение прозвища (или фамилии?) Матвея не совсем понятно — возможно, в молодости он учился в Париже.
(обратно)33
Порфирородный — «рожденный в пурпуре», так называли отпрысков монарха, появившихся па свет после того, как их отец (реже мать) взошел на престол. В раннем Средневековье в некоторых случаях порфирородность рассматривалась как даже большее основание для наследования трона, чем первородство.
(обратно)34
С средневековые хронисты редко описывали индивидуальные характеры, обычно прибегая к шаблонным изображениям «положительных» и «отрицательных» фигур. Именно поэтому жизнеописание Людовика Снятого, написанное Жаном де Жуанвилем необычайно живым языком и с немалым мастерством изображения характеров, выглядит столь необычным исключением из тогдашних историографических и литературных канонов.
(обратно)35
Изабелла (св. Изабелла Французская, 1225–1270) вместе со своим братом Людовиком IX и внучатым племянником Людовиком Тулузским, о котором упоминалось выше, принадлежит к числу святых, которых дала католической церкви династия Капетингов. Изабелла росла весьма набожной, в чем ее поддерживала мать, королева Бланка. Принцесса отказалась выходить замуж, отвергнув предложение германского короля Конрада IV, сына Фридриха II Гогенштауфена. Она окружила себя монахами-францисканцами и мечтала присоединиться к женскому монашескому ордену св. Клары. С разрешения Людовика IX Изабелла основала аббатство Лоншам и Булонском лесу под Парижем и, хотя формально так и не стала монахиней, соблюдала все монашеские обеты. Была известна щедрой помощью, которую оказывала беднякам. Умерла в основанном ею аббатстве, которое, однако, было разрушено во время Великой французской революции.
(обратно)36
Первоначально супругой принца Людовика должна была стать другая дочь Лльфонсо VIII Кастильского — Уррака. Но бабка обеих девочек по матери, Элеонора Аквитанская, решила, что характер Бланки больше соответствует положению и роли будущей королевы Франции.
(обратно)37
Филипп (1200 или 1201–1234) был сыном Филиппа II Августа и его третьей жены Агнессы Меранской, брак с которой король заключил, отвергнув свою вторую супругу — Ингеборгу Датскую. Обстоятельства третьего брака Филиппа Августа вызвали международный скандал, и в 1200 г. король под давлением папы Иннокентия III был вынужден развестись с Агнессой. Статус детей Филиппа и Агнессы Меранской с тех пор оставался не совсем определенным — формально, вняв просьбам отца, церковь признала их законными, однако при дворе многие смотрели па юного Филиппа и его старшую сестру Марию как на незаконнорожденных. Тем не менее, будучи вторым сыном Филиппа Августа и братом Людовика Льва, Филипп Строптивый всю жизнь оставался влиятельной фигурой и потенциальным претендентом па престол.
(обратно)38
Некоторые из его стихов переведены на русский язык: Тибо Шампанский. Лирика // Прекрасная дама. М., 1984. Вот строки, которые, как предполагается, посвящены Тибо королеве Бланке (которая, кстати, была старше него на 13 лет и приходилась ему дальней родственницей):
Дама, когда я встал перед вами, Увидев вас в первый рая, Сердце мое так сильно забилось, Что выскочило и осталось у ваших ног, Когда я покинул вас. (обратно)39
Граф Гуго был вторым мужем Изабеллы Ангулемской, в первом браке — супруги Иоанна Безземельного, короля Англии, и матери Генриха III.
(обратно)40
Жуанвиль (1224–1317), бывший одним из самых близких соратников Людовика Святого, написал свои воспоминания о нем на склоне жизни, в 1309 г., по распоряжению Жанны Наваррской, супруги тогдашнего короля Франции Филиппа IV, внука Людовика Святого. Книга Жуанвиля резко выделяется на фоне других произведений средневековой литературы. Как отмечает редактор русского перевода А. Карачинский, она «высвечивает те стороны жизни французского средневекового общества, которые обычно остаются в тени, а сам Людовик Святой… разительно отличается от того “хрестоматийного” образа, который вырисовывается на страницах многочисленных хроник и биографий того времени» (Жуанвиль Жан де. Указ. соч. С. 5)
(обратно)41
В те времена монархи непрерывно объезжали свои владения, а столица королевства была понятием довольно условным. Переезжая из замка в замок, из города в город, государь давал возможность как можно большему числу своих подданных вступить в непосредственный контакт с королевской властью, а заодно обезопасить эту власть от потенциальных заговоров и мятежей, которые могли бы затеваться в провинциях, останься они без должного «пригляда».
(обратно)42
Первого среди равных (лат.).
(обратно)43
Матильда была внучкой Филиппа Швабского, правившего «Священной Римской империей» в 1198–1208 годах, и его супруги Ирины Ангелины, византийской принцессы, дочери императора Исаака II Ангела.
(обратно)44
Графы Тулузские — Раймунд VI (годы правления 1194—1222) и его сын Раймунд VII (1222–1249), оставаясь католиками, придерживались политики веротерпимости по отношению к многочисленным еретикам, в первую очередь катарам, или альбигойцам, чье вероучение получило широкое распространение в их владениях, как и на всем французском Юге. Будучи обвиненными в покровительстве ереси, оба Раймунда стали главными политическими жертвами крестовых походов против альбигойцев, организованных Римом начиная с 1209 года. В ходе этой многолетней военной эпопеи графы Тулузские вначале лишились своих владений, затем частично вернули их себе.
(обратно)45
Фридриха II, унаследовавшего от матери сицилийскую корону.
(обратно)46
Поскольку большинство аристократических родов Европы было связано между собой многочисленными родственными узами, положения церковного права, регулировавшие степени родства, приемлемые для заключения брака, нередко использовались римской курией в чисто политических целях, становясь мощным инструментом панской политики.
(обратно)47
В русском языке прижилось немецкое слово Graf; в других европейских языках этот титул имеет другой корень — comte, conte, count (фр., ит., англ.), от латинского comes. Изначально, во времена Каролингов, графы были императорскими наместниками в крупных провинциях. По мере упадка центральной власти их автономия расширялась, а сами графы обрастали владениями в тех землях, которыми изначально должны были только управлять именем императора или короля. Постепенно графское достоинство стало наследственным, а само понятие «граф» из должности превратилось в титул крупного феодала.
(обратно)48
Имя династии происходит от planta genista — латинского названия ракитника, желтым цветком которого граф Джеффри, по преданию, любил украшать свою шляпу.
(обратно)49
Термин «Окситания» — довольно позднего происхождения, в хрониках и правовых документах это название появляется не ранее середины XIII в. Более распространенным был топоним «Лангедок», отражавший языковые отличия между северной и южной частями Французского королевства: Langue d'oc означает «язык ос», в отличие от Langue d'oil, характерного для севера. Ос и oil — соответственно южная (окситанская) и северофранцузская формы произношения слова «да». Oil позднее трансформировалось в нынешнее французское oui. При этом название «Лангедок» со временем стало обозначать лишь один из регионов Окситании, находившийся к западу от Прованса. Его центром была Тулуза, в рассматриваемую нами эпоху большая часть Лангедока входила в состав Тулузского графства.
(обратно)50
Права Карла в Провансе регулировались следующим образом: в случае рождения у него и Беатрисы сына этот последний становился наследником графства; если Беатриса умирала бездетной, права па Прованс возвращались ее семье, т.е. матери, сестрам и их потомкам. Однако в своем завещании графиня Беатриса предусмотрела выплату Карлу в этом случае пожизненной ренты (узуфрукта) с доходов графства Прованского. Подробнее о деятельности Карла Анжуйского в Провансе см.: Sternfeld R. Karl von Anjou als Graf der Provence. Berlin, 1888.
(обратно)51
Императоры Священной Римской империи были выборными (хотя часто императорское достоинство передавалось от отца к сыну или от дяди к племяннику, однако процедура выборов оставалась обязательной). Главу империи избирала коллегия курфюрстов (князей-избирателей), число которых в разные эпохи было неодинаковым. В коллегию входили, как правило, ведущие светские и духовные князья Германии, а также король Чехии. Избранный таким образом монарх носил титул римского, или германского, короля (Rex Romanorum, Rex Germamae) до тех пор, пока в Риме папа не короновал его императорской короной. Для обеспечения династической преемствен мости многие императоры обеспечивали избрание своих сыновей королями еще при собственной жизни — так, Конрад IV стал королем при своем отце, императоре Фридрихе II. Обязательность коронации в Риме для обретения императорского титула сохранялась до начала XVI в. Начиная с Максимилиана I (правил с 1508, фактически с 1493, до 1519 г.) от этой традиции отказались.
(обратно)52
Боэмунд (1054-1111) происходил из нормандского рода Отвилей, и конце XI в. завоевавшего крупные владения на юге Италии, из которых позднее образовалось Сицилийское королевство. Будучи сыном Роберта Гвискара, герцога Апулии и Калабрии, от первого брака, Боэмунд после смерти отца был оттеснен от власти своим сводным братом Рожером Борсой и его матерью Сишельгаитой, получив лишь часть отцовского наследства. В 1096 г. Боэмунд стал одним из участников — и впоследствии лидеров — Первого крестового похода. Участвовал в осаде Антиохии, которую потом получил во владение. Впоследствии попал в плен к сарацинам, из которого был выкуплен своим союзником, армянским князем Басилом. Вступил в длительный конфликт с Византией, в ходе которого был вынужден вернуться в Европу. В 1108 г. потерпел жестокое поражение при Дураццо (ныне Дуррес в Албании), после чего остаток жизни провел в своих итальянских владениях.
(обратно)53
Саладин Юсуф ибн Айюб Салах ад-Дин, ок. 1138–1193) — ближневосточный государственный и военный деятель, с 1171 г. эмир, позднее султан Египта, основатель династии Айюбидов. По происхождению курд из Киликии, сын Айюба, правителя Баальбека. Талантливый полководец, одержавший ряд побед над войсками крестоносцев (наиболее известная — битва при Хаттине в 1187 г., в результате которой под власть мусульман вновь перешел Иерусалим, а король Иерусалимский Ги де Лузиньян попал в плен). Саладин получил большую известность в христианской Европе, где многие, в частности английский король Ричард Львиное Сердце, высоко ценили его рыцарские доблести и милосердие, неоднократно проявленное им к побежденным.
(обратно)54
Подробнее о перипетиях взаимоотношений папства и империи в XIII в. речь пойдет и главах III и IV.
(обратно)55
Следует отметить, что в тот момент благодаря браку с Изабеллой II (известной также как Иоланда де Бриенн), наследницей иерусалимской короны, Фридрих был королем-консортом Иерусалима. 18 марта 1220 г. он присутствовал на богослужении в храме Гроба Господня, увенчанный короной, — историки до сих пор не сошлись во мнении, можно ли считать этот момент коронацией Фридриха в качестве иерусалимского монарха, тем более что патриарх Иерусалимский, зная об отлучении императора от церкви, в храме в тот момент не присутствовал. После ранней смерти Изабеллы-Иоланды Фридрих предпочитал править Иерусалимским королевством от имени их малолетнего сына Конрада (IV, в качестве короля Иерусалимского — Конрад II).
(обратно)56
Его перу принадлежит, в частности, трактат De arte venandi cum avibus («Об искусстве соколиной охоты»), который может считаться полноценным научным трудом по орнитологии.
(обратно)57
Имеется в виду крест из материи, который нашивали на одежду те, кто принес обет крестоносца. Принятие креста обычно сопровождалось церемонией принесения такого обета — как правило, в присутствии духовного лица. Людовик I X принес обет архиепископу Парижскому.
(обратно)58
Готфрид (Годфруа), граф Бульонский (ок. 1060-1100), был одним из руководителей Первого крестового похода (1096–1099). Войско под его предводительством взяло в 1099 г. Иерусалим, что сопровождалось колоссальной резней мусульман и евреев. По преданию, Готфрид отклонил предложенный ему соратниками титул короля Иерусалимского, заявив, что не хотел бы носить королевский венец там, где Спаситель носил венец терновый. Готфрид удовлетворился знанием «защитника Гроба Господня» (Advcatus Sancti Sepulchri), которое, впрочем, носил недолго: уже летом 1100 г. он умер — по одним данным, был убит при осаде крепости Акра, по другим — стал жертвой эпидемии холеры. После этого первым королем Иерусалимским стал брат Готфрида, Балдуин.
(обратно)59
Халиф — высший титул у мусульман, соединяющий в себе (прежде всего в суннитской ветви ислама) верховную светскую и духовную власть. Первыми халифами были ближайшие соратники и последователи пророка Мухаммеда. Четыре первых халифа считаются «праведными». Впоследствии титул халифа носили представители нескольких мусульманских династий — Омейяды, Фатимиды, Аббасиды и Османы.
(обратно)60
Отремер (фр. outre-mer — «за морем») — средневековое название территорий, завоеванных христианами в ходе крестовых походов. Позднее это понятие нередко распространялось на все Восточное Средиземноморье.
(обратно)61
Впрочем, часть монголов к тому времени уже примяла христианство — правда, несторианского толка, еретического в глазах католической церкви.
(обратно)62
Очевидно, Иерусалимское, облегчение участи которого было одной из главных целей похода.
(обратно)63
Мамелюки — члены войска, существовавшего в Египте при династиях Фатимидов и Айюбидов. Изначально мамелюки были пленниками и рабами, преимущественно тюркского и кавказского происхождения, которых египетский султан покупал, чтобы сформировать из них свою гвардию. Впоследствии мамелюки приобрели большое политическое влияние. В 1250 г. они свергли последнего египетского султана из рода Айюбидов — Тураншаха II. Позднее мамелюкский полководец Бейбарс отразил нашествие монголов на Ближний Восток, нанеся им поражение при Айн-Джалуте (1261). Возникший султанат мамелюков просуществовал более двух с половиной веков, до 1517 г., когда был покорен войском турецких султанов из династии Османов, на службе которых находились свои «гвардейские» части — янычары, формировавшиеся по принципу, очень схожему с войском мамелюков. В качестве привилегированной касты воинов-землевладельцев мамелюки просуществовали в Египте очень долго, до XIX в.
(обратно)64
В 1314 г., во время похода короля Людовика X Сварливого, правнука Людовика Святого.
(обратно)65
Дополнительным аргументом в пользу этого мнения может служить почтение, с которым Жуанвиль отзывался о королеве Маргарите, жене Людовика IX, — а она испытывала резкую неприязнь к Карлу Анжуйскому.
(обратно)66
Так Жуанвиль называет Каир.
(обратно)67
Имеется в виду командующий мамелюкским войском.
(обратно)68
Различные рукава дельты Нила.
(обратно)69
Машины для метания снарядов с «греческим огнем» — легковоспламеняющейся горючей смесью.
(обратно)70
Эрар де Сиверей, один из шампанских рыцарей.
(обратно)71
Не совсем ясно, что и данном случае означает «столь рано» — вряд ли возраст Карла, которому шел уже 24-й год (Жуанвиль был старше его на 3 года, сам Людовик, напомним, почти на 13).
(обратно)72
Смысл этой фразы не совсем ясен: ведь Маргарита сама по себе, своим присутствием никак не могла защитить Людовика от опасностей, грозивших ему в слабо защищенной Акре.
(обратно)73
Изабелла I — королева Иерусалимская с 1190 до своей смерти в 1205 г. Младшая дочь короля Амальрика I и сестра Балдуина IV Прокаженного. Дочерью Изабеллы от ее последнего, четвертого мужа, короля Кипрского Амальрика, была Мелисенда, вышедшая замуж за Балдуина IV Аитиохийского. Их дочерью и была Мария Антиохийская, продавшая Карлу Анжуйскому свои права па престол.
(обратно)74
Коммуна и средневековой Франции — высшая форма городского самоуправления.
(обратно)75
И средневековые хронисты, и позднейшие историки единодушны в резко отрицательных характеристиках Иоанна XII (по преданию, погибшего при падении из окна, спасаясь от мужа одной из своих любовниц). Этого папу обвиняли в том, что он «превратил Латеранский дворец и публичный дом… устраивал оргии, пил за здоровье Сатаны, во славу Венеры… в конюшие рукоположил своего любимца в епископский сан» и т.д. (Лозинский С.Г. История папства. M., 1988. С. 83).
(обратно)76
Имеется» виду родоначальник императорской династии Гогенштауфенов. Сам этот род швабских герцогов известен со второй половины XI в. Дядя Барбароссы, Конрад III, был королем Германии (с титулом «римский король», 1138–1152), по не успел короноваться императорской короной в Риме, как того требовал обычай.
(обратно)77
Palrimonium (лат.) — буквально «наследство», Patrimonium Sancti Petri — «наследством св. Петра» — именовались земли, подчинявшиеся панскому престолу и расположенные в основном в центральной части Апеннинского полуострова, в непосредственной близости от Рима.
(обратно)78
В действительности с момента коронации Фридриха как германского короля в 1212 г. до его смерти в 1250-м сменились пятеро пап, по Целестина IV можно исключить из этого ряда, так как он правил лишь 15 дней (в октябре-ноябре 1241 г.) и не успел за это время принять каких-либо серьезных политических решений.
(обратно)79
Данте и «Божественной комедии» поместил Эццелино в седьмой круг ада, где он парится и кипящей кропи своих многочисленных жертв.
(обратно)80
Генрих (VII) — сын Фридриха II от первого брака, с Констанцией Арагонской. В 1212 г., в младенческом возрасте, был об]явлен королем Сицилии: отец но настоянию папы уступил ему этот титул. В 1220 г. провозглашен «римским» (германским) королем и предполагаемым наследником Фридриха на троне империи. Рос в Германии под опекой епископа Энгельбtрта Кельнского. С 1231 г., пытаясь укрепить свою власть в Германии, находился в конфликте с отцом, который в 1234 г. объявил Генриха лишенным наследства. С 1235 г. пребывал в заточении на юге Италии. По некоторым данным, заразился лепрой (проказой). Погиб в 1242 г., при переезде в другое место заключения, упав с коня в горное ущелье. Некоторые историки считают это самоубийством. Известно, что Фридрих II оплакивал сына, хотя при жизни так и не дал ему официального прощения. Генрихом VII (без скобок) в историографии принято называть императора из династии Люкссмбургов, правившего в 1308–1313 гг.
(обратно)81
А вот крупным полководцем Фридриха назвать трудно: хотя он почти непрерывно вел войны, ему, в отличие от Карла Анжуйского, практически не доводилось одерживать сокрушительных побед над врагами. Итальянские войны императора были затяжными и состояли больше ни изматывающих переходов, нежели из сражений; самого же впечатляющего своего успеха, временного возвращения Иерусалима под власть христиан, Фридрих II, как уже говорилось, добился с помощью дипломатии, а не оружия.
(обратно)82
На германский королевский, а зачем и императорский троп в этот период претендовали Ричард, герцог Корнуэльский, брат короля Англии Генриха III (и муж Санчи, или Синтии, одной из сестер Беатрисы Прованской), и Альфонс X, король Кастилии. Оба были избраны частью коллегии курфюрстов, но ни один не получил решающей поддержки и так и не добился признания па Полыней части земель империи.
(обратно)83
Пипин Короткий (714—768, король с 752) — отец Карла Великого, основатель династии Каролингов. Унаследовав от отца, Карла Мартелла, должность майордома (фактического правителя) одной из франкских областей — Нейстрии, Пипин постепенно сосредоточил в своих руках власть во всех владениях франков. В 752 г. при поддержке папы Стефана II Пинии низложил и отправил и монастырь последнего короля из династии Меровиигов — Хильдерика III и сам был коронован. Поход Пипина против лангобардов, увенчавшийся успехом, принес папству власть над рядом центральных областей Италии («Пипнпов дар», 754-756), ставших ядром Папского государства, которое просуществовало до объединения Италии во второй половине XIX в.
(обратно)84
В 1225 г. во Фландрии объявился некий человек, выдававший себя за Балдуина. Кму удалось повести за собой часть рыцарства и горожан, требовавших возврата власти «законному» правителю. Но, будучи задержан людьми Людовика VIII, самозванец не выдержал очной ставки с французским королем. Он был опознан как некий Бертран де Рэй из Бургундии, выдан графине Жанне и в 1226 г. казнен. Подробнее см., напр.: Mortimer I. Medieval Intrigue; Decoding Royal Conspiracies. I,., 2010. P. 308.
(обратно)85
Гийом из Нанжи (ум. 1300) — французский монах-хронист из аббатства Сен-Дени. Автор «Хроники» (Chronicon), повествующей о событиях от сотворения мира до конца XIII в.; историческую ценность имеют се заключительные главы, посвященные событиям во Франции второй половины XII–XIII вв. Также перу Гийома принадлежат «Деяния Людовика IX» и «Деяния Филиппа III», которые, впрочем, являются скорее компиляциями и вторичны по отношению к другим источникам.
(обратно)86
Консулами и городах Окситании и Италии нередко именовались высшие представители городской администрации.
(обратно)87
Санча была замужем на Ричардом Корнуэльским, младшим братом Генриха III, избранным в 1256 г. королем Германии (с титулом «короля римлян»), что открывало путь к коронации в качестве императора. Однако Ричарду так и не удалось взять под контроль сколько-нибудь значительную часть своих новых владений, да и в Германии он до своей смерти в 1272 г. появлялся лишь несколько раз на короткое время. Таким образом, правление Ричарда, соперником которого в борьбе за германский троп выступал король Кастилии Альфонс X, было чисто поминальным.
(обратно)88
То есть потомки лангобардов, которые в VI в. захватили значительную часть Италии, но позднее были разбиты франками, включившими итальянские земли в состав империи Каролингов. Железная корона лангобардов вплоть до XIX в. служила символом древнего Итальянского королевства, хотя в государственно-политическом отношении это королевство было фантомом.
(обратно)89
Фамилия происходит от названия небольшой нормандской деревушки Отвиль-ла-Гишар.
(обратно)90
Полное название — «История Рожера, короля Сицилии, Калабрии и Апулии». Хроника написана Александром, настоятелем монастыря Сан-Сальваторе у города Телезе, по заказу Матильды, сестры Рожера II. Наиболее подробная и содержательная часть хроники охватывает период со второй половины 1120-х гг. до 1135 г.
(обратно)91
Святой Бернар Клервоский (1091–1153) — теолог и мистик, реформатор цистерцианского монашеского ордена. Известен непримиримой позицией по отношению к катарской и другим ересям. Сторонник папского централизма. Резко осуждал Рожера II, выступившего на стороне Анаклета II, провозглашенного антипапой. Позднее, когда Иннокентий II примирился с Рожером и признал его королевское достоинство, Бернар также помирился с сицилийским королем. Бернар Клервоский был одним из идеологов крестоносного движения. В 1145 г. папой был избран Евгений III (Бернардо Пагарелли), ученик и друг Бернара Клервоского. При этом папе влияние Бернара достигло апогея. Большую часть жизни Бернар провел в основанном им монастыре во французском Клерво. Его перу принадлежат многочисленные теологические трактаты, проповеди и письма философско-религиозного содержания. В 1174 г. Бернар был канонизирован. H 1830 г. папа Пий VIII причислил его к «учителям церкви» (doctor ecclesiae) — почетный титул, которым католическая церковь отмечает заслуги своих наиболее выдающихся теологов.
(обратно)92
Имеется и виду мозаика, изображающая коронацию Рожера II Христом, которая находится в одной из церквей Палермо — Марторане (церкви си. Марии Адмиральской). Интересно, что надпись на мозаике сделана по-гречески, имя короля обозначено как «Рогериос», что еще более подчеркивает византийское культурное влияние, столь сильное при дворе первого сицилийского короля.
(обратно)93
Чиновники, обладавшие административными и судебными полномочиями.
(обратно)94
Имеются» виду прежде всего выплаты сеньорам натуральными продуктами (redditus) и деньгами (pensiones). На Сицилии в описываемый период подобными податями облагались только арабские и греческие крестьяне. Особенно бурное противодействие нововведения северян вызвали в городах, чьи обитатели [oppidanï] располагали личной свободой.
(обратно)95
Констанция была младшей, посмертной дочерью Рожера II в его третьем браке с Беатрисой Ретельской.
(обратно)96
Танкред был незаконнорожденным сыном Рожера III, герцога Апулии, старшего сына Рожера II. Рожер III умер раньше отца, поэтому королем не стал.
(обратно)97
Regno (ит.) — буквально «королевство». Поскольку других государств, имевших ранг королевства, в Италии в Средние века не существовало (древнее Итальянское королевство, основанное лангобардами, было скорее историко-правовой фикцией), Сицилийское королевство часто обозначалось и обиходе и документах того времени просто как Regno. M дальнейшем мы тоже будем для краткости иногда использовать это название.
(обратно)98
До восшествия на сицилийский трон Карла Анжуйского, а па самом острове Сицилии — вернулись к власти в 1282 г., так как Педро III Арагонский, провозглашенный королем после «Сицилийской вечерни» (см. Главу VI), был связан с Отвилями дважды: он сам являлся потомком Роберта Гвискара по женской линии, а его супруга Констанция приходилась дочерью Манфреду Гогенштауфену и соответственно правнучкой Рожеру II.
(обратно)99
В действительности — правителя (деспота) Эпира, области на западе Греции. «Ромеями» (греческое название римлян) по традиции именовали себя все жители Византии, наследницы Римской империи — отсюда, очевидно, и ошибка флорентийского хрониста.
(обратно)100
Символом колебаний этого папы считается его удивительная «лень» при назначении новых кардиналов: несмотря на естественную убыль членом коллегии, папа не пополнял ее, так что его преемника пришлось выбирать рекордно малому числу кардиналом — всего лишь восьми.
(обратно)101
Виллани но своему обыкновению обвиняет Манфреда в попытке отравить племянника, рассказывая историю о пропитанных ядом конфетах из Апулии, которые коварный король послал в Германию мальчику, по мать Конрадина, почуяв недоброе, выдала за принца одного из дворянских отпрысков, который скончался, отведав лакомства, привезенные сицилийскими послами. Те же, подумав, что успешно выполнили свою миссию, направились домой и сообщили Маифреду весть о смерти его юного соперника (см. Виллани Дж. Указ. соч. С. 163). Вероятнее всего, эта история является вымыслом.
(обратно)102
Дж. Дюнбабин имеет в виду распространившуюся к тому времени среди «политически сознательной» части французского общества привычку рассматривать Францию и французов как «народ Божий», оплот крестоносного движения и опору католической церкви. Подробнее см.: Dunbabin J. The French… P. 155–170.
(обратно)103
«Идите и передайте от меня султану Ночеры, что нынче либо я пошлю его в ад, либо он пошлет меня в рай» (фр.). См. Виллани Дж. Указ. соч. С. 202.
(обратно)104
Конрад Антиохийский (1240–1301), граф Лоретанский, был сыном Фридриха Антиохийского (правившего в 1250-х гг. Тосканой и иногда безосновательно именуемого «королем Фридрихом»), незаконнорожденного сына Фридриха II и Марии Матильды Антиохийской.
(обратно)105
Это обстоятельство подвергает сомнению российский медиевист Алена Немирова, переводившая неоднократно цитируемую нами работу Н. Голдстоун «Четыре королевы»; Немирова сопровождает главу, посвященную сражению при Беневенто, следующим комментарием: «Защитный доспех того времени состоял из длинной кольчуги, дополняемой кольчужными же чулками, рукавицами, а также капюшоном-хаубергом, поверх которого надевали шлем… Чтобы защитить дополнительно руки до локтя, ноги до колен, иногда также плечи и локти, поверх кольчуги надевались металлические щитки, изогнутые по форме тела и закрепленные ремнями. Однако подмышка оставалась почти незащищенной при любой конструкции доспеха — иначе воины не смогли бы свободно двигать рукой. 15 условиях боевого взаимодействия, когда удары сыпались со всех сторон, а кони не стояли спокойно на месте, попасть мечом в эту точку быстро движущемуся человеку было, разумеется, очень затруднительно… My а чтобы, действуя кинжалом, нанести смертельную рану в подмышку, требовалось приблизиться па копе к врагу вплотную, обхватить его одной рукой и нанести прицельным удар другой… Поэтому можно предположить, что французские пехотинцы, атаковавшие вперемешку с конницей, орудовали не кинжалами, а длинномерным оружием типа алебард (с широким обоюдоострым лезвием наподобие кинжала). Таким оружием можно было наносить удары по ногам, лишая противников равновесия… Л поскольку подняться в тяжелом доспехе на ноги или избавиться от него самостоятельно трудно, человека было уже намного проще зарубить мечом или при желании заколоть в подмышку» (Голдстоун Н. Указ. соч. C. 388. — Примеч. пер.).
(обратно)106
«Это знак Божий!» (лат.)
(обратно)107
Имеются в виду недостаточно решительные действия Манфреда после высадки Карла в Италии.
(обратно)108
Рудольф I Габсбург был избран на трон «Священном Римской империи» в 1273 г. после долгого междуцарствия. Он заметно укрепил позиции своего рода в Центральной Европе, особенно после 1278 г., когда в битве на Моравском поле (в немецкой историографии — битва при Дюрнкруте) войско германского короля (императорской коронации в Риме Рудольф так и не дождался) разгромило армию его основного соперника — чешского короля Пржемысла Отакара II. Один из сыновей Рудольфа, Альбрехт I, был после его смерчи также избран германским королем, по затем Габсбургам пришлось более ста лет ждать возвращения на трон. С середины XV в., однако, корона «Священной Римской империи» оставалась у представителей этой династии до самого конца империи в 1806 г. (с кратким перерывом в 1740-1745 гг.). В 1804 г. последний «римский» император Франц II объявил себя императором Австрийским под именем Франца I. Этот новый титул, наряду с принадлежавшими им королевскими коронами Венгрии и Чехии, Габсбурги сохраняли за собой до краха созданной ими центральноевропейской монархии в 1918 г.
(обратно)109
Скажем, во время Войны Алой и Белой розы в Англии и середине XV в. с пленными расправлялись беспощадно.
(обратно)110
«Жизнь Конрада — смерть Карла, жизнь Карла — смерть Конрада» (лит.).
(обратно)111
Фридрих Баденский (1249-1268) — германский вельможа, сын Германа, маркграфа Баденского; но матери Фридрих был внуком Фридриха II, последнего герцога Австрийского из рода Бабенбергов. Однако претензии юного Фридриха в Австрии не были реализованы, так как власть над ней, женившись на сестре последнего герцога Маргарите, захватил чешский король Пржемысл Отакар II. Фридрих и Конрадин росли вместе при дворе Людвига II, герцога Баварского, который был опекуном Конрадина. Юноши были очень близки. Фридрих, казненный вместе с Конрадином, стал в гибеллинской мифологии символом верного друга и был в этом качестве не раз воспет немецкими средневековыми певцами-миннезингерами.
(обратно)112
Имеются в виду сторонники гибеллинов, после того как Франджипани выдал Конрадина и его соратников Карлу.
(обратно)113
Многие историки, например Фердинанд Грегоровиус в своей «Истории города Рима в Средние века», впрочем, считали Климента IV прямым сообщником короля Карла при принятии решения о казни Конрадина. См.: Gregonwius F. The History of Rome in the Middle Ages. Cambridge, 2010.
(обратно)114
Их тексты сохранились и были опубликованы в XIX в. в сборниках юридических документов эпохи Анжуйской династии: Giuseppe di Giudice. Codice diplomatico del regno di Carlo I. e II. d'Angió dal 1265–1309. Vol. II. Napoli, 1869. P. 333–334. Конрадин, именуемый в документе просто «господин» (dominus), без каких-либо иных титулов, что объяснимо, так как он находился в руках анжуйской юстиции, завещает свои немногочисленные германские земельные владения баварским герцогам и приносит некоторые пожертвования нескольким монастырям, обитателей которых просит регулярно молиться о спасении его души.
(обратно)115
Матерью Конрадина была Елизавета Баварская (1227–1273), вдова Конрада IV Гогенштауфена, вышедшая впоследствии за Мейнгарда II, графа Тирольского, с которым она имела еще шестерых детей. После смерти Конрадина Елизавета пожертвовала значительную сумму кармелитскому монашескому ордену на строительство в Неаполе церкви па месте погребения ее сына. Храм строился долго и был завершен уже при Карле II Хромом, сыне Карла Анжуйского, когда Елизаветы давно не было в живых.
(обратно)116
Фридриха Баденского часто называли также Фридрихом Австрийским, подчерки пая его принадлежность по матери к роду австрийских герцогов.
(обратно)117
Имеются в виду действия Карла по усмирению прежде всего Сицилии в 1269-1270 гг. Наиболее известным актом жестокости стало уничтожение города Аугусты, описанное, в частности, хронистом Сабой Маласпиной, очевидцем этих событий.
(обратно)118
Имеются в виду мелкие чиновники на местах.
(обратно)119
Жуанвиль был сенешалем Шампани, графом же Шампанским в описываемое время являлся Тибо V, сын того Тибо IV, которого связывали непростые отношения с Людовиком IX и его матерью в 1220–1230-с гг. (см. главу I). Тибо IV унаследовал в 1234 г. от своего бездетного дяди корону Наваррского королевства, которая после его смерти перешла к Тибо V (Тибо II в качестве наваррского короля). Таким образом, король Наварры являлся непосредственным сюзереном Жуанвиля в качестве графа Шампанского. Кстати, Тибо II стал одной из жертв крестового похода 1270 г.: измотанный и больной, он умер по пути домой из Туниса, в сицилийском городке Транани.
(обратно)120
Формально он подчинялся своему племяннику Филиппу III, считавшемуся командующим крестоносным войском после смерти отца, по фактически военное лидерство короля Сицилии было несомненно.
(обратно)121
Будущим Эдуардом I. Его войско прибыло и Тунис уже после заключения перемирия, и Эдуард решил переправиться в Святую землю, где, впрочем, больших лавров не снискал. Подробнее см., напр.: Prestwich М. Edward I. New Haven, 1997. P. 70–75.
(обратно)122
Причиной вражды, напомним, была роль Карла в разрешении конфликта в семье сто мерной жены, Беатрисы Прованской, которая приходилась Маргарите младшей сестрой. Карл сделал исе возможное, чтобы избавиться от претензий сестер супруги и их матери, Беатрисы Савойской, на провансальское наследство.
(обратно)123
Хотя в некоторых летописях оп упоминается с самым лестным для монарха эпитетом — Великий. Например, в так называемой Дубницкой хронике XV в., посвященной событиям в Венгрии, о свадьбе Карла II и Марии Венгерской говорится так: «Король Стефан V, кроме иных дочерей, имел еще одну, которую звали Мария. Оп отдал се в жены Карлу Хромому, сыну Карла Великого» (Kronika uhorských králov zvaná Dubnická. Příprava vydaní Július Sopko. Budmerice: Vydavatelstvo Rak, 2004. S. 96).
(обратно)124
Вспомним приведенный в главе 11 рассказ хрониста о том, как Людовик Святой, выступая в крестовый поход, однажды должен был ждать у ворот церкви Карла, задержавшегося на молитве.
(обратно)125
Карл вынашивал планы выдать Елену за одного из братьев Альфонса X, короля Кастилии, но позднее отказался от них.
(обратно)126
Любопытный контраст в этом отношении представляет собой поведение короля Кастилии и дальнего родственника Карла — Санчо IV (годы правления 1284–1295), который де-факто узурпировал трон после смерти своего отца Альфонсо X, лишив права наследования детей своего ранее скончавшегося брата Фернандо де ла Серды (кстати, их матерью была Бланка, одна из дочерей Людовика Святого). Хронисты сообщают о том, что в ходе борьбы со сторонниками сыновей де ла Серды Санчо уничтожал своих противников сотнями и тысячами. (Даже если чти данные, как часто случается в средневековых летописях, преувеличены, в любом случае речь, очевидно, шла о действительно массовых репрессиях.) При этом, однако, Санчо не тронул не только самих принцев (они нашли убежище в соседнем Арагоне), по и вставшего на их сторону собственного брата Хуана, ограничившись заключением последнего под стражу. Подробнее см., напр.: Medieval Iberia: An Encyclopedia / Ed. E. Michael Gerli and Samuel G. Armislead, Routledge, 2003. P. 50.
(обратно)127
Здесь выделяется фигура графа Роберта II д'Артуа, фактического регента Сицилийского королевства в первые годы после смерти Карла I. Подробнее см., напр.: Dunbabin J. The French… P. 101–119.
(обратно)128
Регион в Южной Италии, на его территории находится Неаполь.
(обратно)129
Анконская марка — область в Центральной Италии, прилегающая к Адриатическому морю, между провинцией Романья и герцогством Сполето. С начала XIII в. служила ядром непосредственных владений папского престола в Италии, из которых сформировалось Папское государство, просуществовавшее до объединения Италии во второй половине XI X в.
(обратно)130
Для сравнения: Людовик Святой имел девятерых детей, ив которых семеро пережили его.
(обратно)131
В этом отрывке, помимо «Носача» Карла I, упоминаются Педро III Арагонский, его супруга Констанция (дочь Манфреда) и обе жены Карла — Беатриса и Маргарита.
(обратно)132
«Библия рода Анжу» (также называемая «Неаполитанской Библией») — иллюстрированный и богато украшенный манускрипт, изготовленный в 1340 г. в Неаполе но заказу короля Роберта I для его внучки и наследницы Джованиы. В настоящее время принадлежит церкви и хранится в Католической библиотеке в Лёвене (Бельгия).
(обратно)133
Крис Уикхэм в своей работе «Наследие Рима. История Европы, 400-1000», полагает, что именно с этого момента имеет смысл называть Восточную Римскую империю Византийской. Во-первых, тогда оказались утрачены все провинции, где доминирующими языками были иные, нежели греческий (за исключением юга Италии и Сицилии, чье население говорило на различных диалектах вульгаризированной латыни — зти территории оставались под властью Константинополя еще несколько веков); таким образом, империя стала более компактным и практически монокультурным государством, что отдаляло ее от универсалистского наследия Рима. Во-вторых, с утратой Александрии, Иерусалима, Антиохии доминирующая роль Константинополя (Византия) в жизни империи стала еще более явной. См.: Wickham С. The Inheritance of Rome. 1,., 2010. P. 258–250.
(обратно)134
Для простоты, а также придерживаясь установившейся в русской и западной историографии традиции, мы будем употреблять для обозначения жителей Византийской империи также этноним «греки», хотя это неточно. Византийцы были этнически пестрым конгломератом, в состав которого входили, в частности, славяне, армяне, сирийские племена и другие этносы; государственным языком, равно как и «языком межнационального общения», в империи служил греческий — впрочем, сильно отличающийся от новогреческого языка, на котором разговаривает население современной Греции и части Кипра.
(обратно)135
По-латыни она называлась Romania — естественно, это название не имеет ничего общего с современной Румынией.
(обратно)136
Последний император, недолго царствовавший и Константинополе перед падением города, Алексей V Дука, умертвил своего предшественника, на чьей стороне формально выступали крестоносцы, был схвачен ими, ослеплен и убит. Подробнее см., напр.: Дашков С. Императоры Византии. М., 1996. С 270–273.
(обратно)137
Гийом де Виллардуэм, близкий союзник и родственник (благодаря браку их детей) Карла Анжуйского; подробнее речь о нем пойдет в этой главе ниже.
(обратно)138
Византийцы часто называли так всех западных пришельцев, не разбираясь, откуда именно те родом — из Франции, Германии, Арагона или иных «латинских» государств.
(обратно)139
Василевс — титул византийских монархов, на русский язык обычно (хотя и не совсем точно) переводится как «царь». Его не следует путать с титулом кесаря, в Византии и других греческих государствах Средневековья следовавшим в вельможной иерархии за императором-василевсом. Кесарями были обычно родственники василевса или особо заслуженные сановники. (Так, в 1261 г. Михаил VIII сделал кесарем своего военачальника Алексея Стратигопула, отбившего Константинополь у латинян.)
(обратно)140
Правда, по свидетельству Георгия Пахимера, из сострадания палачи Палеолога действовали не раскаленным, а полуостывшим железом, и какие-то остатки зрения у злосчастного Иоанна сохранились. Ослепление в данном случае означало не выкалывание глаз, а несколько более гуманную процедуру — раскаленный добела кусок железа держали перед глазами жертвы. См. Георгий Пахимер. Указ. соч. С. 125–126.
(обратно)141
Далеко не единственное: путь к трону Михаил начал сразу после смерти Феодора II с физического устранения Георгия Музалона, опекуна юного Иоанна IV, и братьев Георгия.
(обратно)142
Информированность Салимбене относительно византийских дел вообще хромает: в другом месте он пишет, что Палеолог «убил сына Ватаца, предыдущего властителя греков, чтобы вместо пего властвовать» (Там же. С. 557)
(обратно)143
Ныне Дуррес в Албании.
(обратно)144
Выдающиеся византийские императоры, правившие соответственно в VI, X и XII вв.
(обратно)145
В обмен на освобождение ни византийского плена Гийом вынужден был уступить грекам значительную часть своих владений, где те создали деспотат Морея.
(обратно)146
Это подразумевалось из вышеприведенного списка положений договора.
(обратно)147
Собственно, о конклаве (лат. cum clave — «с ключом» или «под ключом») как о собрании кардиналов, изолированных от внешнего мира до тех пор, пока они не наберут нового папу, можно говорить только с этого времени. До 1270 г. (и еще несколько раз после этого) свобода кардиналов-выборщиков никак не ограничивалась. С начала XIV в. конклав стал официальной частью механизма избрания главы римско-католической церкви.
(обратно)148
Эдуард I Английский, сын Генриха III, ставший вскоре мосле описываемых событий королем.
(обратно)149
Этот поход (1271–1272) иногда называют Девятым, хотя он являлся непосредственным продолжением Восьмого — тунисского. Принц Эдуард, недовольный тем, что не успел принять активного участия в боевых действиях в Тунисе (он прибыл слишком поздно), отплыл оттуда в Святую землю, где провел непродолжительную боевую кампанию против мамслюкской армии султана Бейбарса. Решающей победы не добилась ни одна из сторон. Этот поход был последним крупным наступательным предприятием европейцев па Ближнем Востоке в эпоху крестовых походов.
(обратно)150
Sedc vacante — «престол вакантен» (латин.), принятое в римско-католической церкви обозначение периода между смертью или отречением прежнего папы и избранием его преемника.
(обратно)151
Напомним, что обладатель этого титула вплоть до начала XVI в. не мог называться императором до тех пор, пока не был коронован папой и Риме.
(обратно)152
Наместничества.
(обратно)153
Filioque — «и Сына» (лат.), добавление к догмату о Святой Троице, принятое западной церковью в XI в. Касается исхождения Святого Духа как от Бога-Отца, так и от Сына — Иисуса Христа. Восточная церковь этот догмат не приняла. Filioque было одной из главных теологических причин разделения церквей.
(обратно)154
Византийская придворная должность, фактически — первый министр.
(обратно)155
Для планировавшегося, но так и не осуществленного похода в Египет.
(обратно)156
С. Раисимен ошибочно приводит другую дату — начало 1271 года; см. Runciтап S. The Sicilian Vespers. P. 163.
(обратно)157
Любопытное продолжение получила история этого рода и титула на российской почве. Один из представителей русского дворянского рода Дурасовых, происходившего, согласно «Общему гербовнику дворянских родов Российской империи», от польско-литовского шляхтича Ивана Дурача, перебравшегося в Москву в конце XV в., в 1911 г. добился от властей Испании признания за ним титула герцога Дураццо. Он утверждал, что подлинными родоначальниками рода Дурасовых являются потомки Анжуйского дома из линии герцогов Дураццо. Характерно, что за несколько месяцев до Февральской революции Николай II также признал за этим человеком, Василием Алексеевичем Дурасовым, право носить фамилию Дурасов-Дураццо-Анжуйский с титулом принца и титулованием «Высочество». Поскольку законных наследников у В.А. Дурасова, умершего в 1971 г. во Франции, не было, род современных принцев Дураццо-Апжуйских угас. Установить, действительно ли Дурасовы являются потомками Анжуйского дома, не представляется возможным без генетической экспертизы, но такая экспертиза пока не проводилась. Подробнее об этом историческом курьезе см., напр.: Источниковедческие исследования: сб. статей, Государственный академический университет гуманитарных наук (ГЛУГН). М., 2004. Т. 2. С. ид; Красюков Р. Генеалогический заслон па пути к самозванству. Режим доступа: htlp://-nikolai.orthodoxy.ru/oxl/mnk/9.him
(обратно)158
Севастократор — дословно «благородный государь». Чаще всего этим титулом обладали члены императорской фамилии. В XIII–X IV вв. он считался более высоким, чем титул кесаря.
(обратно)159
Матерью Ласло, супругой Иштнана (Стефана) V, короля Венгрии в 1270–1272 гг., была Елизавета, крещеная дочь хана куманов (половцев), ставшего союзником венгерской короны. Сам Ласло сблизился с родней своей матери, носил куманскую одежду и окружил себя приятелями и наложницами из числа куманов — отсюда и его прозвище. Все это вызвало недовольство придворных и церковных кругов. Правление Ласло IV было отмечено распрями; король погиб в 1290 г. — по данным некоторых хронистов, в ссоре со своими куманскими приближенными. Его брак с Елизаветой Анжуйской был неудачным, король практически не жил с женой. Подробнее см., напр.: Kosztolnyi Z.J. Hungary in the Thirteenth Century. In: American Historical Association (AHA) Monograph Series. Vol. 439. Cambridge, 1996. P. 299.
(обратно)160
Королевство Арелат, возникшее в X в., простиралось от Средиземного моря к верхнему Рейну, занимая земли нынешнего юго-востока Франции, части Швейцарии и приграничные области па северо-западе Италии. Оно было имперским леном и в начале XI в. перешло под непосредственную власть императорской короны. Однако по мере того, как и XI–XII вв. эта власть слабела, королевство Арелат де-факто распалось на множество самостоятельных княжеств и графств, одним из которых было Прованское. Однако формально германские императоры и короли считали себя сюзеренами этого сильно уменьшившегося в размерах владения до второй половины XIV в. В 1378 г. император Карл IV назначил французского наследного принца (дофина) Карла имперским викарием (наместником) Арелата. С этого времени королевство Арелат фактически перестало существовать, влившись в состав владений французской короны.
(обратно)161
Карл Мартелл (1271–1295) был старшим сыном Карла II Хромого и внуком Карла I. В 1290 г., после гибели Ласло IV Кумана и пресечения прямой линии династии Арпадов, был провозглашен в Неаполе королем Венгрии (приходясь Ласло IV племянником), но в завоевании венгерской короны не преуспел. Карл Мартелл был женат на Клеменции Габсбургской, младшей дочери короля Рудольфа. Их сын Карл Роберт впоследствии сумел добиться того, чего не удалось отцу, и стал королем Венгрии, положив начало Анжуйской династии на венгерском престоле (подробнее см. в заключении настоящей книги).
(обратно)162
Великий доместик — звание и византийской армии XI–XIV вв., дававшееся обычно командующим крупными воинскими соединениями. Примерно соответствует существовавшему во французской и других западных армиях тех времен рангу великого сенешаля. См., напр.: Van Tricht F. The Latin renovatio oriiyzantium: The Empire of Constantinople (1204–1228). Leiden, 2011. P. 180.
(обратно)163
Отец Филиппа Балдуин II умер в 1273 г.; двумя годами позже не стало и Беатрисы, жены Филиппа и дочери Карла I. Плодом их брака была единственная дочь, Екатерина де Куртенэ, после смерти Филиппа унаследовавшая титул императрицы. Екатерину выдали замуж за Карла де Валуа, сына Филиппа III Французского. Императорский титул, к тому времени окончательно ставший формальностью, перешел впоследствии к их старшей дочери Екатерине II де Валуа и се потомкам. Последним титулярным императором Романии считается внук Екатерины де Валуа, Жак де Бо, герцог Андрийский, умерший бездетным в 1383 г.
(обратно)164
Род Дандоло принадлежал к одним из наиболее знатных в Венеции. Прадед Джованни, дож Энрико Дандоло, был одним из организаторов крестового похода на Константинополь (1204).
(обратно)165
Гийом IX (1071–1126) — герцог Аквитании и Гаскони, граф де Пуатье, один из самых известных и могущественных вельмож Окситании XI — начала XII в. Дед Элеоноры Аквитанской, супруги вначале Людовика VII Французского, а затем Генриха II Английского. Был известен не только своим богатством, конфликтом с церковью и участием в крестовых походах, но и поэтическим дарованием. Сохранилось и сложенных Гийомом песен на окситанском языке.
(обратно)166
К периоду недолгого царствования Рамиро II относится мрачная легенда о «колоколе Уэски», изложенная, в частности, в хронике монастыря Сан-Хуан-дела-Пеиья (XIV в.). Согласнозтому преданию, король Рамиро, столкнувшись с заговором вельмож, готовивших мятеж, отправил гонцов к своему другу и наставнику, настоятелю монастыря, в котором сам Рамиро провел молодые годы. Король просил совета — что делать в сложившейся ситуации. Священник позвал посланцев короля в сад, где начал стричь розовый куст. Он срезал те розы, которые заметно превышали высотой остальные. Именно это аббат и посоветовал сделать королю. Тот понял намек и созвал в Уэску, старую столицу Арагона, своих баронов — чтобы якобы показать им колокол, чей звон будет слышен по всей стране. Там 12 предполагаемых главных заговорщиков были по приказу короля обезглавлены, причем голову их предводителя подвесили, наподобие языка колокола, над головами остальных, лежащими на земле. Увидев это жуткое зрелище, продемонстрированное им королем, остальные сеньоры отказались от сопротивления. См., напр.: Альтамира-и-Кревеа А. История средневековой Испании. СПб., 2003. С.350-
(обратно)167
Барселонский дом считал своим родоначальником Вифреда Волосатого(граф Барселонский в 878–897, также граф Урхельский, Серданский, Жеронский и Конфланский), получившим графский титул от императоров из дома Каролингов. После того как к представителям этого рода перешла корона Арагона, они продолжали использовать и наследственный титул графов Барселонских, так что в историографии королей этой династии часто именуют двойным титулом «короли-графы». Род прямых потомков Вифреда Волосатого по мужской линии прервался со смертью Мартина I, короля Арагона и Сицилии, и 1410 г.
(обратно)168
Как мы помним, к одной из ветвей этой династии относился и другой Раймунд Беренгер IV — граф Прованский, отец Беатрисы, первой жены Карла Анжуйского, и ее сестер. Таким образом, начиная с детей Карла и Беатрисы, арагонская кровь текла в жилах представителей Анжуйского дома, несмотря на многолетнюю вражду между двумя династиями, о которой речь впереди.
(обратно)169
Большая часть Пиренейского полуострова не знала феодализма в том «классическом» виде, в котором он существовал в Северной и Центральной Франции, Англии после норманнского вторжения, отчасти в Германии и Италии.
(обратно)170
При этом большинство историков сходится во мнении, что получивший известность с XVI в. текст якобы древней присяги арагонских сословий своему королю является позднейшим изобретением. Суть отношений между благородным сословием и монархом в землях Арагонской короны эта присяга, тем не менее, отражает: «Мы, будучи столь же хороши, как и ты, клянемся тебе, который не лучше нас, в том, что принимаем тебя в качестве нашего короля и господина, если ты будешь уважать паши свободы и соблюдать все наши законы. Но если нет — то нет». См.: Elliott J. H. Op. cit. P. 30.
(обратно)171
Первый из них, с кастильской принцессой Элеонорой, был, впрочем, расторгнут в 1230 г., а единственный ребенок от этого брака, Альфонсо, объявлен незаконнорожденным.
(обратно)172
Впрочем, неприязнь между Карлом и арагонской династией имела более глубокие корни. В 1246 г. сын Хайме I, Альфонсо, был соперником Карла и борьбе за руку Беатрисы Прованской и унаследованное ею графство (см. главу I). Позднее арагонский двор поддерживал мать Беатрисы и тещу Карла, Беатрису Савойскую, в ее интригах против зятя.
(обратно)173
Оно просуществовало до 1344 г., когда было воссоединено с Арагонской короной в результате воины между двумя представителями Барселонского дома — Хайме III, последним королем Майорки, и Педро IV Церемонным, королем Арагона.
(обратно)174
В 1943 г., во время отступления немецких войск из Неаполя, королевский архив был взорван, большая часть фондов погибла в результате возникшего пожара. К счастью, копии многих погибших документов остались на изготовленных ранее микрофильмах.
(обратно)175
Percy W.A.Jr. The earliest revolution against the «modern state»: direct taxation in medieval Sicily and the Vespers. In: Italian quarterly, 1981. Vol.22. No. 85. P. 73–85. Под «современным» государством автор имеет в виду режим централизованной власти с относительно развитой бюрократией, существовавший в Сицилийском королевстве в позднем Средневековье и сближавший его с абсолютными монархиями раннего Нового времени.
(обратно)176
Характерно, что в целом «освободитель» Педро увеличил налоговое бремя по сравнению с «тираном» Карлом.
(обратно)177
С нумерацией этого паны связана определенная путаница: и действительности он был лишь вторым понтификом, носившим имя Мартин, однако курия по ошибке причислила к обладателям этого имени и двух ранних пап по имени Марин (Marinus).
(обратно)178
Которое якобы передал ему Прочида.
(обратно)179
Гийом (1240–1292), маркиз Монферратский, титулярный король Фессалии, зять и союзник короля Альфонсо X Кастильского, участник многочисленных войн на севере Италии. В них Гийом несколько раз менял союзников, по чаще выступал на стороне противников Карла Анжуйского. Дочь Гийома, владевшего землями в Греции, была выдана замуж за Андроника II Палеолога, сына и преемника Михаила VIII.
(обратно)180
О «соображениях законности» в данном случае, однако, можно спорить: прав папы как верховного сюзерена Сицилии не отрицали сами восставшие, а папа находился па стороне Карла; что же до Констанции, то она была дочерью Манфреда, чьи права на сицилийский престол как незаконнорожденного были небесспорны.
(обратно)181
Карла Хромого, остававшегося в Неаполе.
(обратно)182
Переговоры о возможности брака между одним n:i сыновей Педро III и Маргаритой, дочерью Карла Хромого (ей тогда было у лет), действительно велись в I281 г. при посредничестве влиятельного марсельского дворянина каталонского происхождения Уго де Маталены (см., напр., Салимбене Адам де. Указ. соч. С. 571, 806). Вероятно, со стороны Педро речь шла об отвлекающем маневре, призванном скрыть его подготовку к столкновению с Карлом и союз с Византией.
(обратно)183
Карл Анжуйский по-прежнему был римским сенатором, т.е. город находился с административной точки зрения в его подчинении.
(обратно)184
Речь шла не только о Франции, чей король Филипп III проявлял неизменную верность союзу со своим дядей, но и о владениях самого Карла и его супруги — Анжу, Провансе и Тоннере, откуда король рассчитывал привести на юг новые отряды наемников.
(обратно)185
Эдуарда I Английского, выступавшего в истории с поединком в роли арбитра.
(обратно)186
Биллоны — разменные монеты, чья покупательная способность превышает стоимость содержащегося в них драгоценного металла. В античные и средневековые времена биллоны часто были результатом умышленной порчи монеты, т.е. чрезмерного увеличения серебряной примеси в золотых монетах и медной — в серебряных. При этом такие монеты вводились в оборот наряду с полноценными, и власти следили за чем, чтобы биллоны принимались по той же стоимости, что и «нормальные» серебряные или золотые монеты. Такая практика позволяла казне экономить (а фактически красть) значительные объемы золота и серебра.
(обратно)187
Ранее для этого баронам и рыцарям требовалось разрешение короля.
(обратно)188
Тем самым была продолжена девальвация самого понятия «крестовый поход», поскольку папство приравняло одно из христианских королевств Европы к сарацинам или еретикам; впрочем, папа Мартин был далеко не первым понтификом, так поступившим, — достаточно вспомнить крестовые походы против Фридриха II.
(обратно)189
Судьба Педро II выглядит парадоксально: этот верный сын католической церкви погиб в 1213 г. в битве в окрестностях Тулузы, сражаясь вместе с войском своего вассала, графа Раймунда VI Тулузского, против крестоносцев Симона де Монфора, посланных против Раймунда как покровителя еретиков-альбигойцев.
(обратно)190
Имеется в виду коронация 1266 г. в Риме, во время похода против Манфреда.
(обратно)191
Сыном Карла и Маргариты был Филипп VI, который в 1328 г., после того как пресеклась старшая ветвь Капетингов, взошел на французский троп, основав династию Валуа. Таким образом, все короли Франции вплоть до Генриха III (правил в 1574-1589) были прямыми потомками Карла Анжуйского.
(обратно)192
Вначале для похода па Константинополь, затем для войны с Арагоном и сицилийскими мятежниками.
(обратно)193
Карлом Мартеллом (Martelus — «Молот») звали жившего и VIII в. майордома Франкского королевства, приходившегося дедом Карлу Великому и одержавшего в 732 г. победу в битве при Пуатье над арабским войском, которое вторглось в пределы державы франков.
(обратно)194
Педро III, как и его отец, перед смертью разделил свои владения между сыновьями, дав Сицилию в качестве отдельного королевства во владение младшему сыну.
(обратно)195
С нумерацией короля Федериго существует определенная путаница. Строго говоря, правильно называть его Фридрихом II, так как первым носителем этого имени, занимавшим сицилийский престол, был его прадед Фридрих Гогенштауфен, именовавшийся Фридрихом II в качестве не сицилийского короля, а германского императора. Однако сам Федериго именовал себя Фридрихом III, просто «приплюсовав» себя к императорскому номеру знаменитого предка. В результате в историографии Федериго можно встретить под обоими номерами — хотя его внук, недолго правивший Сицилией в середине XIV в., также именовался Фридрихом III.
(обратно)196
Год окончания Войны за испанское наследство (1700–1714). в результате которой на политической карте Европы, в том числе Средиземноморского региона, произошли крупные изменения. С 1714 (остров Сицилия — с 1720) по 1735 г. Regno было частью владений австрийских Габсбургов, затем перешло под власть младшей ветви испанских Бурбонов. В период Наполеоновских войн в Неаполе в качестве марионеточных королей правили вначале брат Наполеона I — Жозеф, затем — маршал Мюрат (под именем «короля Иоахима Наполеона»). Сицилия оставалась под властью бурбонского короля Фердинанда IV. С 1816 г. юг Италии и Сицилия официально именовались «королевством Обеих Сицилии». В 1860-1861 гг. в результате действий отрядов Джузеппе Гарибальди и войск Сардинского королевства неаполитанские Бурбоны были свергнуты, а их государство стало частью объединенной Италии.
(обратно)197
В результате брака Изабеллы Кастильской и Фердинанда II Арагонского (1469) два крупнейших государства Пиренейского полуострова оказались связаны династическими узами; потомство этих «католических королей» продолжило процесс трансформации Испании в единую монархию. Юг Италии был окончательно присоединен к ее владениям в 1501 г., когда высадившееся в Неаполе войско Фердинанда II лишило тропа его родственника Федериго — последнего представителя младшей ветви тогдашней арагонской династии; эта ветвь происходила от дона Ферранте, незаконнорожденного сына Альфонса V, которому отец завещал неаполитанский трон.
(обратно)Ссылки
1
Цит. по: Dunbabin J. Charles I of Anjou. Power, Kingship and State-Making in Thirteenth-Century Europe. L., 1998. P. 113.
(обратно)2
Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. M., 2001. С. 547
(обратно)3
Виллани Дж. Новая хроника, или История Флоренции. М., 1997. С. 198
(обратно)4
Fawtier R. The Capetian Kings of France. NY, 1966. P. 64.
(обратно)5
Ibid. Р. 31.
(обратно)6
Duby G. France in ihc Middle Ages 987-1460. Oxford, 2009. P. 267.
(обратно)7
Dunbabin J. The French in the Kingdom of Sicily 1266–1305. Cambridge, 2011. P. 194.
(обратно)8
Dunbabin J. The French… P. 40.
(обратно)9
Ле Гофф Ж. Рождение Европы. М., 2008. С. 13
(обратно)10
Блок М. Феодальное общество. М., 2003. С. 305
(обратно)11
Макиавелли И. Государь. М. 2002. С. 11. — Здесь и далее трактат Н. Макиавелли «Государь» цитируется по этому изданию.
(обратно)12
Le Goff J. Středověký človek. In: Středověký človek a jeho svět / Ed. J. Le Goff. Praha, 1999. S. 29.
(обратно)13
Kantorowicz. E. Frederick the Second, 1194-1250. L., 1957. P. 42
(обратно)14
Добиаш-Рождественская О. Эпоха крестовых походов. Запад в крестоносном движении. M., 2011. С. 101.
(обратно)15
Matthew Paris. Chronica Majora/ Ed. H.R. Luartl. L., 1972. Vol. III. P. 626–627.
(обратно)16
Almiajia D. Frederick II. A Medieval Imperor. Oxford, 1992. P. 110.
(обратно)17
См.: Эпоха крестовых походов /Под ред. Э. Лависса и Л. Рамбо. Смоленск, 2010. С. 180.
(обратно)18
Цит. по: O'Connell D. The Teachings of Saint Louis. Chapel Hill, 1972. P. 57.
(обратно)19
Bartlett R. The Making of Europe. Conquest, Colonization and Cultural Change 950-1350. L., 1994. P. 311
(обратно)20
Сборник документов по социально-политической истории Византии / Отв. ред. акад. К.Л. Косминский. М., 1951. С. 209.
(обратно)21
Ле Гофф Ж. Рождение Европы. С. 8.
(обратно)22
Цит. по: Geanakoplos Deno J. Emperor Michael Palacologus and the West 1258–1282. A Study in Byzantine — Latin Relations. Cambridge, Ms, 1959. Р. 190.
(обратно)23
Dunbabin J. Charles I… P. 114.
(обратно)24
Добиаш-Рождественская О. Указ. соч. С. 97.
(обратно)25
Dunbabin J. Charles I… P. 7.
(обратно)26
Cardini F. Válečnik a rytíř. In: Středovĕký člověk a jcho svět / Kd. Jacques Le Goff. Praha, 1999. S. 85.
(обратно)27
Цит. по: Жуанвиль Жан де. Книга благочестивых речений и добрых деяний нашего святого короля Людовика. СПб., 2012. С. 155
(обратно)28
Цит. по: Wood H.H. The battle of Hastings: The Fall of Anglo-Saxon England. Atlantic, 2008. P. 46.
(обратно)29
Sassier Y. Hugues Capet. Naissance d’une dynastic. Paris, 1987. P. 7.
(обратно)30
Хачатурян Н.А. Сословная монархия во Франции XIII-ХV вв. M., 1989. С. 22.
(обратно)31
Fawtier R. Op. cit. P. 60.
(обратно)32
Schmale, Е-J. (ed.) Quelle zur Investiturstreit. München, 1978. S. 97.
(обратно)33
Сугерий, аббат Сен-Дени. Жизнь Людовика VI Толстого, короля Франции (1108–1137). М., 2006. Цит. по электронной версии: . info/Texts/rus6/Suger/text.phtml?id = 1361
(обратно)34
Fawtier R. Op. cit. P. 109.
(обратно)35
Цит. по: Перну Р. Ричард Львиное Сердце. M., 2000. С. 60.
(обратно)36
Цит. по: Mundy J.H. Europe in the High Middle Ages 1150–1300. L., 2000. P. 238–239.
(обратно)37
Duby G. The Legend of Bouvines: War, Religions and Culture in the Middle Ages. LA, 1990- P. 137
(обратно)38
Maritain J. Man and the State. Chicago, 1951. P. 9.
(обратно)39
Ле Гофф Ж. Рождение Европы. С. 60.
(обратно)40
Цит. по: Tierney B. The Crisis of Church and Slate (1050–1300). NY, 1964. P. 134–135
(обратно)41
Пти-Дютайи Ш. Феодальная монархия во Франции и в Англии X–XIII вв. М., 2010. С. 181-182.
(обратно)42
Цит. по: Kenton J.F. The Revenue of Louis VII. In: Speculum, 1907. Vol. X LI I. P. 90.
(обратно)43
Подробнее см., напр.: Harding A. England in the Thirteenth Century. Cambridge, 1993. P. 9-16
(обратно)44
Цит. по: Melville G. Ludwig VIII. In: Die franzosischen Könige des Midlalters. Von Odo bis Karl VIII (888–1498). München, 1995. S. 168.
(обратно)45
Подробнее см., напр.: Lewis A. W. Royal Succession in Capetian France: Studies on Familial Order and the State. Cambridge, Mass., 1981. P. 161–192.
(обратно)46
Mandy J.H. Op. ciL. P. 241.
(обратно)47
Wood С.T. The French Apanages and the Capelian Monarchy, 1224–1378. In: Harvard Historical Monographs, LXI. Cambridge, Mass., 1966. P. 150.
(обратно)48
Подробнее см., напр.: HerdeP. Karl von Anjou. Stuttgart, 1979. S. 24–25.
(обратно)49
Paris. Vol. I V. P. 546.
(обратно)50
См. Dunbabin J. Charles I… P. 10.
(обратно)51
Hallam E.D., Everard J. Capetian France, 987-1328. L., 2001. P. 176.
(обратно)52
Melville G. Op. cit. S. 162.
(обратно)53
Denieul-Cormier A. Wise and Foolish Kings. The First House of Valois, 1328–1498. NY, 1980. P. 9.
(обратно)54
Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. С. 71
(обратно)55
Chronica Majora. Vol. III. P. 438.
(обратно)56
Hallam Е.D., Everard J. Ор. cit. P. 268.
(обратно)57
Жуанвиль Жан де. Книга благочестивых речений и добрых деяний нашего святого короля Людовика. СПб., 2012. С. 24
(обратно)58
Keen M. A History of Medieval Europe. NY, 1982. P. 61.
(обратно)59
Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. Екатеринбург, 1999. С. 49.
(обратно)60
Там же.
(обратно)61
Dunbabin J. Charles I… P. 166.
(обратно)62
Цит. по: Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. С. 98.
(обратно)63
Ле Гофф Ж. Указ. соч. C. 99
(обратно)64
Dunbabin J. Charles I… P. 19.
(обратно)65
Нотрдам Жан де. Жизнеописания древних и наиславнейших провансальских пиитов. XXVIII. О Раймоне Беренгиере, графе Провансском //Жизнеописания трубадуров. М., 1993. С. 291.
(обратно)66
Голдстоун Н. Четыре королевы. М., 2010. С. 29.
(обратно)67
Более подробно о графе Прованском и его дочерях см.: Vivoli M. Raymond-Bérenger V de Provence et ses quatre frilles. Paris, 2000.
(обратно)68
Abulafia D. Frederick I. P. 376.
(обратно)69
Голдстоун Н. Указ. соч. С. 179.
(обратно)70
Виллани Дж. Указ. соч. С. 198.
(обратно)71
Цит. по: Dunbabin J. Charles I… P. 21.
(обратно)72
Dunbabin J. Charles I… P. 181.
(обратно)73
Жуанвиль Жан де. Указ. соч. С. 30.
(обратно)74
Hallam E.D., Everard J. Op. cit. P. 340.
(обратно)75
Подробнее см.: Dunbabin J. Charles I… Р. 30-31
(обратно)76
Ibid. P. 29.
(обратно)77
Ferro M. Dějiny Francie. Praha, 2006. S. 63.
(обратно)78
Пти-Дютайи Ш. Указ. соч. С. 12.
(обратно)79
Осокин Н. История альбигойцев и их времени. M., 2003. С. 663-664.
87
(обратно)80
Жуанвиль Жан де. Указ. соч. С. 64.
(обратно)81
Runciman S. A History of the Crusades. NY, 1964. Vol. 1. P. 29.
(обратно)82
Цит. по: Брандедж Дж. Крестовые походы. Священные войны Средневековья. М., 2011. С. 18.
(обратно)83
Сванидзе А.А. Средневековые города Западной Европы: некоторые общие проблемы. В сб.: Город в средневековой цивилизации Западной Европы. М., 1999. Т.1. Феномен средневекового урбанизма. С. 28.
(обратно)84
Cardini F. Op. cit. S. 84.
(обратно)85
Keen M. Op. cit. P. 122.
(обратно)86
Виллардуэн Ж. де. История завоевания Константинополя // Жуанвиль Ж. де, Виллардуэн Ж. де. История крестовых походов. М., 2008. С. 89 — 91.
(обратно)87
Abulafia D. Frederick II. P. 170.
(обратно)88
Цит. по: Abulafia D. Frederick II. P. 185.
(обратно)89
Добиаш-Рождественская О. Указ соч. С. 94
(обратно)90
Keen М. Op. cit. P. 17
(обратно)91
Жуанвиль Жан де. Указ. соч. С 32–33.
(обратно)92
Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. С. 143.
(обратно)93
Жуанвиль Жан дe. Указ. соч. С. 36.
(обратно)94
См., напр.: Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. С. 148.
(обратно)95
См. примечания к «Книге благочестивых речений…»: Жуанвиль Жан де. Указ. соч. С. 192-193.
(обратно)96
Жуанвиль Жан де. Указ. соч. С. 102.
(обратно)97
Норвич Дж. Срединное море. История Средиземноморья. М., 2010. С. 243.
(обратно)98
Подробнее см., напр.: Humphrey, S. From Saladin to the Mongols: The Ayyubids of Damascus, 1193–1260. L., 1977. P. 288–295.
(обратно)99
Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. С. 118.
(обратно)100
Цит. по: Паль Лин фон. История империи монголов. М.; СПб., 2010. С 200
(обратно)101
Жуанвиль Жан де. Указ. соч. С. 37–3
(обратно)102
Там же. С. 41.
(обратно)103
Жуанвиль Жан дe. Уках сом. С. 40
(обратно)104
Подробнее об этом и о последующей политической борьбе в Египетском султанате см., напр.: Perry G.E. The History of Egypt — The Mamluk Sultanate. Greenwood, 2004. P. 47–56.
(обратно)105
Цит. по: Howarth S. Knights Templar: The Essential History. Bloomsbury, 2006. P. 223.
(обратно)106
Жуанвиль Жан де. Указ. соч. С. 156–157, 163
(обратно)107
Там же. С. 167.
(обратно)108
Ж. Бедье. Жан дс Жуанвил в // К кн.: Жуанвиль Жан де. Указ. соч. С. 223.
(обратно)109
Жуанвиль Жан де. Указ. соч. С. 52.
(обратно)110
Там же. С. 54.
(обратно)111
Жуанвиль Жан де. Указ. соч. С. 58.
(обратно)112
Там же. С. 91.
(обратно)113
Там же. С. 96-97.
(обратно)114
Жуанвиль Жан де. Указ. соч. С. 97.
(обратно)115
Жуанвиль Жан де. Указ. соч. С. 101.
(обратно)116
Там же. С 105.
(обратно)117
Там же. С. 104.
(обратно)118
Голдстоун Н. Указ. соч. С. 227.
(обратно)119
Там же. С. 200.
(обратно)120
Dunbabin J. Charles I… P. 227.
(обратно)121
Макиавелли Н. Указ. соч. С. 41.
(обратно)122
Dunbabin J. Charles I… P. 45.
(обратно)123
Гергей Е. История папства. M., 1996. С. 84.
(обратно)124
Coleman E. Cities and Communes. In: Abulafia D. (ed.) Italy in ihe Central Middle Ages. Oxford, 2004. P. 46.
(обратно)125
Kantorowicz E. Op. cil. P. 17.
(обратно)126
Abulafia D. (ed.). Italy… P. 114.
(обратно)127
Kantorowicz E. Op. cit. P. 6.
(обратно)128
Цит. по: Abulafia D. (ed.). Italy… P. 5)4.
(обратно)129
Bressler R. Frederick II. The Wonder of the World. Yardley, Pn., 2010. P. 151.
(обратно)130
Abulafia D. (ed.). Italy… P. 5
(обратно)131
Coleman E. Op. cit. P. 47.
(обратно)132
Matthew D. The Norman Kingdom of Sicily. Cambridge, 2004. P. 3,150.
(обратно)133
Gilmour D. The Pursuit of Italy. L., 2012. P. 62.
(обратно)134
Runciman S. The Sicilian Vespers. Cambridge, 1958. P. 48.
(обратно)135
Цит. по: Kantorowicz E. Op. cit. Р. 31
(обратно)136
Виллани Дж. Указ. соч. С 160.
(обратно)137
Там же. С. 162.
(обратно)138
Виллани Дж. Указ. соч. С. 162.
(обратно)139
Салимбене Адам де. С. Хроника. М., 2004. С 224
(обратно)140
Гергей Е. Указ. соч. С. 141.
(обратно)141
Пти-Дюшайи Ш. Указ. соч. С. 241
(обратно)142
Салимбене Адам де. Указ. соч. С 230.
(обратно)143
Подробнее см., напр.; Голдстоун Н. Указ. соч. С 353.
(обратно)144
Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. С. 54
(обратно)145
Runciman S. The Sicilian Vespers. P. 72.
(обратно)146
Подробнее см., напр.; Jean d'Avesnes. In: Biographie nationale. Académie royale de Belgique. Bruxelles, 1889. Vol. 10. P. 280–292.
(обратно)147
См. Dunbabin J. Charles I… P.38.
(обратно)148
См., напр.: Hallam E.D., Everard J. Op. cit. P. 282–283.
(обратно)149
Dunbabin J. The French… P. 121.
(обратно)150
Подробнее см.: Dunbabin J. The French… P. 120–132.
(обратно)151
См., напр.: Sivéry G. Blanche de Castille. Paris, 1990. Р. 252–253.
(обратно)152
Dunbabin J. Charles I… P. 39.
(обратно)153
Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой, С. 548
(обратно)154
Dunbabin J. Charles I… К 46. 48.
(обратно)155
Ibid. P. 53.
(обратно)156
Matthew D. Op. cit. P. 374.
(обратно)157
Виллани Дж. Указ. соч. С. 173.
(обратно)158
Галдстоун Н. Указ. соч. С. 323
(обратно)159
Dnnbabin J. Charles I… P. 54.
(обратно)160
См., напр.: Holden A.J. Le Roman de Rou de Ware. Paris, 1970. P.54.
(обратно)161
См.: Van Houts E. The Normans in Europe. Manchester, 2000. P. 40–41.
(обратно)162
Подробно обе версии — «салернская» и «гарганская» — анализируются, например, и следующей работе: Joranson E. The Inception of the Career of the Normans in Italy — Legend and History. In: Speculum. Vol.23, No. 3 (Jul., 1948). P. 353–3.96.
(обратно)163
Норвич Дж. Нормандцы в Сицилии. Второе нормандское завоевание, 1016–1130. M., 2005. С. 30.
(обратно)164
Benjamin S. Sicily: Three Thousand Years of Human History. Hanover, NH, 2006. P. 146.
(обратно)165
Chalandon F. Histoire de la domination normande en Italie et en Sicilie. Paris, 1907. Vol. I. P. 124.
(обратно)166
Matthew D. Op. cit. P. 16.
(обратно)167
Комнина Анна. Алексиада. СПб., 1996. С. 187
(обратно)168
Priviter J.F. Sicily. An Illustrated History. NY, 2002. P. 3.
(обратно)169
Норвич Дж. Нормандцы в Сицилии. Второе… С. 145–146.
(обратно)170
Норвич Дж. Нормандцы и Сицилии. Второе… С 206.
(обратно)171
Там же. С. 207.
(обратно)172
Matthew О. Op. ciT. P. 26.
(обратно)173
Abbot Alexander of Telese. The History of the Most Serene Roger, first King of Sicily. In: Roger II and the Creation of the Kingdom of Sicily. Selected Sources translated and annotated by G.A. Loud. Manchester, 2012. P. 108.
(обратно)174
Норвич Дж. Нормандцы в Сицилии. Второе… С. 334.
(обратно)175
Benjamin S. Op. cic. P. 166
(обратно)176
Romuald of Salerno. Chronicon. In: Loud. P. 259.
(обратно)177
Прежде всего хроника Гуго Фальканда Liber de Regno Sicliae.
(обратно)178
См.: Норвич Дж. Нормандцы в Сицилии. Расцвет и закат Сицилийского королевства. М., 2005. С. 169 — 170.
(обратно)179
Takayama H. Op. cit. P. 65.
(обратно)180
Норвич Дж. Нормандцы к Сицилии. Расцвет… С. 257
(обратно)181
См.: Hugo Falcandus. Liber de Regno Sicilie.
(обратно)182
Matthew D. Op. cit. P. 151.
(обратно)183
Fret L.J. Antiquités el Chroniques Percheronnes, ou recherches sur l'histoire civile, religieuse, monumentale, politique et littéraire de l'ancienne province du Perche, el pays limitrophes. 1838. P. 41.
(обратно)184
Норвич Дж. Нормандцы в Сицилии. Расцвет… С. 259.
(обратно)185
Норвич Дж. Нормандцы и Сицилии. Расцвет… С. 385.
(обратно)186
Benjamin S. Op. cit. P. 181.
(обратно)187
Подробнее см., напр.: Норвич Дж. Нормандцы в Сицилии. Расцвет… С.392.
(обратно)188
Виллани Дж. Указ. соч. С 164.
(обратно)189
Matthew D. Op. cit. P. 366.
(обратно)190
Подробнее см., напр.: Pispisa E. Il regno di Manfredi. Proposte di interpretazione. Napoli, 1991. P. 123–126.
(обратно)191
Салимбене Адам де. Указ. соч. С. 492.
(обратно)192
См., напр.: Лозинский С.Г. Указ. соч. С. 147.
(обратно)193
- Matthew D. Op. cit. P. 369
(обратно)194
Подробнее см., напр.: Harding A. Op. cit. P. 286–290.
(обратно)195
Гергей Е. Указ. соч. С. 143
(обратно)196
Runciman S. The Sicilian Vespers. P. 82
(обратно)197
Ле Гофф Ж. Людовик I X Святой. С. 544.
(обратно)198
Matthew D. Op. cit. P. 376
(обратно)199
См., напр.: Runciman S. The Sicilian Vespers. P.86.
(обратно)200
См., напр.: Runciman S. The Sicilian Vespers. P. 103; Голдстоун Н. Указ. соч. с. 433.
(обратно)201
Dunbabin J. The French… P. 48
(обратно)202
Dunbabin J. Charles I… P. 55.
(обратно)203
Виллани Дж. Указ. соч. С. 199.
(обратно)204
Виллани Дж. Указ. соч. С 201.
(обратно)205
France J. Western Warfare in the Age of the Crusades 1000–1300. L., 1999. P. 130.
(обратно)206
Diinbtibin J. The French… P. 161.
(обратно)207
Matthew D. Op. cit. p. 378.
(обратно)208
Голдстоун Н. Указ. соч. С. 385.
(обратно)209
Салимбене Адам де. Указ. соч. С. 511
(обратно)210
Виллани Дж. Указ. соч. С. 203.
(обратно)211
Там же. C. 204
(обратно)212
Runciman S. The Sicilian Vespers. P. 109.
(обратно)213
Runciman S. The Sicilian Vespers. P. 109.
(обратно)214
Виллани Дж. Указ. соч. С. 205
(обратно)215
Виллани Дж. Указ. соч. С. 206.
(обратно)216
Виллани Дж. Указ. соч. С. 207
(обратно)217
Matthew D. Op. cit. P. 380.
(обратно)218
Abulafia D. Frederick II. P. 418.
(обратно)219
Цит. по: Rnciman S. The Sicilian Vespers. P. 113.
(обратно)220
См., напр.: Рыжов К. Все монархи мира. Западная Европа. М., 1999. с. 241.
(обратно)221
Dunbabin J. The French… P.55.
(обратно)222
Runciman S. The Sicilian Vespers. P. 115.
(обратно)223
Подробнее см., напр.: Нampe К. Geschichte Konradins von Hohenstaufen. Leipzig, 1942. S. 211–238.
(обратно)224
Abulafia D. Frederick II. P. 420.
(обратно)225
Салимбене Адам де. Указ. соч. С. 516.
(обратно)226
Там же.
(обратно)227
Runciman S. The Sicilian Vespers. P. 127.
(обратно)228
Runciman S. The Sicilian Vespers. P. 128.
(обратно)229
Подробнее о ходе битвы см., напр.: Holmes G. (ed.). The Oxford Illustrated History of Medieval Europe. Oxford, 1088. P. 238; Нampe К. Op. cit. S. 284-205.
(обратно)230
Цит. по: Нampe К. Op. cit. S. 295.
(обратно)231
Hampe К. Op. cit. S. 304.
(обратно)232
Runciman S. The Sicilian Vespers. P. 132.
(обратно)233
Салимбене Адам де. Указ. соч. С. 518
(обратно)234
Hampe К. Op. cit. S. 319.
(обратно)235
Hampe К. Op. cit. S. 312.
(обратно)236
Chronica majora. Vol. V. P. 465–466.
(обратно)237
Жуанвиль Жан де. Указ. соч. С. 161.
(обратно)238
Подробнее см., напр.: Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. С. 169-172.
(обратно)239
Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. С. 228.
(обратно)240
Жуанвиль Жан де. Указ. соч. С. 171–172.
(обратно)241
Runciman S. The Sicilian Vespers. P. 158.
(обратно)242
Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. С. 227.
(обратно)243
Салимбене Адам де. Указ. соч. С. 526
(обратно)244
Жуанвиль Жан де. Указ. соч. С 172.
(обратно)245
См. Ле Гофф Ж. Людовика IX Святого. С. 231, примеч. 1.
(обратно)246
Салимбене Адам де. Указ. соч. С. 526.
(обратно)247
Жуанвиль Жан де. Указ. соч. С. 172.
(обратно)248
Жуанвиль Жан де. Указ. соч. С. 173
(обратно)249
Салимбене Адам де. Указ. соч. С. 526.
(обратно)250
Dunbabin J. Charles I… P. 231.
(обратно)251
Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. С. 233
(обратно)252
Dunbabin J. The French… P. 192.
(обратно)253
Там же.
(обратно)254
Салимбене Адам де. Указ. соч. С. 526.
(обратно)255
Runciman S. The Sicilian Vespers. P. 161.
(обратно)256
Норвич Дж. Срединное море… С. 251–252.
(обратно)257
См., напр., Ле Гофф. Людовик IX Святой. С. 234–13
(обратно)258
Runciman S. The Sicilian Vespers. P. 162.
(обратно)259
Dunbabin J. Charles I… P. 140.
(обратно)260
Registri della Cancelleria Angioina (RCA). Napoli, 1950–1998. См., напр.: -DELLA-CANCELLERIA-ANGIOINA.hlml
(обратно)261
Dunbabin J. Charles I… Р. 33.
(обратно)262
Макиавелли Н. Указ. соч. С. 28.
(обратно)263
Dunbabin J. Charles I… P. 18.
(обратно)264
Георгий Пахимер. История о Михаиле и Андронике Палеологах. СПб., 1868. С. 78.
(обратно)265
Dunbabin J. The French… P. 159.
(обратно)266
Салимбене Адам де. Указ. соч. С. 650.
(обратно)267
Салимбене Адам де. Указ. соч. С. 51
(обратно)268
Там же.
(обратно)269
Там же.
(обратно)270
См. Runciman S. The Sicilian Vespers. P. 270.
(обратно)271
Оболенский Д. Византийское содружество наций. M., 1998. С. 14.
(обратно)272
Geanakoplos D.J. Emperor Michael Palaeologus and the West, 1258–1282. A Study in Byzaniine-Latin Relations. Harvard University Press, Cambridge, Ms, 1959. P. 66.
(обратно)273
Цит. по: Диль Ш. История Византийской империи. М., 1948. Т. 3. с. 29.
(обратно)274
История Византин / Под ред. С.Д. Сказкина. M., 1977. Т. 3. Гл. III. Здесь и далее цит. по электронной версии: / soo/zooooo75/index.shiml
(обратно)275
Norwich J. A Short History of Byzantium. I..; NY, 1997. P 309.
(обратно)276
См., напр.: Sturdza M.D. Dictionnaire Historique de Généalogique des Grandes Familles de Grèce, d'Albanie et de Constantinople. Paris, 1999. P. 477.
(обратно)277
Norwich J. Op. cit. P. 312.
(обратно)278
Цит. по: Дашков С. Указ. соч. С 279.
(обратно)279
Подробнее о деле Палеолога см.: Георгий Акрополит. История. СПб., 2005. С. 90-95
(обратно)280
См.: Георгий Пахимер. История о Михаиле и Андронике Палеологах. СПб., 1868. С. 30.
(обратно)281
Norwich J. Op. cit. P. 314.
(обратно)282
Георгий Пахимер. Указ. соч. С. 84.
(обратно)283
Там же. С. 88.
(обратно)284
См., напр.: Дашков С. Указ. соч. С. 288.
(обратно)285
Салимбене Адам де. Указ. соч. С. 504.
(обратно)286
Norwich J. Op. cit. P. 316.
(обратно)287
Дашков С. Указ. соч. С. 285.
(обратно)288
Geanakoplos Deno J. Op. cit. P. 138-139.
(обратно)289
История Византии. Т.3. Гл. IV.
(обратно)290
Там же.
(обратно)291
Runciman S. The Sicilian Vespers. P. 152–153.
(обратно)292
Dunbabin J. The French… P. 140–141.
(обратно)293
Подробнее о договорах в Витербо см., напр.: Geanakopha Deno J. Op. cit. P. 197-199
(обратно)294
Dnnbabin J. Charles I… P. 94.
(обратно)295
Подробнее о ходе и участниках выборов папы в 1268–1271 гг. см., напр.: Adams J.P. Sedce Vacante November 29, 1268 — September 1, 1271.
(обратно)296
См., напр.: Sladen B.H.W., Bourne F. The Secrets of the Vatican. L., 1907. P. 48–50.
(обратно)297
Подробнее см., напр.: Denholm-Young N. Thomas de Wykes and his Chronicle. In: The English Historical Review, 1946. LX I (CCLX). P. 157–170.
(обратно)298
Цит. по: Голдстоун Н. Указ. соч. С. 408–409.
(обратно)299
История Византии. Т.3. Гл. V.
(обратно)300
Gairiakoplos Deno J. Op. cit. P. 224, 226.
(обратно)301
Dunbabin J. Charles I… P. 138.
(обратно)302
Оболенский Д. Указ. соч. С. 258-259.
(обратно)303
Geanakoplos Deno J. Op. cit. P. 272–273.
(обратно)304
Norwich J. Op. cit. P. 324.
(обратно)305
Dunbabin J. Charles I… P. 138.
(обратно)306
Цит. по: Migne J.P., Hopfner T. Pauologiaccursuscomplcius. Series Gracca. Paris, 1865. Vol. 141, col. 450–051.
(обратно)307
Дашков С. Указ соч. С. 289.
(обратно)308
Geanakoplos Deno J. Op. cit. P. 214.
(обратно)309
Подробнее см., напр.: Lola E. Rcgnum Albaniac, the Papal Curia, and the Western Visions of a Borderline Nobility. Central European University. Budapest, 2008. P. 14–15.
(обратно)310
Цит. по: Elsie Robert. The earliest references to the existence of the Albanian language. In: Zeitschrift für Balkanologic, Munich, 1991. Vol. 27.2. P. 101–105
(обратно)311
Runciman S. The Sicilian Vespers. P. 164.
(обратно)312
Dunlmbin J. Charles I… P. 121.
(обратно)313
Оболенский Д. Указ. соч. С 253.
(обратно)314
Подробнее см., напр.: Blagojevic M. Srbija u doba Nemanjica. Beograd, 1989. S. 104–109.
(обратно)315
Цит. по: Dunbabin J. Charles I… P. 140.
(обратно)316
Runciman S. The Sicilian Vespers. P. 205.
(обратно)317
Geanakoplos Deno J. Op. cit. P. 330.
(обратно)318
Подробнее об осаде Берата см., напр.: Geanakoplos Deno J. Op. cit. P. 331–334.
(обратно)319
Dunbabin J. Charles I… P. 45.
(обратно)320
Подробнее см.: Laurie E. The Will of Alfonso I, El Batallador, King of Aragon and Navarre: A Reassessment. In: Speculum. Vol. f,o. No. 4 (Oct., 1975). P 635–651.
(обратно)321
Artete A., Campistol J. aj. Dějiny Spanelska. Praha, 1995, S. 133.
(обратно)322
Davis N. Vanished Kingdoms. The Hislory of Half-Forgotten Europe. L., 2012. P. 165
(обратно)323
Elliott J.H. Imperial Spain 1469-1716, L., 1975. P. 17.
(обратно)324
Davis N. Op. cit. P. 174.
(обратно)325
См., напр.: Arteta A., Camputol J. ai. Op. cit. S. 155–156.
(обратно)326
См.: Chaytor H.J. A History of Aragon and Catatonia. L., 1933. P. 91
(обратно)327
См.: Dunbabin J. Charles I… P. 171.
(обратно)328
Chaytor H. J. A History… P. 91–92.
(обратно)329
Chaytor H.J. A History… P. 96.
(обратно)330
Dunbabin J. Charles I… P.57.
(обратно)331
См.: Epstein S. R. Еру Island for Itself. Economic development and social change in late medieval Sicily. Cambridge, 1992. З. 36-37.
(обратно)332
Dunbabin J. The household and entourage of Charles I of Anjou, king of the Regno, 1266–1285. In: Historical Research. Vol. 77. No. 197. 2004. P. 314.
(обратно)333
Pollastri S. I.a presence ullramoiuainc dans le midi italien (1265–1340). In: Studi Slorici Meridionali. Vol.12. 1995. P. 4–6.
(обратно)334
Dunbabin J. The French… P. 163.
(обратно)335
Benjamin S. Op. cit. P. 212–213.
(обратно)336
Dunbabin J. The household… P. 325.
(обратно)337
Morelli S. I giustizieri nel regno di Napoli al tempo di Carlo d'Augió. In: L'état angevin. Pouvoir, culture et société entre XIIIe et XIVe siècle. Acte du Colloque international (Rome — Naples, 7–11 novembre, 1995). Rome, Ecole Française de Rome, 1998. P. 491–517.
(обратно)338
Runciman S. The Sicilian Vespers. P. 148.
(обратно)339
Matthew D. Op. cit. P. 380.
(обратно)340
Dunbabin J. The household… P. 336.
(обратно)341
Dunbabin J. The French… P. 250.
(обратно)342
См.: Dunbabin J. Charles I… P. 171.
(обратно)343
Подробнее см.: Göbbels J. Das Miliiarwcscn im Königreich Sizilicn zur Zeit Karls I. von Anjou. Slutgart, 1984. S. 121–127.
(обратно)344
Подробнее см.: Pryor J. The galleys of Charles I of Anjou, King of Sicily. In: Studies in Medieval and Renaissance Hislory. 1993. Vol. 14. P. 33–104.
(обратно)345
Подробнее о «греческом orne» см., напр.: Носов К. Секретное оружие Византии: строим огнемет. Режим доступа: hllp:/// article/10084-sekretnoe-oruzhie-vizantii/
(обратно)346
Gуanakoplos Deno J. Op. cit. P. 336–337.
(обратно)347
Dunbabin J. Charles I… P. 155.
(обратно)348
Ibid. P. 156.
(обратно)349
Epstein S. R. Op. cit. P. 135
(обратно)350
Dunbabln J. Charles I… P. 158.
(обратно)351
Runciman S. The Sicilian Vespers. P. 207.
(обратно)352
Dunbabin J. Charles I… P. 161.
(обратно)353
См., напр.: Abulafia D. Frederick II. P. 202–225.
(обратно)354
Benjamin S. Op. cit. P. 213.
(обратно)355
Подробнее см., напр.: Williams G. Papal Genealogy: The Families and Descendants of the Popes. L., 2004. P. 35–37.
(обратно)356
См. Geanakoplos Dena J. Op. cit. P. 337–338.
(обратно)357
Gli archivi e le biblioteche di Spagna in rapport alla storin d'Italia. Vol. II. Palermo, 1886.
(обратно)358
Tolomeo di Lucca. Hisloria ecclesiastica. Vol. XI, col. 1186–1187.
(обратно)359
Runciman S. The Sicilian Vespers. P. 224.
(обратно)360
Ibid. P. 226.
(обратно)361
Dunbabin J. Charles I… P. 101.
(обратно)362
Lu Rebellamenlu di Sichilia. Codice delta Biblioteca Regionale di Palermo / Ed. E. Evola. Palermo, 1882.
(обратно)363
См., напр.: Meyer Settton K. The Papacy and the Levant: 1204–1571: The Thirteenth and Fourteenth Centuries. Colingdale, PA, 1976. P. 140.
(обратно)364
Geanakoplos Deno J. Op. cit. P. 355. Болеe подробно па эту тему см.: Wierustowski H. Der Anteil Johanns von Procida an der Verschworung gegen Karl von Anjou. In: Politics and Culture in Medieval Spain. Rome, 1971. P. 173–183.
(обратно)365
Runciman S. The Sicilian Vespers. P. 227.
(обратно)366
Салимбене Адам де. Указ. соч. С. 566.
(обратно)367
Runciman S. The Sicilian Vespers. P. 226.
(обратно)368
Geanakoplos Deno J. Op. cit. P. 355–356.
(обратно)369
Geanakoplos Deno J. Op. cit. P. 359.
(обратно)370
Imp. Michaclis Palaeologi De vila sua opusculum, IX //Христианское Чтение, 1885, 11. С. 537–538 (греческий текст); С. 558 (русский перевод).
(обратно)371
Amari M. La Guerra del Vespro Siciliano. Firenze, 1876.
(обратно)372
Saba Malaspina. Chronicon. Cenre Tradidio Litterarum Occiderualium (CTLO), 2010. P. 287.
(обратно)373
Amari M. Vol. I. P. 37. См. также: The Spectator's Archive. Michele Amari's War of the Sicilian Wespers.
(обратно)374
Виллани Дж. Указ. со. с. 16
(обратно)375
Privitera J. E Op. cit. P. 76.
(обратно)376
Салимбене Адам де. Указ. соч. С 557
(обратно)377
См. Runciman S. The Sicilian Vespers. P. 239.
(обратно)378
Dunbubin J. The Trench… P. 177.
(обратно)379
Runciman S. The Sicilian Vespers. P. 245.
(обратно)380
Dunbabin J. Charles I… P. 109.
(обратно)381
Runciman S. The Sicilian Vespers. P. 248–249.
(обратно)382
Салимбене Адам де. Указ. соч. С 572.
(обратно)383
Виллани Дж. Указ. соч. С. 215.
(обратно)384
Dunbabin J. Charles I… P. 110.
(обратно)385
Runciman S. The Sicilian Vespers. P. 259.
(обратно)386
Ibid. P. 260.
(обратно)387
Салимбене Адам де. Указ. соч. С.573–574
(обратно)388
Салимбене Адам де. Указ. соч. С. 573.
(обратно)389
Там же. C. 574.
(обратно)390
Dunbabin J. Charles I… P. 110.
(обратно)391
Подробнее см., напр.: Quintana M.J. Roger de I.auria. Personajes вe Aragon. General vicеorioso de la Escuadra Aragonesa en el Mediеerraneo. Режим доступа: hup://#pie
(обратно)392
Салимбене Адам де. Указ. соч. С. 576.
(обратно)393
Runciman S. The Sicilian Vespers. P. 277.
(обратно)394
Там же.
(обратно)395
Салимбене Адам де. Указ. соч. С. 613–614.
(обратно)396
Chaylor H.J. A History… P. 106.
(обратно)397
Ibid. P. 104.
(обратно)398
Ruriaman S. The Sicilian Vespers. P. 27X.
(обратно)399
Салимбене Адам де. Указ. соч. С 614.
(обратно)400
Норвич Дж. Нормандцы в Сицилии. Второе… С. 255
(обратно)401
Там же.
(обратно)402
Runciman S. The Sicilian Vespers. P. 279.
(обратно)403
Dunbabin J. Charles I… P. 113.
(обратно)404
Dunbalnn J. The French… P. 104.
(обратно)405
Салимбене Адам де. Указ. соч. С. 645.
(обратно)406
Наиболее подробно (несмотря на некоторые сомнения в ее достоверности) об этом сообщает «Хроника» каталонца Рамона Мунтанера; см. The Сronicle of Ramon Muntaner, translated into English by Lady Goodenough. Cambridge, Ontario, 2000. P. 291–244. Режим доступа: htlp://. ca/inpar/muntaner_goodenough.pdf
(обратно)407
Подробнее см., напр.: Kiesewetler A. Die Anfänge der Regierung König Karls II. von Anjou (1278–1245). Husum, 1999. S. 213–214.
(обратно)408
Подробнее см., напр.: O'Callaghan J. F. A History of Medieval Spain. Cornell University Press, 1983. P. 346–397.
(обратно)409
Benjamin S. Op. cit. P. 222.
(обратно)410
Норвич Дж. Срединное море. С. 264.
(обратно)411
Тakayama H. Law and Monarchy in die South // In: Abulafia D. (ed.). Italy in the Cenral Middle Ages. Oxford, 2004. P. 80.
(обратно)412
Салимбене Адам де. Указ. соч. С. 614
(обратно)
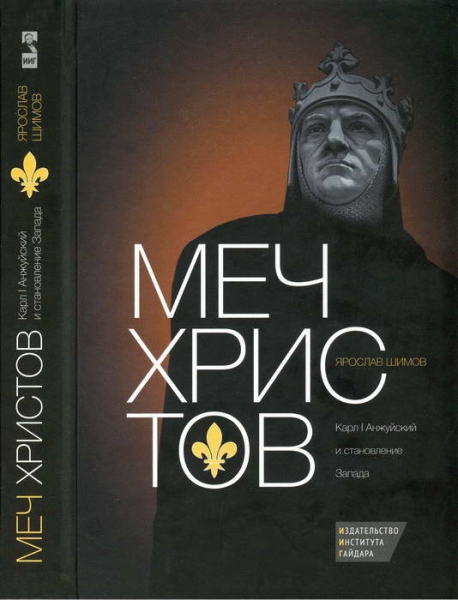

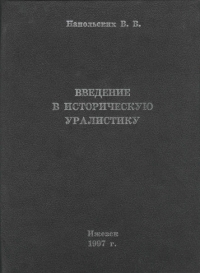

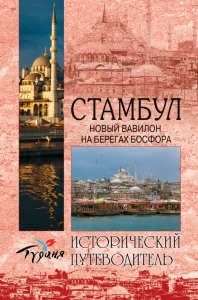

Комментарии к книге «Меч Христов. Карл I Анжуйский и становление Запада», Ярослав Владимирович Шимов
Всего 0 комментариев