Фредерик Кемп Берлин 1961. Кеннеди, Хрущев и самое опасное место на Земле
Посвящается Полине
Предисловие
Историки более пристально изучают Карибский кризис 1962 года, чем предшествовавший ему Берлинский кризис 1961 года. Однако при всем внимании, отданном Кубе, то, что случилось в Берлине, было даже более решающим при формировании эры между окончанием Второй мировой войны в 1945 году и объединением Германии и распадом Советского Союза в 1990 и 1991 годах. Появление Берлинской стены в 1961 году закрепило холодную войну, стало символом взаимной враждебности, которая длилась три десятилетия, окружив нас привычками, нормами и подозрениями, которые рухнули вместе с этой стеной 9 ноября 1989 года.
Кроме того, первый кризис отличался особой напряженностью. По словам Уильяма Кауфмана, стратега в администрации Кеннеди, работавшего и в Берлине, и на Кубе, «Берлин был наихудшим моментом холодной войны. Лично я считаю, хотя был глубоко вовлечен в Карибский кризис, что более опасной была берлинская конфронтация, особенно после возведения стены, когда советские и американские танки стояли друг напротив друга. В середине недельного Карибского кризиса мы видели явные признаки того, что на самом деле русские не собираются подталкивать нас к краю. В Берлине не было этого чувства».
Вклад Фреда Кемпа в глубокое понимание нами того времени состоит в том, что он соединил умение рассказывать истории, присущее журналисту, с аналитическими способностями политолога и, как историк, использовал рассекреченные американские, советские и немецкие документы, дав удивительную возможность понять, какие силы и люди стояли за строительством Берлинской стены – канонического барьера, ставшего олицетворением холодной войны.
История, к сожалению, не раскрывает альтернативы. Однако важная книга Кемпа заставляет читателя задуматься над решающими вопросами, связанными с Берлинским кризисом, который выявил значительные проблемы в президентском руководстве Америкой.
Могли бы мы раньше закончить холодную войну, если бы президент Джон Ф. Кеннеди иначе построил свои отношения с Никитой Хрущевым? Сразу же по приходе Кеннеди к власти Хрущев освободил американских летчиков, опубликовал без купюр инаугурационную речь Кеннеди в советских газетах и ослабил глушение радиостанций «Свободная Европа» / Радио «Свобода». Что, если бы Кеннеди более тщательно разобрался в том, что скрывается за примирительными жестами Хрущева? Если бы иначе повел себя на встрече с Хрущевым в Вене в июне 1961 года? Вполне вероятно, советский лидер не стал бы спустя два месяца закрывать берлинскую границу.
Или, как считают некоторые: возможно, мы должны расценивать уступку Кеннеди в отношении строительства коммунистами стены в августе 1961 года как лучшую из неудачных альтернатив в опасном мире? Кеннеди замечательно сказал, что предпочитает стену войне, – и он должен был сделать выбор.
Не такие уж простые вопросы.
Еще один вопрос, поднятый в захватывающем повествовании Кемпа: станем ли мы шире изучать холодную войну, чем делаем это сейчас? Холодная война была не только препятствием для стремления Советского Союза к мировому господству; ряд неправильных пониманий другой стороной способствовал усилению холодной войны. Остается только задаваться вопросом, удалось бы нам достигнуть более позитивных результатов, учитывая неправильно истолкованные действия и недоразумения, которые возникали в Берлине в 1961 году между Соединенными Штатами и Советским Союзом, если бы мы лучше понимали внутренние, экономические, политические и другие процессы, оказывавшие влияние на поведение нашего соперника.
Никто не может ответить на эти вопросы с какой-либо долей уверенности. Эти вопросы, поднятые в контексте этой книги, имеют такое же значение для управления будущим, как для понимания прошлого. Подсказки и предостережения на этих страницах очень вовремя подоспели к первому сроку молодого и относительно неопытного главнокомандующего, президента Барака Обамы, который, как Кеннеди, вступил в Белый дом с желанием лучше понять наших противников и то, что стоит за, казалось бы, неразрешимыми конфликтами, чтобы найти способ их разрешения.
Я сам имел дело с такими вопросами и проблемами, общаясь с советским лидером Михаилом Горбачевым, когда был советником по вопросам национальной безопасности при президенте Джордже Герберте Уокере Буше.
Два президента Соединенных Штатов, имевшие дело с Горбачевым, Буш и Рональд Рейган, были абсолютно разными людьми. Однако оба понимали, что, пытаясь закончить холодную войну, важнее всего выбрать способ, с помощью которого они могли вовлечь в этот процесс своего советского коллегу.
Несмотря на то что Советский Союз называли «империей зла», Рейган принимал участие в пяти саммитах с Горбачевым и предпринимал массу усилий по созданию доверительных отношений между двумя странами. Берлинская стена пала в 1989 году, и мы работали над тем, чтобы Германия стала единой; президент Буш не поддался искушению и не стал злорадствовать или бить себя в грудь. Он методично посылал сообщения Горбачеву, что обе стороны окажутся в выигрыше, если закончится холодная война. Кроме того, он не давал никакого повода противникам Горбачева в Политбюро изменить политический курс и снять его с должности.
Можно только рассуждать о том, изменила бы историю в Берлине 1961 года более жесткая или более примирительная политика Кеннеди. Бесспорно то, что события 1961 года отправили в глубокую заморозку холодную войну в тот момент, когда разрыв Хрущева со сталинизмом впервые предоставил нам возможность растопить лед в наших отношениях.
«Берлин 1961» ведет нас через события того времени в поисках новых путей, исследуя природу двух ведущих стран, США и СССР; внутреннее политическое устройство каждой; важную роль, которую сыграли личные качества их лидеров, и сплетает это в одинаково важные рассказы о том, как эти факторы отразились на Западной и Восточной Германии.
Эта захватывающая, заставляющая задуматься книга рассказала о драматичном времени и бросила вызов расхожему мнению относительно самых решающих лет холодной войны.
Генерал Брент Скоукрофт
Введение. Самое опасное место в мире
Кто владеет Берлином, тот владеет Германией, кто контролирует Германию, тот контролирует Европу.
Владимир Ленин, цитируя Карла МарксаБерлин – самое опасное место в мире. Советский Союз хочет провести хирургическую операцию по вскрытию нарыва – уничтожить этот источник зла, эту язву.
Премьер Хрущев президенту Кеннеди на Венском саммите 4 июня 1961 годаКонтрольно-пропускной пункт «Чарли», Берлин
21:00, пятница, 27 октября 1961 года
В холодной войне не было более опасного момента.
Не испугавшись мрачной, опасной ночи, берлинцы собрались в узких переулках, выходящих к контрольно-пропускному пункту «Чарли». По оценкам вышедших на следующий день газет, их было приблизительно пятьсот, большая толпа людей, возможно решивших, что они станут свидетелями первых выстрелов термоядерной войны. После шести дней нарастания напряженности сошлись лоб в лоб американские танки М-48 «Паттон» и советские танки Т-54 – по десять с каждой стороны и примерно еще две дюжины неподалеку.
Люди, вооруженные только зонтами и плащами от дождя, перемещались в поисках лучших точек обзора, чтобы видеть пересечение трех улиц – Фридрихштрассе, Мауэрштрассе и Циммерштрассе, где находился главный пропускной пункт между Западным и Восточным Берлином. Некоторые стояли на крышах. Некоторые, в том числе фотографы и репортеры, смотрели из окон невысоких домов, сохранивших следы военных бомбардировок.
Ведя репортаж с места событий, корреспондент Си-би-эс Даниэль Шорр драматическим баритоном сообщил радиослушателям, что «сегодня вечером холодная война приобрела новый размах, когда впервые в истории встали друг против друга американские и русские солдаты. До сих пор конфликт Запад – Восток велся через представителей – немецких и других. Но этим вечером столкновение сверхдержав произошло в виде стоявших друг против друга на расстоянии менее ста метров десяти русских танков и десяти американских «паттонов»…».
Ситуация была настолько напряженной, что, когда американский армейский вертолет спустился довольно низко, чтобы рассмотреть поле битвы, восточногерманский полицейский в панике рявкнул: «Ложись!» – и послушная команде толпа упала лицом в землю. Были моменты, когда царило странное спокойствие. «Американские солдаты стояли рядом со своими танками, ели из котелков, а жители Западного Берлина, собравшиеся позади заградительных барьеров, покупали у уличных торговцев сухие крендельки, посыпанные солью. Эту сцену ярко освещали мощные прожекторы с восточной стороны, а советские танки, стоявшие на неосвещенной части сцены, были почти невидимы».
Распространился слух, что в Берлине начнется война. Es geht los um drei Uhr («Она начнется утром, в три часа»). Радиостанция Западного Берлина сообщила, что генерал в отставке Люсиус Клей, новый чрезвычайный представитель президента Кеннеди в Берлине, с важным видом, как герой из голливудского фильма, двинулся к границе, чтобы лично отдать приказ начать стрельбу. Затем прошел слух, что командир американской военной полиции застрелил восточногерманского коллегу на контрольно-пропускном пункте «Чарли», и теперь обеим сторонам не терпится открыть огонь. Рассказывали, что все советские подразделения движутся к Берлину, чтобы раз и навсегда покончить со свободой в этом городе. Берлинцы плодили слухи, один невероятнее другого. Учитывая, что большинство из них уже пережили одну, а кто-то и две мировых войны, они считали себя вправе судить о том, что может произойти.
Генерал Клей, руководивший воздушным мостом в 1948 году, спасший Западный Берлин от трехсотдневной советской блокады, сам неделей раньше создал нынешнюю конфронтацию из-за вопроса, который, по мнению большинства его начальников в Вашингтоне, не требовал военного разрешения. В нарушение установленных четырьмя державами процедур восточногерманская пограничная полиция стала требовать, чтобы гражданские представители союзников предъявляли удостоверения личности перед входом в советскую зону. Раньше пропуском в зону служили номерные знаки американских машин – этого считалось вполне достаточно.
Знавший по собственному опыту, что Советы постепенно отобрали бы права у Запада, если бы не встречали сопротивления даже по самому мелкому вопросу, Клей отказался выполнять новое требование и приказал, чтобы военные эскорты сопровождали гражданские машины при пересечении границы. Машины гражданских лиц в окружении солдат с винтовками с примкнутыми штыками, при поддержке танков, проезжали через зигзагообразные бетонные барьеры контрольно-пропускного пункта.
Поначалу жесткая позиция Клея оправдала себя: восточногерманские пограничники отступили. Однако Хрущев приказал отправить к границе такое же количество танков, как у американцев, и подготовить на случай необходимости резерв. Он распорядился закрасить опознавательные знаки на советских танках и выдать экипажам черную униформу, однако попытка сохранить инкогнито оказалась безуспешной. В тот день, когда советские танки подошли к контрольно-пропускному пункту «Чарли», они превратили незначительный пограничный конфликт американцев с восточными немцами в войну нервов двух самых могущественных государств в мире. Американский и советский командующие, руководившие из оперативных центров, расположенных на противоположных сторонах Берлина, обдумывали следующие шаги, с тревогой ожидая приказов от президента Джона Ф. Кеннеди и председателя Совета Министров СССР Никиты Хрущева.
В то время как лидеры в Москве и Вашингтоне обдумывали, что предпринять, американские танкисты под командованием майора Томаса Тири с тревогой разглядывали своих противников, находящихся по другую сторону самой известной в мире границы, разделившей Запад и Восток. Всего два с половиной месяца назад во время драматичной ночной операции 13 августа 1961 года восточногерманские войска и полиция устанавливали первые заграждения из колючей проволоки и караульные посты вокруг Западного Берлина, чтобы остановить поток беженцев, ставивший под угрозу существование ГДР как государства.
С тех пор коммунисты укрепили границу с помощью бетонных блоков, минометов, танковых ловушек, сторожевых вышек и служебных собак. То, что мир узнал как Берлинскую стену, описал радиожурналист Норман Гельб как «самое удивительное, самое бесцеремонное городское сооружение за все время… которое ползло по городу подобно фону, на котором разворачивался кошмар». Журналисты, фотокорреспонденты, политические лидеры, начальники разведывательных служб, генералы и туристы хлынули в Берлин, чтобы увидеть, как фигуральный «железный занавес» Уинстона Черчилля материализуется в своем физическом воплощении – Берлинской стене.
Всем было ясно, что танковое противостояние на контрольно-пропускном пункте «Чарли» – не военные учения. Тири проследил, чтобы солдаты зарядили танковые орудия боевыми снарядами. Кроме того, солдаты Тири установили на некоторые танки навесное бульдозерное оборудование. Танкисты готовились привести в действие план Клея, который заключался в следующем: танки с навесным бульдозерным оборудованием на законном основании въезжают в Восточную Германию, что формально закреплено четырехсторонними соглашениями, а на обратном пути проламывают часть стены.
Американские механики-водители, чтобы согреться и снять нервное напряжение, запустили двигатели. Пространство заполнил оглушительный рев. Однако малочисленный союзнический контингент – 12 тысяч солдат, из них 6500 американских – не имел шансов в обычном конфликте против приблизительно 350 тысяч советских солдат, находившихся в пределах досягаемости. Солдаты Тири понимали, что совсем немного отделяет их от всеобщей войны, которая может стать ядерной быстрее, чем удастся сказать «ауф-видерзейн».
Корреспондент агентства Рейтер Келлетт-Лонг, примчавшийся к контрольно-пропускному пункту «Чарли», чтобы первым передать сообщение о танковом противостоянии, испытал волнение, когда увидел, как американский солдат заряжает пулемет, установленный на одном из танков. «У него может дрогнуть рука, пулемет выстрелит, и этот солдат начнет третью мировую войну», – подумал Келлетт-Лонг.
В 18:00 в Вашингтоне – в Берлине была полночь – советники Кеннеди по вопросам национальной безопасности собрались на экстренное совещание в Зале Кабинета [1] в Белом доме.
Ситуация выходила из-под контроля, и президент пребывал в крайне возбужденном состоянии. Только на этой неделе стратеги закончили составление подробных планов нанесения упреждающего удара по Советскому Союзу в случае непредвиденных обстоятельств, в соответствии с которым противник лишался возможности нанести ответный удар. Президент еще не утвердил планы, продолжая забрасывать своих экспертов каверзными вопросами. Сценарии конца света повлияли на настроение президента, когда он сидел с советником по вопросам национальной безопасности Банди, государственным секретарем Дином Раском, министром обороны Робертом Макнамарой, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Лайманом Лемницером и другими высокопоставленными американскими чиновниками.
Из зала заседаний они позвонили по закрытой линии генералу Клею в Берлин. Клею сказали, что на линии Банди, который хочет поговорить с ним, поэтому генерал очень удивился, когда услышал голос Кеннеди.
«Здравствуйте, господин президент», – громко сказал Клей, резким взмахом руки заставив замолчать тех, кто находился вместе с ним в центре управления.
«Как дела?» – спросил Кеннеди спокойным голосом.
Все под контролем, ответил Клей. «У нас десять танков на контрольно-пропускном пункте «Чарли», у русских тоже десять танков. Теперь мы сравнялись».
В это время помощник передал генералу Клею записку.
«Господин президент, ситуация изменилась. Мне только что сказали, что русские подогнали еще двадцать танков, ровно столько, сколько у нас есть в Берлине. Так что мы направим к «Чарли» оставшиеся двадцать танков. Не волнуйтесь, господин президент. У нас одинаковое количество танков. Это лишний раз доказывает, что они ничего не собираются делать», – сказал Клей.
Президент умел считать. Если Советы продолжат направлять танки к КПП, Клею будет нечем ответить и, значит, силы будут неравными. Кеннеди оглядел тревожные лица своих советников, которые испугались, что дело выходит из-под контроля. Президент положил ноги на стол, пытаясь этим показать, что сохраняет спокойствие.
«Ладно, ничего страшного. Не теряйте самообладания», – сказал Кеннеди Клею.
«Господин президент, – ответил Клей с присущей ему прямотой, – с нервами у нас все в порядке. Нас больше волнует, как с нервами у ваших советников в Вашингтоне».
Прошло полвека с возведения Берлинской стены, появившейся в середине первого года президентства Кеннеди, но только сейчас мы получили доступ к личной переписке, рассказам и недавно рассекреченным документам в США, Германии и России, дающим возможность более уверенно рассказать о силах, сформировавших исторические события в 1961 году. Эта повесть подобна большинству эпических драм о времени (календарный год), месте (Берлин и мировые столицы, повлиявшие на его судьбу) и, главное, о людях.
И немного об отношениях между двумя масштабными личностями своего времени, столь непохожими во всех проявлениях, преследовавшими разные цели, Джоном Ф. Кеннеди и Никитой Хрущевым.
Кеннеди вышел на мировую арену в январе 1961 года после победы, одержанной самым незначительным большинством с 1916 года, придя на смену президенту-республиканцу Дуайту Дэвиду Эйзенхауэру, который был у власти два срока и которого Кеннеди обвинил в том, что он позволил советским коммунистам приблизиться к США в военном и экономическом отношении. Кеннеди был самым молодым президентом в истории Соединенных Штатов, сорокатрехлетний сын мультимиллионера, выдвинутый своим чрезвычайно амбициозным отцом, любимый старший сын которого, Джозеф-младший, погиб на войне. Новый президент, красивый, харизматичный мужчина, блестящий оратор, страдал многими болезнями, от болезни Аддисона до радикулита и постоянных болей в позвоночнике. Хотя Кеннеди выглядел уверенным в себе человеком, на самом деле он совершенно не понимал, как вести себя с Советами. Он хотел быть великим президентом, таким как Авраам Линкольн и Франклин Делано Рузвельт, но его волновало, что именно война дала шанс Линкольну и Рузвельту занять свое место в истории. Он понимал, что в 1960-х годах война будет ядерной.
Зачастую первый год президентства может быть весьма опасным, даже для более опытного президента, чем был Кеннеди, поскольку все проблемы находящегося в сложном положении мира переходят от старой администрации к новой. В течение первых пяти месяцев нахождения у власти Кеннеди вынес несколько ударов, которые сам же и инициировал, от неправильных действий в заливе Свиней до Венского саммита, где, по его собственным словам, Хрущев отколошматил его и держался с ним грубо. Однако нигде ставки не были выше, чем в Берлине, главной арене состязания между Соединенными Штатами и Советским Союзом.
Хрущев отличался от Кеннеди и темпераментом, и воспитанием. Шестидесятисемилетний внук крепостного крестьянина и сын шахтера был импульсивен там, где Кеннеди проявлял нерешительность, и высокопарен там, где Кеннеди был сдержанным. Его настроение менялось от глубоко сидевшей в нем неуверенности человека, обучившегося грамоте только в двадцать лет, до самоуверенности человека, который, несмотря на все препятствия, расчистил себе путь к власти, не гнушаясь никакими методами. В 1961 году Хрущев, замешанный в преступлениях своего наставника Иосифа Сталина и отрекшийся от Сталина после его смерти, колебался между интуицией, говорившей о необходимости реформ и улучшения отношений с Западом, и привычкой к авторитаризму и конфронтации. Он был убежден, что сможет наилучшим образом продвигать интересы Советского Союза путем мирного сосуществования и соревнования с Западом, и в то же время испытывал сильное давление тех, кто стремился к обострению отношений с Вашингтоном, и тех, кто требовал любым путем остановить отток беженцев, который мог привести к уничтожению Восточной Германии.
За период, прошедший с основания восточногерманского государства в 1949 году до 1961 года, страну покинуло 2,8 миллиона человек. С учетом тех, кто сбежал из советской зоны оккупации в период с 1945 по 1949 год, эта цифра приближалась к 4 миллионам. В результате массового бегства страна лишилась самых талантливых и энергичных людей.
Кроме того, 1961 год начался для Хрущева с гонки со временем за собственное спасение. В октябре должен был состояться решающий съезд коммунистической партии, и у него были все причины бояться, что противники свергнут его, если он к тому времени не сможет должным образом уладить берлинский вопрос. Когда на встрече в Вене Хрущев сказал Кеннеди, что Берлин является «самым опасным местом в мире», он имел в виду, что там скорее, чем где-либо, может вспыхнуть ядерная война. Хрущев понимал, что, если он не сумеет грамотно решить берлинский вопрос, соперники в Москве уничтожат его.
Соревнование между Хрущевым и Кеннеди при поддержке главных немецких деятелей было таким же напряженным, как неравная борьба между восточногерманским лидером Вальтером Ульбрихтом со слабеющей страной с населением 17 миллионов человек и западногерманским канцлером Конрадом Аденауэром со стремительно набирающей экономическую мощь страной с населением 60 миллионов человек.
Для Ульбрихта этот год имел даже более важное значение, чем для Кеннеди и Хрущева. Так называемая Германская Демократическая Республика, как официально именовалась Восточная Германия, была делом его жизни, и в свои шестьдесят семь лет он понимал, что она неуклонно движется к экономическому и политическому краху, а спасти ее может только радикальное средство. Чем сильнее была опасность, тем энергичнее он интриговал, чтобы предотвратить ее. Кремль боялся, что крах Восточной Германии отзовется на Советской империи, и Ульбрихт, пользуясь этим, усиливал давление на Москву пропорционально растущей нестабильности своей страны.
Первый и единственный канцлер Западной Германии, Конрад Аденауэр в свои восемьдесят пять лет одновременно вел войну против собственной смерти и своего политического противника Вилли Брандта, бургомистра Западного Берлина. На сентябрьских выборах главным противником Аденауэра была социал-демократическая партия Брандта, стремившаяся взять в свои руки управление страной. Однако Аденауэр считал, что наибольшую угрозу для его свободной, демократической Западной Германии представляет сам президент Кеннеди.
К 1961 году Аденауэр, казалось бы, обеспечил себе место в истории, поскольку возродил Западную Германию, подобно фениксу, из пепла Третьего рейха. Тем не менее Кеннеди считал, что не стоит тратить силы на того, на кого слишком полагались его предшественники из-за более тесных отношений с Москвой. Аденауэр, в свою очередь, опасался, что у Кеннеди не хватит силы воли и мужества, чтобы противостоять Советам в этот, как он считал, решающий год.
Книга «Берлин 1961» состоит из трех частей.
Первая часть, «Игроки», представляет четырех главных героев: Хрущева, Кеннеди, Ульбрихта и Аденауэра, всех их в течение года объединяет Берлин, который играет главную роль в их стремлениях и страхах. Первые главы рассказывают об их стремлении к соперничеству и событиях, которые готовят почву для последующей драмы. Проведя первую ночь в бывшей спальне Линкольна, Кеннеди наутро узнает, что Хрущев освободил двух американских летчиков, сидевших в советской тюрьме, и с этого момента обман и непонимание со стороны обоих лидеров составляют основу сюжета. Тем временем Ульбрихт пытается заставить Хрущева принять крутые меры в Берлине, а Аденауэр ведет переговоры с новым американским президентом, которому не доверяет.
Во второй части, «Собирается буря», Кеннеди спотыкается, предприняв неудачную попытку свергнуть Кастро, и видит возможность восстановить утраченные позиции путем наращивания вооружения и переговоров с Хрущевым. Растущий поток беженцев из Восточной Германии заставляет Ульбрихта с удвоенной энергией добиваться закрытия берлинской границы. Во время венской встречи отличавшийся непостоянством Хрущев, то обхаживая Кеннеди, то подвергая его резкой критике, выдвигает новый ультиматум и сетует, что противник продемонстрировал слабость. Собственные ошибки приводят Кеннеди в уныние, и он пытается найти способ доказать Хрущеву, что тот ошибается в оценке американского президента.
«Проба сил» – третья и последняя часть книги. В ней рассказывается о крайнем возбуждении в Вашингтоне и решениях в Москве, которые приводят к невероятной ночной операции по закрытию границы 13 августа и ее драматическим последствиям. Кеннеди чувствует облегчение и надеется, что теперь с Советами, решившими вопрос с восточногерманскими беженцами, будет проще договориться. Однако очень быстро он понимает, что слишком высоко оценил потенциальную выгоду от Берлинской стены. Десятки жителей Берлина предпринимают отчаянные попытки сбежать на Запад, некоторые со смертельным исходом. Кризис усиливается, поскольку, пока Вашингтон обсуждает, как лучше вести и выиграть ядерную войну, Москва отправляет танки на границу, и мир ждет, затаив дыхание, – это повторится через год, когда события в Берлине 1961 года приведут к Карибскому кризису [2].
В книге приведены небольшие рассказы о жителях Берлина, невольно сыгравших роль в решающие моменты холодной войны; об оставшейся в живых женщине, неоднократно изнасилованной советскими солдатами, которая делится своей историей с людьми, желающими забыть о прошлом; о фермере, которого за несогласие с коллективизацией посадили в тюрьму; о девушке-инженере, чей побег на Запад заканчивается победой в конкурсе «Мисс Вселенная»; о восточногерманском солдате, чья фотография, запечатлевшая его прыжок к свободе через колючую проволоку с винтовкой в руке, стала символом свободы; о портном, который был расстрелян, когда плыл к свободе, первой жертве восточногерманских солдат, получивших приказ стрелять на поражение в потенциальных беглецов.
Насколько в начале 1961 года невероятным казалось, что политическая система возведет стену, чтобы удержать свой народ, настолько же невероятным стало уничтожение этой стены спустя двадцать восемь лет.
Только возвращаясь в год возведения Берлинской стены, мысленно обращаясь к людям, связанным с этим событием, можно понять, что произошло, и попытаться ответить на некоторые оставшиеся неразрешимыми вопросы истории.
Следует ли считать строительство Берлинской стены положительным результатом невозмутимого руководства Кеннеди или стена результат его слабохарактерности? Застало ли закрытие берлинской границы Кеннеди врасплох или он ожидал и даже хотел этого, полагая, что это будет способствовать разрядке напряженности, которая могла привести к ядерной войне? У Кеннеди были передовые взгляды и он стремился к миру или его политика была циничной и недальновидной, и, следуй он другим курсом, возможно, были бы спасены десятки миллионов жителей Восточной Европы от почти тридцатилетней советской оккупации и притеснения?
Действительно ли Хрущев был реформатором и его попытка установить отношения с Кеннеди сразу после выборов была искренней (что отказались признать Соединенные Штаты) и имела целью ослабить напряжение? Или на самом деле он был эксцентричным лидером, с которым Соединенные Штаты не могли иметь никаких дел? Отказался бы Хрущев от плана строительства Берлинской стены, если бы считал, что Кеннеди окажет сопротивление? Или опасность распада Восточной Германии была настолько велика, что он в случае необходимости рискнул войной, чтобы остановить поток беженцев?
На страницах этой книги делается попытка, основываясь на новых доказательствах и по-новому взглянув на события, пролить свет на один из самых драматичных годов второй половины XX века и даже попытаться применить его уроки к первым бурным годам XXI века.
Часть первая. Игроки
Глава 1. Хрущев: нетерпеливый коммунист
У нас тридцать ядерных бомб для Франции, более чем достаточно, чтобы уничтожить эту страну. Мы запасаем по пятьдесят бомб для Западной Германии и Британии.
Н.С. Хрущев американскому послу Льюллину Е. Томпсону, 1 января 1960 годаНезависимо от того, насколько хорошим был старый год, новый год будет еще лучше… Я думаю, никто не упрекнет меня, если я скажу, что мы придаем большое значение улучшению отношений с США… Мы надеемся, что новый американский президент, подобно свежему ветру, развеет спертый воздух между США и СССР.
Из новогоднего тоста, произнесенного Хрущевым 1 января 1961 годаКремль, Москва
Канун Нового года, 31 декабря 1960 года
До полуночи оставалось всего несколько минут, и у Никиты Хрущева были причины оживить в памяти подходящий к концу 1960 год. Наступающий год вызывал у него еще большее беспокойство, чем прошедший, когда он окидывал взглядом две тысячи гостей, собравшихся под высокими сводами Георгиевского зала Кремля. Снаружи метель толстым слоем снега покрывала Красную площадь и мавзолей, содержавший его забальзамированных предшественников, Ленина и Сталина, и Хрущев отчетливо понимал, что положение Советского государства в мире, лично его место в истории и его политическое выживание зависит от того, как ему удастся справиться с собственной бурей проблем.
Хрущев пережил подряд два неурожайных года. Всего двумя годами ранее он приступил к реализации программы, цель которой состояла в том, чтобы к 1970 году достигнуть жизненного уровня Соединенных Штатов, но он не мог удовлетворить даже основные потребности своего народа. Во время инспекционных поездок по стране он отмечал, что практически всюду ощущается нехватка жилья, масла, мяса, молока и яиц. Советники говорили ему, что вероятность рабочих восстаний растет с каждым днем и положение мало чем отличается от того, что было в Венгрии в 1956 году, когда он был вынужден подавить восстание советскими танками.
За границей хрущевская внешняя политика мирного сосуществования с Западом, в противовес сталинской политике неизменной конфронтации, совершила аварийную посадку, когда в мае прошедшего года советская ракета сбила американский высотный самолет-разведчик «Локхид» U-2. Несколькими днями позже Хрущев сорвал встречу в Париже с президентом Дуайтом Д. Эйзенхауэром и его военными союзниками, потребовав, чтобы Эйзенхауэр принес публичные извинения за вторжение в воздушное пространство СССР, но Эйзенхауэр отказался. Используя этот инцидент в качестве доказательства несостоятельности Хрущева как руководителя, остатки сталинистов в КПСС и китайские коммунисты Мао Цзэдуна точили ножи против советского лидера, занимаясь подготовкой к XXII съезду Коммунистической партии Советского Союза. Хрущев использовал подобные собрания, чтобы провести чистку в рядах противников, и все, что он делал, было направлено на то, чтобы предотвратить переворот на этом съезде. Ничто не несло большей угрозы для Хрущева, чем ухудшающаяся ситуация в разделенном Берлине. Его критики заявляли, что он позволил гноиться самой опасной в мире коммунистической ране. Беженцы из Восточного Берлина с пугающей скоростью утекали на Запад. Хрущев любил называть Берлин яичками Запада, уязвимым местом, на которое он мог надавить, когда хотел заставить содрогнуться Соединенные Штаты. Однако это место стало ахиллесовой пятой самого Хрущева и советского блока, местом, где коммунизм был наиболее уязвим.
Однако Хрущев не поделился ни одной из этих проблем с гостями, среди которых были летчики, балерины, артисты, аппаратчики и послы, заполнившие в новогодний вечер Георгиевский зал, утопавший в свете трех тысяч лампочек, установленных в шести бронзовых золоченых люстрах. Для них приглашение на вечер к советскому лидеру являлось само по себе подтверждением статуса. Но в этот вечер в зале чувствовалось особое волнение, поскольку менее чем через три недели должен был занять свой пост Джон Ф. Кеннеди. Собравшиеся в зале понимали, что традиционный новогодний тост советского лидера задаст тон будущим американо-советским отношениям.
Когда куранты на Спасской башне Московского Кремля, сооруженной в XV веке, отбили полночный бой, возвестив о начале нового года, Хрущев энергично двинулся к гостям. Некоторым он пожимал руки, некоторых с такой силой стискивал в объятиях, что, казалось, сейчас разорвется по швам его мешковатый серый костюм. С такой же энергией он покинул родную русскую деревню Калиновка неподалеку от границы с Украиной и на большой скорости прошел через революцию, Гражданскую войну, параноидальные сталинские чистки, мировую войну и борьбу за руководство после смерти Сталина. Коммунистический переворот предоставил многим русским низкого происхождения новые возможности, но ни один из них не воспользовался ими так умело, как это сделал Никита Сергеевич Хрущев.
В связи с возрастающей возможностью Хрущева запускать ракеты с ядерными боеголовками у американских спецслужб появилось всепоглощающее занятие – постичь психологию Хрущева. В 1960 году ЦРУ собрало около двадцати экспертов – терапевтов, психиатров и психологов, – которые на основе видеозаписей, фотографий и речей составили психологический портрет Хрущева. Группа экспертов даже изучала снимки артерий Хрущева, чтобы оценить, насколько справедливы слухи об артериосклерозе и высоком кровяном давлении у советского лидера. В секретном отчете, который позже получил президент Кеннеди, эксперты сделали вывод, что, несмотря на колебания настроения, депрессии и запои, советский лидер показал себя, по их выражению, «хроническим оптимистичным оппортунистом». Они пришли к выводу, что Хрущев скорее активист, полный энтузиазма, чем, как до этого считали многие, беспринципный коммунист сталинского склада.
В другом сверхсекретном отчете, подготовленном ЦРУ для новой администрации, отмечалась хрущевская «изобретательность, смелость, хорошее чувство политического времени» и подчеркивалось, что Хрущев «проницательный и обстоятельный оратор, способный направить беседу в выгодном ему русле» и является прирожденным игроком. Вновь избранный президент был проинформирован, что за шутовскими манерами этого невысокого коренастого человека скрываются «проницательность, природная сообразительность, живой ум, энергия, амбиции и жестокость».
Но ЦРУ не сообщило о том, что Хрущев взял на себя личную ответственность за выборы Кеннеди и теперь ждал отдачи. Он хвастался товарищам, что его голос на последнем этапе выборов американского президента был решающим, поскольку он отказал в просьбе республиканцам освободить трех захваченных американских летчиков – Фрэнсиса Гэри Пауэрса, пилота U-2, и двух летчиков с американского самолета-разведчика RB-47, сбитого спустя два месяца над Баренцевым морем. Теперь Хрущев, задействовав многочисленные каналы, стремился как можно скорее устроить встречу на высшем уровне с вновь избранным президентом Кеннеди, в надежде на решение берлинской проблемы.
Во время выборной кампании приказы советского лидера высокопоставленным должностным лицам откровенно демонстрировали как его желание, чтобы победу на выборах одержал Кеннеди, так и его неприязнь к Ричарду Никсону, который, как и непримиримый антикоммунист экс-президент Эйзенхауэр, нанес ему оскорбление во время так называемых кухонных дебатов относительно преимуществ двух систем [3].
«Мы можем оказать влияние на президентские выборы в Америке! – сказал Хрущев товарищам. – Но мы не станем делать такого подарка Никсону».
После выборов Хрущев похвалялся, что, отказавшись отпустить пленных летчиков, он лично лишил Никсона нескольких сотен тысяч голосов, которых тому не хватило для победы. Всего в десяти минутах ходьбы от Кремля, где в Георгиевском зале проходила встреча Нового года, в тюрьме КГБ на Лубянке томились американские пленники как напоминание о предвыборных махинациях Хрущева. Советский лидер использовал их в качестве пешек в политической игре, чтобы в подходящий момент обменять с выгодой для себя.
Звучали ответные новогодние тосты. Хрущев вел себя скорее как либеральный политический деятель, чем как коммунистический диктатор. По-прежнему энергичный и живой, он, как многие другие русские, рано поседел и полысел. Ведя шутливую беседу с товарищами, он запрокидывал лысую голову и разражался хохотом от собственных шуток и анекдотов, без стеснения демонстрируя нездоровые зубы и металлические коронки. Лысину обрамляли коротко подстриженные волосы, лицо с тремя большими бородавками, курносым носом, красными щеками, глубокими мимическими морщинами и темными пронзительными глазами сохраняло оживленное выражение. Он почти непрерывно жестикулировал, говорил короткими фразами, отрывисто, громким, высоким, гнусавым голосом.
Он узнавал многих и, спрашивая товарищей о детях, называл их по имени: «Как поживает маленькая Таня? Как малыш Ваня?»
Учитывая цель, которую он преследовал в этот вечер, Хрущев был сильно разочарован, не найдя среди гостей самого влиятельного американца, посла Льюэллина «Томми» Томпсона, с которым он сохранил тесные отношения, несмотря на охлаждение американо-советских отношений. Жена Томпсона, Джейн, принесла извинения Хрущеву, объяснив, что муж остался дома из-за приступа язвы. Кроме того, посол все еще помнил столкновение с советским лидером на прошлой встрече Нового года, когда нетрезвый Хрущев чуть не объявил третью мировую войну.
Это произошло в два часа ночи, когда Хрущев, находясь в изрядном подпитии, вел беседу с Томпсоном, его женой, французским послом и секретарем ЦК Компартии Италии. Хрущев заявил Томпсону, что Запад дорого заплатит, если не удовлетворит его требование о выводе союзнических войск из Берлина. «У нас тридцать ядерных бомб для Франции, более чем достаточно, чтобы уничтожить эту страну, – сказал Хрущев, глядя на французского посла. – Кроме того, – добавил он, – мы запасаем по пятьдесят бомб для Западной Германии и Британии».
Джейн Томпсон предприняла неудачную попытку свести разговор к шутке, когда спросила, сколько ракет Хрущев приготовил для Дяди Сэма. «Это секрет», – улыбнулся Хрущев.
Понимая, что беседа принимает нежелательный оборот, Томпсон предложил тост за предстоящий в Париже саммит с Эйзенхауэром и возможность улучшения отношений. Однако советский лидер продолжал расточать угрозы, заявив, что если соглашение на встрече четырех великих держав не будет достигнуто, то он подпишет договор с ГДР, который покончит с пребыванием западных стран в Берлине. Томпсону удалось закончить беседу только в шесть утра. Он ушел, понимая, что отношения сверхдержав зависят от неспособности Хрущева вспомнить на следующее утро то, что он говорил ночью.
Утром Томпсон направил телеграмму президенту Эйзенхауэру и государственному секретарю Кристиану Хертеру, в которой сообщил высказывания Хрущева, заявив, однако, что их не надо понимать буквально, поскольку советский лидер был в состоянии подпития. Томпсон высказал предположение, что Хрущев просто хотел «внушить нам важность» берлинской проблемы.
Спустя год, когда Томпсон остался дома и часы пробили двенадцать, Хрущев был более трезвым, чем на прошлой встрече Нового года, и находился в более добродушном настроении. Когда бой курантов возвестил о наступлении Нового, 1961 года и зажглись лампочки на новогодней елке, установленной в Георгиевском зале, Хрущев поднял бокал и предложил тост, который партийные лидеры примут как руководство к действию и который повторят во всех дипломатических телеграммах, разлетевшихся по миру: «С Новым годом, товарищи! Каким бы хорошим ни был старый год, новый год будет еще лучше!»
Зал взорвался аплодисментами. Объятия. Поцелуи. Поздравления.
Хрущев поднимает традиционные тосты за рабочих, крестьян, интеллигенцию, марксистско-ленинскую философию и мирное сосуществование народов во всем мире. «Мы считаем, что лучшей является социалистическая система, но мы никогда не будем пытаться навязывать ее другим странам», – говорит Хрущев.
В зале воцаряется тишина, когда Хрущев адресует свои слова Кеннеди: «Дорогие товарищи! Друзья! Господа! Советский Союз прилагает все усилия, чтобы установить дружеские отношения со всеми народами. Я думаю, никто не упрекнет меня, если я скажу, что мы придаем большое значение улучшению отношений с США. Нам хочется надеяться, что Соединенные Штаты стремятся к тому же. Мы надеемся, что новый американский президент подобно свежему ветру развеет спертый воздух между США и СССР».
Человек, годом раньше подсчитывавший количество атомных бомб, которые он сбросит на Запад, принял позу миротворца. «Во время предвыборной кампании, – сказал Хрущев, – господин Кеннеди сказал, что если он станет президентом, то извинится перед Советским Союзом» за полеты разведывательных самолетов над территорией СССР. Хрущев сказал, что хочет оставить «этот неприятный эпизод в прошлом и не возвращаться к нему… Мы верим, что, голосуя за господина Кеннеди и против господина Никсона, американский народ неодобрительно относится к политике холодной войны и ухудшению международных отношений».
Хрущев вновь поднял полный бокал: «За мирное сосуществование народов!»
Аплодисменты.
«За дружбу и мирное сосуществование всех народов!»
Бурные аплодисменты.
Хрущев не случайно дважды повторяет «за мирное сосуществование». Второй раз это еще и декларация о намерениях в отношении Кеннеди и заявление о решимости в отношении коммунистических соперников. Оценивая экономические возможности и новую ядерную угрозу, Хрущев в своем знаменитом секретном докладе на XX съезде высказал новую идею о том, что коммунистические страны могут мирно сосуществовать и соревноваться с капиталистическими странами. Однако его противники отдавали предпочтение более агрессивным сталинским идеям о мировой революции и более активным приготовлениям к войне.
К началу 1961 года призрак Сталина представлял для Хрущева большую угрозу, чем угроза с Запада. После смерти Сталина в 1953 году Хрущев получил в наследство Советский Союз с 209-миллионным населением и десятками национальностей, занимающий более шестой части обитаемой суши. В ходе сражений Второй мировой войны Советский Союз потерял 27 миллионов убитыми, было разрушено 17 тысяч советских городов и 70 тысяч деревень. Это не считая тех миллионов людей, которые погибли во время параноидальных сталинских чисток и в голодные годы.
Хрущев обвинил Сталина в том, что тот начал ненужную, дорогостоящую холодную войну, когда Советский Союз еще не оправился от предыдущей войны. В частности, осудил Сталина за берлинскую блокаду 1948 года, когда диктатор недооценил решимость США и переоценил возможности Советского Союза, и это притом, что Соединенные Штаты сохраняли ядерную монополию. В результате Запад прорвал блокаду, затем в 1949 году было основано НАТО [4] и в том же году создана отдельная Западная Германия.
Советский Союз дорого заплатил за то, что Сталин, по мнению Хрущева, «не продумал все должным образом».
Протянув Кеннеди оливковую ветвь в виде новогоднего тоста, в два часа ночи трезвый Хрущев отвел в сторону западногерманского посла Ганса Кролля. Для Хрущева шестидесятидвухлетний немец был вторым по значимости западным послом после отсутствующего в этот вечер Томпсона. Однако они были более близки, чем Хрущев и американский посол; их связывало то, что Кролль бегло говорил по-русски и придерживался мнения, обычного для немцев его поколения, что его страна со всех точек зрения – исторической, культурной и политической – более тесно связана с Москвой, чем с США.
В сопровождении Анастаса Микояна, заместителя председателя Совета Министров, и Алексея Косыгина, члена Президиума ЦК КПСС, Хрущев и Кролль прошли в ту же приемную, в которой годом ранее советский лидер в разговоре с Томпсоном высказывал угрозы в адрес Запада. В тот год Кролль в знак протеста покинул празднование Нового года после того, как советский лидер использовал новогодний тост для того, чтобы назвать Западную Германию «реваншистской и милитаристской».
Однако на этот раз Хрущев был в благодушном настроении и позвал официанта, чтобы тот налил Кроллю крымского шампанского. Сам Хрущев пил сухое красное армянское вино; он объяснил Кроллю, что врачи запретили ему пить водку и другие крепкие напитки. Кролль наслаждался личными беседами с Хрущевым и в такие моменты старался стоять как можно ближе и говорить полушепотом, чтобы подчеркнуть существующую между ними близость.
Кролль родился на четыре года позже Хрущева в прусском городе Дойч-Пекар, который в 1922 году отошел Польше под названием Пекары-Сленске. Впервые он познакомился с русским, когда мальчиком ловил рыбу в реке, разделявшей германскую и царскую империи. В 1920-х годах он провел два года в Москве в качестве дипломата, когда послевоенная Германия и новый коммунистический Советский Союз, в то время две наиболее критикуемые страны в мире, заключили Рапалльский договор, который положил конец их дипломатической изоляции, и сформировали антизападную, антиверсальскую коалицию.
По мнению Кролля, только окончательная договоренность между Германией и Советским Союзом – «двумя самыми могущественными странами в Европе» – об улучшении отношений может ослабить напряженную обстановку в Европе. Он действовал в этом направлении начиная с 1952 года, когда возглавил торговый отдел Восток – Запад министерства экономики; Западной Германии тогда было всего три года. Из-за своих взглядов он часто вступал в конфликты с американцами, которые опасались, что излишне теплые отношения могут открыть путь Советскому союзу в нейтральную Западную Германию.
Хрущев поблагодарил Кролля за оказанную прошлой осенью помощь, когда удалось заставить западногерманского канцлера Конрада Аденауэра подписать новые торгово-экономические соглашения с коммунистическим миром и, в числе прочего, восстановить торговые отношения Восток – Запад, прерванные несколькими месяцами ранее. Хотя Восточная Германия была советской зоной, Хрущев считал, что Западная Германия имеет значительно большее значение для советской экономики – современное оборудование, технологии, займы в свободно конвертируемой валюте.
Итак, советский лидер поднял тост за то, что он назвал замечательным послевоенным восстановлением Федеративной Республики Германии. Хрущев сказал Кроллю, что надеется на то, что канцлер Аденауэр будет использовать растущую экономическую силу и, следовательно, меньше зависеть от США, чтобы дистанцироваться от Вашингтона и улучшить отношения с советским правительством.
После этого Косыгин попросил разрешения у Кролля сказать тост. «Для нас вы являетесь представителем всех немцев», – сказал Косыгин, выражая мнение Хрущева, что Советский Союз окажется в намного более выгодном положении, если его союзниками станут западные немцы с их ресурсами, чем восточные немцы с их постоянными экономическими требованиями и некондиционными товарами.
Следом Хрущев приправил эти лестные слова угрозой. «Немецкий вопрос должен быть решен в 1961 году», – сказал он Кроллю. Советский лидер заявил, что потерял терпение из-за отказа американцев договориться относительно статуса Берлина таким образом, чтобы он мог остановить поток беженцев и подписать заканчивающий войну мирный договор с Восточной Германией. Микоян объяснил Кроллю, что «определенные круги» в Москве оказывают на Хрущева настолько сильное давление, что советский лидер больше не может сопротивляться их требованию воздействовать на Берлин.
Кролль предположил, что Микоян ссылается на группу, известную в советских партийных кругах как группа Ульбрихта, которая находилась под сильным влиянием восточногерманского лидера, громко сетовавшего, что Хрущев не защищает социалистическую Германию с должной энергией.
Отдав должное шампанскому и выслушав поздравления, Кролль отметил, что советский лидер продемонстрировал удивительное терпение в отношении Берлина. Однако он предупредил Хрущева, что если Советский Союз в одностороннем порядке отменит статус Берлина, то это приведет к международному кризису и даже, возможно, к военному конфликту с США и Западом.
Хрущев не согласился. Он считал, что Запад ответит «коротким периодом волнений», которые быстро улягутся. «Никто в мире не объявит войну из-за Берлина и германского вопроса», – сказал он Кроллю. Хрущев, понимая, что Кролль сообщит об этой беседе американцам и своему руководству, сказал, что предпочтет принять в одностороннем порядке достигнутое в ходе переговоров соглашение, но подчеркнул, что «это будет зависеть от Кеннеди».
В четыре утра Хрущев закончил беседу и вместе с Кроллем, Косыгиным и Микояном вышел в зал, где все еще продолжались танцы. При их появлении танцующие пары расступились и освободили проход через зал.
Даже такой опытный посол, как Кролль, никогда не знал, к какой из часто произносимых Хрущевым угроз следует относиться серьезно. Однако по тому, как в тот вечер Хрущев высказался относительно берлинского вопроса, он сделал вывод, что в наступающем году этот вопрос приведет к конфронтации. Кролль передал разговор Аденауэру – и через него американцам. Ему было ясно, что Хрущев пришел к выводу, что, бездействуя, он рискует намного больше, чем предпринимая конкретные шаги.
Однако каким будет этот год – годом сотрудничества или конфронтации, – зависело от дилеммы, лежащей в основе взглядов Хрущева на берлинскую проблему.
С одной стороны, Хрущев был уверен, что не может соперничать и вступать в войну с американцами. Он хотел договориться с Соединенными Штатами о мирном сосуществовании и обращался к вновь избранному президенту в надежде на посредничество в соглашении по Берлину.
С другой стороны, встреча Хрущева с западногерманским послом Кроллем показала, какое сильное давление оказывает на него берлинская проблема и что ему требуется срочно разрешить эту проблему, пока она не переросла в более серьезную угрозу и для советской империи, и лично для него как руководителя.
Вот почему Хрущев был нетерпеливым коммунистом.
Необходимо отметить, что жители Берлина презирали его, возмущались поведением советских солдат и устали от советской оккупации. У них остались только плохие воспоминания о послевоенном периоде.
История изнасилования Марты Хиллерс
Швейцария, январь 1961 года
Марта Хиллерс отказалась ставить свое имя на рукописи, в которой подробнейшим образом описала завоевание Берлина советскими войсками холодной весной 1945 года. Это было время, когда ее жизнь – как и жизнь десятков тысяч берлинских женщин и девушек – превратилась в кошмар, полный страха, насилия и голода.
Книга, впервые изданная на немецком языке в 1959 году, вытащила на свет одно из ужаснейших военных злодеяний. Согласно оценкам, сделанным на основе историй болезни, в течение последних дней войны и первых дней советской оккупации было изнасиловано от 90 до 130 тысяч жительниц Берлина. Десятки тысяч немецких женщин подверглись насилию в других местах Германии, входивших в советскую зону.
Хиллерс считала, что книга будет радушно принята людьми, которые хотели, чтобы мир знал, что они тоже были жертвами войны. Однако жители Берлина встретили книгу либо враждебно, либо обойдя ее выход молчанием. Мир еще не испытывал особого сочувствия к немцам, которые причинили огромное страдание многим народам. У жительниц Берлина, подвергшихся насилию, не было никакого желания вспоминать о пережитом. А для мужчин, жителей Берлина, напоминание о том, что они не смогли защитить своих жен и дочерей, было слишком болезненным. Начало 1961 года в Восточной Германии и Восточном Берлине было временем удовлетворенности и амнезии, и, казалось, не было причин копаться в истории, которую уже никто не мог изменить, да и не имел такого желания.
Возможно, для Хиллерс подобная реакция не явилась неожиданностью, судя по тому, что свои мемуары она озаглавила «Anonyma – Eine Frau in Berlin» («Безымянная – одна женщина в Берлине»), не пожелав напечатать их под своим именем. Она издала мемуары только после свадьбы и переезда в Швейцарию. Книга не распространялась и не рецензировалась в Восточной Германии; в коммунистическую зону были ввезены контрабандным путем в чемоданах, забитых журналами мод и другими, не имеющими отношения к данной теме журналами и книгами, всего несколько копий. В Западном Берлине воспоминания анонимного автора распродавались плохо, и рецензенты обвиняли автора в антикоммунистической пропаганде и в том, что она запятнала честь немецких женщин.
Одна такая рецензия, спрятанная на тридцать пятой странице западноберлинской «Тагешпигель», имела заголовок: «Плохая услуга жительницам Берлина. Бестселлер за границей – сфальсифицированный частный случай». Что вызвало резкое раздражение у рецензента, который обвинил автора в «бесстыдной безнравственности», в цинизме послевоенных месяцев? Мнения, подобные высказанному в «Тагешпигель», побудили Хиллерс сохранять анонимность на протяжении всей жизни, которая закончилась в 2001 году в девяностолетнем возрасте, и противиться новым изданиям книги.
Ей не довелось узнать, что после смерти ее книга была переиздана на нескольких языках, в том числе в 2003 году на немецком, и стала бестселлером. И уж тем более она не могла предположить, что ее история ляжет в основу немецкого художественного фильма, снятого в 2008 году, и будет пользоваться популярностью у феминисток.
Возвращаемся в 1961 год. Хиллерс была сильно обеспокоена тем, что репортеры пытались выследить ее, используя незначительные подсказки, имевшиеся в книге. Читая книгу, можно было понять, что она была журналисткой, жила в районе Темпельхоф, провела в Советском Союзе достаточно времени, чтобы выучить русский язык, и что она «бледная блондинка, всегда в одном и том же случайно спасенном [ею] зимнем пальто». Этого было недостаточно, чтобы опознать ее.
Однако нет ничего, что так точно охарактеризовало бы отношение немцев к оккупантам, чем содержание книги Хиллерс и отказ берлинцев читать ее. Восточные немцы относились к советским оккупантам, которых в 1961 году было порядка 400–500 тысяч человек, со смесью жалости, страха и удовлетворения. В то время большинство восточных немцев покорно приняли своих, по-видимому, постоянных поселенцев. Из тех, кто не смирился, многие сбежали на Запад.
Сочувствие к советским оккупантам объяснялось, вероятно, тем, что иногда молодые солдаты больше не могли выдерживать жестокость офицеров, холодных и переполненных казарм и предпринимали попытки дезертировать, что тоже вызывало жалость у местных жителей.
В казармах, построенных во времена Третьего рейха, размещалось в три раза больше советских солдат, чем когда-либо находилось гитлеровских солдат. Последний побег был совершен после мятежа в казармах в Фалькенберге, поднятого накануне Нового года. Четверо советских солдат сбежали в Западный Берлин, и поисковые группы были направлены к границе Берлина. Ходили слухи, что советские солдаты поджигали сараи и другие строения, в которых скрывались дезертиры, и те сгорели заживо вместе с находившимся там скотом.
Это еще больше увеличивало глубоко укоренившийся страх немцев перед советскими солдатами.
Страх возник после событий 17 июня 1953 года, когда, уже после смерти Сталина, советские войска и танки подавили народное восстание, всколыхнувшее молодое восточногерманское государство до непрочного основания. Погибло более пятисот восточных немцев, а 4270 были заключены в тюрьму.
Тем не менее более глубокие корни страха, испытываемого восточными немцами, прятались в событиях, которые описала Хиллерс. Была причина, почему женщины в Восточном Берлине замирали всякий раз, когда мимо проходил советский солдат или когда восточногерманский лидер Вальтер Ульбрихт, выступая по радио, говорил о прочной дружбе с советским народом.
Хиллерс описала, почему посторонние люди почти не испытывали сочувствия к немецким женщинам, подвергшимся страданиям, и почему многие немцы считали, что, возможно, некий мстительный Бог послал наказание в виде насилия над женщинами за их недостойные поступки. «Наша немецкая беда имеет привкус отвращения, болезни и безумия, не сравнима ни с чем в истории. Только что по радио опять был репортаж о концлагере. Самое ужасное – это порядок и экономия: миллионы людей в виде удобрения, наполнителя для матрасов, жидкого мыла, войлочных матов – Эсхил никогда не видел ничего подобного», – записала Хиллерс в первые дни оккупации.
Хиллерс была в отчаянии от глупости нацистских лидеров, которые отдали приказ не уничтожать запасы алкоголя, а оставлять наступающим советским войскам, считая, что пьяные советские солдаты будут менее опасными противниками. «Я убеждена, что без алкоголя, который солдаты находили у нас повсюду, было бы вдвое меньше изнасилований. Они не Казановы. Они просто теряют над собой контроль», – высказала свое мнение Хиллерс.
Вот как она описывает один из многих случаев насилия, который заставил ее искать покровительство.
«Меня ведет пожилой человек с серой щетиной на подбородке, он пахнет водкой и лошадьми. Он тщательно затворяет за собой дверь и ворчит, когда не находит ключа в замке. Он, похоже, не видит свою добычу. Глаза зажмурены, и зубы стиснуты. Никакого звука. Только слышно, как трещит и рвется нижнее белье, хрустят невольно зубы. Последние мои целые вещи.
Вдруг палец у моего рта, омерзительный запах лошади и табака. Я открываю глаза. Чужие руки умело разжимают мои сжатые челюсти. Смотрю в глаза. Тогда он неторопливо вливает свою накопленную слюну мне в рот.
Я цепенею. Не отвращение, только холод.
Застой. Не отвращение, только холод. Позвоночник замерзает: ледяная дрожь охватывает затылок. Я чувствую, как скольжу и падаю, глубоко, сквозь подушки и половицы. Тону где-то в земле.
Опять глаза в глаза. Чужие губы открываются, желтые зубы, передний зуб наполовину щербатый. Углы рта поднимаются, маленькие морщинки как лучики из уголков глаз. Он улыбается.
Прежде чем уйти, он вынимает что-то из кармана брюк, безмолвно кладет на ночной столик, отодвигает кресло в сторону, захлопывает за собой дверь. На столике – открытая коробка с несколькими папиросами. Плата за мои услуги.
Я встаю, кружится голова, тошнота. Разорванная одежда падает на ноги. Я, шатаясь, прохожу через прихожую мимо всхлипывающей вдовы в ванную. Меня рвет. Зеленое лицо в зеркале. Я сижу на краю ванны, не решаясь наклониться, поскольку меня все еще тошнит, а в ведре так мало воды».
И в этот момент Марта Хиллерс приняла решение. Она по возможности привела себя в порядок и вышла на улицу охотиться за «волком», высокопоставленным советским офицером, который стал бы ее покровителем. Она решает, что пусть уж лучше ее постоянно будет насиловать один русский, чем нескончаемая вереница русских. Как миллионы других немок, Хиллерс примиряется с этим занятием, не имея возможности сопротивляться.
Только спустя несколько лет исследователи попытались восстановить весь ужас того времени. В период между окончанием лета и началом осени 1945 года было изнасиловано как минимум 110 тысяч женщин в возрасте от двенадцати до восьмидесяти восьми лет. Приблизительно сорок процентов из них были изнасилованы многократно. Каждая пятая жертва насилия забеременела, примерно половина из них родила, а остальные сделали аборты, зачастую без анестезии. Тысячи женщин покончили жизнь самоубийством: одни – не в состоянии пережить позор, другие – из страха подвергнуться насилию. В следующем году примерно пять процентов новорожденных, родившихся в Берлине, были «русскими».
И в 1958 году, когда эти дети стали подростками, Хрущев спровоцировал то, что получило название Берлинский кризис.
Глава 2. Хрущев: берлинский кризис разворачивается
Западный Берлин превратился в своего рода злокачественную опухоль фашизма и реваншизма. Именно поэтому мы решили сделать операцию.
Никита Хрущев на первой пресс-конференции в качестве председателя Совета Министров СССР, 8 ноября 1958 годаСледующий президент в первый год столкнется с серьезнейшим вопросом относительно нашей защиты Берлина, нашего обязательства перед Берлином. Это станет проверкой наших нервов и воли… Мы столкнемся с самым серьезным Берлинским кризисом, начиная с 1949 года.
Сенатор Джон Ф.Кеннеди, в президентской кампании во время дебатов с вице-президентом Ричардом Никсоном, 7 октября 1960 годаДворец спорта, Москва
Понедельник, 10 ноября 1958 года
На неожиданной сцене перед ничего не подозревающей аудиторией Никита Хрущев начал то, что мир узнает как Берлинский кризис.
Стоя в центре современнейшего, самого большого московского спортивного комплекса, советский лидер, выступая перед польскими коммунистами, заявил, что планирует отказаться от послевоенных соглашений. Он хотел отказаться от Потсдамского соглашения, подписанного союзниками в войне, и в одностороннем порядке изменить статус Берлина, требуя передачи всего Берлина Восточной Германии и вывода из Берлина всех союзнических войск.
Местом его выступления был Дворец спорта Центрального стадиона имени В.И. Ленина, открывшийся с большой помпой двумя годами ранее как современная арена для демонстрации советских спортивных достижений. Однако с тех пор самым незабываемым моментом было ошеломляющее поражение русских от шведов на чемпионате мира по хоккею с шайбой в 1957 году, который был омрачен бойкотом США и других западных стран, не приславших свои сборные в Москву в знак протеста против ввода советских войск в Венгрию.
Поляки не ожидали такого драматичного поворота событий. Оставшись в Москве после празднования сорок первой годовщины большевистской революции, они ожидали услышать привычные разглагольствования на одном из бесчисленных коммунистических митингов. Но когда Хрущев заявил, что «пришло время подписавшим Потсдамское соглашение отказаться от оккупационного режима в Берлине и позволить создать нормальное положение в столице Германской Демократической Республики», собравшиеся на митинг замерли в полном молчании.
Поляки были не единственными, кого удивило это заявление советского лидера. Хрущев не предупредил заранее ни западные страны, подписавшие Потсдамское соглашение, ни своих социалистических союзников, включая восточных немцев. Он даже не посоветовался с руководством своей коммунистической партии. Только перед самым выступлением Хрущев поделился с руководителем польской делегации, первым секретарем ЦК Польской объединенной рабочей партии Владиславом Гомулкой, что планирует сказать во время своего выступления. Гомулка был в шоке. Он опасался, что если Хрущев выступит с подобным заявлением, то это может привести к войне за Берлин.
Хрущев объяснил Гомулке, что действует в одностороннем порядке, поскольку устал от берлинской дипломатии, которая никуда не ведет. Он сказал, что готов рискнуть вступить в конфронтацию с Западом, и утверждал, что находится в более выгодном положении, чем Сталин в 1948 году, поскольку теперь Москва ликвидировала американскую ядерную монополию. Хрущев мог в течение нескольких недель разместить на территории Восточной Германии средства ядерного устрашения. Двенадцать баллистических ракет средней дальности Р-5 давали Хрущеву возможность ответить на любой ядерный удар США по Восточному Берлину контрударами по Лондону и Парижу – если не по Нью-Йорку. Несмотря на то что речь шла о секретном оружии, Хрущев сказал Гомулке, что «сейчас равновесие сил изменилось… Америка стала ближе к нам; наши ракеты могут напрямую поразить Соединенные Штаты». Советский лидер получил возможность уничтожить европейских союзников Вашингтона.
Хрущев не поделился подробностями относительно сроков и реализации своего нового берлинского плана, поскольку еще сам не определился с деталями. Он только сказал польским товарищам, что Советский Союз и западные союзники, согласно его плану, в течение определенного времени должны будут вывести всех военнослужащих из Восточной Германии и Восточного Берлина. Он подпишет заканчивающий войну мирный договор с Восточной Германией и затем передаст ей всю полноту власти над Восточным Берлином, включая контроль над всеми коммуникационными сообщениями с Западным Берлином. После этого американские, британские и французские солдаты будут добиваться разрешения у восточногерманского лидера Вальтера Ульбрихта на вход в любой район Берлина. Хрущев объяснил людям, собравшимся во Дворце спорта, что будет рассматривать любое нарушение новых правил, любую силовую акцию или провокацию против ГДР как нападение непосредственно на Советский Союз.
Наступательная позиция Хрущева объяснялась тремя причинами.
Прежде всего, это была попытка добиться внимания президента Эйзенхауэра, который игнорировал его требования о переговорах по Берлину. Похоже, что независимо от того, что делал Хрущев, он не смог завоевать уважения американских официальных лиц, которого жаждал с такой силой.
Его противники справедливо утверждали, что Соединенные Штаты не слишком доверяют ему и не воздают должного за предпринятые им в одностороннем порядке меры по ослаблению напряженных отношений после смерти Сталина. Он не просто заменил концепцию о неизбежной борьбе между социалистической и капиталистической системами на концепцию о мирном сосуществовании. В период с 1955 по 1958 год он в одностороннем порядке сократил численность Вооруженных сил СССР на 2,3 миллиона человек и вывел войска из Финляндии и Австрии, открыв этим странам путь к нейтралитету. Кроме того, поддерживал политические и экономические реформы в странах-сателлитах в Восточной Европе.
Вторая причина заключалась в том, что Хрущев обрел уверенность в своих силах после расправы над так называемой «антипартийной группой» во главе с крупными государственными и партийными деятелями Вячеславом Молотовым, Георгием Маленковым и Лазарем Кагановичем, бывшим наставником Хрущева. Они критиковали его стиль руководства, его позицию в отношении Берлина. В отличие от Сталина Хрущев не лишил их жизни, а сослал подальше от Москвы: Молотова отправил послом в Монголию, Маленкова – в Казахстан, директором электростанции, а Кагановича – на Урал, управляющим трестом Союзасбест. Следом он отправил в отставку министра обороны маршала Георгия Жукова, которого тоже подозревал в заговоре против себя.
Стремясь оправдать свою позицию по Берлину, за четыре дня до выступления он заявил партийному руководству, что США первыми нарушили Потсдамское соглашение, когда в 1955 году предоставили возможность Западной Германии вступить в НАТО, а затем готовились снабдить ее ядерным оружием. Обрисовав свой план действий, он закрыл заседание Президиума, не поставив столь важный вопрос на голосование, поскольку понимал, что встретит противодействие.
Третьей причиной был непосредственно Берлин с увеличивающимся потоком беженцев. Несмотря на огромную уверенность в собственных силах и способностях, Хрущев по личному опыту знал, что проблемы разделенного города могут отозваться в Москве. Вскоре после смерти Сталина Хрущев использовал угрожающую ситуацию, возникшую в Восточной Германии, для устранения опаснейшего соперника, бывшего шефа тайной полиции Лаврентия Берии, после того как советские войска подавили восстание рабочих, поднятое 17 июня 1953 года.
Среди так называемого «коллективного руководства», пришедшего к власти после смерти Сталина, Хрущев был темной лошадкой. Он плохо разбирался в вопросах внешней политики и рассматривал политику Германии сквозь объектив внутренней политики. Берия возглавил кампанию против сталиниста, лидера Восточной Германии Вальтера Ульбрихта и его политики Aufbau des Sozialismus – строительства социализма. Ульбрихт противостоял оппозиции и растущему количеству беженцев с помощью арестов и репрессий, проводил насильственную коллективизацию, ускоренную национализацию предприятий, ужесточение цензуры. В результате его политики отток беженцев резко увеличился и за первые четыре месяца 1953 года составил 122 тысячи человек, в два раза превысив уровень прошлого года. В марте 1953 года на Запад бежали 56 605 человек – в шесть раз больше, чем годом ранее.
На решающем заседании Президиума Совета Министров Берия сказал: «…нам нужна только мирная Германия, а будет там социализм или не будет, нам все равно». Для Советского Союза, сказал он, будет достаточно, если Германия воссоединится – пусть даже на буржуазных началах. Берия хотел договориться о выплате значительной финансовой компенсации Западом в обмен на согласие Советского Союза на создание объединенной нейтральной Германии. Он даже поручил одному из своих наиболее преданных заместителей прозондировать с западными странами возможность воссоединения Германии. «Что такое эта ГДР? – спросил Берия, используя аббревиатуру этого вводящего в заблуждение официального названия Восточной Германии. – Она сохраняется только благодаря советским войскам, хотя мы и называем ее Германской Демократической Республикой».
Послесталинское коллективное руководство не приняло во внимание предложение Берии отказаться от строительства социализма в Восточной Германии. Следуя указаниям советского правительства, Ульбрихт прекратил насильственную коллективизацию сельского хозяйства, практику массовых арестов и репрессий; провел частичную амнистию политических заключенных; увеличил объем производства товаров народного потребления.
Хрущев почти не принимал активного участия в дебатах, которые привели к резкому изменению политического курса, и не выступал против реформ. Он наблюдал, как ослабление власти способствовало восстанию, которое могло привести к краху Восточной Германии, если бы не вмешались советские танки.
Чуть больше чем через неделю после восстания, 26 июня, Хрущев приказал арестовать Берию. Среди прочего, Хрущев обвинил Берию в том, что тот был готов отказаться от строительства социализма в Германии, победа над которой во Второй мировой войне досталась такой дорогой ценой. На заседании Президиума ЦК, которое решило судьбу Берии и привело в движение события, закончившиеся расстрелом Берии, товарищи-коммунисты назвали Берию не внушающим доверия социалистом, «врагом народа, которого следует изгнать из партии и судить за измену». Его отказ от строительства социализма в Восточной Германии сочли «прямой капитуляцией перед империалистическими силами».
Хрущев извлек из истории Берии два урока, которые никогда не забывал. Во-первых, он узнал, что политическая либерализация в Восточной Германии может привести к краху страны. Во-вторых, он понял, что ошибки, совершенные в Берлине, могут пагубным образом отразиться на Москве. Спустя три года, в 1956 году, Хрущев обеспечит себе беспрепятственный приход к власти, отрекшись от преступных деяний сталинизма на ХХ съезде партии. Однако он всегда помнил, что именно репрессии по сталинскому образцу сохранили Восточную Германию и позволили ему избавиться от самого опасного соперника.
В первые дни после выступления Хрущева во Дворце спорта президент Эйзенхауэр не хотел отвечать публично на заявление советского лидера, надеясь, что, как это часто случалось в прошлом, взрыв гнева Хрущева не будет сопровождаться конкретными действиями. Однако Хрущев не успокоился. Спустя две недели после выступления перед поляками, в американский праздник День благодарения, он превратил свою речь в ультиматум (так называемый берлинский ультиматум), требуя ответа от Соединенных Штатов. Ультиматум, в котором он смягчил некоторые требования, чтобы получить поддержку Президиума ЦК, был вручен посольствам всех заинтересованных стран.
Хрущев не привел в действие угрозу о немедленном отказе Советского Союза от всех обязательств Потсдамского соглашения. Вместо этого он отвел Западу шесть месяцев, в течение которых должны были пройти переговоры, и только после этого собирался в одностороннем порядке изменить статус Берлина. Одновременно он изложил свой план демилитаризации и нейтрализации Западного Берлина.
Хрущев пригласил американских корреспондентов, которые в своих московских квартирах в День благодарения резали индейку на праздничном столе, чтобы рассказать им о некой хирургической операции, которую он планировал провести. Во время первой пресс-конференции в качестве премьер-министра Хрущев, очевидно чтобы показать, какое важное значение имеет для него Берлин, сказал репортерам: «Западный Берлин превратился в своего рода злокачественную опухоль фашизма и реваншизма. Именно поэтому мы решили сделать операцию».
Что касается текста дипломатической ноты на двадцати восьми страницах, сказал Хрущев корреспондентам, с окончания войны прошло тринадцать лет, и пришло время признать факт существования двух немецких государств. Восточная Германия никогда не откажется от социализма, сказал Хрущев, а Западной Германии никогда не удастся поглотить Восточную Германию. Таким образом, он предоставил Эйзенхауэру возможность сделать выбор: в течение шести месяцев провести переговоры и достигнуть соглашения по демилитаризации и нейтрализации Берлина, или Москва будет действовать в одностороннем порядке и достигнет того же результата.
Сын Хрущева, Сергей, которому в то время было двадцать три года, беспокоился, что отец не дал Эйзенхауэру выхода из острых разногласий, которые могут привести к ядерной войне. Он сказал отцу, что американцы ни за что не согласятся на предложенные сроки. Хотя русские были известны как хорошие шахматисты, Сергей понимал, что в этом случае – как и во многих других – его импульсивный отец не продумал свой следующий ход.
Хрущев, засмеявшись, успокоил Сергея: «Никто не начнет войну за Берлин». Он объяснил сыну, что хочет просто «вынудить согласиться» Соединенные Штаты начать переговоры по Берлину и запустить дипломатический процесс «бесконечного обмена нотами, письмами, декларациями и речами». Только установив жесткий крайний срок, сказал Хрущев сыну, можно заставить стороны прийти к приемлемому решению.
«А что, если мы не найдем его?» – спросил Сергей.
«Будем искать другое, – ответил Хрущев. – Какое-то всегда найдется».
В ответ на подобные сомнения, высказанные Олегом Трояновским, его помощником и советником по внешнеполитическим вопросам, Хрущев, перефразируя Ленина, объяснил, что планирует «ввязаться в бой, а затем посмотреть, что получится».
Кабинет Хрущева в Кремле, Москва,
Понедельник, 1 декабря 1958 года
Спустя несколько дней после Дня благодарения, во время одной из самых примечательных встреч советского лидера и американского политического деятеля, Хрущев ясно дал понять, что в данный момент его берлинский ультиматум призван больше для привлечения внимания президента Эйзенхауэра, чем для решения вопроса относительно изменения статуса Берлина.
Хрущев пригласил в свой кабинет в Кремле сенатора от Миннесоты Хьюберта Х. Хамфри; это была самая долгая из бесед, которые советский лидер имел с кем-либо из американских официальных лиц и политических деятелей. Хотя намечалась всего часовая встреча, их переговоры, начавшись в три часа дня, закончились ближе к полуночи.
Хрущев, выставляя напоказ свои знания Америки, рассуждал о политической жизни Калифорнии, Нью-Йорка и родного штата Хамфри, Миннесоты. Он пошутил относительно «нового Маккарти» – не антикоммуниста Джозефа, а левоцентристского конгрессмена Юджина, который позже будет баллотироваться на пост президента. Хрущев поделился с Хамфри секретом – «этого не знает ни один американец», – рассказав об успешных испытаниях советской водородной пятидесятимегатонной бомбы. Он также рассказал о разработке ракеты дальности 13 тысяч километров, которая могла быть подготовлена к старту всего за несколько минут и легко доставала до США.
Когда Хамфри по просьбе Хрущева сказал название своего родного города, советский лидер вскочил со стула, подбежал к висевшей на стене карте и обвел синим карандашом Миннеаполис – «это чтобы я не забыл приказать не трогать этот город, когда они выпустят ракеты по США». Хрущев поразил Хамфри как человек не слишком уверенный в прочности своего положения, «который поднялся из бедности к богатству и власти, но не слишком уверен в себе и в своем новом положении».
Рассказывая на следующий день о своей встрече послу Томпсону, чтобы американский посол мог передать этот разговор президенту Эйзенхауэру, Хамфри подчеркнул, что Хрущев не меньше двадцати раз возвращался к берлинскому вопросу и ультиматуму, который, по словам советского лидера, появился после «многомесячных раздумий». Хамфри пришел к заключению, что главная цель их восьмичасовой беседы – настоящего марафона – заключалась в том, чтобы «произвести на него впечатление советской позицией по Берлину и передать его [Хрущева] слова и мысли президенту Соединенных Штатов».
Для описания Берлина у Хрущева был целый арсенал метафор. Западный Берлин, сказал Хрущев, это кость в горле Советского Союза, и он хочет вытащить эту кость, сделав Берлин «свободным городом», демилитаризованным, под наблюдением представителей Организации Объединенных Наций. Хрущев, чтобы убедить Хамфри, что он не пытается обмануть Соединенные Штаты, подробно рассказал, как лично приказал вывести советские войска из Австрии в 1955 году, тем самым обеспечив ее нейтралитет. Хрущев сказал Хамфри, что он убедил министра иностранных дел Молотова, что советские войска были бы нужны в Австрии только в том случае, если бы он хотел расширяться в западном направлении, но он не хотел этого делать. Так, по его словам, «Австрия стала нейтральной, и был уничтожен источник конфликта».
По его мнению, поведение Советов в Австрии должно послужить Эйзенхауэру и как образец для Западного Берлина, и как ручательство относительно будущего. Вот почему, сказал он, Соединенным Штатам, Великобритании и Франции нет необходимости оставлять войска в Берлине. «Зачем вам двадцать пять тысяч солдат в Берлине, если вы не хотите вести войну? – спокойно сказал он. – Почему вы не выдергиваете этот шип? Свободный город, свободный Берлин, возможно, поможет растопить лед между СССР и США».
Хрущев убеждал Хамфри, что, решая берлинскую проблему, он и Эйзенхауэр могут улучшить личные отношения и вместе достигнуть исторической оттепели в холодной войне. И если американскому президенту не понравилось что-то в его берлинском плане, сказал Хрущев Хамфри, то он готов рассмотреть встречные предложения. Хрущев сказал, что готов принять любые альтернативные предложения от Эйзенхауэра, за исключением предложений об объединении Германии и «ликвидации социалистической системы в Восточной Германии».
Быстрые переходы Хрущева от обольщения к угрозам напомнили Хамфри, как методом попеременного погружения ног в горячую и холодную воду лечили его отца от ознобления в Южной Дакоте. «Наши солдаты там не прохлаждаются, наши танки там не для того, чтобы указывать вам путь к Берлину. Мы всерьез беремся за дело», – сболтнул Хрущев. И тут же глаза советского лидера увлажнились, когда он со слезами в голосе заговорил о гибели сына во Второй мировой войне и своих нежных чувствах к президенту Эйзенхауэру. «Мне нравится президент Эйзенхауэр, – сказал Хрущев Хамфри. – Мы не желаем зла Соединенным Штатам и Берлину. Вы должны убедить в этом президента».
Эйзенхауэр, как и надеялся советский лидер, ответил на берлинский ультиматум Хрущева. Он предложил провести встречу министров иностранных дел четырех держав в Женеве, на которой в качестве наблюдателей будут присутствовать представители Восточной и Западной Германии. Хотя переговоры закончились безрезультатно, Эйзенхауэр предложил Хрущеву стать первым советским руководителем Коммунистической партии, посетившим Соединенные Штаты.
Хрущев поздравил себя, рассматривая желание Эйзенхауэра принять его в логове капиталистов как «конкретный результат берлинского давления, которое он оказал на западные державы».
Он полагал, что наконец-то добился уважения у Америки к себе и своей родине, то, чего он так сильно жаждал.
Визит Хрущева в Соединенные Штаты
15—27 сентября 1959 года
По мере приближения даты отъезда в Америку все более возрастала тревога Хрущева, опасавшегося, что принимающая сторона планирует «провокацию» сразу по прибытии его в Америку или во время посещения. Этим, в свою очередь, как доказательством, что его визит в Соединенные Штаты был неподготовленным и пагубным с точки зрения интересов Советского Союза, могут воспользоваться его соперники, которых заставили замолчать, но не одолели.
Вот почему Хрущев меньше думал о том, как он будет вести переговоры в США о будущем Берлине, а был больше занят тщательным изучением каждой детали своего визита, чтобы обезопасить себя от нанесения так называемого «морального вреда». Хотя Хрущев был лидером коммунистов, якобы представлявших авангард пролетариата, представители советской стороны потребовали, чтобы его принимали с той же помпой и почетом, с какими принимают глав западных государств.
Хрущев разволновался, когда узнал, что решающие переговоры с Эйзенхауэром состоятся в месте под названием Кемп-Дэвид, о котором не знал ни один из его советников и которое звучало для него как ГУЛАГ, лагерь для интернированных. Он вспомнил, что в первые годы после революции советскую делегацию пригласили провести переговоры на острове Сивриада (один из девяти Принцевых островов), куда якобы свозили бездомных собак, где они доживали свой век. Считая, что «капиталисты никогда не упустят возможности привести в замешательство или оскорбить Советский Союз», он опасался, что, может, этот Кемп-Дэвид «место, куда приглашают людей, которые не внушают доверия. Вроде какого-то карантинного учреждения».
Хрущев успокоился и согласился на встречу в Кемп-Дэвиде только после того, как ему доложили, что приглашение в это место означает, что советская делегация удостаивается особой чести. Выяснилось, что это «загородная резиденция президента. Построил ее Франклин Рузвельт во время Второй мировой войны и выезжал туда, когда не мог далеко отлучиться от Вашингтона». Позже Хрущев признался, что ему было «не только смешно, но и немножко стыдно» за собственное невежество и невежество своих советников. Но более важно то, что все это говорило о смешанных чувствах недоверия и неуверенности, которые испытывал Хрущев, вступая в переговоры с Соединенными Штатами.
Не обращая внимания на предостережения своего пилота, Хрущев полетел через Атлантику на опытном образце Ту-114, который еще не прошел все необходимые испытания [5].
Однако, несмотря на возможный риск, Хрущев настоял на этом средстве передвижения, поскольку Ту-114 был единственным советским самолетом, который мог без посадки прилететь из Москвы в Вашингтон. Итак, Хрущев поднялся на борт самолета, имевшего самую большую в мире пассажировместимость, дальность полета и скорость; одним словом, это был самый большой в мире скоростной межконтинентальный пассажирский самолет. Однако чтобы подстраховаться, расставили в океане, по всей трассе полета, через каждые 200 миль друг от друга советские суда, которые должны были служить для штурманов радиомаяками, а в случае аварийной посадки на воду два ближайших судна смогли бы подойти к месту аварии и подобрать людей.
Позже Хрущев вспоминал, что нервничал и испытывал волнение, глядя из окна, как самолет заходит на посадку, и думал про себя: «Мы, наконец, заставили Соединенные Штаты осознать необходимость установления с нами более тесных контактов… Теперь нас признают уже не только дипломатически, это давно пройденный этап, и не только при необходимости воюют вместе с нами против общего врага: президент США приглашает теперь с дружеским визитом главу правительства СССР».
В тот момент размышления о Берлине отошли на задний план. Хрущев наслаждался мыслью, что успехи советской экономики, вооруженные силы СССР и успехи всего социалистического лагеря побудили Эйзенхауэра устанавливать с Советским Союзом более теплые отношения. «Из разоренной, отсталой и неграмотной России мы превратились в Россию, поразившую мир своими успехами».
К облегчению и удовольствию Хрущева, Эйзенхауэр встречал его на военно-воздушной базе Эндрюс недалеко от Вашингтона. Встреча была торжественной, с артиллерийским салютом – прозвучал двадцать один залп. Позже Хрущев вспоминал, что испытывал чувство гордости: «Все это делалось очень торжественно и вселяло в нас еще больше гордости: вот мы побудили США выстроить почетный воинский караул и исполнить советский гимн!» Соединенные Штаты Америки, самая крупная капиталистическая держава в мире, оказывают почести представителю социалистической страны, к которой раньше они относились с презрением.
Скорее в результате улучшившегося настроения, а не благодаря продуманной стратегии по берлинскому вопросу Хрущев сказал президенту Эйзенхауэру во время первой встречи 15 сентября, что хотел бы «достигнуть соглашения по Германии и, следовательно, по Берлину». Не останавливаясь на деталях, Хрущев сказал, что «мы не собираемся действовать в одностороннем порядке». Эйзенхауэр, в свою очередь, назвал ситуацию с Берлином «ненормальной», и советский лидер исходя из тона разговора сделал вывод, что к концу поездки удастся договориться по берлинскому вопросу.
Эта поездка от берега до берега была отмечена резкими взлетами и падениями, иллюстрирующими сложные эмоциональные отношения Хрущева с Соединенными Штатами; он был одновременно нетерпеливым просителем, ищущим одобрения со стороны величайшей в мире державы, и опасным противником, не оставляющим без внимания ни одно оскорбление, ни одну обиду.
Хрущев и его жена, Нина Петровна, сидели между Бобом Хоупом и Фрэнком Синатрой на завтраке, устроенном в честь советской делегации студией «Двадцатый век – Фокс», на котором Мэрилин Монро была в своем «самом облегающем, самом сексуальном платье», но советский лидер вел себя как избалованный ребенок, которого не пустили в Диснейленд. Хрущев усмотрел заговор в том, что в качестве сопровождающего по Лос-Анджелесу был выбран киномагнат Виктор Картер [6].
В том, что в Лос-Анджелесе все пошло не так, Хрущев обвинил этого эмигранта, семья которого сбежала из Ростова-на-Дону.
Поездка чуть не закончилась в первый день пребывания в Калифорнии, когда Хрущев нанес удар консервативному мэру Лос-Анджелеса Норрису Поулсону во время ответной речи на вечернем банкете в присутствии голливудских звезд. Стремясь заработать политические баллы, мэр отказался прислушаться к просьбе Генри Кэбота Лоджа, американского посла в ООН, который сопровождал Хрущева в поездке по Америке в качестве представителя президента, воздержаться от антикоммунистических высказываний, которые советский лидер может счесть оскорбительными. «Если сюда мы летели около двенадцати часов, то отсюда долетим, наверное, часов за десять», – сказал Хрущев, попросив подготовить самолет к отлету.
Решающая встреча состоялась в Кемп-Дэвиде. Хрущев и Эйзенхауэр в течение двух дней вели разговоры обо всем, от угрозы ядерной войны (Хрущев заявил, что не боится этих угроз) до вопросов, связанных с продажей американских технологий и оборудования (Хрущев, язвительно усмехнувшись, ответил, что не нуждается в старых американских технологиях для производства обуви и колбасы). Эйзенхауэр предотвратил срыв переговоров, предложив гостям отправиться на его ферму, находящуюся в Геттисберге, куда они полетели на вертолете. Президент подарил Хрущеву породистую телку, а Хрущев, в свою очередь, пригласил Эйзенхауэра и его внуков посетить Советский Союз.
На следующий день Хрущев согласился отодвинуть сроки берлинского ультиматума в обмен на согласие Эйзенхауэра начать переговоры о статусе Берлина с целью достижения решения, которое устроит все стороны.
С необычной искренностью Хрущев поделился с Эйзенхауэром, что он выдвинул берлинский ультиматум «из-за высокомерного отношения США к СССР, которые заставляли думать, что нет альтернативы». Он сказал, что стремится достигнуть с США соглашения по вопросу разоружения, поскольку довольно трудно накормить его страну, когда приходится тратить огромные средства на гонку вооружений. Затем они обменялись мнениями о том, как военные обеих стран настаивают на увеличении расходов на вооружение, объясняя это агрессивной позицией другого государства.
Переговоры могли сорваться еще раз, когда Хрущев потребовал, чтобы из совместного советско-американского коммюнике американская сторона убрала фразу о том, что переговоры по берлинскому вопросу «не должны затягиваться на неопределенное время, но что для них не может быть никакого установленного ограничения времени». После длительной дискуссии американская сторона согласилась с требованием советской стороны, но Эйзенхауэр в заявлении на пресс-конференции для журналистов, состоявшейся 28 сентября, рассказал о своем понимании этой проблемы. Хрущеву ничего не оставалось, как подтвердить отказ от ультиматума.
Эйзенхауэр дал согласие на то, чего больше всего хотел Хрущев: согласился на проведение в Париже встречи глав четырех держав по вопросу о Берлине и по проблемам разоружения. Для Хрущева эта договоренность давала защиту от нападок критиков, утверждавших, что его политика «мирного сосуществования» с Западом не дает никаких результатов, и служила неопровержимым доказательством, что его курс способствовал улучшению международного положения Советского Союза.
Хрущев, чрезвычайно довольный результатами поездки в Соединенные Штаты и перспективой встречи на высшем уровне, в декабре в одностороннем порядке сократил вооруженные силы на 1,2 миллиона человек. Однако после обмена мнениями с Шарлем де Голлем и Конрадом Аденауэром Эйзенхауэр вернулся на прежнюю позицию относительно переговоров о статусе Берлина.
Свердловск, Советский Союз
Воскресенье, 1 мая 1960 года
Спустя всего восемь месяцев после визита в Америку Хрущев заявил, что «дух Кемп-Дэвида» погиб на Урале над Свердловском, когда советская ракета класса «земля – воздух» сбила американский самолет-разведчик.
Вначале Хрущев рассматривал этот случай как успех советского ракетостроения. Всего тремя неделями раньше советские средства ПВО не смогли сбить современный высотный самолет ЦРУ, причем было точно известно, куда он летит. Еще раньше советский истребитель МиГ-19 безуспешно пытался перехватить самолет-разведчик у Семипалатинского ядерного полигона. Неудача постигла и два советских истребителя-перехватчика Су-9, которые не смогли перехватить самолет-разведчик U-2, который фотографировал Тюратам, полигон для испытания баллистических ракет.
Расстроенный этими неудачами, Хрущев скрывал от мира вторжения американских самолетов, не желая признаваться в неудачах советских военных. Теперь, когда его ракеты сбили U-2, он забавлялся, ничего не сообщая американцам об инциденте, в то время как ЦРУ выступило с заявлением, – позже оно было вынуждено отказаться от этой версии, – что самолет, который вел метеонаблюдения, пропал без вести над Турцией.
Однако спустя несколько дней Хрущев признался, что история с U-2 представляла бóльшую угрозу для него, чем для американцев. Политические противники, которых он нейтрализовал после ликвидации заговора 1957 года, начали перегруппировываться. Мао Цзэдун публично осудил отношения Хрущева с американцами, рассматривая их как «предательство социализма». Советское военное командование и партийное руководство, пока еще в частных беседах, высказывало недовольство решением Хрущева сократить численность вооруженных сил. Они утверждали, что Хрущев подрывает обороноспособность страны, лишает их возможности защищать родину.
Спустя несколько лет Хрущев признается доктору А. Макги Харви, специалисту, который лечил его дочь, что случай с U-2 явился переломным моментом, после которого он уже не имел всей полноты власти. С этого момента ему было все труднее отражать атаки тех, что утверждали, что он слишком слаб, чтобы противостоять милитаристским устремлениям двуличных американцев.
Сначала Хрущев пытался придерживаться курса на парижскую встречу на высшем уровне, которая планировалась на середину мая, спустя две недели после случая с американским U-2, – встречу, на организацию которой он потратил так много сил. Хрущев объяснял местным критикам, что если они откажутся от участия в саммите, то это будет только на руку американским противникам соглашений типа шефа ЦРУ Аллена Даллеса, который отдавал приказы вторгаться в советское воздушное пространство, чтобы свести на нет предпринимаемые Эйзенхауэром усилия по поддержанию мира.
11 мая, всего за пять дней до саммита, Эйзенхауэр лишил Хрущева последних иллюзий. Он заявил, что отдавал приказы о сборе любыми возможными способами информации, необходимой для защиты Соединенных Штатов и свободного мира от внезапного нападения и для того, чтобы дать им возможность провести эффективные приготовления к обороне, и лично одобрил полет Гэри Пауэрса. Он заявил, что эти мероприятия необходимы, так как в «Советском Союзе секретность и тайны стали фетишем». «Мы подходим к тому моменту, когда должны решить, пытаемся ли мы готовиться к ведению войны или к предотвращению войны», – сказал Эйзенхауэр на заседании Национального совета безопасности.
Когда самолет с советской делегацией приземлился в Париже, Хрущев принял решение, что если не удастся получить официального извинения от Эйзенхауэра, то ему придется сорвать переговоры. С политической точки зрения ему было выгодно сорвать переговоры, поскольку к тому времени стало ясно, что США не пойдут ни на одну уступку в вопросе о Берлине.
Эйзенхауэр, хотя и отказался принести извинения за инцидент с U-2, предпринял попытку не допустить срыва переговоров, отдав распоряжение прекратить полеты U-2 над Советским Союзом. Эйзенхауэр сделал важный шаг, выдвинув идею «открытого неба», но Хрущев не принял это предложение, поскольку не мог позволить американцам проникнуть в тайны программ его вооружения, тщательно охраняемые в условиях состязания в военном могуществе двух сверхдержав.
На первом и единственном заседании Хрущев, используя в своей сорокапятиминутной речи ненормативную лексику, предложил перенести совещание глав правительств примерно на шесть – восемь месяцев, когда истечет срок пребывания Эйзенхауэра у власти, и объявил, что советское правительство «решило отложить поездку президента США в Советский Союз и договориться о сроках этого визита, когда для этого созреют условия». Не предупредив заранее лидеров держав, Хрущев отказался на следующий день присутствовать на заседании. Вместо этого Хрущев и министр обороны Родион Малиновский отправились в деревню Плер-сюр-Марн, где во время Второй мировой войны стояла часть Малиновского. В деревне им был оказан радушный прием; они пили вино, ели сыр и вели разговоры о женщинах. По возвращении в Париж изрядно выпивший советский лидер объявил о срыве саммита.
Кульминационный момент во время его почти трехчасовой прощальной пресс-конференции: Хрущев так сильно ударил по столу, что упала бутылка с минеральной водой. Когда следом в зале раздалось недружественное гудение, выкрики с места, Хрущев сказал: «Хочу сразу ответить тем, кто здесь «укает». Меня информировали, что подручные канцлера Аденауэра прислали сюда своих агентов из числа фашистов, не добитых нами под Сталинградом. Они тоже шли в Советский Союз с «уканьем». А мы так им «укнули», что сразу на три метра в землю вогнали. Так что вы «укайте», да оглядывайтесь».
Хрущев был настолько расстроен, что, общаясь в Париже с послами стран Варшавского договора, рассказал применительно к результатам саммита грубый анекдот. Один солдат в царской армии умел настолько хорошо пукать, что мог даже напукивать гимн «Боже, цари храни». Но когда государь, узнавший об этом, вызвал солдата и приказал пропукать гимн, солдат не смог выполнить приказ, поскольку, по его словам, «взял на ноту выше и наложил в штаны». Хрущев не стеснялся в выражениях, надеясь, что послы сообщат своим правительствам, что подобная история произошла в Париже с Эйзенхауэром.
Польский посол во Франции Станислав Гаевский пришел к выводу, что на заседании советский лидер вел себя «слегка неуравновешенно». Хрущеву, по его словам, не стоило приезжать в Париж.
Однако Хрущев слишком многое поставил на карту, чтобы отказаться от курса «мирного сосуществования» с Соединенными Штатами. Да, он разочаровался в Эйзенхауэре, но не в Америке. U-2 сорвал организованный им саммит, но Хрущев не мог позволить, чтобы он подорвал его авторитет.
На обратном пути в Москву Хрущев остановился в Восточном Берлине, где сменил мрачное выражение лица, с каким покидал Париж, на улыбку миротворца. Первоначально предполагалось, что он выступит перед стотысячной толпой на площади Маркса и Энгельса, но после разгрома в Париже восточногерманские лидеры организовали митинг в закрытом помещении, во Дворце спорта имени Вернера Зееленбиндера, на котором присутствовали шесть тысяч коммунистов.
К удивлению американских дипломатов, ожидавших, что Хрущев обострит конфликт, советский лидер, оказалось, был готов потерпеть, пока американцы будут выбирать нового президента. В этой ситуации, по его словам, не стоило спешить; требуется время, чтобы «созрело решение по Берлину».
И Хрущев начал подготовку к новой поездке в Соединенные Штаты.
На борту «Балтики»
Понедельник, 19 сентября 1960 года
Встреча Хрущева на полуразрушенном причале в старой части Нью-Йорка продемонстрировала огромные изменения, которые произошли за год, с того времени, когда президент Эйзенхауэр устроил советскому лидеру торжественную встречу на военно-воздушной базе Эндрюс. На этот раз Хрущев отправился в Америку на борту «Балтики», немецкого судна, построенного в 1940 году и полученного Советским Союзом в качестве возмещения нанесенного войной ущерба.
Хрущев, желая продемонстрировать солидарность коммунистов, взял на борт в качестве пассажиров лидеров Венгрии, Румынии, Болгарии, Украины и Белоруссии. Во время путешествия его отличали резкие перепады настроения. В какой-то момент, охваченный страхом, что НАТО может потопить его беззащитное судно, он впал в депрессию; а однажды, развеселившись, настоял, чтобы Николай Подгорный, первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Украины, развлек попутчиков и станцевал гопак, национальный украинский танец, который танцуют вприсядку с попеременным выбрасыванием ног.
Когда один из советских моряков сбежал на Запад, а затем попросил политического убежища, Хрущев, пожав плечами, сказал: «Он довольно скоро испытает на себе, что такое Нью-Йорк». Хрущеву пришлось испытать еще одно унижение. Докеры из Международного союза береговых и портовых рабочих, отказавшиеся обслуживать советское судно, размахивали огромными плакатами с антисоветскими надписями. Самой запоминающейся была надпись: «Розы – красные, фиалки – синие, Сталин – сдох, а как ты?»
Хрущев пришел в ярость. Он мечтал, что прибудет в Америку как первые открыватели, о которых он читал в детстве. Вместо этого швартоваться пришлось самим, без помощи докеров, объявивших бойкот, и встречала его горстка советских дипломатов на полуразрушенном причале № 73 на Ист-Ривер. «Американцы сыграли с нами еще одну злую шутку», – пожаловался Хрущев.
Единственным спасением было то, что Хрущев контролировал свою прессу. Корреспондент «Правды» Геннадий Васильев рассказал о радостно приветствовавшей толпе людей (не было ни одного человека), выстроившихся на берегу в яркое, солнечное утро (шел дождь).
Но ничто не могло умерить пыл советского лидера. Он предлагает заменить Генерального секретаря ООН (несколькими днями ранее в авиакатастрофе в Северной Родезии погиб Генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршельд) триумвиратом в следующем составе: один представитель от западных держав, один от социалистических и один от неприсоединившихся государств, но его предложение не находит поддержки. Он предлагает перенести штаб-квартиру ООН в какую-нибудь европейскую страну, например в Швейцарию. В последний день пребывания он совершил поступок, который станет главным воспоминанием о его визите: в знак протеста против выступления филиппинского делегата, когда тот заявил, что Советский Союз должен освободить свои колонии и зависимые страны, Хрущев снял ботинок и стал стучать им по трибуне.
26 сентября, всего за неделю пребывания Хрущева в Америке, «Нью-Йорк таймс» сообщила, что согласно проведенному исследованию советский лидер занял основное место в кампании по выборам президента и американские избиратели озабочены его влиянием на внешнюю политику. Американцы оценивали, кто из кандидатов в президенты, Ричард Никсон или сенатор Джон Ф. Кеннеди, сможет лучше противостоять Хрущеву.
Хрущев был настроен более разумно использовать имеющиеся в его распоряжении связи, чем в 1956 году, когда добрые слова, сказанные советским премьер-министром Николаем Булганиным в адрес Эдлая Стивенсона, помогли вытащить выигрышный билет Эйзенхауэру – Никсону. На людях Хрущев говорил, что оба кандидата «представляют крупный капитал… и, как говорят русские, два сапога пара: какой лучше, левый или правый?». На вопрос, кому он отдает предпочтение, Хрущев неизменно отвечал: «Рузвельту».
Но в кулуарах он делал все возможное, чтобы Никсон проиграл на выборах. В январе 1960 года советский посол в Соединенных Штатах Михаил Меньшиков, за водкой и икрой, спросил Эдлая Стивенсона, как Москва могла бы наиболее эффективно помочь ему одержать победу над Никсоном. Надо, чтобы советская пресса расхваливала Никсона или критиковала его – и за что? Стивенсон ответил, что не собирается выставлять свою кандидатуру, и попросил нигде не озвучивать эту информацию.
Однако обе партии признавали возможность Хрущева случайно или намеренно оказывать влияние на избирателей.
Республиканец Генри Кэбот Лодж-младший, который тесно общался с Хрущевым во время его первого визита в Соединенные Штаты, в феврале 1960 года прилетел в Москву, чтобы убедить советского лидера в том, что он сможет работать с Никсоном. Лодж, который в случае избрания Никсона стал бы вице-президентом, сказал Хрущеву: «Как только мистер Никсон окажется в Белом доме, я уверен, я абсолютно уверен, он займет позицию сохранения и даже, возможно, улучшения наших отношений». Он попросил Хрущева сохранять нейтралитет, понимая, что любая поддержка будет стоить Никсону голосов.
Осенью участились обращения правительства Эйзенхауэра к Хрущеву с просьбой освободить Гэри Пауэрса и двух летчиков с американского самолета-разведчика RB-47, сбитого над Баренцевым морем. Позже Хрущев вспоминал, что его отказ был связан с тем, что до выборов оставалось уже слишком мало времени и любой шаг мог сказаться на результатах. «Как оказалось, мы поступили правильно», – позже скажет Хрущев. Советский лидер, учитывая, что Кеннеди победил с небольшим преимуществом, сказал: «Легкий толчок так или иначе был бы решающим».
В свою очередь демократы тоже старались повлиять на Хрущева. Уильям Аверелл Гарриман, бывший послом президента Рузвельта в Москве, передал через посла Меньшикова, чтобы Хрущев занял жесткую позицию по отношению к обоим кандидатам. Самый верный способ помочь Никсону одержать победу, сказал он, похвалить Кеннеди. Назначение времени Генеральной ассамблеи ООН, менее чем за месяц до выборов, и то, что Хрущев был в это время в Соединенных Штатах, показало, что демократы признают влияние Хрущева на результаты выборов.
«Мы думали, что у нас появится больше возможностей для улучшения советско-американских отношений, если в Белом доме будет Джон Кеннеди», – откровенно говорил Хрущев. Он объяснял товарищам, что антикоммунизм Никсона и его связь с «князем тьмы Маккарти [сенатор Джозеф Маккарти], которому он обязан своей карьерой» – все это подразумевает, что «у нас не было причины приветствовать возможность Никсона стать президентом».
Хотя в ходе избирательной кампании высказывания Кеннеди были антикоммунистическими, направленными против Москвы, КГБ связывало это скорее с политической целесообразностью и влиянием его отца, антикоммуниста, чем с взглядами самого Кеннеди [7].
Хрущев приветствовал призывы Кеннеди к переговорам о запрещении испытаний ядерного оружия и его заявление, что он, если станет президентом, принесет извинение за вторжение U-2. Кроме того, Хрущев считал, что может перехитрить Кеннеди, человека, которого советское Министерство иностранных дел характеризовало как «едва ли обладающего качествами выдающейся личности». В Кремле считали этого молодого человека поверхностным, не имеющим достаточного опыта, необходимого для руководства страной.
Кандидаты продолжали уделять внимание Хрущеву, поскольку он следил за их кампанией из своих апартаментов в советской миссии на Парк-авеню, иногда появляясь на балконе особняка, построенного на рубеже веков для банкира Перси Пайна. 26 сентября в телевизионной студии в Чикаго во время дебатов между Кеннеди и Никсоном – первые президентские дебаты в прямом эфире – Кеннеди, выступая перед шестидесятимиллионной зрительской аудиторией, откровенно высказался относительно пребывания Хрущева в Нью-Йорке и о том, что «наша борьба с мистером Хрущевым на выживание».
Хотя во время дебатов должны были обсуждаться вопросы внутренней политики, Кеннеди выразил обеспокоенность тем, что в Советском Союзе выпускается в два раза больше ученых и инженеров, чем в США, в то время как в США стали обычным явлением переполненные школы и плохо оплачиваемые учителя. Кеннеди заявил, что добьется бóльших успехов, чем Никсон, в том, чтобы Америка опережала Советский Союз в сфере образования, здравоохранения и жилищного строительства.
Во время вторых дебатов, проходивших 7 октября в Вашингтоне, округ Колумбия, кандидаты сосредоточили внимание на Хрущеве и Берлине. Кеннеди уверенно заявил, что новый президент «в первый год столкнется с серьезнейшим вопросом относительно нашей защиты Берлина, наших обязательств перед Берлином. Это будет проверкой наших нервов и воли». Он сказал, что президент Эйзенхауэр допустил ослабление американской армии и что он, если будет избран, попросит конгресс поддержать его предложение наращивать американскую военную мощь, поскольку весной «мы столкнемся с самым серьезным Берлинским кризисом после 1949 года».
Во время предвыборной кампании Эдлай Стивенсон посоветовал Кеннеди избегать обсуждения Берлина в целом, поскольку будет «трудно сказать что-то конструктивное о разделенном городе, не поставив под угрозу будущие переговоры». Таким образом, Кеннеди только в половине выступлений говорил о Берлине. Однако перед телевизионной аудиторией нельзя было избежать разговора на эту тему, особенно после того, как Хрущев заявил корреспондентам, что хочет, чтобы США приняли участие в саммите по вопросу о будущем Берлина вскоре после выборов.
13 октября во время третьих дебатов Фрэнк Макги с канала Эй-би-си задал вопрос обоим кандидатам, готовы ли они начать военные действия, чтобы защитить Берлин. Кеннеди выразился достаточно ясно: «Мистер Макги, у нас есть договорное право находиться в Берлине, вытекающее из переговоров в Потсдаме и Второй мировой войны, подкрепленное обязательствами президента Соединенных Штатов и рядом других стран НАТО… Мы должны выполнять это обязательство, если хотим обеспечить безопасность Западной Европы, и потому я думаю, что этот вопрос не вызывает сомнений ни у одного американца. Я надеюсь, нет сомнений и ни у одного жителя Западного Берлина. Я уверен, что он не вызывает сомнений ни у одного русского. Мы выполним обязательства по сохранению свободы и независимости Западного Берлина».
Несмотря на явную убедительность речей Кеннеди, Хрущев чувствовал, что возможен компромисс. Кеннеди говорил о договорных правах, но не о моральной ответственности. Он не высказывал обычного требования республиканцев освободить порабощенные народы. Он даже не предлагал распространять свободу на Восточный Берлин. Он говорил о Западном Берлине и только о Западном Берлине. Он говорил о техническом и правовом вопросах, о тех вопросах, по которым можно было договориться.
Но прежде, чем общаться с Кеннеди, Хрущеву надо было навести порядок в своем коммунистическом хозяйстве и нейтрализовать растущие проблемы на двух фронтах – Китае и Восточной Германии.
Москва
Пятница, 11 ноября 1960 года
Было понятно, что Запад не придал значения самой представительной встрече коммунистических лидеров, которая прежде всего характеризовалась отупляющими, затянутыми выступлениями представителей восьмидесяти одной партийной делегации со всего мира на протяжении двух недель. Одновременно Хрущев в кулуарах вел работу по нейтрализации китайского вопроса, связанного со стремлением Мао Цзэдуна захватить лидерство в мировом коммунистическом движении, и получению поддержки в партии для новых дипломатических усилий по избранию президентом Кеннеди.
Стратеги советской внешней политики отдавали приоритет двум направлениям – китайско-советскому альянсу и мирному сосуществованию с Западом, причем именно в таком порядке. Министр иностранных дел Андрей Громыко утверждал, что будет ошибкой потерять Пекин, не получив ничего заслуживающего доверия от США. Советское посольство в Пекине сообщило Хрущеву, что китайцы использовали последствия инцидента с U-2 и провал Парижского саммита, чтобы «впервые открыто» выступить против внешней политики, проводимой Хрущевым.
Мао выступал против политики мирного сосуществования с Западом и следовал курсом более глубокой конфронтации и по берлинскому вопросу, и по вопросу развивающихся стран. Китайская делегация приехала в Москву с намерением получить значительную помощь Кремля национально-освободительным движениям.
Теперь, когда отношения с Соединенными Штатами ухудшились, многие советские чиновники в частных беседах высказывали мнение, что Хрущев должен делать ставку на китайцев. Однако только немногие знали, что это было невозможно из-за личной неприязни между Хрущевым и Мао Цзэдуном.
По словам Хрущева, Мао не понравился ему с первого визита в Китай, когда в 1954 году он приехал в Пекин на празднование пятой годовщины Китайской Народной Республики. Хрущев был недоволен всем, от бесконечных чайных церемоний до, по его выражению, вкрадчивой, лицемерной любезности хозяина. Мао настолько явно демонстрировал во время переговоров нежелание сотрудничать, что по возвращении в Москву Хрущев пришел к выводу, что «конфликт с Китаем неизбежен».
Когда спустя год на встрече в Москве канцлер Западной Германии Конрад Аденауэр выразил беспокойство по поводу нарождающегося советско-китайского союза, Хрущев ответил, что исключает возможность союза и сам испытывает беспокойство относительно Китая. «Их уже шестьдесят миллионов, и каждый год прибавляется еще двенадцать… – сказал он. – Нам надо заботиться о повышении уровня жизни нашего народа, нам надо вооружаться как американцы, а мы все время что-то делаем для китайцев, которые сосут нашу кровь, как пиявки».
Хрущева потрясла готовность Мао развязать войну с Соединенными Штатами, невзирая на разруху, которую она принесет. Мао убеждал Хрущева, что они одержат победу. «Какой бы ни была война, обычной или ядерной, мы одержим победу, – сказал Мао Хрущеву. – Мы можем потерять триста с лишним миллионов людей. И что с того? Такова война. Пройдут годы, и мы нарожаем больше детей, чем когда-либо прежде». Хрущев назвал Мао «безумцем на троне».
После того как в 1956 году Хрущев отрекся от Сталина и разоблачил его культ личности, отношения стали еще более напряженными. «Они приняли это на свой счет, – сказал Хрущев. – На съезде Сталина разоблачили и обвинили в расстреле сотен тысяч людей и в злоупотреблении властью. Мао Цзэдун следует по стопам Сталина».
К июню 1959 года отношения еще больше ухудшились, поскольку Хрущев не только не выполнил обещания передать китайцам образец атомной бомбы и технологию ее производства, но и принимал меры по улучшению отношений с американцами. Мао объяснил товарищам по партии, что Хрущев предал коммунизм ради заключения договоров с дьяволом.
В 1959 году вскоре после визита в Соединенные Штаты Хрущев приехал в Пекин на празднование десятой годовщины Китайской Народной Республики. Вместо того чтобы просто поздравить Мао с революцией, Хрущев использовал официальный банкет, чтобы с гордостью заявить о том, что он ослабил международную напряженность благодаря «духу Кемп-Дэвида».
В этот приезд Хрущева во время переговоров Мао беспрерывно курил и пускал дым в лицо Хрущеву, хотя знал, что советский лидер не терпит табачного дыма, и насмехался над ним, называя его речь несвязной. Старания Мао оскорбить Хрущева достигли предела, когда для продолжения переговоров Хрущева пригласили в открытый бассейн. Мао был прекрасным пловцом, и, пока он нырял и плавал, Хрущев барахтался в воде, держась за спасательный круг, который ему бросили помощники Мао. Вернувшись домой из бассейна, Мао сказал своему врачу, что от души поиздевался над Хрущевым.
Хрущев по поводу этого «приема» в бассейне: «Принимает меня Мао Цзэдун в бассейне. Мао Цзэдун делает вид, что не замечает, как мне трудно за ним поспевать, и нарочито пространно рассуждает о политическом моменте, вопросы какие-то задает, на которые я, воды нахлебавшись, и ответить-то толком не могу. Поплавал я, поплавал, думаю – да ну тебя к черту, вылезу. Вылез на краешек, свесил ноги. И что же, теперь я наверху, а он внизу плавает. Переводчик не знает, то ли с ним плавать, то ли со мной рядом сидеть. Он плавает, а я-то сверху вниз на него смотрю».
20 июня 1960 года в Бухаресте на III съезде Румынской рабочей партии, где румыны принимали пятьдесят одну делегацию из социалистических стран, остро встал вопрос о взаимоотношениях между Хрущевым и Мао. Всего за два дня до начала съезда, после неудавшейся попытки решить разногласия с китайской делегацией, посетившей Москву по пути в румынскую столицу, Хрущев объявил, что будет участвовать в работе съезда. Его участие превратило незначительный партийный съезд в открытую войну двух самых могущественных социалистических государств. Борис Пономарев, заведующий Международным отделом ЦК КПСС, чтобы подготовить почву, распространил среди делегатов информационное письмо на восьмидесяти одной странице, в котором содержались обвинения в адрес Мао, «недооценивающего текущую глобальную ситуацию». В письме Хрущев объяснял свое намерение продолжать курс на мирное сосуществование с новым президентом Соединенных Штатов.
Мао не было в Бухаресте; китайскую делегацию возглавлял Пэн Чжэнь, легендарный коммунист, участвовавший в захвате Пекина коммунистами в 1949 году [8].
Пэн потряс делегатов свирепостью нападок на Хрущева; для подкрепления своих слов он распространил среди делегатов копию письма, отправленного советским лидером Мао в этом году. Письмо произвело шокирующее впечатление по двум причинам: Хрущев, не стесняясь в выражениях, изливал злобу на Мао, а китайцы нарушили конфиденциальность частной переписки.
Делегаты еще никогда не видели Хрущева в таком гневе. Он называл отсутствующего Мао «ультралеваком», «ультрадогматиком», «левым ревизионистом», «буддой, который сидит и высасывает теории из пальца» и «старой калошей». Кроме того, обвинил его в том, что тот «не считается ни с чьими интересами, кроме своих собственных».
На это Пэн ответил, что теперь понятно, что Хрущев организовал встречу в Бухаресте только для того, чтобы критиковать Китай. Он осудил переменчивую тактику Хрущева в отношении империалистических держав и с усмешкой заявил, что Хрущева во внешней политике бросает то в жар, то в холод.
Хрущев страшно разозлился. Ослепленный гневом, он отдал приказ, разом уничтоживший все связи с Китаем, которые налаживались годами. В течение месяца, заявил Хрущев, он отзовет из Китая 1390 советских специалистов и советников, разорвет 343 контракта, прервет 257 совместных проектов. Были заморожены десятки исследовательских и конструкторских проектов.
Как бы то ни было, но участники совещания в Бухаресте, стараясь скрыть от Запада правду, приняли коммюнике, в котором ничего не говорилось о столкновении коммунистических лидеров. Но это было труднее скрыть на следующем международном совещании, состоявшемся в Москве в ноябре того же года, на котором присутствовали многие из тех, кто был в Бухаресте. Однако совещание было более многочисленным и представительным.
В результате предварительно проведенной Хрущевым работы и умасливания во время совещания только дюжина делегаций из восьмидесяти одной прибывшей в Москву поддержали позицию китайской делегации, выразившей несогласие с курсом Хрущева. Хотя оппозиция была незначительной, это был беспрецедентный случай.
Мао не приехал в Москву, и за закрытыми дверями в Георгиевском зале Кремля в борьбу вступили Хрущев и генеральный секретарь ЦК КПК Дэн Сяопин. Хрущев назвал Мао «поджигателем войны, страдающим манией величия». Он заявил: «Если вам нужен Сталин, забирайте у нас его гроб! Мы пришлем вам его в специальном вагоне!»
Дэн подверг критике речь советского лидера, заявив, что «очевидно, Хрущев сам не знает, что говорит, как он это часто делает». Никто и никогда не наносил такого оскорбления признанному лидеру коммунистического движения на его собственной территории. Новый союзник Мао, албанский лидер Энвер Ходжа, выступил с особо резкой критикой. Он заявил, что, желая добиться поддержки своей антикитайской политики, Хрущев шантажировал Албанию и пытался морить голодом его страну (советские власти отказались поставить Албании зерно, хотя знали о тяжелом положении в стране, вызванном засухой).
В конечном счете Советский Союз и Китай договорились о перемирии. Китайцы неохотно согласились с хрущевским принципом мирного сосуществования с Западом в обмен на согласие советского лидера увеличить помощь развивающимся странам.
Советский Союз возобновил помощь Китаю; продолжились работы на 66 из 155 незаконченных промышленных объектов. Однако Мао не получил то, что он хотел более всего: советские технологии. Янь Минфу, переводчик Мао, рассматривал соглашение исключительно как «временную меру. В конце концов, события уже вышли из-под контроля».
Решив таким образом вопрос с китайцами, Хрущев ринулся защищать свой восточногерманский фланг.
Кремль, Москва
Среда, 30 ноября 1960 года
Ульбрихт скептически слушал Хрущева, излагавшего свою стратегию управления Кеннеди и Берлином в 1961 году. За два месяца восточногерманский лидер направил Хрущеву три письма; в них он подверг критике неспособность Хрущева принять действенные меры по решению экономических проблем Восточной Германии и по вопросу беженцев.
Потеряв надежду, что Хрущев в ближайшее время предпримет действия по Берлину, Ульбрихт решил действовать самостоятельно. Первым делом Восточная Германия потребовала, чтобы аккредитованные в Западной Германии дипломаты получали у восточногерманских властей разрешение на въезд в Восточный Берлин и Восточную Германию; один из примеров этой непримиримой позиции – случай с Уолтером К. Доулингом, американским послом в Западной Германии, которого заставили покинуть Восточный Берлин. Действия восточногерманского руководства противоречили усилиям советского правительства по укреплению дипломатических и экономических связей с Западным Берлином и Западной Германией. 24 октября Хрущев приказал Ульбрихту отменить введенный им пограничный режим. Ульбрихт неохотно согласился, и отношения между ними обострились.
Советский посол в Восточном Берлине, Михаил Первухин, сообщил Хрущеву и министру иностранных дел Андрею Громыко, что Ульбрихт довольно часто не выполняет указания Кремля. Второй секретарь советского посольства, А.П. Казеннов, телеграфировал в Москву, что восточные немцы могут закрыть границу, чтобы остановить поток беженцев. Первухин сообщил в Москву, что восточногерманский лидер продемонстрировал «негибкость», ограничив движение между двумя частями города.
Ульбрихт создал Национальный совет обороны, который сам же и возглавил. 19 октября новый совет обсудил возможные меры по закрытию границы, через которую утекал поток беженцев. Хотя на Западе Ульбрихта считали советской марионеткой, восточногерманский лидер все больше пытался использовать свое влияние на Москву.
В очередном письме Хрущеву от 22 ноября Ульбрихт выражал недовольство тем, что Советы сидят сложа руки, в то время как рушится его экономика, усиливается отток беженцев, предприятия Западного Берлина работают на оборону Западной Германии. Ульбрихт заявил Хрущеву, что Москва должна изменить курс. Если мы будем дожидаться, пока Хрущев организует встречу с Кеннеди, утверждал Ульбрихт, то это будет только играть на руку американцам.
Хрущев заверил скептически настроенного Ульбрихта, что ускорит решение вопроса по Берлину с администрацией Кеннеди. Он объяснил, что не хочет организовывать встречу глав четырех держав, а собирается встретиться с Кеннеди с глазу на глаз, поскольку так он сможет скорее достичь своей цели. Он объяснил Ульбрихту, что если Кеннеди в первые месяцы прихода к власти не продемонстрирует готовности прийти к разумному соглашению, то он, Хрущев, предъявит ультиматум.
Уверенное заявление Хрущева о скором решении берлинской проблемы взбодрило недоверчивого Ульбрихта. Однако восточногерманский лидер предупредил Хрущева, что теряет веру в его обещания. «Люди стали поговаривать, что вы только говорите о мирном договоре, но ничего не делаете. Нам следует помнить об обещаниях», – сказал он Хрущеву. Восточногерманский клиент читал нотации своему советскому хозяину.
Ульбрихт хотел, чтобы Хрущев понял, что время уходит. «Ситуация в Берлине осложнилась не в нашу пользу», – сказал он. Укрепляется экономика Западного Берлина; ежедневно около 50 тысяч жителей Восточного Берлина пересекают границу – они работают на Западе за более высокую заработную плату. Постоянно увеличивающаяся разница в уровне жизни между Западом и Востоком приводит к росту напряженности в Восточном Берлине.
«Мы не предпринимаем никаких контрмер, – негодовал Ульбрихт. – Мы проигрываем битву за умы интеллигенции, которая бежит на Запад». Ульбрихт объяснил Хрущеву, что не может соперничать с Западом, поскольку учителя в Западном Берлине получают в месяц примерно на 200–300 марок больше, чем учителя в Восточном Берлине, а у врачей зарплата вдвое больше, чем у их восточных коллег. Мало того, даже если бы у восточных немцев были высокие зарплаты, то у него нет возможности выпускать необходимое количество товаров народного потребления.
Хрущев пообещал, что будет продолжать оказывать экономическую помощь Восточной Германии.
Чем мог помочь советский лидер? Возможно, ему следовало привести советские ракеты в боевую готовность, когда он пытался добиться изменения статуса Берлина, но он был уверен, что Запад не начнет войну из-за города. «К счастью, наши противники пока еще не сошли с ума», – сказал он. Если Кеннеди не будет вести переговоры, сказал Хрущев Ульбрихту, то «я буду действовать в одностороннем порядке, и пусть они увидят свое поражение».
С раздраженным вздохом Хрущев сказал Ульбрихту: «Мы как-то должны покончить с этой ситуацией».
Глава 3. Кеннеди: воспитание, образование, культура президента
Мы можем жить в Берлине, но не можем брать на себя инициативу изменять положение к лучшему. Советы и восточные немцы, в большей или меньшей степени, могут изменить положение к худшему.
Мартин Хилленбранд, заведующий отделом государственного департамента, памятная записка президенту Кеннеди, январь 1961 годаТак начнем же заново, притом что обе стороны будут помнить, что вежливость никогда не является признаком слабости, а искренность всегда подлежит проверке.
Президент Кеннеди, инаугурационная речь, 20 января 1961 годаОвальный кабинет, Белый дом, Вашингтон, округ Колумбия
Утро вторника, 19 января 1961 года
Самый старый президент в истории Соединенных Штатов полагал, что пришло время познакомить самого молодого из избранных президентов с частью работы, вызывающей наибольший страх. Накануне инаугурации, когда до нее оставалось меньше двадцати четырех часов, президент Дуайт Д. Эйзенхауэр, которому было семьдесят лет, должен был вручить сорокатрехлетнему сенатору Джону Ф. Кеннеди американскую ядерную игрушку, передав самую разрушительную силу, которой когда-либо обладала одна страна.
Эйзенхауэр боялся, что ошибки в расчетах многочисленных американо-советских мест, находившихся на грани войны, самым опасным из которых являлся Берлин, могут вызвать ядерный обмен. Эйзенхауэр планировал отвести Кеннеди в сторону для личной беседы, чтобы поговорить о том, как будет вестись такая война, показать и рассказать, как использовать атрибуты самого влиятельного человека в мире.
Эйзенхауэр волновался, что Кеннеди не готов к такой ответственности. В разговорах со сторонниками Эйзенхауэр называл Кеннеди «этот мальчик консерватор» и «самонадеянный мальчишка». Будучи Верховным главнокомандующим союзными войсками в Европе на протяжении двух последних лет Второй мировой войны, Эйзенхауэр руководил вторжением и оккупацией Франции и Германии. Кеннеди, будучи лейтенантом ВМС США, не командовал ничем более значительным, чем торпедный катер PT-109; эскадры таких катеров, из-за малых размеров, получили название «москитный флот».
Кеннеди действительно был награжден как герой войны за спасение одиннадцати моряков из своей команды, правда, после того, как почему-то позволил японскому эсминцу протаранить свой РТ-109. Боевые товарищи Эйзенхауэра не поверили в объяснения, что «было темно, дымно», и подозревали Кеннеди в преступной неосторожности.
Эйзенхауэр сомневался, что молодой Кеннеди мог бы стать президентом, если бы не богатство отца, Джозефа Кеннеди-старшего, и неумеренное отцовское честолюбие. Во время войны Джо-старший поставил задачу перед своим кузеном Джо Кэйном, бостонским политиком, заложить основу политической карьеры двух старших сыновей, Джо и Джека. Кроме того, Джозеф-старший рассказал историю о храбрости, проявленной Джеком, писателю и другу семьи Джону Херси. Эта история, которую Херси опубликовал сначала в «Ридер дайджест» а затем в «Ньюйоркер», помогла Джеку начать политическую карьеру. Спустя год после возведения Джека в ранг героя войны Джо-младший погиб во время пилотирования тяжелого бомбардировщика, используемого в качестве высокоточного управляемого снаряда для поражения хорошо укрепленных немецких бункеров. Он должен был взлететь, набрать высоту, активировать систему дистанционного управления, взвести взрыватели и выпрыгнуть с парашютом. Он поднял в воздух бомбардировщик B-24 «Либерейтор», но до цели, немецкой базы Фау-3, не долетел – самолет взорвался в небе над Англией. Те, кто хорошо знал эту семью, задавались вопросом, не была ли его смерть результатом соперничества с родным братом. Возможно, стремление обойти младшего брата (который к тому времени уже получил награды) стоило Джо-младшему жизни.
Холодным пасмурным утром Джон Кеннеди выехал из своего дома в Джорджтауне и в 8:57 остановился у Белого дома. Редкая точность для Кеннеди, который обычно опаздывал. Утренние газеты пестрели семейными фотографиями семьи Кеннеди и жен министров в изящных бальных платьях. Закончилась эпоха Эйзенхауэра. Генерал Томас С. Пауэр, командующий стратегической авиацией, объявил, что США будут проводить круглосуточные полеты бомбардировщиков с ядерным оружием, чтобы, постоянно находясь в состоянии боевой готовности, иметь возможность отразить внезапную атаку.
Перед встречей легендарный вашингтонский юрист советник Кеннеди Кларк Клиффорд [9] направил в администрацию Эйзенхауэра перечень наиболее сложных вопросов, которые хотел бы обсудить Кеннеди: Лаос, Алжир, Конго, Куба, Доминиканская Республика, Берлин, разоружение и переговоры о ядерных испытаниях, основные положения фискальной и монетарной политики и «оценка военных требований в сравнении с возможностями».
Когда Кеннеди обосновался в Овальном кабинете, то более всего его интересовал именно последний вопрос, поскольку он не знал, что делать, если начнется ядерная война. Он вообще не был уверен, что он сам и американский народ – избиратели, проголосовавшие за его избрание, – готовы выполнить торжественное обещание защищать Берлин, если это обещание приведет к ядерной войне, которая может унести жизни миллионов американцев.
После первой встречи, состоявшейся 6 декабря, Эйзенхауэр пересмотрел свое мнение о Кеннеди. Эйзенхауэр сказал демократу Джорджу Э. Аллену, другу Клиффорда, что «был неправильно информирован и ошибался относительно этого молодого человека. Он – один из самых способных, самых ярких людей, с которыми я когда-либо сталкивался». Эйзенхауэра, которого по-прежнему беспокоила молодость и недостаток опыта, порадовало, как быстро Кеннеди ухватил суть проблем, с которыми ему предстоит столкнуться.
А вот Айк, которого Кеннеди в разговорах с друзьями называл «старым дураком», разочаровал новоизбранного президента. Он сказал младшему брату Бобби, которого назначит генеральным прокурором, что уходящий в отставку президент тяжело соображает и недостаточно информирован о проблемах, в которых должен хорошо разбираться.
Кеннеди считал, что правительству Эйзенхауэра немногого удалось добиться, и очевидным доказательством служит берлинский вопрос. Он планировал добиться более значительных результатов, взяв в качестве образцов для подражания Авраама Линкольна и Франклина Рузвельта. Французский посол Эрве Альфан, сравнивая Эйзенхауэра с Кеннеди, нашел, что вновь избранный президент «обладал прекрасной памятью на факты, имена, лица, историю; он полностью владел вопросами, которые обсуждал… стремился многое сделать для своей страны и для всего мира, другими словами, был великим президентом».
На пути к величию у него было два больших препятствия: победа на выборах с самым незначительным преимуществом начиная с 1886 года и тот факт, что шанс Линкольну и Рузвельту занять свое место в истории дала война, которой требовалось избежать, поскольку теперь в современном мире она бы закончилась не чем иным, как ядерным холокостом.
Кеннеди удивило, что он одержал на выборах незначительную победу над таким человеком, как Никсон, которого считал таким непривлекательным. «Как мне удалось победить этого парня с перевесом всего в сто тысяч голосов?» – удивленный результатами выборов, сказал Кеннеди другу Кеннету О’Доннеллу, который стал его доверенным помощником в Белом доме.
И у него не было крепких связей в верхах. Хотя демократы имели большинство мест в конгрессе, но потеряли одно место в сенате и двадцать одно место в палате представителей.
Южные демократы, набравшие большинство, объединились с республиканцами, заняв жесткую позицию в отношении Берлина и Советского Союза. Кеннеди, вероятно, не смог бы одержать победу, если бы его выборная кампания не была более воинственной по отношению к Москве, чем кампания Никсона. Кроме того, Кеннеди, возможно, для того, чтобы не допустить опубликования дискредитирующей информации о своем прошлом, принял нешаблонное решение, оставив на своих постах директора ЦРУ Аллена Даллеса и директора ФБР Эдгара Гувера. Выявилось удивительное сходство между Кеннеди и Хрущевым: их народы добивались от них скорее конфронтации, чем примирения.
Его победа над Никсоном с небольшим преимуществом заставила Кеннеди во время этой встречи с особым вниманием наблюдать за Эйзенхауэром, поскольку он понимал, что может многому научиться у человека, над которым одержал победу; уходящий в отставку Эйзенхауэр, который провел на посту президента США два срока, пользовался огромной популярностью. Он отличался спокойствием, выдержкой, был прост и доступен в общении. Кеннеди требовалось как можно скорее добиться популярности, чтобы решить все стоявшие перед ним проблемы.
В переходный период во время брифингов по ядерной стратегии ничто не волновало Кеннеди больше, чем факт, что Эйзенхауэр оставил ему столь ограниченный выбор средств для ведения войны. Если русские захватят Берлин, у Кеннеди не остается иного выбора, как вступить в обычную войну, которую Советы обязательно выиграют, или развязать всеобщую ядерную войну, которую не хотят развязывать ни он сам, ни союзники Соединенных Штатов. Исходя из этих соображений казалось, что в первую очередь во время этой последней встречи перед инаугурацией должен был рассматриваться берлинский вопрос.
Вместо этого основное внимание было сосредоточено на ожесточенной войне в Лаосе; существовала опасность, что эту страну, а за ней и остальные страны Юго-Восточной Азии могут захватить коммунисты. Хотя кризис в Берлине имел большое значение, Кеннеди объяснили, что это замороженный конфликт, а потому сначала ему лучше направить свою энергию на решение других вопросов.
Документ, составленный в переходный период командой Эйзенхауэра для Кеннеди, доводил до сведения нового президента – человека, который гордился своими широкими взглядами, – все мелкие проблемы относительно Берлина, которые он не должен упускать из виду, все, от подробных договоренностей, гарантирующих свободный вход в Западный Берлин и выход из него, до множества оговоренных четырьмя державами условий, защищающих права жителей Западного Берлина и присутствие союзников.
«Текущая советская тактика, – говорилось в документе, – направлена на захват Берлина путем сведения на нет позиции Запада, используя каждый незначительный инцидент, чтобы продемонстрировать несостоятельность наших позиций, чтобы показать, что реальная проблема состоит в сохранении свободного Берлина. Наша непосредственная задача заключается в противостоянии этой «тактики поэтапных мероприятий»… Мы испробовали все возможные способы, чтобы убедить Советы, что в крайнем случае будем сражаться за Берлин». В документе подчеркивалось, что в скором времени вновь избранный президент столкнется с усилиями Хрущева, стремящегося добиться вывода войск западных союзников из города, по возобновлению переговоров по Берлину.
Однако команда Эйзенхауэра не могла предложить Кеннеди ничего конкретного относительно того, как ему наиболее эффективно действовать в данных обстоятельствах, кроме того, чтобы просто упорно стоять на своем. «Никто еще до сих пор не смог разработать приемлемую формулу для решения берлинской проблемы, не связанную с решением вопроса по Германии в целом», – говорилось в документе. В настоящий момент Соединенные Штаты считают, что в будущем свободные выборы в Западной и Восточной Германии приведут к объединению Германии, и никто не предвидел, что это произойдет в ближайшее время, если вообще произойдет. Таким образом, говорилось в документе, «основная тактика Запада состоит в том, чтобы выиграть время и продемонстрировать решимость защищать Западный Берлин. Проблема еще и в том, что СССР уверен, что у западных держав есть желание и средства для удержания их позиции».
Мартин Хилленбранд, заведующий отделом государственного департамента, более остро обозначил этот вопрос в своей памятной записке. Он возглавлял группу специалистов по решению берлинской проблемы, созданную Эйзенхауэром после того, как в 1958 году Хрущев выдвинул ультиматум. В состав группы входили представители большинства отделов американского правительства и французский, британский и немецкий послы; совещания, на которых обсуждались проблемы, как большие, так и маленькие, проходили почти ежедневно.
«Мы можем жить в Берлине, но не можем брать на себя инициативу изменять положение к лучшему. Советы и восточные немцы, всякий раз, когда они готовы к политическим последствиям, могут, в большей или меньшей степени, изменить положение к худшему», – написал он в памятной записке, адресованной Кеннеди.
Кеннеди получал разнообразную информацию из многочисленных источников, помимо сообщений, связанных с Берлином, в которых советники просили его защищать статус-кво. Это шло вразрез с его интуицией и обещаниями электорату направить усилия на решение проблем, которые не смогла решить администрация Эйзенхауэра. Взвесив все за и против, Кеннеди решил отложить на время берлинский вопрос и заняться вопросами, по которым, как ему казалось, он мог быстрее достигнуть договоренности.
Таким образом, Кеннеди решил в первую очередь добиться проведения переговоров с Москвой относительно запрещения испытаний ядерного оружия; он считал, что это поможет ослабить напряжение, привести к потеплению американо-советских отношений. Кеннеди рассуждал следующим образом: с помощью переговоров о запрещении испытаний он улучшит отношения между США и СССР, а затем сможет вернуться к более трудному вопросу относительно Берлина. Этот вопрос станет источником самых острых разногласий между Кеннеди и Хрущевым.
Еще до прихода в Белый дом, выяснив, что позиция нынешнего президента по Берлину не является жесткой, Кеннеди, являясь сенатором и кандидатом в президенты, использовал эту информацию. В феврале 1959 года он обратился к администрации Эйзенхауэра с предложением приложить больше усилий для подготовки Америки к «чрезвычайно серьезной» перспективе окончательного урегулирования с помощью силы спорного вопроса о Западном Берлине.
В августе 1959 года, в ходе подготовки к участию в президентской гонке, Кеннеди заявил, что готов использовать атомную бомбу для защиты Берлина, и обвинил Советы в попытке выдворить американцев из Германии. «Наше положение в Европе стоит ядерной войны, потому что если вас выдворят из Берлина, то выдворят из Германии, – сказал Кеннеди в телевизионном интервью в Милуоки. – И если вас изгонят из Европы, то изгонят из Азии и Африки, а затем придет наше время… Вы должны заявить о своей готовности использовать абсолютное оружие».
В июне 1960 года в статье, опубликованной в газетах Херста спустя несколько часов после победы на съезде Демократической партии, Кеннеди подчеркнул, что «следующий президент должен объяснить Хрущеву, что не будет политики умиротворения – ни отказа от свободы жителей Берлина, ни отступления от жизненных принципов».
Однако длинным был путь от призыва к «готовности» в Милуоки в качестве энергичного сенатора и заявления об отказе от «политики умиротворения» в качестве выдвинутого кандидата до использования ядерного оружия в качестве президента. Увеличивался советский ядерный потенциал – и Москва сохраняла преимущественное право на Берлин.
У президента в Западном Берлине численность войск составляла всего 5 тысяч человек – вместе с 4 тысячами британцев и 2 тысячами французов численность войск союзников составляла 11 тысяч человек, – в то время как, по оценке ЦРУ, численность советских войск в Восточной Германии составляла 350 тысяч человек.
Последние Национальные разведывательные оценки [10] – авторитетная оценка разведывательного сообщества Соединенных Штатов – относительно возможностей Советского Союза с беспокойством сообщали об изменении стратегических тенденций, которые могли подорвать позиции США в Берлине к концу первого срока Кеннеди.
Предсказывалось, что к 1965 году Советский Союз ликвидирует стратегическое неравенство, прежде всего благодаря созданию межконтинентальных баллистических ракет и оборонительных систем. А тогда Советский Союз бросит вызов Западу в Берлине и в других местах по всему миру.
Документ ЦРУ предупреждал Кеннеди о неровном характере Хрущева, который будет использовать «давление и изменять договоренности, что является обычным примером поведения советских руководителей». Предполагалось, что в начале правления Кеннеди Хрущев будет играть роль просителя, но если это не сработает, то «перейдет к усиленному давлению и угрозам, в попытке заставить Запад начать переговоры на высшем уровне в более благоприятных условиях».
Эйзенхауэр более подробно проинформировал Кеннеди о положении в Лаосе. Трехсторонняя гражданская война между коммунистами Патет Лао, прозападными роялистами и нейтралистами давала возможность коммунистам взять власть в свои руки. Опасность не вызывала сомнений: первые недели пребывания Кеннеди у власти будут потрачены на бои в крошечной, нищей стране, которая мало интересовала Кеннеди. Меньше всего Кеннеди хотелось, чтобы его первой внешнеполитической инициативой стала отправка войск в Лаос. Он бы предпочел, чтобы правительство Эйзенхауэра решило эту проблему до ухода в отставку. Но поскольку это не было сделано, Кеннеди хотел узнать мнение Эйзенхауэра и о том, как ведется подготовка к военному вмешательству.
Эйзенхауэр сравнивал Лаос с «пробкой», которую необходимо выбить, местом, где требуется вмешательство Соединенных Штатов, даже в одностороннем порядке, чтобы не позволить коммунистической заразе распространиться на Таиланд, Камбоджу и Южный Вьетнам. Эйзенхауэр выразил сожаление, что оставил это дело незавершенным.
Спокойствие Эйзенхауэра при обсуждении военных сценариев поразило Кеннеди. Но более всего на него произвел впечатление пятидесятиминутный урок об использовании ядерного оружия, который Эйзенхауэр провел для вновь избранного президента. В Овальном кабинете, куда Эйзенхауэр привел Кеннеди, уже практически не было его личных вещей. В углу лежало несколько коробок и ковер со следами от мячей для гольфа.
Эйзенхауэр ознакомил Кеннеди с вопросами начиная от текущих тайных операций до операций в чрезвычайных обстоятельствах, входивших в непосредственную компетенцию первого лица: как отвечать на прямое нападение и дать разрешение на использование ядерного оружия. Эйзенхауэр показал Кеннеди «ядерный чемоданчик» и объяснил принцип его работы – этот так называемый футбольный мяч всегда находился рядом с президентом [11].
В ядерный век трудно было представить более дружескую встречу президента уходящего в отставку и вновь избранного.
Эйзенхауэр ни словом не обмолвился об ошибочных заявлениях Кеннеди во время избирательной кампании относительно того, что уходящий в отставку президент допустил опасное «ракетное отставание» от Советского Союза. Тогда Эйзенхауэр не стал поправлять Кеннеди; он предпочитал не предавать гласности секреты национальной безопасности и не хотел, чтобы у Кремля появился предлог для дальнейшего наращивания темпов вооружения.
Однако теперь Эйзенхауэр заверил Кеннеди, что Соединенные Штаты по-прежнему обладают подавляющим военным превосходством, в особенности благодаря подводным лодкам, вооруженным ракетами с ядерными боеголовками.
«Поларис» дают вам несравнимое преимущество. Они неуязвимы», – сказал Эйзенхауэр.
«Поларис» может достигнуть Советского Союза с необнаруженных позиций в разных океанах, пояснил Эйзенхауэр. Русские должны быть безумцами, сказал он, чтобы отважиться на ядерную войну. Однако если судить о советских лидерах по жестокости, направленной против собственного народа и противников во время и после Второй мировой войны, то отсутствие превосходства в ядерном оружии может не явиться препятствием для фанатичных коммунистов, которые при благоприятных обстоятельствах развяжут войну. Эйзенхауэр говорил о русских скорее как о животных, которых следует усмирить, чем о партнерах, с которыми можно вести переговоры.
В завершение встречи Эйзенхауэр, как ребенок, хвастающийся любимой игрушкой перед новым другом, продемонстрировал Кеннеди, насколько быстро в случае крайней необходимости президент может вызвать вертолет.
«Смотрите», – сказал Эйзенхауэр.
Он снял трубку, набрал номер и произнес: «Опал тренировка три».
Положив трубку, он с улыбкой попросил Кеннеди свериться с часами.
Не прошло и пяти минут, как на лужайку перед Белым домом приземлился вертолет корпуса морской пехоты. Он сел всего в нескольких минутах ходьбы от того места, где находились бывший и новоизбранный президенты. Когда они вернулись в зал совещаний, где их дожидались люди, занимавшие самое высокое положение в стране, Эйзенхауэр пошутил: «Я показал своему другу, как можно быстро выбраться отсюда».
В присутствии собравшихся Эйзенхауэр предупредил Кеннеди, что президентская власть не всегда будет такой волшебной палочкой.
Кеннеди улыбнулся в ответ. Позже пресс-секретарь Эйзенхауэра рассказал, что Кеннеди проявил большой интерес к «учебному заходу на цель». Хотя на Кеннеди лежала большая ответственность, возможности, которыми он вскоре будет обладать, опьяняли. Отъехав от Белого дома, он оглянулся и посмотрел на здание, которое очень скоро должно было стать его домом.
Вашингтон, округ Колумбия
День инаугурации, пятница, 20 января 1961 года
Снег пошел в полдень, вскоре после того, как закончилась встреча Кеннеди с Эйзенхауэром. Накануне инаугурации Вашингтон оказался во власти ненастной погоды. Возникли заторы и пробки. Инаугурационный концерт в Конституционном зале начался на полчаса позже, поскольку многие музыканты застряли в пробках. С двухчасовой задержкой начался гала-концерт с участием звезд, организованный в честь инаугурации Фрэнком Синатрой.
К утру 20 января, выдавшемуся ясным, холодным и солнечным, батальон солдат и снегоуборочная техника очистили дорогу от снега, глубиной двадцать сантиметров. Ясный солнечный день и безоблачное небо обеспечили отличное освещение самому необычному и широко транслируемому по телевидению инаугурационному шоу в истории. Потребовалось 140 тысяч футов кабеля, чтобы вести съемку инаугурации, начиная с момента принесения присяги до парада, с тридцати двух точек. Для экстренной связи репортеров и корреспондентов было установлено около шестисот дополнительных телефонов. Кеннеди станет самым наиболее часто появляющимся на телевизионном экране президентом в истории Соединенных Штатов, и его администрация будет отличаться от правительств предшественников.
Накануне инаугурации, ехал ли Кеннеди в лимузине вместе с женой Джеки, принимал ли вечером ванну и после четырехчасового ночного сна наутро в день инаугурации во время завтрака новоизбранный президент вновь и вновь перечитывал последнюю версию инаугурационной речи. Он использовал любую возможность, чтобы как можно глубже вникнуть в каждое из тщательно подобранных 1355 слов; еще ни одна из его речей не готовилась столь долго и скрупулезно.
В ноябре прошлого года Кеннеди сказал своему главному спичрайтеру, Теду Соренсену, что речь должна быть короткой, оптимистичной, в ней не должно быть критики предшественника и должен делаться акцент на внешней политике. Однако когда оставалась всего неделя до выступления и работа над последним вариантом речи шла полным ходом, Кеннеди пришел к выводу, что речь все-таки слишком длинная и, на его взгляд, в ней уделяется больше внимания вопросам внутренней, а не внешней политики. «Давай сократим ту часть, которая относится к внутренним проблемам. А то она получилась слишком затянутой, – сказал Кеннеди Соренсену. – К чему говорить о минимальной заработной плате?»
Намного сложнее было решить, какое сообщение послать Хрущеву. Хотя ядерная война с Советами была чем-то совершенно невероятным, казалось немыслимо вести переговоры о справедливом мире. Кеннеди участвовал в президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии, которая все еще не могла прийти к единому решению по вопросу о наилучшем способе общения с Советским Союзом – переговоры или конфронтация.
Дин Ачесон, занимавший пост государственного секретаря в администрации президента Трумэна, представлял в Демократической партии группу сторонников жесткой линии, убежденных, что Хрущев, являясь продолжателем политики Сталина, преследует цель мирового господства. Некоторые демократы, такие как Эдлай Стивенсон, Аверелл Гарриман и Честер Боулс, рассматривали Хрущева как истинного реформатора, основная цель которого состояла в том, чтобы сократить военный бюджет и повысить жизненный уровень советских людей.
Инаугурационная речь Кеннеди отражала его нерешительность относительно того, будет ли он делать историю, встав на путь конфронтации с Советским Союзом или заключив с ним мир. Подобную нерешительность Кеннеди демонстрировал с первых дней в ответ на многочисленные попытки Хрущева, задействовавшего множество каналов, установить личный контакт и договориться о скорейшей встрече на высшем уровне.
1 декабря 1960 года Кеннеди передал личное послание советскому лидеру с просьбой сохранять терпение через своего брата Роберта, который встретился с офицером КГБ, представлявшимся корреспондентом газеты «Известия» в Нью-Йорке. Тридцатипятилетний Роберт Кеннеди, руководитель предвыборной кампании и будущий генеральный прокурор, был самым доверенным лицом президента, и потому у офицера КГБ не было никаких причин сомневаться, когда Бобби сказал, что говорит от имени брата.
Советский корреспондент не стал направлять материал в газету, а отправил отчет о встрече своему непосредственному начальству в КГБ, которое, по всей видимости, передало его Хрущеву как свидетельство выбранного администрацией Кеннеди курса внешней политики. В ходе разговора Бобби сообщил, что президент будет уделять большое внимание американо-советским отношениям. Президент считает, сказал Бобби, что в ближайшие годы они могут и должны улучшиться. Он намерен уделить особое внимание проблемам разоружения и рассчитывает подписать договор о запрещении ядерных испытаний уже в 1961 году. Роберт сказал, что Кеннеди разделяет желание Хрущева встретиться с глазу на глаз и надеется, что его отношения с советским лидером будут лучше тех, которые были у Хрущева с Эйзенхауэром.
Однако Хрущев был недоволен тем, что Кеннеди не спешит с решением берлинского вопроса. Бобби объяснил, что вновь избранному президенту понадобится порядка двух-трех месяцев, прежде чем он сможет принять участие в саммите. «Кеннеди серьезно обеспокоен ситуацией в Берлине и сделает все возможное для достижения соглашения по берлинской проблеме. Однако если в ближайшие несколько месяцев Советский Союз будет оказывать давление, то Кеннеди, естественно, будет защищать позицию Запада», – говорилось в отчете сотрудника КГБ.
Несмотря на это, Хрущев продолжал настаивать на необходимости как можно скорее организовать встречу на высшем уровне. Спустя несколько дней, 12 декабря, посол Михаил Меньшиков пригласил Роберта Кеннеди на обед в советское посольство в Вашингтоне. Посол, которого американские чиновники прозвали «улыбчивым Майком», с его ограниченным интеллектом и невероятной самоуверенностью, играл комическую роль. Как-то на приеме он произнес на своем ломаном английском тост, оскорбивший присутствовавших на приеме женщин. Однако тот факт, что он напрямую получал указания от Хрущева, заставлял даже его критиков серьезно относиться к таким приглашениям.
Меньшиков стал убеждать Бобби, что недоразумения между их странами зачастую возникали в результате того, что лидеры США и СССР возлагали решение ключевых проблем на чиновников среднего уровня. Он сказал, что Кеннеди и Хрущев – уникальные люди, которые вместе способны найти способ обойти бюрократию, чтобы достигнуть исторических результатов. Он сумел убедить Бобби заставить брата согласиться с необходимостью встречи, в ближайшее время, лидеров двух стран для установления «дружеских отношений и взаимопонимания».
Спустя два дня после встречи с братом президента Меньшиков обратился почти с таким же предложением к любимому американцу Хрущева, Авереллу Гарриману, американскому послу в Москве при президенте Франклине Рузвельте. Еще через день Меньшиков продолжил свою кампанию по организации встречи Хрущева и Кеннеди, действуя через корреспондента «Нью-Йорк таймс» Гаррисона Солсбери, имеющего связи с влиятельными людьми. «Один целый день личных, неофициальных переговоров, проведенных Хрущевым и Кеннеди, намного важнее, чем все вместе взятые встречи их подчиненных», – сказал Меньшиков Солсбери.
Давление на Кеннеди оказал и его бывший соперник, дважды баллотировавшийся в президенты Эдлай Стивенсон, который пытался занять важный пост в правительстве. Стивенсон позвонил Кеннеди в дом его отца в Палм-Бич и предложил себя в качестве добровольного посредника, который может сразу после инаугурации вылететь в Москву для решения вопросов с Хрущевым. «Я думаю, важно понять, хочет ли он продолжать холодную войну», – сказал Стивенсон Кеннеди.
Кеннеди не поддался на уговоры. До съезда Демократической партии Стивенсон не поддерживал кандидатуру Кеннеди на пост президента, и это, вероятно, стоило ему должности государственного секретаря, которую Кеннеди рассматривал как поощрение. Кроме того, антикоммунисты на Капитолийском холме [12] считали бывшего губернатора штата Иллинойс миротворцем. А Кеннеди не желал руководить внешней политикой, находясь в чьей-то тени.
К тому же западногерманский канцлер Конрад Аденауэр ясно дал понять через просочившуюся в прессу информацию, что его более всего волнует, что правительство Кеннеди будет придерживаться такой же мягкой политики в отношении Москвы, как Стивенсон проводит свою внешнюю политику. В результате Кеннеди сделал Стивенсона послом в ООН и отказался от его предложения относительно посредничества в переговорах с Хрущевым.
Утомившись от давления с разных сторон, Кеннеди попросил своего друга Дэвида Брюса, которого назначил послом в Лондоне, помочь сформулировать ответ на протянутую Хрущевым руку. Брюс был опытным дипломатом, во время войны руководил американской разведывательной службой в Лондоне и был послом Гарри Трумэна в Париже.
5 января, после приема с обильными возлияниями в резиденции Меньшикова, советский посол передал Брюсу письмо (на обычном листе бумаги, без подписи), в котором, по его словам, он изложил свои мысли. В нем ясно говорилось: Хрущев настаивает на встрече на высшем уровне и пойдет на многое, чтобы она состоялась.
Меньшиков сказал Брюсу, что Хрущев верит, что при администрации Кеннеди две страны смогут «разрешить существующие опасные разногласия». Однако советский лидер считает, что они смогут ослабить напряженные отношения только после того, как эти две великие державы на высшем уровне договорятся о программе мирного сосуществования. Он сказал, что разговор будет вертеться вокруг «двух нерешенных вопросов» – достижение разоружения и «германский вопрос, включая Западный Берлин». Хрущев хотел встретиться с Кеннеди до того, как у новоизбранного президента состоится встреча с западногерманским канцлером Конрадом Аденауэром и британским премьер-министром Гарольдом Макмилланом, которая, как слышал Меньшиков, намечена на февраль – март.
Брюс сообщил советскому послу, что встречи с этими главными американскими союзниками произойдут позже, чем эта, и он надеется, что Кеннеди отступит от обычной практики проведения консультаций с союзниками перед встречей с противником. Меньшиков ответил, что Хрущев готов ускорить подготовку к этой встрече через личные или официальные каналы. После встречи Меньшиков, в качестве стимула, отправил Брюсу корзину с лучшей советской водкой и икрой. Спустя несколько дней он опять пригласил Брюса на обед, чтобы еще раз подчеркнуть необходимость скорейшей встречи лидеров двух держав.
За девять дней до инаугурации Кеннеди обратился к Джорджу Ф. Кеннану [13], которого он назначит послом в Югославии, за советом, как ему следует вести себя в условиях такого нажима со стороны русских.
С 1959 года Кеннеди консультировался по советским вопросам с Кеннаном, легендарным бывшим послом в Москве. В одном из писем Кеннеди похвалил Кеннана за то, что он противостоял «чрезвычайной непреклонности» по отношению к Москве Дина Ачесона, государственного секретаря в администрации президента Трумэна.
Телеграмма Кеннана из Москвы и последовавшая статья «Истоки советского поведения», опубликованная в журнале «Международные отношения» в июле 1947 года, в котором излагалась стратегия сдерживания, оказали большое влияние и определили американскую внешнюю политику в отношении СССР. Однако теперь Кеннан стал противником бескомпромиссного отношения к Москве. Он считал, что США и союзники стали достаточно могущественными, чтобы вступить в переговоры с Хрущевым, и выражал недовольство американскими милитаристами, извратившими его взгляды.
Во время предвыборной кампании Кеннан объяснил Кеннеди, что, как президент, он должен «усилить разногласия внутри советского блока путем улучшения отношений с Москвой», но не с помощью официальных встреч на высшем уровне и соглашений, а используя неофициальные каналы связи с советским правительством для достижения взаимных уступок. «Это трудно, но, повторяю, не невозможно», – заявил Кеннан. Он сказал, что такие контакты помогли в 1948 году положить конец блокаде Берлина и войне в Корее. В письме, датированном августом 1960 года, он настоятельно советовал Кеннеди, что после избрания его правительство должно «действовать быстро и решительно на начальном этапе, пока не запутается в процедурных хитросплетениях Вашингтона и до того, как ход событий не заставит его перейти к обороне».
В ответном письме Кеннеди сообщил, что согласен с большинством рекомендаций Кеннана. Однако теперь, когда он собирается стать президентом, ему хотелось бы более конкретных рекомендаций при личной встрече. Во время полета из Нью-Йорка в Вашингтон на личном самолете Кеннеди рассказал Кеннану обо всех письмах, которыми его завалили Советы, а затем показал письмо Меньшикова.
Кеннан хмурился, читая письмо. Исходя из жесткого и трудного языка, которым было написано письмо, он пришел к выводу, что в составлении письма принимали участие и те, кто был за установление более тесных отношений с США, и те, кто был против. И если раньше он советовал Кеннеди по возможности быстрее установить диалог с Москвой, то теперь сказал, что у советского правительства не было права так торопить его и что вновь избранный президент не должен вступать в переговоры до вступления в должность. Тем не менее Кеннан предложил Кеннеди встретиться с Хрущевым конфиденциально, нарушив обычай Эйзенхауэра почти всегда публично обмениваться мнениями с Хрущевым.
На вопрос Кеннеди, почему Хрущев так стремится встретиться с ним, Кеннан ответил со свойственной ему проницательностью, что инцидент с U-2 и советско-китайский конфликт ослабили позиции советского лидера и ему необходим прорыв в отношениях с США, чтобы изменить ситуацию. Хрущев, пояснил Кеннан, «надеется, что, используя свою индивидуальность и силу убеждения, сможет добиться соглашения с Соединенными Штатами и, таким образом, вернуть себе утраченные политические позиции».
Кеннеди пришел к выводу, что это объяснение поведения Хрущева является самым четким и убедительным из всех, которые он слышал. Это объяснение совпало с его собственным мнением, что внутренняя политика оказывает большее влияние на вопросы внешней политики, чем это представляет себе большинство американцев – даже в авторитарном Советском Союзе. Кеннеди было понятно, что Хрущев обращается за помощью, чтобы укрепить свои политические позиции на родине, но это было недостаточной причиной для того, чтобы Кеннеди начал действовать, предварительно не подготовившись. Избранный президент решил, что Хрущев может подождать – и Берлин тоже.
Таким образом, инаугурационная речь Кеннеди стала его первым общением с советским лидером по Берлину, правда косвенным, в котором приняли участие десятки миллионов людей. Самые впечатляющие слова на следующий день цитировали берлинские газеты: «Пусть каждая страна, желает ли она нам добра или зла, знает, что мы заплатим любую цену, вынесем любое бремя, пройдем через любое испытание, поддержим любого друга, воспрепятствуем любому врагу, утверждая жизнь и достижение свободы».
Однако возвышенная стилистика Кеннеди скрывала недостаток стратегического направления в отношении Советов. Кеннеди не торопился с решением всех проблем. Многократно переписывая речь, изменяя только нюансы, облекая свою нерешительность в более незабываемую форму и исключая формулировки спичрайтера Теда Соренсена, которые казались ему излишне мягкими в отношении Советов.
К примеру, в первом варианте была такая фраза: «…и при этом две великих и могучих страны не могут бесконечно следовать этим опрометчивым курсом, обе обремененные ошеломляющими расходами на современные вооружения».
Кеннеди не захотел называть курс Соединенных Штатов «опрометчивым» или нежизнеспособным. В окончательном варианте этот текст звучал следующим образом: «Но две великие и могучие группы стран не могут быть также удовлетворены и нынешним курсом, когда обе стороны чрезмерно обременены расходами на современные вооружения…»
Первоначально в речи были такие слова: «И если плоды сотрудничества оказываются более сладкими, чем яд подозрительности, пусть обе стороны объединятся в попытке создания истинного мироустройства – не американского мира, не русского мира, не даже равновесия сил, – а общего мира».
В конце концов Кеннеди отказался от «общего мира» с коммунистами, и окончательный вариант звучал следующим образом: «И если передовой отряд взаимодействия сумеет пробиться сквозь дебри подозрительности, пусть обе стороны объединятся в попытке создания не нового баланса сил, а нового мира, где царит закон, где сильный справедлив, а слабый в безопасности, где сохраняется мир».
Он не упоминал названий стран и городов – ни Советский Союз, ни Берлин, ни какой-либо другой город или страну. Немецкая газета «Вельт» оценила «новый ветер» из Америки, «резкий, но освежающий», хотя немцы отметили, что ни слова не было сказано о Берлине!
Кеннеди не называет никаких имен; он просто говорит о тех, «которые пожелают стать нашим противником», заменив слово «враг», по совету друга, обозревателя Вальтера Липпмана, на слово «противник». Кеннеди описывает проекты потенциального сотрудничества: «Будем вместе исследовать звезды, покорять пустыни, искоренять болезни, измерять океанские глубины, поощрять искусство и торговлю».
Речь была составлена таким образом, что понравилась сторонникам жесткой политики. Сенатор от Аризоны Барри Голдуотер восторженно аплодировал словам относительно достижения свободы любой ценой. Не достигнув успехов в организации встречи своего босса с Кеннеди, советский посол Меньшиков в неизменном сером пальто, в надвинутой на глаза серой шляпе и белом кашне безучастно присутствовал на всех мероприятиях знаменательного дня.
Таким же значительным, как его слова в этот день, был внешний вид Кеннеди, что было не менее важно. Мир попал под обаяние его харизматической улыбки, освещавшей лицо, загоревшее во время отдыха во Флориде перед инаугурацией. Внешне он выглядел здоровым: в день инаугурации он принял таблетки от боли в желудке и спине и дополнительную дозу кортизона, чтобы уменьшить припухлость, связанную с лечением болезни Аддисона. За четыре дня до инаугурации, глядя в зеркало, Кеннеди сказал своему секретарю Эвелин Линкольн о воздействии лечения. «Мой бог, взгляните на это опухшее лицо, – сказал Кеннеди. – Если я срочно не сброшу пять фунтов, то нам, вероятно, придется отменить инаугурацию».
Эвелин Линкольн следила, чтобы молодой президент вовремя принимал лекарства; Кеннеди был намного болезненнее Хрущева, который был старше его на двадцать три года. Кеннеди мог только надеяться, что сотрудники КГБ, интересующиеся всем, вплоть до истинного состояния его здоровья, никогда не узнают правды.
Команда Кеннеди решила покончить со слухами о его болезнях, и два врача выступили перед журналистами. Всего за два дня до инаугурации журнал «Тудей хилз» опубликовал на основе отчета, выпущенного командой Кеннеди, историю болезни избранного президента более подробно, чем любого из предыдущих президентов. В статье приводились слова врачей о его «превосходном физическом состоянии», которое позволяет ему «взвалить на себя трудности президентства». В статье отмечалось, что он преодолел свои болезни, и этот факт говорит о его крепости и выносливости. Он мало пьет, почти не курит, говорилось в статье; иногда позволяет себе за обедом стакан холодного пива, а из коктейлей пьет только «Дайкири». Он не курит сигареты и только время от времени выкуривает сигару. В статье авторитетно заявлялось, что, не прибегая к специальным диетам, он поддерживает вес 165 фунтов (около 75 кг), но в статье ничего не говорилось о том, что он предпочитает мягкую пищу из-за больного желудка.
Более внимательное прочтение вызывало много причин для беспокойства. В статье перечислялись его болезни, среди которых были почечные колики, приступы малярии и пояснично-крестцового радикулита и постоянные боли в позвоночнике. Болезнь Аддисона не упоминалась, но говорилось, что Кеннеди проходит лечение «надпочечной недостаточности и дважды в год проходит эндокринологическое обследование». В статье отмечалось, что у него левая нога короче правой, а это приводит к боли в спине, поэтому, чтобы ослабить боль, приходится делать обувь на заказ.
Вероятно, никогда еще в американской истории не было президента, имеющего цветущий вид, но на самом деле страдающего от множества болезней. Присутствовавшие на церемонии инаугурации были в теплых пальто и цилиндрах, а Кеннеди, несмотря на сильный мороз, во время принятия присяги снял пальто и цилиндр. На всем протяжении парада, длившегося более трех часов, он находился вместе с новым вице-президентом Линдоном Джонсоном на открытой трибуне.
На следующий день утренние газеты во всем мире написали о Кеннеди именно так, как ему хотелось. Корреспондентка вашингтонской газеты «Ивнинг стар» сравнила Кеннеди с героем Хемингуэя. «Он победил тяжелую болезнь. Он столь же изящен, как борзая, и может быть столь же ослепительным, как солнечный день».
Кеннеди быстро понял, что не имеет особого влияния на советского лидера Никиту Хрущева. Когда на следующее после инаугурации утро Кеннеди проснулся приблизительно в восемь часов в бывшей спальне Линкольна, то увидел, что поверх поздравительных телеграмм со всего мира лежит подарок к инаугурации из Москвы, который стал первым гамбитом в американо-советских отношениях в период его президентства. Хрущев, правильно выбрав момент, освободил двух летчиков самолета-разведчика RB-47, которые находились в советской тюрьме с прошлого лета.
Кеннеди вступил в советско-американскую область плетения интриг вокруг Берлина, города, в котором, как он быстро поймет, кажущиеся победы зачастую содержали скрытые опасности.
«Снайпер» возвращается к своим
4 января 1961 года
Дэвид Мерфи, директор Берлинской оперативной базы ЦРУ (сокращенно БОБ), жаждал историй с успешным концом, поэтому он испытал сильное волнение, когда узнал, что его самый ценный агент – польский агент под кодовым именем Снайпер (Heckenschütze) – позвонил во время рождественских каникул по секретному номеру, который ему дали на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Снайпер, понимая, что разоблачен, хотел дезертировать. «Вы готовы предоставить защиту мне и моей жене?» – спросил он.
Мерфи предупредил телефонисток, работавших на станции ЦРУ в Берлине, что если они пропустят звонок Снайпера на номер, закрепленный только за ним, то «будут на следующем судне отправлены домой». Абонент только сказал, что передает сообщение от имени герра Ковальского, код, с которого начинался ряд заранее подготовленных ответов. Снайпер хорошо продумал свой побег. Во-первых, он спрятал порядка трехсот сфотографированных документов, – включая списки с именами нескольких сотен польских агентов, – в Варшаве в тайнике в дупле дерева, растущего рядом с его домом. ЦРУ уже нашло эти ценные документы.
А сейчас в полдень 4 января старший офицер ЦРУ, прилетевший из Вашингтона, сидел в ожидании вместе с другими сотрудниками в американском консульстве в Берлине, где, как они обещали, Снайпер почувствует себя как дома. Консульство, открытое для гражданских лиц, удобно располагалось рядом со штаб-квартирой американских войск на Клей-аллее. Мерфи уже приготовил комнату, оборудованную микрофонами и звукозаписывающей аппаратурой, в которой предстояло выслушать доклад Снайпера.
Позже Мерфи вспоминал, что он и Джон Диммер, его заместитель, испытывали большее волнение, чем обычно в подобных экстраординарных случаях, в какой-то мере из-за того, что, получая на протяжении двух лет сообщения от Снайпера – иногда ценные, но чаще не поддающиеся расшифровке, – никто еще ни разу не видел этого таинственного агента и не знал, кем он был на самом деле. Кроме того, Берлинская оперативная база Мерфи терпела поражение в самой важной в мире шпионской войне в городе, в котором было больше иностранных и местных разведчиков, чем в любом другом месте на Земле.
Победа была просто необходима, поскольку ЦРУ только что потеряло единственного агента в советской военной разведке, подполковника Петра Попова, то ли по собственной небрежности, то ли по неосмотрительности агента [14].
Советские и восточногерманские спецслужбы в Берлине действовали не в пример лучше ЦРУ. Проблема, по мнению Мерфи, состояла в том, что ЦРУ стало заниматься шпионской деятельностью сравнительно недавно и слишком часто сочетало безудержную решимость, свойственную молодости, с опасной наивностью непосвященных.
Завербовать местных талантливых людей являлось почти неразрешимой проблемой, и в этом отношении Мерфи сильно отставал от КГБ и восточногерманского министерства безопасности. Печальная правда состояла в том, что коммунистам было намного проще проникать в открытое западное общество, манипулировать ведущими специалистами и внедрять агентов, чем ЦРУ действовать в жестко контролируемой Ульбрихтом Восточной Германии.
ЦРУ было создано на основе Управления стратегических служб, действовавшего во время Второй мировой войны. Его основной функцией является сбор и анализ информации о деятельности иностранных организаций и граждан. КГБ был более опытной и многочисленной организацией. Эта служба внешней и внутренней разведки закалилась во время сталинских чисток и войны с нацистской Германией. Несмотря ни на что, она действовала успешно и с ошеломляющей последовательностью.
Наибольшее беспокойство у Мерфи вызывала растущая эффективность восточногерманской тайной полиции, которая всего за полтора десятилетия превзошла своего предшественника, гестапо, как, впрочем, и КГБ. Увеличивающаяся армия тайных осведомителей, четко организованная немецкая система сбора информации и широкая сеть агентов на ключевых позициях в западной сфере влияния позволяли Ульбрихту и Москве во многих случаях срывать планы ЦРУ еще до начала их осуществления.
Абонент позвонил в 17:30, сообщив, что Ковальский прибудет через полчаса. Звонивший попросил отнестись к миссис Ковальской с особым вниманием – первый признак, что Снайпер появится не один. В 18:06 из такси вышли мужчина и женщина, у каждого в руке был небольшой чемодан. Они, опасливо озираясь, подошли к входу в консульство, дверь открылась, и они быстро вошли.
Как это часто бывает в шпионском деле, все оказалось не совсем так, как предполагалось ранее. Снайпер объяснил, что женщина, пришедшая с ним, не жена, а его любовница, и он хочет, чтобы ей тоже предоставили убежище. Затем он попросил, чтобы она не присутствовала во время разговора, поскольку знает его только как польского журналиста Романа Ковальского. Он объяснил, что на самом деле он до 1958 года был заместителем начальника польской военной контрразведки. Он действовал как двойной агент, информируя не только ЦРУ, но и КГБ о том, что поляки скрывали от своих советских хозяев.
На следующий день Голеневского на военном самолете отправили в Висбаден, а оттуда в Соединенные Штаты. Голеневский передал списки с именами польских и советских офицеров разведки и агентов. Он помог раскрыть агентурную сеть в британском Адмиралтействе, разоблачить Джорджа Блейка, агента КГБ в британской разведке, и Хайнца Фельфе, агента КГБ, работавшего в федеральной разведывательной службе. Что еще более важно, Голеневский указал «крота», окопавшегося в ЦРУ.
Однако была одна проблема: психическая неуравновешенность Голеневского. Он начал сильно пить, а затем стал утверждать, что является царевичем Алексеем, сыном царя Николая II, единственным выжившим наследником семьи Романовых, и что Генри Киссинджер является шпионом КГБ. Руководство ЦРУ так никогда и не сошлось во мнении, был ли Голеневский перебежчиком или советским провокатором.
Кеннеди вступал в мир интриг и обмана, не имея соответствующей подготовки.
Глава 4. Кеннеди: первая ошибка
Правительство Соединенных Штатов довольно решением Советского Союза и считает, что это действие советского правительства устранило серьезное препятствие к улучшению советско-американских отношений.
Джон Ф. Кеннеди, на первой пресс-конференции в качестве президента, в связи с освобождением захваченных Советским Союзом американских летчиков, 25 января 1961 годаС каждым днем кризисы приумножаются. С каждым днем их решение становится все более трудным. С каждым днем мы приближаемся к часу максимальной опасности. Я чувствую, что должен информировать конгресс, что наш анализ за последние десять дней четко показывает, что в каждой из принципиально важных зон кризиса поток событий иссякает и время перестает быть нашим союзником.
Из речи президента Кеннеди, произнесенной 30 января 1961 годаКремль, Москва
10:00, суббота, 21 января 1961 года
Никита Хрущев вызвал американского посла в Москве, Томми Томпсона, в Кремль к десяти утра; в Вашингтоне было 2 часа ночи, и президент Кеннеди еще не вернулся в Белый дом с банкета по случаю инаугурации.
«Вы прочли инаугурационную речь?» – спросил Томпсон Хрущева, который выглядел усталым, словно провел бессонную ночь.
Не только прочел речь, ответил Хрущев хриплым голосом, но и приказал, чтобы в газетах был напечатан полный текст речи. Хрущев сделал то, что до этого не делал ни один советский лидер для американского президента.
Хрущев кивнул заместителю министра иностранных дел Василию Кузнецову, давая ему слово, и Кузнецов прочел английскую версию памятной записки, которая содержала подарок Хрущева к инаугурации Кеннеди: «Советское правительство, руководствуясь искренним желанием начать новую фазу в отношениях между Советским Союзом и Соединенными Штатами, приняло решение удовлетворить просьбу американской стороны, связанную с освобождением двух американских летчиков, членов экипажа разведывательного самолета RB-47 ВВС США, Джона Маккоуна и Фримэна Олмстеда».
Кузнецов сказал, что Советы передадут также тело третьего летчика, которого обнаружило и подобрало советское рыболовецкое судно.
Хрущев точно вычислил, когда и как удовлетворить просьбу американской стороны: для этого как нельзя лучше подходил первый день вступления в должность нового президента. Это давало возможность продемонстрировать миру свое расположение к новому правительству США. Однако он не собирался освобождать пилота U-2 Гэри Пауэрса, который, в отличие от летчиков RB-47, в ходе открытого процесса в августе 1960 года был признан виновным в шпионаже и приговорен к десяти годам лишения свободы. Возможно, Хрущев не видел особой разницы между этими случаями. Однако инцидент с U-2 был непростительным вторжением на советскую территорию, событием, которое подорвало его авторитет на политической арене и нанесло лично ему оскорбление перед саммитом в Париже. В другое время он бы потребовал более высокую плату за Пауэрса [15].
В ноябре 1960 года и сразу после выборов Кеннеди, когда через посредника задавался вопрос, как советскому руководству лучше «начать все заново» в отношениях, бывший американский посол в Москве Аверелл Гарриман посоветовал Хрущеву освободить летчиков. Как бы то ни было, но это совпало с мнением Хрущева. Летчики сыграли свою роль в предвыборной кампании. Теперь они могли сыграть роль на начальном этапе установления более позитивных американо-советских отношений.
В памятной записке говорилось, что Хрущев хочет «открыть новую страницу в отношениях» и что прошлые разногласия не должны вмешиваться в «нашу совместную работу во имя благополучного будущего». Хрущев сказал, что освободит летчиков, как только Кеннеди одобрит проект советского заявления, даст обещание, что в будущем не допустит нарушений советской границы и что летчики не будут использоваться для антисоветской пропаганды. Хрущев ясно дал понять, что если Кеннеди не согласится с этими условиями, то летчикам RB-47 будет предъявлено обвинение в шпионаже – как в случае с Пауэрсом.
Томпсон не стал тревожить Кеннеди, который проводил первую ночь в бывшей спальне Линкольна. Он сказал, что оценил предложение, но Соединенные Штаты считают, что RB-47 был сбит вне советского воздушного пространства. Таким образом, Соединенные Штаты не могут согласиться с формулировкой проекта заявления, что вторжение было преднамеренным.
Хрущев был в благодушном настроении.
«Каждая сторона может придерживаться собственной точки зрения, – сказал он. – Соединенные Штаты могут сделать заявление, которое считают правильным».
Покончив с этим вопросом, Томпсон и Хрущев перешли к обсуждению достоинств систем, которые они представляли. Томпсон выразил недовольство речью, произнесенной Хрущевым 6 января 1961 года, в которой тот охарактеризовал американо-советскую борьбу как соревнование с нулевым результатом. Несмотря на это, дружелюбная манера общения этих двоих людей свидетельствовала об улучшении атмосферы сотрудничества.
Хрущев пошутил, что отдаст свой голос за Томпсона, чтобы он остался послом при Кеннеди, – Томпсон хотел, но пока не получил подтверждения продления своих полномочий. Советский лидер, подмигнув, сказал, что не уверен, поможет ли его вмешательство.
Томпсон со смехом ответил, что он тоже сомневается.
Кеннеди с подозрением отнесся к предложению Хрущева освободить летчиков. Он спросил советника по вопросам национальной безопасности, нет ли в этом какого-то подвоха, которого он не заметил. Однако, взвесив все за и против, Кеннеди пришел к выводу, что не может отказаться от возможности вернуть домой американских летчиков и продемонстрировать такие потрясающие результаты в отношениях с Советами в первые часы своего президентства. Кеннеди принял предложение Хрущева.
Спустя два дня после того, как Хрущев сделал свое предложение, государственный секретарь Дин Раск отправил положительный ответ президента Томпсону.
Тем временем Хрущев сделал еще ряд примирительных жестов. «Правда» и «Известия», как обещалось, напечатали полный текст инаугурационной речи Кеннеди, даже те части, которые не понравились Хрущеву. По распоряжению Хрущева стали меньше глушить радиостанцию «Голос Америки». Хрущев позволил пятистам пожилым людям покинуть Советский Союз, чтобы воссоединиться с семьями в США; он санкционировал повторное открытие еврейского театра и дал добро на создание Института Соединенных Штатов Америки. Он также одобрил новую программу по обмену студентами, распорядился выплатить гонорары американским писателям за самовольно изданные рукописи. Государственные и партийные средства массовой информации сообщали о «больших надеждах» советских людей на улучшение отношений.
Томпсон видел, как радуется Хрущев, что взял на себя инициативу в американо-советских отношениях. Но он не знал, как быстро Кеннеди изменит отношение к примирительным жестам Хрущева, частично из-за неправильного истолкования одной из телеграмм Томпсона.
Это была первая ошибка в период президентства Кеннеди.
Конференц-зал Государственного департамента, Вашингтон, округ Колумбия
Среда, 25 января 1961 года
Президент Соединенных Штатов получил новую информацию из Москвы в тот момент, когда готовился с гордостью объявить на первой пресс-конференции за период своего пятидневного президентства о возвращении на родину американских летчиков. Эта информация заставила его задуматься об истинных мотивах Хрущева. Посол Томпсон, стремившийся быть полезным Кеннеди, в телеграмме, составленной таким образом, чтобы подготовить президента к первой встрече с представителями СМИ, привлек его внимание к подстрекательской речи Хрущева, произнесенной им 6 января. «Я считаю, что все имеющие отношение к советским делам должны внимательно ознакомиться с этой секретной речью, поскольку она соединяет в себе точку зрения Хрущева и как коммуниста, и как пропагандиста. Если рассматривать буквально, заявление Хрущева – это объявление холодной войны, заявленное в более сильных и более явных выражениях, чем прежде».
Что Томпсон не позаботился объяснить Кеннеди и своим начальникам, так это то, что Хрущев не сказал ничего нового. Так называемая секретная речь советского лидера была не более чем запоздалым инструктажем советских идеологов и пропагандистов относительно совещания делегаций 81 коммунистической партии в ноябре прошлого года. За два дня до инаугурации Кеннеди Кремль даже опубликовал сокращенный вариант речи в журнале «Коммунист», но это ускользнуло от внимания Вашингтона. Призыв Хрущева к оружию против США в развивающихся странах был не столько эскалацией холодной войны, как предположил Томпсон, сколько результатом тактического соглашения с китайцами с целью предотвратить разрыв дипломатических отношений. Кеннеди, не имевший полной информации, пришел к выводу, что слова Хрущева означают «изменение в правилах игры». Он решил, что нашел, перефразируя Черчилля [16], ключ к отгадке внутри хрущевской загадки.
Кеннеди по-своему истолковал слова, что привело к обесцениванию в его глазах всех примирительных жестов Хрущева. Советский лидер лишился доверия молодого президента.
Поначалу Кеннеди положительно отреагировал на предпринятые Хрущевым шаги: прекратил государственный контроль за получаемыми в Америке советскими периодическими изданиями, приветствовал возобновление переговоров по вопросу о гражданской авиации, прерванных в 1960 году, и отменил запрет на импорт советских крабов. Кроме того, Кеннеди приказал генералитету снизить тон и умерить антисоветские выпады в своих речах.
На первых порах президент Кеннеди, основываясь на информации разведки, понял, что Москва не так уж угрожает противнику, как это думал кандидат в президенты Кеннеди. Он понял, насколько ошибочными были его обвинения, что «отставание в ракетной области становится со временем все сильнее» в пользу Москвы.
Ничто не могло изменить мнение Кеннеди, что речь Хрущева была нацелена лично на него и показала истинное лицо советского лидера. Хотя спустя пять дней, 30 января, эта перемена во взглядах прозвучит в его послании «О положении страны» [17], на пресс-конференции Кеннеди еще не был готов добровольно высказать свое изменившееся мнение о Хрущеве – а его об этом никто не спросил.
В тот день журналисты не ожидали услышать особо сенсационных заявлений, поскольку само по себе было сенсацией то, что впервые в истории первая пресс-конференция новоизбранного президента транслировалась в прямом эфире по телевидению на всю страну. Это был резкий отход от практики Эйзенхауэра записывать пресс-конференции и обнародовать их только после тщательного редактирования.
Пресс-конференция проходила в новом конференц-зале Государственного департамента, напоминающем пещеру, который «Нью-Йорк таймс» назвала «таким же уютным, как камера смертников». Новости из Москвы Кеннеди приберег «под занавес». На следующий день «Нью-Йорк таймс» сообщила, что, когда Кеннеди сказал, что два летчика RB-47, которые в течение шести месяцев находились в тюрьме и подвергались допросам, уже вылетели из Москвы, в зале присвистнули от удивления.
Кеннеди обманывал, говоря, что ничего не обещал Хрущеву в обмен за возвращение летчиков. На самом деле он согласился с требованием Хрущева не возобновлять полеты самолетов-шпионов над территорией СССР и запретить вернувшимся летчикам любые контакты с прессой. Кеннеди лучился самодовольством. Его первый публичный контакт с Советами закончился успешно. Его заявление содержало практически тот же текст, что и в телеграмме, отправленной Хрущеву: «Правительство Соединенных Штатов удовлетворено решением Советского Союза и считает, что этот шаг советского правительства удалит серьезное препятствие на пути улучшения советско-американских отношений».
Но в кругу друзей и советников Кеннеди настолько зациклился на речи Хрущева от 6 января, что громко зачитывал ее вслух – на заседаниях кабинета, на обедах и в случайных беседах – и всегда просил присутствующих высказать свое мнение. Томпсон посоветовал Кеннеди раздать текст выступления Хрущева высшему руководству. Кеннеди прислушался к его совету, приказав им «прочесть, запомнить, изучить и осмыслить» выступление Хрущева.
«Вы должны осознать это, – повторял он снова и снова. – Это наш ключ к разгадке Советского Союза».
В речи говорилось о поддержке Кремлем «освободительных войн и народных восстаний… колониальных народов против угнетателей. В странах третьего мира идет революционный процесс, а общий кризис капитализма ведет к ослаблению позиций империализма». В одном месте, которое особенно любил цитировать Кеннеди, Хрущев заявлял, что «мы победим Соединенные Штаты при помощи небольших освободительных войн. Мы измотаем их до изнеможения по всему земному шару, в Южной Америке, в Африке и в Юго-Восточной Азии». В отношении Берлина Хрущев пообещал, что он «устранит этот осколок из сердца Европы».
Кеннеди пришел к ошибочному выводу, что смена курса Хрущевым была специально продумана для того, чтобы проверить его. Своей телеграммой Томпсон подлил масла в огонь. Он дал совет президенту, как ответить на возможный вопрос журналистов о выступлении Хрущева. «Исходя из тактических соображений в отношении Советского Союза, – сказал Томпсон, – президенту выгодно придерживаться линии, что он не может понять, почему человек, который исповедует желание переговоров с нами, публикует за несколько дней до инаугурации нового американского президента фактически декларацию холодной войны и демонстрирует решимость добиться падения американской системы».
Советский Союз и Китай действительно договорились занять более активную, воинствующую позицию в отношении развивающихся стран. Кроме того, государственный секретарь Кристиан Арчибальд Гертер сообщил Эйзенхауэру, что коммунистическое сборище говорит об «опасностях, которые Западу следует принять во внимание, как и призыв к укреплению мощи и обороноспособности всего социалистического лагеря». Однако Гертер отказался от традиционного призыва к продолжению и усилению холодной войны.
За период президентства Эйзенхауэр столько раз слышал подобные взрывы гнева со стороны Хрущева, что не обратил внимания на эту хрущевскую выходку.
Испытывавший недостаток опыта и уверенный в своих способностях и интуиции, Кеннеди преувеличил значимость события, которое оставил без внимания Эйзенхауэр. В результате он упустил самый важный момент в совещании, тот, который был наиболее важен для понимания позиции Хрущева, чем произносимые им слова. Гертер сказал Эйзенхауэру, что самым существенным являлся беспрецедентный успех, которого добились китайцы, оспаривая лидерство СССР в мировом коммунистическом движении.
Первая ошибка в отношении Советов в период нахождения у власти Кеннеди имеет несколько причин. Свою роль сыграла телеграмма Томпсона. Кроме того, Кеннеди инстинктивно был сторонником более хищнического отношения к Советам из-за популярности такого курса среди американских избирателей, благодаря антикоммунистическому влиянию отца и поиска вдохновляющей идеи, которая сплотит нацию вокруг президента; он обещал, что придет «время величия». Сыграл роль и его личный взгляд на историю. В своей дипломной работе в Гарварде, опубликованной в 1940 году, Кеннеди рассуждал о британской политике умиротворения в отношении нацистов в Мюнхене. Он называет свою книгу «Почему спала Англия», обыгрывая название книги своего кумира, Черчилля, «Пока Англия спала».
Кеннеди не был захвачен врасплох.
Президент искал серьезную проблему, и Хрущев, похоже, обеспечил ее. Правительство Кеннеди официально не рассматривало свою политику в отношении Кремля, как и не относилось к встрече с Хрущевым как к главной стратегической цели. Несмотря на это, Кеннеди резко свернул с курса неопределенности в отношении Советов, обозначенного в его инаугурационной речи, выступив 30 января с одним из наиболее мрачных посланий «О положении страны» в истории Соединенных Штатов.
Кеннеди начал с перечисления внутренних проблем: семимесячный экономический спад, три с половиной года застоя, семилетнее падение темпов экономического роста и девятилетнее сокращение доходов фермеров. «Но все эти проблемы меркнут на фоне внешних проблем». В окончательный вариант он внес следующие слова: «С каждым днем кризисы приумножаются. С каждым днем их решение становится все более трудным. С каждым днем мы приближаемся к часу максимальной опасности. Я чувствую, что должен информировать конгресс, что наш анализ за последние десять дней четко показывает, что в каждой из принципиально важных зон кризиса ход событий идет к своему завершению и время играет не на нашей стороне».
Хотя в течение этих десяти дней, с 20 по 30 января, Кеннеди поступала информация о том, что Китай и Советский Союз все глубже погружаются в ссору, он настаивал, основываясь на речи Хрущева 6 января, что оба государства совсем недавно вновь заявили о своем стремлении к «мировому господству».
Кеннеди попросил министра обороны Роберта Макнамару «повторно оценить нашу оборонительную стратегию».
В этот час опасности Кеннеди, скорее всего, вспоминал слова своих кумиров, Черчилля и Линкольна. Черчилль сказал: «Я уверен, что вы должны выдержать, чтобы победить». В Геттисбергской речи [18] Линкольн сказал, что «наши отцы образовали на этом континенте новую нацию, зачатую в свободе и верящую в то, что все люди рождены равными. Теперь мы ведем Гражданскую войну, подвергающую нашу нацию или любую другую нацию, таким же образом зачатую и исповедующую те же идеалы, испытанию на способность выстоять».
Кеннеди, поместив себя непосредственно в перекрестье истории, заявил конгрессу и народу: «Прежде чем истечет мой срок, нам нужно будет проверить вновь, может ли нация, организованная и управляемая так, как наша, выдержать испытание временем. Результат ни в коей мере не предопределен».
Это была незабываемая речь, основанная на неправильном понимании.
Кремль, Москва
Понедельник, 30 января 1961 года
Хрущев все еще ждал ответ на свои неоднократные просьбы о саммите с Кеннеди, когда президентское обращение к нации нанесло ему первое из нескольких ощутимых оскорблений. Спустя два дня он испытал то, что счел еще одним оскорблением, – первый испытательный запуск трехступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен».
Спустя еще четыре дня на пресс-брифинге в Пентагоне очередное оскорбление нанес Хрущеву Макнамара, назвавший «глупостью» заявление Хрущева о несомненном превосходстве СССР в ракетостроении, заявив, что США по-прежнему имеют значительный перевес в ракетостроении. Страны находятся примерно в равном положении, сказал Макнамара, и хотя он ничего не сказал относительно превосходства США в боеголовках – американцы на вооружении имели примерно 6 тысяч боеголовок, а в СССР было примерно триста, – но публично разоблачил хрущевский обман.
Переговоры с Эйзенхауэром в 1960 году не привели ни к каким соглашениям, и Хрущев сильно рисковал, открыто радуясь избранию Кеннеди, освобождая летчиков, делая другие примирительные жесты и обращаясь к новому президенту с предложением организации скорейшей встречи. Явное нежелание Кеннеди в ближайшее время организовывать саммит, испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты и заявление Макнамары подкрепили обвинения противников Хрущева в его наивности относительно намерений США.
11 февраля Хрущев раньше запланированного вернулся из поездки по сельскохозяйственным областям и провел чрезвычайное заседание пленума, на котором его противники потребовали смены политики в отношении того, что они рассматривали как новый виток воинственности Соединенных Штатов.
Советскому лидеру требовалось заново обдумать свои действия. Он потерпел неудачу, стремясь организовать встречу с Кеннеди до того, как новоизбранный президент выработает курс в отношении Москвы. Советский лидер не мог позволить себе проявить слабость после сенсационного обращения Кеннеди к нации.
Хрущев незамедлительно изменил отношение к Кеннеди и его администрации и в резком тоне заговорил о ядерных возможностях Советского Союза. Советские средства массовой информации последовали его примеру.
«Медовый месяц» Кеннеди – Хрущев закончился, так и не начавшись. Недоразумения испортили отношения между самыми влиятельными людьми в мире еще до того, как Кеннеди провел первое совещание по вопросу политики в отношении Советского Союза.
Зал кабинета, Белый дом, Вашингтон, округ Колумбия
Суббота, 11 февраля 1961 года
Спустя двенадцать дней после обращения к нации Кеннеди впервые собрал экспертов по Советскому Союзу, чтобы заложить основу политики правительства. Но взялся не с того конца.
Он был не первым и не последним новоизбранным президентом, который был вынужден определять направление политики в ходе обсуждений. Хотя правительству было всего двадцать дней, те, кто присутствовал на совещании – там были как сторонники более жесткого курса в отношении Москвы, так и те, кто склонялся к установлению более дружеских отношений, – осознавали, что первые примирительные жесты Хрущева и жесткий ответ Кеннеди накренили движущийся поезд, который они надеялись вести к цели.
Президент пригласил на совещание в Зал кабинета вице-президента Линдона Джонсона, государственного секретаря Дина Раска, советника по вопросам национальной безопасности Мак-Джорджа Банди, американского посла в Москве Томпсона и бывших послов в Москве: Чарльза Чипа Болена, специалиста в области советологии, Джорджа Кеннана, которого Кеннеди назначил послом в Югославию, и Аверелла Гарримана, которого Кеннеди сделал «послом по особым поручениям».
Дни перед встречей были заполнены волнением, совещаниями, переговорами и телеграммами. Больше всех был занят Томпсон, посылавший длинные телеграммы, составленные таким образом, чтобы помочь новому президенту и его правительству разобраться во всех аспектах самой сложной проблемы внешней политики. Кеннеди решил оставить Томпсона послом, в большей степени благодаря его особенным отношениям с Хрущевым. Томпсон был рад служить президенту, который не только, как и он, был демократом, но уже доказал, что читает его, Томпсона, телеграммы намного внимательнее, чем это делал Эйзенхауэр.
Пятидесятишестилетнему Томпсону не хватало очарования, присущего его предшественнику Чарльзу Болену, и блеска Джорджа Кеннана. Но ни у кого не вызывали сомнения его знания и происхождение. Ему была вручена президентская медаль Свободы [19], и он заслужил любовь советского правительства за то, что в самые страшные дни немецкой осады оставался в Москве, после того как американский посол покинул Москву [20].
В послевоенные годы Томпсон присутствовал почти на всех важных переговорах, касающихся Советского Союза, – в Потсдаме в июле 1945 года и на переговорах о независимости Австрии в 1954 и 1955 годах. Его отличала уверенность, играл ли он в покер с сотрудниками посольства или в геополитические шахматы с советским правительством. Томпсон утверждал, что для Кеннеди это время решения «нашей основной политики в отношении Советского Союза».
Про себя Томпсон критиковал Эйзенхауэра за отказ предпринять усилия по ослаблению напряженности. Он соглашался с мнением Хрущева, что его усилия по ослаблению напряженности не дали результата. В марте 1959 года Томпсон телеграфировал домой: «Мы отказались от этих попыток и приспособились к условиям, которые он, как коммунист, считает невозможными». Томпсон, объясняя решение Хрущева вызвать Берлинский кризис в конце 1958 года, сказал: «Мы в процессе перевооружения Германии и укрепления наших баз, окружающих советскую территорию. Наши предложения по урегулированию немецкого вопроса в конечном итоге, по его мнению, привели бы к роспуску коммунистического блока и угрозе режима в самом Советском Союзе».
В дни перед совещанием 11 февраля Томпсон делал все возможное, чтобы дать наиболее подробную характеристику Хрущеву, чем он сделал это до обращения Кеннеди к нации. Томпсон считал, что Хрущев в меньшей степени доктринер, чем его кремлевские соратники, и является лучшей кандидатурой из всего советского руководства. «Он прагматик и стремится сделать свою страну более нормальной», – написал Томпсон в дипломатической телеграмме. Говоря о кремлевской оппозиции, Томпсон предупредил, что советский лидер может исчезнуть в период пребывания Кеннеди у власти «по естественной или другим причинам».
Что касается Берлина, телеграфировал Томпсон, то Советы больше заботит германская проблема в целом, чем судьба разделенного города. Томпсон объяснил, что Хрущев в первую очередь хочет упрочить коммунистические режимы в Восточной Европе, «особенно в Восточной Германии, которая предположительно является самой уязвимой». Он сообщил, что Советы «сильно обеспокоены германским военным потенциалом и опасаются, что Западная Германия в конечном счете примет меры, в результате которых они окажутся перед выбором между мировой войной и уходом из Восточной Германии».
Томпсон допускал, что никто в точности не может предсказать намерения Хрущева относительно Берлина, но, по его мнению, советский лидер попытается уладить этот вопрос в течение 1961 года из-за усиливающегося давления со стороны Ульбрихта, который понимает, что его режим подвергается опасности из-за использования Берлина как выхода для беженцев и базы для западной шпионской и пропагандистской деятельности. Томпсон сказал, что на Хрущева окажут влияние и другие проблемы, в том числе давление со стороны своих же соратников. Томпсон пояснил, что Хрущев «не будет расположен обострять ситуацию» по Берлину перед сентябрьскими выборами в Германии, если Кеннеди даст ему какую-то надежду, что после этого возможен реальный прогресс в решении берлинского вопроса.
В телеграммах, следовавших одна за другой, Томпсон пытался объяснить, как новому правительству следует общаться с советским правительством по берлинскому вопросу. Он составлял конкуренцию тем, кто требовал ужесточить меры против Москвы. Уолтер Доулинг, американский посол в Западной Германии, в телеграмме из Бонна настаивал на том, что Кеннеди должен вести себя жестко с Советами, чтобы Хрущев понимал, что «у него нет безболезненного способа подорвать западные позиции в Берлине» и что любая попытка грозит многими неприятностями для Москвы.
А в Москве Томпсон утверждал, что правительство Кеннеди разрабатывает невоенные средства для борьбы с коммунизмом. По его словам, президент, чтобы обеспечить нормальную работу американской системы, должен быть уверен, что государства – члены западного альянса будут действовать сообща, и наглядно продемонстрирует развивающимся странам и получившим независимость колониям, что будущее за США, а не за СССР. Он волновался из-за ошибок, допущенных в Латинской Америке, когда проблемы с Китаем заставили Советы реставрировать свое «революционное прошлое».
«Я уверен, что мы допустим ошибку, если станем рассматривать коммунистическую угрозу как прежде всего военную угрозу, – написал он в телеграмме, отправленной в Вашингтон. – Я считаю, что советское руководство уже давно правильно оценило значение военной ядерной мощи. Они осознали, что ядерная война не подходит для достижения их целей. Мы, конечно, должны, по очевидным причинам, держать порох сухим и иметь его в избытке».
Словно в противовес Томпсону, 9 февраля Кеннеди объявил, что привлекает к работе государственного секретаря Гарри Трумэна Дина Ачесона, сторонника жесткой линии, убежденного, что противостоять Кремлю можно только проводя политику силы. Кеннеди привлек одного из самых известных «ястребов» к германским делам. Хотя Ачесон не присутствовал на совещании, но очень скоро создал противовес более примирительной политике Томпсона.
Совещание 11 февраля станет типичным примером того, как президент принимал решение. Он собрал вместе специалистов по рассматриваемой проблеме и, задавая вопросы, провоцировал их на ожесточенные споры. Результаты совещания Банди отразил в совершенно секретном отчете, озаглавленном «Размышления о советском руководстве», состоявшем из четырех разделов: 1) общее положение и руководство Советского Союза; 2) отношение СССР к США; 3) стратегия и позиция Соединенных Штатов; и, наконец, самый важный раздел, 4) как Кеннеди наилучшим образом может вступить в переговоры с Хрущевым.
Болен удивился, обнаружив, что Кеннеди, так явно выразивший свое отношение в послании «О положении страны», довольно пристрастно относится к Советскому Союзу. «Я никогда не слышал о президенте, который бы хотел так много знать», – сказал Болен. Кеннеди, не слишком интересуясь тонкостями советской доктрины, хотел получить практический совет. «Он считал Россию большой и сильной страной, и мы были большой и сильной страной, и это казалось ему причиной, по которой эти две страны могли жить, не разрушая друг друга».
У каждого из окружавших президента людей было свое мнение относительно Москвы. Болен волновался, что Кеннеди недооценивает решимость Хрущева установить коммунизм во всем мире. У Кеннана были сомнения относительно того, действительно ли Хрущев является руководителем страны. Советскому лидеру, по его словам, противостояла «значительная оппозиция» в лице сталинистов, противников переговоров с Западом, а значит, Кеннеди должен иметь дело с «коллективом». Томпсон утверждал, что хотя правительство коллективный орган, но в большей степени он детище Хрущева. По его мнению, только серьезные ошибки во внешней политике и в сельском хозяйстве могли пошатнуть положение Хрущева.
Томпсон утверждал, что американская «надежда на будущее» – превращение советского общества в более современное, потребительское общество. «Этот народ очень быстро обуржуазится», – уверял Томпсон. На основании продолжительных бесед с Хрущевым Томпсон сделал вывод, что советский лидер пытается выиграть время, чтобы позволить советской экономике развиваться в данном направлении, а для этого ему действительно нужен спокойный период в международных отношениях.
Вот почему, пояснил Томпсон, Хрущев так настаивает на скорейшей встрече с президентом. Хотя после инцидента с U-2, на который он отреагировал как на удар по гордости, Хрущев прервал общение с Белым домом, теперь он опять стремится к сближению. По мнению Томпсона, Хрущев открыт для общения, поскольку его внешняя политика зависела от его личного взаимодействия с противной стороной.
Более осторожные из присутствовавших на совещании задавались вопросом, какую пользу можно будет извлечь из встречи с советским лидером, который называл США «главным врагом человечества». Болен выступал против предложения Хрущева организовать встречу во время проведения сессии ООН, поскольку «советский лидер обязательно выйдет на трибуну». Гарриман напомнил Кеннеди, что в соответствии с протоколом президент должен сначала встретиться с союзниками.
Собравшимся на совещании постепенно стало ясно, что Кеннеди хочет встретиться с Хрущевым. Кеннеди полагал, что, «стоит ему сесть с Хрущевым за стол переговоров, из этого обязательно что-нибудь получится». Сам Кеннеди сказал своему помощнику и давнему другу Кеннету О’Доннеллу: «Я хочу показать ему, что мы не слабее его. Через обмен посланиями это показать невозможно. Я хочу сесть с ним за один стол и показать ему, с кем он имеет дело». Кроме того, остальные страны, включая ближайших союзников Соединенных Штатов, проявляли осторожность в отношении ключевых проблем, ожидая, когда Кеннеди с Хрущевым достигнут соглашения.
Кеннеди объяснил советникам, что хочет избежать развернутого «саммита», необходимого только в том случае, когда миру угрожает война или когда лидеры готовы принять без формального утверждения соглашения, предварительно подготовленные чиновниками нижнего уровня. Он хочет встретиться с Хрущевым в неофициальной обстановке, чтобы составить личное впечатление о советском лидере, и это поможет ему понять, как в дальнейшем следует вести себя с ним. Кеннеди хотел установить прочные контакты с Советским Союзом, чтобы не допустить просчетов, которые привели на протяжении его жизни к трем войнам. В ядерный век ничто не волновало его больше, чем угроза просчета.
«Это моя обязанность принимать решение, и никакой советник и союзник не могут сделать это за меня», – сказал Кеннеди. Для того чтобы принять правильное решение, объяснил Кеннеди, необходимо быть хорошо осведомленным, и только при личной встрече с Хрущевым он может получить нужную информацию. В то же время он хотел ознакомить советского лидера с американской точкой зрения, «точной, реалистичной, с возможностью обсудить и дать пояснения».
Спустя десять дней, 21 февраля, та же группа советников собралась снова, и теперь все согласились с тем, что Кеннеди следует написать Хрущеву и пригласить его на встречу. Хрущев, пользуясь возможностью, предлагал встретиться в Нью-Йорке во время проведения специальной сессии ООН по разоружению. Кеннеди, в свою очередь, предложил организовать встречу весной в нейтральном европейском городе, Стокгольме или Вене. Передавая Хрущеву письмо Кеннеди, Томпсон объяснил, что президенту требуется время, поскольку он «пересматривает нашу политику в Германии и хотел бы обсудить ее с Аденауэром и другими союзниками, прежде чем приходить к каким-то выводам».
27 февраля Банди поручил Госдепартаменту подготовить отчет по берлинскому вопросу. В отчете следовало отразить «политические и военные аспекты Берлинского кризиса, включая положение по ведению переговоров по Германии для возможной встречи четырех держав». В тот же день Томпсон прибыл в Москву с письмом президента Кеннеди. Потребовалось десять недель после выборов и месяц президентства, прежде чем Кеннеди был готов ответить на многократные попытки Хрущева организовать встречу и несколько жестов советского лидера, направленных на улучшение отношений.
Однако к тому времени, когда Томпсон позвонил министру иностранных дел Громыко, чтобы договориться о времени передачи долгожданного ответа Кеннеди, Хрущев уже потерял к нему интерес. Советский лидер на следующий день отправлялся в очередное сельскохозяйственное турне по Советскому Союзу, и Громыко сказал, что он не сможет принять Томпсона ни вечером 27 февраля, ни на следующее утро перед отъездом.
Его ледяной тон не остановил Томпсона, который объяснил Громыко, что крайне важно передать письмо и что он «отправится куда угодно в любое время», чтобы встретиться с Хрущевым. Громыко ответил, что не может ничего сказать ни о месте, ни о времени. Томпсон оставался послом в Москве в основном благодаря тому, что у него был довольно свободный доступ к Хрущеву, поэтому он чувствовал себя весьма неуверенно, когда докладывал ситуацию в Вашингтон.
На следующий день, выступая в Свердловске, Хрущев заявил: «У Советского Союза есть самое мощное ракетное оружие в мире и столько атомных и водородных бомб, сколько необходимо для того, чтобы стереть агрессоров с лица земли». Эти слова как нельзя лучше отражали его мрачное настроение.
С его новогоднего тоста о президентстве Кеннеди как о «свежем ветре» прошло много времени. Неправильное понимание Кеннеди намерений Хрущева и гневный ответ Хрущева на проявленное к нему неуважение лишили возможности улучшить отношения.
Томпсон должен был лететь в Сибирь, чтобы не допустить еще большего ухудшения отношений.
А в самой Германии дела шли немногим лучше.
Глава 5. Ульбрихт и Аденауэр: неуправляемый альянс
Что бы ни показали выборы, время Аденауэра закончилось… Соединенные Штаты поступают необдуманно, преследуя тени прошлого и игнорируя политическое руководство и поколение, достигающее совершеннолетия.
Джон Ф. Кеннеди о западногерманском канцлере Конраде Аденауэре, министерство иностранных дел, октябрь 1957 годаЗападный Берлин переживает бум развития. Они увеличили заработную плату рабочим и служащим. Они создали более благоприятные условия жизни… Я говорю об этом только потому, что нам необходимо понимать реальное положение и делать выводы.
Вальтер Ульбрихт, генеральный секретарь Социалистической единой партии Германии, заседание политбюро, 4 января 1961 годаИстория свидетельствует, что Вальтер Ульбрихт и Конрад Аденауэр были отцами-основателями двух противостоящих друг другу Германий, людьми, чья разительная несхожесть станет определителем их эпохи.
Однако в первые недели 1961 года их действиями руководили похожие чувства: оба лидера не доверяли людям, от которых зависели их судьбы, – Ульбрихт – Никите Хрущеву, а Аденауэр – Джону Кеннеди. Ничто не имело большего значения для немецких лидеров, чем научиться обращаться с этими влиятельными людьми и сделать так, чтобы их деятельность не уничтожила то, что каждый немец считал своим наследием.
В свои шестьдесят семь лет Ульбрихт был сухим, интровертированным трудоголиком, который избегал дружеских отношений, дистанцировался от членов семьи и был приверженцем сталинского варианта социализма с вождем и ближним кругом лиц в центре и стойким недоверием ко всем остальным. По мнению Курта Хагера, главного идеолога партии, Ульбрихт был «не слишком приятным в юности и с возрастом не стал лучше. Он совершенно не понимал шуток».
Ульбрихт считал Хрущева непоследовательным, допускающим «идеологические вольности», стоявшим ниже по интеллектуальному развитию и слабым. Хотя Запад представлял серьезную угрозу, ничто не подвергало опасности его Восточную Германию больше, чем обязательство противоречивого и непоследовательного Хрущева защищать ее существование.
Для Ульбрихта урок Второй мировой войны, которую он провел в основном в эмиграции в Москве, заключался в том, что когда немцы получили выбор, они стали фашистами. И он твердо решил не допустить, чтобы у его соотечественников опять появилась возможность проявить свободу воли. Он поместил своих соотечественников в жесткие рамки репрессивной системы; его система тайной полиции была более сложной и разветвленной, чем гитлеровское гестапо. Его жизненной целью было создание, а теперь спасение 17 миллионов человек, составлявших его коммунистическое государство.
В свои восемьдесят пять Аденауэр был чудаковатым, проницательным, дисциплинированным человеком, пережившим все хаотические стадии Германии прошлого века: имперский рейх, первое объединение Германии, Веймарская республика, Третий рейх и послевоенное разделение Германии. Большинство его политических союзников умерли или исчезли со сцены, и он волновался, что Кеннеди из-за нехватки политического опыта и личных качеств не сможет противостоять Советам так, как это делали его предшественники, президенты Трумэн и Эйзенхауэр.
Аденауэр, как и Ульбрихт, был недоверчив по природе, но он связывал свою страну с США и Западом с помощью НАТО и общего европейского рынка. Как он объяснял позже, «наша задача состояла в том, чтобы рассеять недоверие к нам на Западе. Мы должны были пытаться постепенно пробудить доверие к немцам. Непременным условием для этого… было не вызывающее сомнений подтверждение идентичности с Западом» и его политической и экономической практикой.
Как первый свободно избранный канцлер Западной Германии, Аденауэр способствовал созданию на нацистских руинах нового, полного сил, демократического 60-миллионного государства со свободными рыночными отношениями. Его цель состояла в том, чтобы сохранить эту конструкцию до тех пор, пока Запад не станет достаточно силен, чтобы добиться объединения на своих условиях. В сентябре Аденауэр в четвертый раз был избран канцлером.
И Ульбрихт, и Аденауэр были одновременно главными действующими лицами и подчиненными, управляющими событиями и управляемыми ими.
«Большой дом», Восточный Берлин
Среда, 4 января 1961 года
Ульбрихт, выступая на чрезвычайном заседании своего правящего политбюро, нервно теребил козлиную бородку, и его слова противоречили оптимистичному новогоднему выступлению всего тремя днями ранее.
Разговаривая со своими подданными, он разглагольствовал о победе социализма в своей стране, превозносил успехи проведенной им коллективизации и хвастался, что в прошедшем году улучшил экономическое положение Восточной Германии в мире. Однако положение было слишком серьезным, чтобы повторять ту же самую ложь членам политбюро, тем, кто был лучше осведомлен и в ком он нуждался в борьбе с противником, ресурсы которого, казалось, множились с каждым часом.
«Западный Берлин переживает бум развития, – с горечью сказал Ульбрихт. – Они увеличили заработную плату рабочим и служащим. Они создали более благоприятные условия жизни, восстановили главные городские районы, в то время как мы отстаем в строительстве нашей части города». Дело в том, сказал он, что Западный Берлин «откачивает» рабочую силу из Восточного Берлина, и большинство талантливой молодежи из Восточной Германии учится в учебных заведениях Западного Берлина и смотрит голливудские фильмы в кинотеатрах Западного Берлина.
Ульбрихт еще никогда не говорил со своими товарищами об улучшающемся положении противника и ухудшающемся положении у себя так откровенно. «Я говорю об этом только потому, что нам необходимо понимать реальное положение и делать выводы», – сказал он, излагая планы на год, в течение которого он хотел остановить отток беженцев, укрепить экономику Восточного Берлина и оградить Восточную Германию от шпионов и пропагандистов из Западного Берлина.
Один за другим поднимались докладчики, выражая согласие с Ульбрихтом и рисуя еще более мрачную картину. Секретарь партийной организации Магдебургского округа сказал, что жители его округа возлагают вину за нехватку обуви и тканей на партию, обеспечивающую в первую очередь значимые в политическом отношении города Карл-Маркс-Штадт (в 1990 году городу возвращено прежнее название – Хемниц) и Дрезден. Член политбюро Эрих Хонеккер сообщил, что западные соблазны манят спортсменов; лучшие спортсмены уезжают на Запад, оголяется спортивное движение, под угрозой честолюбивые мечты об олимпийских медалях. Бруно Лейшнер, бывший узник концентрационного лагеря, а ныне председатель государственной плановой комиссии, выступил с заявлением, что Восточная Германия только в том случае избежит краха, если немедленно получит кредит в размере миллиарда рублей от Советского Союза. Лейшнер сообщил, что недавно вернулся из Москвы, и только техническая документация по определению требуемого объема помощи со стороны Советов заполнила военно-транспортный самолет Ил-14. Партийный босс Восточного Берлина Пауль Вернер, бывший слесарь, доложил, что не может остановить поток квалифицированных рабочих, покидающих его город.
Заместители Ульбрихта нарисовали картину страны, неуклонно двигавшейся к краху. Поток беженцев не иссякал, а они только жаловались, что практически ничего не могут сделать, чтобы изменить ситуацию. Растущая зависимость от экономики Западного Берлина сделала их еще более уязвимыми. Карл Генрих Рау, министр, отвечавший за торговлю Восточной Германии с Западом, доказывал, что Ульбрихт не должен соглашаться с позицией Хрущева, который займется растущими проблемами только после встречи с Кеннеди. Они не могли ждать. Они должны были немедленно принимать меры.
Раздраженный Ульбрихт, никогда прежде не выступавший так искренне перед товарищами по партии, осудил Хрущева за его «ненужную терпимость» в отношении берлинской проблемы. Ульбрихт знал, что КГБ отразит в отчете его выступление на политбюро, но не постеснялся в выражениях. Недовольство Хрущева означало для него намного меньше, чем недовольство длительным бездействием Хрущева. Ульбрихт напомнил коллегам, что он первым открыто заявил, что весь Берлин должен считаться частью территории Восточной Германии, а Хрущев уже потом согласился с ним.
Ульбрихт заявил, что он снова должен взять инициативу на себя.
Через много лет Запад узнал – после опубликования секретных восточногерманских и советских документов, – как повлияли на дальнейшие события решительные действия Ульбрихта в первые дни 1961 года. Его решение увеличить давление на Хрущева, несмотря на возможные негативные последствия лично для него, соответствовало его карьере, во время которой ему приходилось неоднократно сталкиваться с советской и внутренней оппозицией, создавая государство, которое было более сталинистским, чем мог предположить даже Сталин.
Ульбрихт, как и его наставник Сталин, был маленького роста, всего 163 см, и, как у Сталина, у него были физические недостатки. У Сталина – следы от оспы на лице, проблемы с ногой и сухая левая рука, в результате перенесенной в детстве болезни. Отличительной особенностью Ульбрихта был писклявый фальцет, появившийся после того, как в восемнадцатилетнем возрасте он переболел дифтерией. Он втолковывал самые острые вопросы на своем зачастую непонятном саксонском диалекте на повышенных тонах, и слушатели ждали, когда он успокоится и понизит тон на пару октав. В 1950-х годах его антиимпериалистические речи – как правило, он был одет в мятый костюм и галстук, который категорически не подходил к рубашке, – сделали его объектом насмешек жителей Восточной Германии (более смелых и более пьяных) и комиков из западногерманских кабаре. Вероятно, в ответ Ульбрихт сократил свои речи и начал носить отглаженные двубортные костюмы с галстуками серебристо-серого цвета. Однако это не оказало особого влияния на отношение к нему со стороны других людей.
Ульбрихт, как Сталин, был фанатиком, помнившим имена людей, подмечавшим их привязанности, не пропускавшим ни одного проступка. Это была полезная информация, позволявшая управлять друзьями и уничтожать врагов. Он испытывал недостаток красноречия и сердечности, недостаток, который лишил его возможности завоевать популярность, но он компенсировал это организаторскими способностями, которые были крайне важны для управления планово-централизованной, авторитарной системой. Восточная Германия, конечно, была намного меньше советской империи Сталина, но Ульбрихт, несмотря ни на что, с той же ловкостью, что советский диктатор, захватил ее, удерживал и достиг невероятных результатов.
Ульбрихт отличался пунктуальностью и был приверженцем привычек. Он начинал каждый день с десятиминутной гимнастики и в рифмованных лозунгах проповедовал соотечественникам важность регулярных физических упражнений. Зимними вечерами он вместе с женой Лотте катался на коньках по замерзшему озеру, причем требовал, чтобы поверхность озера была идеально гладкой, без единой царапины. Ульбрихт, в отличие от Сталина, не казнил своих настоящих врагов и тех, кого принимал за врагов, целеустремленно двигался к цели, навязав большевистскую систему оккупированной Советами трети разрушенной послевоенной Германии. И он действовал вразрез с указаниями Сталина и кремлевских чиновников, которые сомневались, что их специфический метод построения коммунизма подойдет немцам, а потому не рисковали навязывать его.
Ульбрихт никогда не испытывал неуверенности. Чуть ли не с первой минуты краха нацистской Германии Ульбрихт представлял, какой будет советская оккупированная зона. 20 апреля 1945 года в шесть утра, всего за несколько часов до смерти Гитлера, от гостиницы «Люкс», в которой жили эмигрировавшие из своих стран коммунистические лидеры, отъехал автобус с будущим восточногерманским лидером и еще десятью немцами, так называемой «группой Ульбрихта». Сталин поручил Ульбрихту помочь в создании временного правительства и восстановлении коммунистической партии Германии.
По словам самого молодого члена группы, двадцатитрехлетнего Вольфганга Леонхарда, с момента приземления на немецкой земле «Ульбрихт вел себя как диктатор» по отношению к местным коммунистам, которые, по его мнению, не могли управлять послевоенной Германией. Ульбрихт бежал из нацистской Германии в Испанию для участия в гражданской войне, а оттуда эмигрировал в Москву. Он не скрывал своего презрения к немецким коммунистам, которые остались в Третьем рейхе, но не смогли убить Гитлера, оставив это трудное дело иностранцам.
Ульбрихт продемонстрировал стиль своего руководства, когда в мае 1945 года принимал группу из ста секретарей партийных организаций. Несколько человек утверждали, что первейшая задача состоит в том, чтобы прекратить массовое изнасилование немецких женщин. Некоторые призывали Ульбрихта дать врачам право прерывать такие беременности. Некоторые требовали добиваться наказания виновных красноармейцев.
«Люди, которые сегодня так возмущаются подобными вещами, лучше бы возмущались, когда Гитлер начал войну, – резко оборвал их Ульбрихт. – Я не позволю давать волю эмоциям. Разговор окончен. На сегодня все. Совещание переносится».
В будущем часто будет наблюдаться картина, когда потенциальные противники Ульбрихта будут молчать, полагая, что он получил благословение Сталина. Но дело в том, что Ульбрихт с самого начала нарушал приказы Сталина. К примеру, в 1946 году советский диктатор потребовал, чтобы Ульбрихт объединил свою коммунистическую партию Германии, КПГ, с менее доктринерской социал-демократической партией, СДПГ, с целью создания социалистической единой партии Германии, СЕПГ. Вместо этого Ульбрихт очистил социал-демократическую партию от многих ключевых фигур, чтобы гарантированно оставить за собой руководство и создать даже более догматическую партию, чем добивался Сталин.
В апреле 1952 года Сталин сказал Ульбрихту, что, «хотя в настоящее время в Германии создаются два государства, вам не следует кричать о социализме». Сталин отдавал предпочтение единой Германии со всеми национальными ресурсами, той, которая вырвется из американских объятий, а не кургузому государству Ульбрихта внутри советского блока. Однако у Ульбрихта были свои планы, и он проводил кампанию по созданию своей собственной сталинистской Восточной Германии путем национализации 80 процентов отраслей промышленности и исключения из высших учебных заведений детей так называемой буржуазии.
В июле 1952 года Сталин принял план Ульбрихта относительно принудительной коллективизации и массовых репрессий. После смерти Сталина еще более усилилось неприятие политики Ульбрихта, и известно по крайней мере два случая, когда либерально настроенные партийные товарищи пытались скинуть Ульбрихта. Обе попытки провалились после того, как советские войска подавили сначала восстание в Восточной Германии, а затем восстания в Венгрии в 1953 и 1956 годах – восстания, вызванные реформами, против которых выступал Ульбрихт.
Ульбрихт был более решительно, чем Сталин, настроен создать сталинистскую Восточную Германию и готов более решительно, чем Хрущев, защищать свое творение. Выступая на заседании политбюро 4 января 1961 года, он заявил, что Восточная Германия во многом сама виновата в том, что поток беженцев не иссякает. Он заявил, что партия должна направить силы на решение проблем, связанных с нехваткой жилья, низкой заработной платой и недостаточными пенсиями, и что к 1962 году надо сократить рабочую неделю с шести до пяти дней. Он выразил недовольство тем, что 75 процентов покинувших страну были в возрасте до двадцати пяти лет, а это свидетельствовало о том, что учебные заведения Восточной Германии не обеспечивают необходимую подготовку.
Самым важным решением, принятым на чрезвычайном заседании политбюро, было одобрение плана Ульбрихта по созданию рабочей группы, задача которой заключалась в разработке планов по «блокированию» потока беженцев. Ульбрихт привлек к этой работе трех своих самых преданных, надежных и изобретательных заместителей: государственного секретаря по вопросам безопасности Эриха Хонеккера, министра внутренних дел Карла Марона и министра государственной безопасности Эриха Мильке.
Теперь он был готов сосредоточить свое внимание на Хрущеве.
Федеральная канцелярия, Бонн
Вторник, 5 января 1961 года
По традиции первыми поздравить Конрада Аденауэра с восемьдесят пятым днем рождения пришли дети-сироты, католики и протестанты. В десять утра два мальчика, одетые в костюмы гномов, и девочка в наряде Белоснежки вошли в кабинетный зал, где первый и единственный канцлер Западной Германии принимал доброжелателей. У одного гнома были красные штаны, синий плащ и красная шапка, а у другого – синие штаны, красный плащ и синяя шапка. У обоих были одинаковые белые бороды, и они испуганно жались друг к другу, когда няни подталкивали их к одному из великих людей в истории Германии, который сопел из-за сильного насморка.
Друзья канцлера были убеждены, что сильное беспокойство по поводу выборов Кеннеди сказалось на самочувствии Аденауэра. Перед выборами он простудился, подхватил насморк, простуда перешла в бронхит, а затем началась пневмония. Только теперь дело пошло на поправку. Хотя публично канцлер преувеличенно радостно поздравил Кеннеди с победой, в душе он опасался, что американцы выбрали человека порочного и безвольного. Федеральная разведывательная служба доложила Аденауэру о частых супружеских изменах Кеннеди, слабость, которую в своих интересах будут использовать коммунисты. Однако эта сторона жизни Кеннеди была только одной из многих причин, вызывавших беспокойство канцлера. Аденауэр пришел к выводу, что Кеннеди, который был на сорок два года моложе, является кем-то средним между «младшим лейтенантом военно-морского флота и римско-католическим бойскаутом», недисциплинированным и наивным одновременно.
Аденауэр знал, что Кеннеди не слишком высокого мнения о нем. Молодой президент считал канцлера реакционным пережитком, значительное влияние которого в Вашингтоне ограничивает гибкость американцев на переговорах с Советами. Кеннеди хотел, чтобы на предстоящих выборах победил противник Аденауэра, социал-демократ Вилли Брандт, обаятельный сорокасемилетний бургомистр Берлина. Команда Брандта представляла избирателям своего кандидата как «немецкого Кеннеди».
В 1961 году Аденауэр столкнулся с четырьмя проблемами: энергичным Кеннеди, потерпевшим поражение Брандтом, упирающимся Хрущевым и неизбежным биологическим фактом собственной смерти. Несмотря на это, канцлер с улыбкой слушал, как Белоснежка и гномы декламируют стихи о лесных зверях и своей любви к нему. Дети подарили ему сделанные своими руками подарки, а Аденауэр вручил каждому из них шоколад фирмы «Саротти».
На следующий день в газетах появилась фотография одного из великих людей в истории Германии с напряженным лицом, который выглядел довольно странно рядом с тремя испуганными детьми в костюмах персонажей из сказки братьев Гримм.
Что ж, таковы издержки успеха.
Молодая страна Аденауэра набирала силы. К 1961 году в среднем ежегодный рост дохода на душу населения составлял 6,5 процента. Страна достигла полной занятости, стала третьим по величине производителем автомобилей в мире, заняла третье место в мире по экспорту. Ни одна развитая страна не показывала таких результатов.
Аденауэр, состоявший из противоречий, временами забавных, мало походил на героя, добившегося таких успехов. Он был консерватором, любителем застольных песен, убежденным католиком, которому нравилось, что Черчилль спит после обеда голым, и ярым антикоммунистом, управлявшим демократией с авторитарным пылом. Он жаждал власти, но часто, когда напряжение становилось слишком большим, уезжал отдыхать в Италию на озеро Комо. Он добивался интеграции Германии в западный блок. Он любил Германию, но боялся немецкого национализма.
Дин Ачесон, государственный секретарь президента Гарри Трумэна, рассказывая о своем давнем друге Аденауэре, называл его «чопорным и загадочным», но подчеркивал, что он ценит хорошую шутку и тесную мужскую дружбу. Он сдержан и не спешит откровенничать. Вот как описывал его Ачесон: «Он медленно двигается, скуп на жесты, говорит спокойно, коротко улыбается, хихикает, а не смеется». Ачесон отдавал должное острому уму Аденауэра, выступавшего против политиков, которые отказывались извлекать уроки из истории. «Бог допустил большую ошибку, ограничив разум человека, а не его глупость», – часто повторял Аденауэр в разговоре с Ачесоном.
Утром в день своего рождения Аденауэр бодро прошел в кабинетный зал, где принимал своих гостей. С медицинской точки зрения после автокатастрофы, в которую Аденауэр попал в 1917 году, его лицо удалось восстановить, но из-за того, что оно было обтянуто пергаментной кожей, он скорее напоминал тибетца, чем немца. Некоторые находили сходство его профиля с профилем индейца на американском никеле (монета в пять центов).
Аденауэр находился у власти двенадцать лет, ровно столько, сколько господствовал Гитлер, и он использовал это время на то, чтобы уничтожить большую часть вреда, который причинил Германии его предшественник. Если Гитлер разжигал национализм, расизм, антисемитизм и войну, то Аденауэр видел спокойную и мирную Германию в составе Европы с собой в качестве хранителя Германии в сообществе цивилизованных стран.
В 1953 году, спустя всего восемь лет после краха Третьего рейха, журнал «Тайм» выбрал Аденауэра человеком года, назвав его Германию «самой сильной страной на континенте». С тех пор Аденауэр опирался на свою репутацию, присоединяясь к НАТО и договариваясь об установлении дипломатических отношений с Хрущевым в Москве в 1955 году, а затем в 1957 году во главе своих христианских демократов одерживая подавляющую победу на парламентских выборах.
По его мнению, разделение Германии и Берлина было в большей степени следствием, чем причиной напряженности между Востоком и Западом. Таким образом, единственный безопасный способ воссоединить Германию – через воссоединение Европы, как части западного сообщества, и только после этого может быть достигнута значительная разрядка между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Вот почему в марте 1952 года Аденауэр отклонил предложение Сталина о воссоединении, нейтралитете, демилитаризации, денацификации и выводе войск оккупационных держав.
Критики Аденауэра возмущались, что это решение не прозорливого лидера, а скорее политика-оппортуниста. Действительно, католики рейнских земель потерпели поражение, если бы пруссаки-протестанты, имевшие преобладающее влияние в Восточной Германии, участвовали в голосовании. Однако подозрения Аденауэра в отношении истинных мотивов русских были полностью оправданны. Позже он объяснил, что «цель русских не оставляла сомнений. Советская Россия, как и царская Россия, стремилась завладеть новыми территориями в Европе и подчинить их».
По мнению Аденауэра, из-за того, что после войны союзники не учли этого момента, Советы проглотили большую часть довоенной Германии и посадили в Восточной Европе подчиненные правительства. В результате его Западная Германия оказалась «между двумя мощными блоками, преследующими абсолютно разные цели. Нам пришлось бы присоединиться к той или другой стороне, если мы не хотели быть размолотыми между ними». Аденауэр никогда не рассматривал нейтралитет в качестве альтернативы. Он хотел присоединиться к той стороне, которая разделяла его взгляд на политическую свободу и личные права и свободы.
За два дня, отведенные на празднование дня рождения, сценарий которого был рассчитан скорее на монарха, чем на демократического лидера, Аденауэр принял европейских лидеров, послов, лидеров еврейских организаций Германии, руководителей политической партии, председателей профсоюзов, редакторов, промышленников, фольклорные группы в ярких костюмах и своего политического соперника Вилли Брандта. Кельнский архиепископ даровал благословение. Министр обороны Йозеф Штраус явился во главе делегации генералов.
На поздравления отводилось четко определенное время: членам семьи – двадцать минут, членам правительства – десять, остальным меньше пяти минут. Аденауэр пришел в ярость, когда западногерманская пресса сообщила, основываясь на информации источника из правительства Аденауэра, что из-за его слабого здоровья празднование 85-летия растянули на два дня, чтобы у юбиляра была возможность отдохнуть между посетителями. Аденауэр заявил, что истинная причина заключалась в том, что сотрудники протокольного отдела не могли при всем желании вместить всех желающих поздравить Der Alte, Старика, как любовно называли его соотечественники, в один день.
Празднование было омрачено беспокойством Аденауэра относительно Кеннеди. В период проведения предвыборной кампании Кеннеди откровенно сказал, что «основная проблема в том, что нам трудно понять друг друга, потому что Аденауэр для меня слишком стар, а я для него слишком молод». Но дело, конечно, было не в том, что Аденауэр был почти в два раза старше Кеннеди. У них, помимо католицизма, было мало точек соприкосновения в силу различий в характерах, происхождении, окружении.
Кеннеди родился в богатой и влиятельной семье и с молодости окружил себя очаровательными и красивыми женщинами. Он, испытывая нетерпение, искал новые идеи и решения старых проблем. Аденауэр родился в XIX веке в простой семье. Его отец, мелкий государственный служащий, участвовал в сражении при Кениггреце, самом крупном сражении австро-прусской войны, которое открыло путь к объединению Германии. Аденауэр высоко ценил порядок, опыт и способность размышлять, в отличие от Кеннеди, опиравшегося на талант, интуицию и пустые обещания.
Президент Эйзенхауэр считал Аденауэра одним из великих людей в истории XX века, человеком, противостоявшим националистическим и нейтралистским чувствам немцев. По мнению Эйзенхауэра, Аденауэр помог разработать принципы и средства для сдерживания Западом советского коммунизма. Он заявлял, что для успешных переговоров с Советским Союзом Западу необходимо проводить политику «с позиции силы» в отношении Советского Союза.
Совет по национальной безопасности (СНБ) при Эйзенхауэре подвел итог своему восхищению Аденауэром в совершенно секретном отчете, врученном команде Кеннеди в переходный период. «Основным событием в Германии в 1960 году был заметный рост уверенности в собственных силах и независимости», – отмечалось в отчете СНБ, консультативном органе при президенте США, координирующем действия всех ведомств, связанных с решением наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней политики. Западная Германия, говорилось в отчете, появилась как национальное государство, и население больше не рассматривало ее как временную конструкцию неминуемого объединения. Западная Германия – «преемник рейха и ос нова будущей воссоединенной Германии».
Благодаря этому Аденауэр получил полное право на создание страны, которая была столь успешной, что даже социал-демократы отказались от своего доктринерского социализма в надежде одержать победу на выборах. Высокую оценку получила крепкая экономика Западной Германии, ее твердая валюта, экспортные успехи, национальный рынок.
Аденауэр вызывал восхищение и у американского посла в Бонне Уолтера Доулинга. В его памятной записке, составленной в переходный период, говорилось: «Его [Аденауэра] уверенность в себе, питаемая убеждением, что его понимание политической действительности полностью доказано событиями последних лет, непоколебима. В свои восемьдесят пять он по-прежнему отожествляет использование им политической власти с благосостоянием и судьбой немцев. Он рассматривает свою победу на предстоящих выборах как необходимое условие для безопасности и процветания страны». Отсюда следует, что «Аденауэр сохраняет центральное место в политической жизни, он сохранил острый ум и политическую интуицию».
Все это не оказывало никакого влияния на мнение Кеннеди, которое он изложил в статье, напечатанной в журнале «Форин афферс» осенью 1957 года; статья по-прежнему вызывала интерес, и ближайшее окружение Аденауэра с тревогой читало эту статью. Тогдашний молодой сенатор от Массачусетса выражал недовольство тем, что правительство Эйзенхауэра, как до этого правительство Трумэна, «позволяет слишком туго привязывать себя к единственному немецкому правительству и партии. Вне зависимости от результатов выборов эпоха Аденауэра закончилась». Он считал, что «социалистическая оппозиция» доказала свою преданность Западу и что Соединенные Штаты должны готовиться к демократическим переменам в Европе. «Соединенные Штаты поступают необдуманно, гоняясь за тенями прошлого, игнорируя политическое руководство и не обращая внимания на поколение, достигающее совершеннолетия», – говорилось в статье Кеннеди.
Совет по национальной безопасности при Эйзенхауэре изобразил Аденауэра не как тень прошлого, а как человека, чье влияние еще больше возросло с получением парламентского большинства в результате выборов 1957 года. СНБ рассматривал Аденауэра, вместе с де Голлем, преследовавшим более националистические и антиамериканские настроения, основным звеном в европейской интеграции и трансатлантических отношениях. Помимо этого, западногерманский министр обороны Йозеф Штраус энергично добивался наращивания военной мощи, что сделало Западную Германию самым многочисленным европейским контингентом в НАТО – 291 тысяча человек, 9 дивизий, современные системы вооружения.
В то же время СНБ предупреждал о тенденциях, которые могут поставить под удар отношения, разрушить личные связи между людьми, которые управляют этими государствами. Западные немцы устали от длительного раздела, говорилось в отчете, и начинают сомневаться в том, могут ли они рассчитывать на обязательства Вашингтона.
Избрание Кеннеди усилило страх Аденауэра, что Соединенные Штаты откажутся от Западной Германии. Этот страх продолжал крепнуть начиная со смерти в мае 1959 года его друга и самого преданного американского сторонника Джона Фостера Даллеса, государственного секретаря Эйзенхауэра. Аденауэру удавалось засыпать только после приема больших доз снотворного. Западногерманский канцлер не признавал блестящих молодых советников Кеннеди, теоретиков, которые «никогда не служили на политическом фронте».
Аденауэру было известно о сомнениях Кеннеди на его счет. Еще в 1951 году, во время своего первого визита в Германию, молодой конгрессмен Кеннеди пришел к выводу, что не канцлер Аденауэр, а лидер социал-демократов Курт Шумахер является «самой сильной политической фигурой в Германии». Шумахер, проигравший с незначительным отставанием на первых выборах в Западной Германии двумя годами ранее, был готов принять предложение Сталина и отказаться от членства в НАТО и более глубокой европейской интеграции. Ачесон считал Шумахера «злым, вспыльчивым человеком», стремившимся ослабить связь Германии с Западом. Даже после смерти Шумахера в 1952 году социал-демократы продолжали выступать против членства Западной Германии в НАТО.
Кеннеди уже и раньше делал ошибочные выводы в отношении Германии. В 1937 году, когда Гитлер был уже четыре года у власти, он, будучи студентом, путешествовал по Европе. Тогда он написал в своем дневнике: «Спать ложусь рано… Похоже, в ближайшем будущем войны не будет. Франция очень хорошо подготовилась для Германии. Нерушимость альянса Германии и Италии тоже под вопросом».
«Никаких экспериментов!» Это был и лозунг Аденауэра на выборах 1957 года, на которых он одержал победу, и его совет Эйзенхауэру относительно Берлина и Советского Союза. В отличие от Аденауэра Кеннеди был экспериментатором. Он надеялся, что перемены в советском обществе дадут шанс для проведения более плодотворных переговоров. «Мы должны быть готовы рискнуть, чтобы привести к ослаблению напряжения в холодной войне», – говорил он в то время, предлагая новый подход к русским, который может положить конец «агрессивной, на грани войны фазе… в долгой холодной войне».
Аденауэр считал подобные высказывания наивными, и это мнение укрепилось после его исторической поездки в Москву в 1955 году, чтобы договориться об установлении дипломатических отношений и освобождении немецких военнопленных. Аденауэр надеялся, что сможет вернуть домой 190 тысяч военнопленных и 130 тысяч гражданских лиц из 750 тысяч взятых в плен, которые, предполагалось, были взяты в плен и похищены и затем заключены в тюрьму.
Жизнь не подготовила Аденауэра к словесным оскорблениям и переговорам в унизительной форме. Когда советские руководители сообщили своему немецкому гостю, что в советских лагерях находится 9628 немецких «военных преступников», Аденауэр спросил, что случилось с остальными. Остальные, крикнул Хрущев, давно лежат в земле, в холодной советской земле.
Аденауэр был потрясен. «Этот человек, без сомнения хитрый, проницательный, умный и очень опытный, был в то же время грубым и не испытывал раскаяния… озверев, он ударил кулаком по столу. Тогда я тоже погрозил ему кулаком, а вот это он понял».
Хрущев одержал верх над Аденауэром, получив фактически признание Восточной Германии в обмен на незначительное количество военнопленных. Впервые Аденауэр согласился с тем, что в Москве будет два посла от двух Германий. Физическое напряжение от поездки стало причиной двустороннего воспаления легких у Аденауэра. Корреспондент газеты «Цайт» графиня Марион фон Денхоф [21] написала: «Свобода 10 тысяч была куплена ценой рабства 17 миллионов».
Американский посол в Москве Чарльз Болен сказал: «Они обменяли заключенных на легализацию раздела Германии».
Аденауэр, не забывавший об этой неприятной встрече, волновался, что у Кеннеди дела с Хрущевым пойдут еще хуже, хотя ставки были намного выше. По этой причине Аденауэр с трудом скрыл тот факт, что отдавал предпочтение Никсону. После того как Никсон потерпел поражение на выборах, Аденауэр отправил ему письмо с выражением соболезнования: «Могу себе представить, что вы чувствуете». Было ясно, что он разделяет боль Никсона.
Но в свой восемьдесят пятый день рождения Аденауэр временно отложил в сторону проблемы и наслаждался лестью поклонников.
Утро началось с литургии, совершенной сыном Аденауэра Паулем в больнице Святой Елизаветы в Бонне, за которой последовал завтрак с врачами и медсестрами. Затем Аденауэр присутствовал на католической службе в Рендорфе, небольшой уютной деревушке, расположенной на правом берегу Рейна напротив Бонна, где он обосновался в 1935 году. Малые размеры Бонна указывали на временность такой столицы. Согласно официальному объяснению, Бонн, в силу своей провинциальности и незначительных размеров ставший временной столицей Западной Германии, не хотели связывать с главным городом страны, поскольку оставалась надежда на объединение Германии и восстановление Берлина в качестве столицы единой Германии. Однако немцы знали, что выбор Бонна удовлетворял образу жизни Аденауэра.
В Бонне все было так, как нравилось Аденауэру, – спокойно и неторопливо. Берлин находился примерно в шестистах километрах, но Аденауэр редко посещал город, прусское очарование которого было утрачено в Рейнланде [22].
Он считал, что Германия, как древняя Галлия, делится на три части в зависимости от выбора алкогольных напитков. Он называл Пруссию – страной любителей шнапса, Баварию – землей любителей пива, а свой Рейнланд – землей любителей вина. Из жителей всех трех земель, считал Аденауэр, только пьющие вино достаточно трезвые, чтобы управлять остальными.
Из окна кабинета канцлера были видны голые деревья в снегу на берегу Рейна, освещенного утренними лучами солнца. В кабинете стояли высокие напольные часы с маятником, на стене висела картина Уинстона Черчилля, на которой был изображен греческий храм (подарок художника), и стояла созданная в XIV веке статуя Мадонны, подаренная кабинетом министров на его 75-летие. Он сам подрезал розы и поставил их в высокую хрустальную вазу. Аденауэр говорил друзьям, что если бы не был политиком, то стал бы садовником.
Празднование дня рождения Аденауэра проходило согласно разработанному сценарию спокойно и размеренно – оживление внесли только внуки Аденауэра. Когда президент Западной Германии Генрих Любке осыпал похвалами и перечислял достижения канцлера, в кабинетный зал ворвались внуки юбиляра – двадцать один ребенок. Министр экономики Людвиг Эрхард заявил, что благодаря Аденауэру немцы присоединились к сообществу свободных народов.
За два дня празднования Аденауэр в общей сложности принял триста гостей и сто пятьдесят подарков. Но ни один визит не явился большим откровением, чем визит 47-летнего бургомистра Берлина Вилли Брандта, который был и соперником Аденауэра, и его противоположностью. Урожденный Герберт Фрам, незаконнорожденный сын продавца из Любека, всю жизнь член левой партии, бежал от гестапо в Норвегию, где в целях безопасности сменил имя. Когда немцы вторглись в Норвегию, он переехал в Швецию, где оставался до конца войны.
Вилли Брандт пришел выразить свое уважение, а это говорило о том, как далеко продвинулась политика Западной Германии. Социал-демократы пришли к выводу, что их политическая платформа (нейтралитет и близость с Советами) никогда не позволит им одержать победу на выборах. Итак, в ноябре 1959 года на чрезвычайном съезде социал-демократической партии, который проходил в Бад-Годесберге, и на съезде в Ганновере в ноябре 1960 года, когда кандидатом в канцлеры был выдвинут Вилли Брандт, они пересмотрели свою программу внутренней политики и признали необходимость членства Западной Германии в НАТО.
Годом раньше в день рождения Аденауэра пресс-служба социал-демократической партии обвинила канцлера в злоупотреблении властью, а его кабинет в деспотичных и циничных действиях. В этом году Брандт лично пришел поздравить юбиляра, а социал-демократ Карл Шмидт вручил букет из восьмидесяти пяти красных роз.
Однако Аденауэр не верил в перемену убеждений Брандта и его социалистов. Он считал Брандта вероломным противником из-за его шарма, исключительной политической ловкости и потому, что он был наиболее заслуживающим избрания представителем социал-демократов. В итоге Аденауэр воспользовался одним из своих политических приемов: он изобразил своего самого опасного соперника самым презренным из людей и подверг сомнению его происхождение и подлинность его патриотизма. На заседании своей правящей партии Аденауэр попросил уделять особое внимание Брандту. Позже на другом заседании он объяснил присутствующим, что тот, кто хочет быть канцлером, должен иметь характер и безупречное прошлое, чтобы народ мог доверять ему.
Когда Брандт спросил Аденауэра, глядя ему в лицо, действительно ли необходимо такое враждебное соперничество, канцлер, сделав невинное лицо, сказал, что скажет Брандту, если у него будет что-нибудь против него, однако продолжил составлять заговор против Брандта. Некоторые не были уверены в том, что Аденауэру в его возрасте стоит избираться на следующий срок, но ничто больше не наполняло его молодой энергией, чем желание нанести поражение социалистам.
В новогоднем выступлении по радио Аденауэр, в частности, сказал: «В 1961 году будет двенадцать месяцев. С этим никто не поспорит. Что произойдет в течение этих двенадцати месяцев, никто в мире не знает. Слава богу, 1960 год не обрушил катастрофу на наши головы. И мы хотим в 1961 году как прежде упорно и старательно трудиться. Я надеюсь, что катастрофы обойдут нас стороной и в 1961 году».
Самой несбыточной мечтой Der Alte, Старика, была мечта прожить год без катастроф, чтобы хватило времени на разрушение советского блока с помощью политики силы и европейской интеграции. Он был убежден, что в 1961 году Хрущев будет испытывать Кеннеди и будущее Германии остается неясным. В начале января 1961 года на заседании кабинета он сказал: «Нам всем необходимо сохранять самообладание. Никто не в состоянии действовать в одиночку. Мы должны действовать сообща».
По окончании празднования юбилея секретарь Аденауэра Аннелисе Поппинга заметила, что канцлер должен замечательно себя чувствовать, видя такое отношение к себе.
Аденауэр удивленно спросил: «Вы действительно так думаете? Когда вы будете такой же старой, как я сейчас, наступит одиночество. Все люди, которых я знал, все те, о ком я заботился, мои жены, мои друзья, умерли. Никого не осталось. Так что это печальный день».
Просматривая вместе с ней кучу пришедших поздравлений, он говорил об усилиях, которые придется приложить в наступающем году, о поездках в ближайшее время в Париж, Лондон и Вашингтон, о необходимости прижать Брандта и сделать свободным Берлин. «Старики – бремя, – сказал он. – Я могу понять тех, кто так много говорит о моем возрасте и хочет избавиться от меня. Не позволяйте дурачить себя. Большинство не знает, как я себя чувствую и насколько здоров. Они думают, что, раз мне восемьдесят пять лет, я должен плохо передвигаться и с головой у меня не все в порядке». Затем, отложив в сторону бумаги, он встал и сказал на своем безупречном итальянском: «La fortuna sta sempre all’altra riva» («Удача всегда на противоположном берегу реки»).
Даже в самые мрачные моменты жизни Аденауэр знал, что свободное волеизъявление немецкого народа и неудержимый динамизм экономики удержат на плаву Федеративную Республику Германию и она выиграет борьбу с коммунизмом. Неопытность Кеннеди и социализм Брандта несли опасность, но она не могла сравниться с той реальной опасностью, с которой столкнулась Восточная Германия Ульбрихта, – массовым бегством своих граждан.
Неудавшийся побег Фридриха Брандта
Фридрих Брандт прятался на сеновале, когда в его дом ворвались сотрудники народной полиции. Брандт знал, в чем его преступление: он отказывался выполнять приказ о коллективизации. Семейная ферма была собственностью Брандта и средством к существованию на протяжении четырех поколений.
Жена Брандта плакала, а его тринадцатилетний сын стоял с каменным лицом, когда полицейские обшаривали комнаты, вываливали вещи на пол, скидывали матрасы, срывали со стен рамки с фотографиями, опрокидывали книжные полки в поисках доказательств в инкриминируемом деянии. Они искали письмо, которое несколькими неделями раньше фермер Брандт отправил президенту Восточной Германии Вильгельму Пику.
Брандт был уверен, что Пик, в начале трудовой деятельности работавший плотником, которого он считал честным, трудолюбивым человеком, защитит фермеров и их собственность, если кто-нибудь скажет ему о нарушениях при проведении коллективизации. И он написал письмо.
«Уважаемый президент Вильгельм Пик!
Представители муниципального совета лишили меня права заниматься сельским хозяйством, несмотря на то что мое зерно и урожай высочайшего качества, в то время как на полях коллективного хозяйства, управляемого фермером Глязером, гниет картофель.
Я хочу узнать, почему полиция конфисковала все мое сельскохозяйственное оборудование и инвентарь. Они забрали моих прекрасных молодых лошадей, чтобы пустить их на мясо. Я считаю это преступлением и прошу Вашей помощи в скорейшем расследовании этих событий. А если это невозможно, то прошу дать мне выездную визу, чтобы я мог уехать из ГДР и остаток отведенных мне лет жить спокойно и забыть об этой несправедливой стране. За свободу и единство!
Фридрих Брандт ».
Брандт был всего лишь одним из тысяч восточных немцев, павших жертвой ускоренной коллективизации сельского хозяйства и национализации промышленности в соответствии со вторым пятилетним планом 1956–1960 годов. После того как две попытки реформаторов свергнуть Ульбрихта потерпели неудачу, лидер Восточной Германии выполнял сталинский план с удвоенной энергией.
За первые два года пятилетки появилось 6 тысяч сельскохозяйственных кооперативов, которые вскоре получили известность как ЛПГ, сокращенное словосочетание Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft. Но Ульбрихту этого было недостаточно, поскольку 70 процентов всей пахотной земли все еще принадлежало 750 тысячам частных ферм. В 1958–1959 годах коммунистическая партия направила в деревни агитационные команды, чтобы с помощью уговоров и запугиваний заставлять местных жителей «добровольно» вступать в коллективные хозяйства. К концу 1959 года государство установило невыполнимые нормы для тех фермеров, которые сохранили личные хозяйства. Фермеров, сопротивлявшихся коллективизации, начали сажать в тюрьму.
Брандт был одним из немногих, кто держался до конца. К тому времени во владении 19 тысяч ЛПГ и десятков других государственных хозяйств находилось 90 процентов пахотной земли, и они производили 90 процентов сельскохозяйственной продукции. Это было замечательным достижением. Правда, какой ценой! Десятки тысяч квалифицированных руководителей и фермеров покинули страну, а государственными предприятиями руководили люди, больше проявившие себя в преданности партии, чем в успешном управлении.
Запугав семью Брандта, полицейские покинули ферму. Они лишили Брандта и его жену возможности сбежать на Запад, забрав их удостоверения личности; они оставили их без документов в стране, где нормой были частые проверки документов. Позже представители власти собирались вернуться, чтобы арестовать герра Брандта за сопротивление коллективизации и желание сбежать из республики, преступление, которое каралось тремя годами тюремного заключения.
Брандт решил покинуть страну той же ночью, чтобы присоединиться к четырем миллионам, покинувшим советскую зону и Восточную Германию за период с окончания Второй мировой войны по 1961 год. Он, чтобы избежать полицейских проверок в общественном транспорте, поехал ночью на велосипеде к сестре своей жены, которая жила рядом с мостом через канал Тельтов, разделявший Восточный и Западный Берлин. Женщина предложила спрятать его, но, немного подумав, Брандт решил, не дожидаясь утра, продолжить путь на Запад, пока пограничные посты не получили его описание и полиция не начала проверять дома его родственников. Брандт надеялся, что ему удастся избежать проверки личности и он пересечет границу, как это каждый день делают десятки тысяч людей, которые работают в Западном Берлине, ходят туда в магазины и в общественные места.
Когда на следующий день жена Брандта узнала от сестры о решении мужа, она тоже решила сбежать на Запад вместе с сыном. Сестра, с которой они были похожи, дала ей свое удостоверение личности. Если бы ее поймали, то, чтобы не подводить сестру, она сказала бы, что украла документы. Для нее ничего не значила жизнь без Фридриха.
Когда восточногерманская полиция остановила ее на том же самом мосту, по которому, вероятно, проходил ее муж, она от переживаний упала в обморок. Женщина была уверена, что ее опознали. Но в тот день удача была на ее стороне. Пограничники небрежно проглядели ее документы и позволили пройти. Когда она с сыном пришла в лагерь для беженцев в Мариенфельде в Западном Берлине, в бюро регистрации на ее вопрос о муже ей ответили, что никто с таким именем и внешностью в лагере не зарегистрирован. Три дня прошли в волнении и ожидании, а затем пришел друг мужа из их деревни и рассказал, что Фридриха Брандта схватили на границе и заключили в тюрьму. Ему было предъявлено стандартное обвинение, которое часто использовалось Ульбрихтом, – угроза общественному порядку и антиобщественные действия. Власти оправдали свои действия, заявив, что в его письме содержится клеветническое утверждение относительно Восточной Германии, будто бы она является несправедливой страной.
Друг Брандта уговаривал его жену остаться на Западе, но она не согласилась. «Что я буду делать одна с ребенком на Западе? Я не могу оставить Фридриха одного, в тюрьме, без помощи».
На следующий день она вернулась, надеясь, что сможет получить работу в колхозе, чтобы содержать себя с сыном, пока Фридрих сидит в тюрьме. За недолгой свободой последовали годы молчаливого отчаяния, когда, растворившись в сером восточногерманском обществе, они ждали возвращение мужа и отца.
Арест Фридриха Брандта был маленькой победой Ульбрихта. Но он понимал, что проиграет войну с беженцами без серьезной помощи от Хрущева.
Глава 6. Ульбрихт и Аденауэр: хвост виляет медведем
Мы – государство, которое было создано без наличия сырьевой базы и до сих пор ее не имеющее и которое с открытыми границами находится в центре соперничества двух мировых систем… Растущая экономика Западной Германии, видимая каждому гражданину ГДР, является основной причиной того, что за последние десять лет приблизительно два миллиона человек покинули нашу республику.
Вальтер Ульбрихт в письме Хрущеву, 18 января 1961 годаПроведенное нами исследование показало, что нам требуется немного времени, пока Кеннеди более четко определит свою позицию по германскому вопросу и пока не станет ясно, хочет ли правительство США достигнуть взаимоприемлемого решения.
Ответ Хрущева Ульбрихту, 30 января 1961 годаВосточный Берлин
Среда, 18 января 1961 года
Вальтер Ульбрихт еще никогда не писал более важного письма. Хотя письмо было адресовано лично Хрущеву, Ульбрихт понимал, что его содержание станет известно советскому руководству. Он отправил копию письма другим коммунистическим лидерам, которые могли помочь ему оказать давление на Хрущева.
Каждое слово на пятнадцати страницах письма, написанного восточногерманским лидером, звучало максимально убедительно. Прошло всего два месяца с момента последней встречи в Москве, а Ульбрихт вновь утратил веру в то, что Хрущев решит берлинский вопрос. Хрущев просил Ульбрихта набраться терпения, но он не хотел терпеть. Он чувствовал, что его проблемы растут слишком быстро, чтобы не заниматься ими до тех пор, пока Хрущев выяснит отношения с Кеннеди.
«Уже два года прошло с момента заявления товарища Хрущева по вопросу о Западном Берлине в ноябре 1958 года. Ныне, в 1961 году, сложились благоприятные условия для ликвидации, по крайней мере частичной, остатков войны в Западном Берлине и Германии, поскольку правительство Аденауэра не заинтересовано в обострении ситуации накануне кампании по выборам в бундестаг, равно как и президент Кеннеди не желает какого-либо обострения ситуации в первый год своего президентства». Он потратил большую часть письма на то, чтобы доказать, почему пришло время решать берлинский вопрос и что для этого нужно делать. Переговоры относительно статуса Берлина неизбежны, доказывал он.
Далее Ульбрихт беззастенчиво изложил то, что он назвал «требованиями ГДР». Ульбрихт, чувствуя себя скорее руководителем, чем подчиненным, подробно перечислил, чего он ждет от Хрущева в наступившем году. Он хотел, чтобы тот положил конец послевоенным оккупационным правам союзников в Западном Берлине, добился сокращения, а затем вывода западных войск и обеспечил ликвидацию западных радиостанций и шпионских служб со всем их разведывательно-подрывным влиянием.
Длинный перечень надежд, которые Ульбрихт возлагал на Хрущева, затрагивал весь комплекс проблем. Он требовал передачи Восточной Германии всех государственных функций в Берлине, которые по-прежнему оставались за четырьмя державами, от почтовых служб до управления воздушным движением. В частности, он хотел контролировать доступ в Западный Берлин из Западной Германии по воздуху, что позволило бы ему прекратить ежедневные регулярные и чартерные полеты, переправлявшие десятки тысяч беженцев в Западную Германию.
Если бы Ульбрихт смог контролировать весь доступ к Западному Берлину, постепенно с течением времени он лишил бы его возможности быть свободным западным городом. Ульбрихт хорошо помнил о неудавшейся блокаде Берлина, предпринятой Сталиным в 1948 году, но, заявляя об этом требовании, он воспользовался словами Хрущева, что на этот раз Советский Союз будет более успешен, поскольку Москва добилась военного превосходства над Западом и получила в лице Кеннеди менее решительного противника, чем в случае с Трумэном.
Ульбрихт потребовал, чтобы Хрущев немедленно принял решение по трем проблемам и объявил об этом публично.
Хвост пытался вилять медведем.
Во-первых, он хотел, чтобы Хрущев сделал заявление об увеличении Советским Союзом экономической помощи ГДР, чтобы показать Западу, что «экономический шантаж» в отношении его страны не пройдет. Во-вторых, он потребовал, чтобы Хрущев объявил о проведении в апреле советско-восточногерманского саммита, чтобы укрепить репутацию Ульбрихта и его страны на переговорах с Западом. И наконец, он потребовал, чтобы Хрущев созвал совещание стран Варшавского договора для поддержки в военном и экономическом отношении Восточной Германии. В настоящий момент, заявил Ульбрихт, эти страны являются бесполезными наблюдателями. «Хотя они сообщают в прессе о своих проблемах, они, по сути, не привлечены к решению данного вопроса».
Ульбрихт напомнил Хрущеву, что это по милости Советского Союза Восточная Германия оказалась в таком немыслимом положении. «Мы – государство, которое было создано без наличия сырьевой базы и до сих пор ее не имеющей, и которое с открытыми границами находится в центре соперничества двух мировых систем», – выговаривал он Хрущеву.
Ульбрихт, не скрывая обиды, напомнил Хрущеву, что в течение первых десяти послевоенных лет Кремль нанес серьезный ущерб Восточной Германии, изымая экономические ресурсы в счет репараций [23], в то время как США оказывали Западной Германии огромную финансовую помощь в соответствии с планом Маршалла.
Возможно, в то время репарации были оправданны, соглашался Ульбрихт, учитывая страдания, выпавшие на долю Советского Союза во время войны, и необходимость укрепить положение СССР как мирового коммунистического лидера. Однако теперь, настаивал Ульбрихт, Хрущев должен признать, какой вред причинило это Восточной Германии. В период с окончания войны до 1954 года, по словам Ульбрихта, доход на душу населения в Западной Германии был вдвое больше, чем в Восточной Германии. «Вот почему мы до сих пор отстаем от Западной Германии по уровню жизни и производительности труда», – отметил он в письме.
Одним словом, Ульбрихт сказал Хрущеву: « Из-за вас мы попали в беду, и вы больше всех потеряете, если мы не уцелеем, поэтому теперь помогайте нам» . Ульбрихт увеличил экономические требования, озвученные в ноябре, которые Хрущев в основном принял. «Растущая экономика Западной Германии, видимая каждому гражданину ГДР, является основной причиной того, что за последние десять лет приблизительно два миллиона человек покинули нашу республику», – заявил Ульбрихт, добавив, что это также позволило западным немцам оказывать «постоянное политическое давление».
Рабочему в Восточной Германии приходится работать в три раза дольше, чем рабочему в Западной Германии, чтобы купить пару обуви, если ему вообще удастся ее найти. В Восточной Германии на 1 тысячу человек приходится 8 автомобилей, в то время как на 1 тысячу граждан Западной Германии приходится 67 автомобилей. Большая часть производимой продукции отправляется в Советский Союз. В результате в 1960 году, когда в Западной Германии доход на душу населения вдвое превышал доход на душу населения в Восточной Германии, резко возрос процент беженцев, со 140 тысяч до 185 тысяч, или 500 человек ежедневно.
По этой причине Ульбрихт призвал Хрущева отказаться от оставшихся репараций и увеличить поставки сырья, полуфабрикатов, мяса и масла. Кроме того, он обратился с просьбой о предоставлении новых кредитов. «Если нам не будет предоставлен кредит, мы не сможем сохранить уровень жизни населения на уровне 1960 года», – сообщил он в письме Хрущеву, добавив, что «мы в сложном положении… и столкнемся с серьезными проявлениями кризиса».
Из письма Ульбрихта Хрущев сделал однозначный вывод: «Если вы не поможете сейчас и немедленно, вы окажетесь перед угрозой нового восстания». Ульбрихт понимал, что Хрущев, переживший в 1957 году попытку переворота в СССР, последовавшую сразу за восстанием в Венгрии, не сможет проигнорировать его предупреждение.
Ульбрихт объединил максималистские требования с угрозами непоправимых последствий, чтобы подстегнуть Хрущева к действиям. Его письмо могло оскорбить советского лидера, но об этом он думал меньше всего. Отказ Хрущева действовать мог положить конец Восточной Германии – и Ульбрихту.
В тот же день Ульбрихт отправил косвенное, но не вызывающее сомнений послание через Пекин.
Ульбрихт направил в столицу Китая делегацию высокого уровня во главе с членом политбюро и верным партийцем Германом Матерном, не спросив разрешения Хрущева, и предварительно не уведомил его. Если учесть, что Ульбрихт был осведомлен об остром споре между Хрущевым и Мао, это был недружественный акт и с точки зрения выбора времени, и с точки зрения исполнения.
Советское руководство было приведено в боевую готовность, поскольку делегация ГДР, летевшая в Пекин, должна была сделать остановку в Москве. Юрий Андропов, в то время заведующий отделом социалистических стран ЦК КПСС, попросил руководителя делегации сообщить ему о цели поездки. Матерн заверил, что делегация направлена для решения чисто экономических вопросов. Ульбрихт понимал, что на это Хрущеву нечего возразить, поскольку потребности Восточной Германии постоянно росли, а Кремль жаловался, что ему все труднее и труднее их удовлетворять.
В Китае делегацию принял Чэнь И, доверенное лицо Мао, легендарный командующий в период китайско-японской войны, маршал народно-освободительной армии Китая. Он сказал Матерну, что Китай рассматривает свою тайваньскую проблему и восточногерманскую проблему Ульбрихта как проблемы, имеющие «много общего». В обоих случаях речь идет об «оккупированных империалистами» неотъемлемых частях коммунистических стран.
Восточные немцы и китайцы договорились оказывать помощь друг другу в возвращении этих территорий. Это был прямой вызов Хрущеву. С точки зрения Китая, Тайвань был восточным фронтом, а Берлин – западным фронтом глобальной идеологической борьбы, – и Хрущев, как коммунистический лидер, действовал нерешительно и там и там. Кроме того, Чэнь пообещал, что Китай поможет выставить американцев из Берлина, поскольку существующая там ситуация отражается на всех фронтах глобальной коммунистической борьбы.
Чэнь напомнил восточным немцам, что в 1955 году Китай обстрелял тайваньские острова Квемой и Матсу, что привело к кризису, во время которого Объединенный комитет начальников штабов США даже рассматривал вопрос о применении ядерного оружия. Китай пошел на этот шаг, сказал Чэнь, не потому, что хотел усилить международную напряженность, а скорее потому, что должен был «показать США и всему миру, что мы не достигли соглашения о статусе Тайваня. Мы также хотели избавить всех от впечатления, что США настолько сильны, что никто не смеет предпринимать никаких действий и следует соглашаться на любые условия, какими бы они ни были оскорбительными».
По мнению Чэнь И, такое же решение было необходимо принять относительно Берлина.
Теплые китайско-восточногерманские отношения резко контрастировали с начавшимся похолоданием в китайско-советских отношениях. Ульбрихту было известно еще с ноябрьской встречи с Хрущевым в Москве, что советский лидер испытывает чувство соперничества к Мао, и он уже разыграл эту карту, добившись увеличения экономической помощи от Москвы. Хрущев тогда заявил, что предоставит такую экономическую помощь, которую не может предоставить Мао, создав совместные с восточными немцами предприятия на советской территории. «Мы не Китай, – сказал он Ульбрихту. – Мы не побоимся поддержать немцев… Проблемы ГДР – наши проблемы».
Спустя три месяца, несмотря на кажущееся перемирие, о котором Хрущев договорился с китайцами на проходившей в ноябре в Москве конференции коммунистических партий, китайцы стали как никогда серьезной проблемой для Хрущева.
В то время когда восточные немцы вели переговоры об экономической помощи в Пекине, китайцы в Тиране подстрекали албанского лидера Энвера Ходжу порвать отношения с Советским Союзом. На IV съезде албанской партии труда, проходившем в Тиране с 13 по 20 февраля, албанские коммунисты сорвали портреты Хрущева и заменили их портретами Мао, Сталина и Ходжи. Еще никто не наносил Хрущеву большего оскорбления в его лагере.
Ульбрихт, безусловно, рисковал, усиливая дипломатическое давление на Хрущева.
Намного более влиятельный Хрущев вполне мог решить, что наконец пришло время заменить Ульбрихта на более покорного и послушного восточногерманского лидера. Он вполне мог решить, что Ульбрихт, приняв решение отправить делегацию в Китай, перешагнул запретную черту. Однако Ульбрихт все правильно рассчитал – у Хрущева не было другого выбора.
Кремль, Москва
Понедельник, 30 января 1961 года
Ответ Хрущева лег на стол Ульбрихта спустя двенадцать дней после того, как восточногерманский лидер отправил Хрущеву письмо и, по совпадению, в день выступления Джона Ф. Кеннеди с обращением «О положении страны». Несмотря на дерзкие требования Ульбрихта, письмо Хрущева было на удивление спокойным.
Советский лидер сообщил Ульбрихту, что члены Центрального комитета «внимательно изучили Ваше письмо» и согласились с большей частью изложенного в нем. Хрущев действительно ознакомил партийных руководителей с письмом, тем самым показав, что признает серьезность критических замечаний Ульбрихта и безотлагательность его требований. Однако Хрущев опять попросил Ульбрихта умерить излишнее нетерпение.
«Мы сейчас начинаем деловое обсуждение этих вопросов с Кеннеди, – сообщил он Ульбрихту. – Проведенное нами исследование показало, что нам требуется немного времени, пока Кеннеди более четко определит свою позицию по германскому вопросу и пока не станет ясно, хочет ли правительство США достигнуть взаимоприемлемого решения».
Советский лидер признал, что чрезвычайные меры, которые Ульбрихт предложил в своем письме, кажутся необходимыми. «Если мы с Кеннеди не придем к взаимопониманию, то, как и договаривались, вместе с вами выберем время для выполнения назначенных мероприятий».
Ульбрихт добился меньше того, чего добивался, но, вероятно, больше того, на что рассчитывал. Хрущев в очередной раз увеличил экономическую помощь. Советский лидер согласился созвать совещание участников Варшавского договора. Из всех требований Ульбрихта Хрущев отклонил только одно – советско-восточногерманский саммит.
Хрущев согласился с поставленным Ульбрихтом диагнозом проблем и не отклонил предложенные Ульбрихтом шаги по оздоровлению. Ульбрихт мог быть доволен, что заставил советскую коммунистическую партию обсуждать берлинскую проблему на высшем уровне.
Хрущев продолжал тянуть время, давая возможность новому американскому президенту прийти к нужному решению. Ульбрихт начал решительно наступать в тот момент, когда Хрущеву не удалось договориться с Кеннеди о переговорах по берлинскому вопросу. Но восточногерманский лидер был уверен, что переговоры состоятся.
И он приказал своей команде рассмотреть варианты в случае непредвиденных обстоятельств.
Белый дом, Вашингтон, округ Колумбия
Пятница, 17 февраля 1961 года
Уже сгущались тучи над американо-западногерманскими отношениями, когда министр иностранных дел Генрих фон Брентано ди Тремеццо вошел в Овальный кабинет со своим портфелем, забитым проблемами Аденауэра.
На протяжении нескольких лет американцы испытывали расположение к западным немцам. Однако теперь, когда в средствах массовой информации появились сообщения о приближающемся суде над нацистским военным преступником Адольфом Эйхманом и вышла в свет книга Уильяма Ширера «Взлет и падение Третьего рейха», моментально ставшая бестселлером, в которой были новые отвратительные подробности не столь отдаленного прошлого Германии, сформировалось негативное общественное мнение.
В начале года министерство иностранных дел Западной Германии предупредило Аденауэра, что «все еще есть некоторое негодование и подозрение, которые пока не проявляются, но могут вспыхнуть от одного толчка».
Западногерманский посол Вильгельм Греве, не желая скрывать раздражения, спросил журналистов на совещании «Атлантик-Брюке», организации трансатлантического сотрудничества, что им следует выбрать, «рассматривают ли они нас как союзников или как безнадежную нацию нарушителей спокойствия».
В инструктивных документах, подготовленных для встречи Кеннеди с Брентано, президента предупреждали, что посол приехал, чтобы выразить беспокойство Аденауэра относительно того, что правительство США может предать западногерманские интересы в Берлине ради соглашения с Советским Союзом. «Немцам хорошо известно, что важные аспекты их судьбы в чужих, а не в их руках», – говорилось в памятной записке, подписанной государственным секретарем Дином Раском. Он советовал Кеннеди заверить Брентано в том, что США не собираются отказываться от обязательства защищать Западный Берлин и не оставляют мысли о проведении переговоров о Берлине с Москвой.
Однако, учитывая прошлый опыт, американские чиновники не верили в умение своих западногерманских партнеров хранить тайну. Американские разведывательные службы полагали, что их западногерманские коллеги не заслуживают доверия. «В то время как была бы желательна искренность, особенно ввиду хронической немецкой подозрительности, – говорилось в записке Раска, – правительство Германии не заслужило репутации правительства, умеющего хранить секреты».
Критики говорили, что 57-летний холостяк Брентано – чья жизнь была посвящена работе – был не более чем благородным, культурным орудием решительного Аденауэра, и министр иностранных дел не слишком старался изменить это мнение. Аденауэр был полон решимости лично руководить внешней политикой своего государства, и ни один независимый деятель не смог бы долго оставаться на месте Брентано. Они расходились во взглядах только по одному вопросу – европейской интеграции. Брентано был представителем более молодого поколения, которое рассматривало Европу как естественную судьбу Германии, а Аденауэр рассматривал европейскую интеграцию скорее как средство для подавления немецкого национализма.
Кеннеди тяжело дался разговор с Брентано, особенно относительно «оценки американским правительством сотрудничества и дружбы с правительством Германии на протяжении прошлых лет». Кеннеди сказал, что очень хочет в скором времени встретиться с Аденауэром и надеется, «что все взаимные проблемы будут решены удовлетворительно».
Политический соперник Аденауэра Вилли Брандт умудрился, опередив Аденауэра, первым прилететь в Вашингтон в марте для личной встречи с Кеннеди, нарушив протокол, согласно которому первым наносит визит глава союзного государства. Раск поддержал визит Брандта, чтобы лишний раз показать «миру нашу решимость поддержать Западный Берлин любой ценой». Он хотел, чтобы встреча с Аденауэром состоялась как можно скорее, чтобы не создалось впечатления, что на предстоящих выборах в Германии Кеннеди отдает предпочтение Брандту.
Кеннеди заверил Брентано, что тот факт, что он не упомянул название Берлина в инаугурационной речи и в своем послании к нации, факт, раздутый немецкой прессой до немыслимых размеров, «ни в коем случае не говорит о потере интереса Соединенных Штатов к берлинскому вопросу». Кеннеди сказал, что просто не хотел провоцировать Советы во время относительного спокойствия в городе. Кеннеди предупредил министра иностранных дел, что ожидает, что в ближайшие месяцы Москва возобновит давление на Берлин, и он хочет услышать предложения Брентано относительно того, что лучше всего противопоставить «хитроумному давлению» Москвы.
Брентано ответил, что отсутствие в речах Кеннеди упоминания Берлина не вызвало особого беспокойства, и Аденауэр даже не включил этот вопрос в тему беседы с президентом. Брентано согласился, что пока не было причины поднимать берлинский вопрос, но добавил, что «рано или поздно нам придется его поднять». Он, нахмурившись, сказал, что «администрация советской зоны не сможет допустить символ свободного Берлина внутри своей красной зоны». Он пояснил Кеннеди, что восточногерманские лидеры «сделают все, что в их власти, чтобы побудить Советский Союз к действиям в отношении Берлина».
По оценке Брентано, 90 процентов населения Восточного Берлина выступало против восточногерманского режима, который он назвал второй по жесткости коммунистической системой после Чехословакии. Люди в обеих Германиях в основном отдают предпочтение западной системе и, следовательно, поддержат объединение, сказал Брентано.
Кеннеди постарался глубже вникнуть в проблему. Он высказал беспокойство, что Советский Союз в одностороннем порядке подпишет сепаратный мирный договор с Восточной Германией, а затем лишит свободы Западный Берлин, сохраняя статус-кво в течение короткого периода, чтобы успокоить Запад.
Брентано согласился, что такой вариант возможен. И что в таком случае должны делать натовские союзники? – спросил Кеннеди.
Брентано объяснил Кеннеди основную идею «политики силы» своего канцлера и сказал, что Советы «не решатся предпринять решительные шаги по Берлину, пока понимают, что западные союзники не потерпят подобных шагов». Пока Кеннеди будет вести себя решительно, сказал Брентано, Советы «возможно, не прекратят угрозы, но не перейдут к решительным действиям». Однако Брентано признал, что последние неудачи Соединенных Штатов в Конго, Лаосе и Латинской Америке увеличили шанс, что Советы проверят Кеннеди относительно Берлина.
Словно подтверждая мнение Брентано, Хрущев стал наращивать давление на Аденауэра в Бонне.
Федеральная канцелярия, Бонн
Пятница, 17 февраля 1961 года
Настоятельные просьбы посла Андрея Смирнова о встрече с Аденауэром редко были связаны с хорошими известиями.
Смирнов, посол Хрущева в Бонне, был средством запугивания советского лидера, поэтому западногерманский канцлер сразу почувствовал недоброе, когда от Смирнова поступила просьба о личной встрече, поскольку выбор времени встречи совпал с посещением его министром иностранных дел Белого дома.
Смирнов вообще-то был обаятельным и учтивым дипломатом, который даже самые неприятные известия сообщал спокойно, не выражая никаких эмоций. Исключительный случай произошел в октябре 1960 года, когда он пришел в ярость от комментариев Людвига Эрхарда во время визита делегации в составе двухсот африканских лидеров из двадцати четырех стран, многие из которых недавно получили независимость. «Колониализм преодолен, – сказал Эрхард, – но хуже колониализма империализм коммунистического тоталитарного образца».
Смирнов, перед тем как выскочить из зала, поднялся с места и крикнул: «Вы говорите о свободе, но Германия убила двадцать миллионов человек в нашей стране!» Это был тот редкий случай публичной демонстрации непреходящего чувства ненависти русских к немцам.
На этот раз Смирнов выполнял привычную работу. Он вручил Аденауэру памятную записку от Хрущева, включавшую девять пунктов и состоявшую из 2862 слов, которая была ярчайшим свидетельством того, что Хрущев вновь вступил на путь конфронтации. В отчетах советских разведывательных служб сообщалось о сомнениях Аденауэра относительно надежности Кеннеди, и Хрущев держал пари, что Аденауэр окажется более восприимчив к просьбам Советского Союза, чем Трумэн и Эйзенхауэр.
«В Западном Берлине возникла абсолютно ненормальная ситуация, которую используют для подрывных действий против Германской Демократической Республики, СССС и других социалистических государств, – говорилось на простом, недипломатичном языке в записке Хрущева. – Этому следует положить конец. Или продолжать идти по пути опасного ухудшения отношений между странами к вооруженному конфликту, или закончить дело мирным договором».
В памятной записке Хрущева Аденауэру, по стилю напоминающей личное письмо, Берлин назывался важнейшей проблемой в советско-германских отношениях. В ней он подверг критике как никогда громкую и решительную общественную поддержку в Западной Германии пересмотра послевоенных соглашений, в соответствии с которыми треть территории Третьего рейха отошла Советскому Союзу, Польше и Чехословакии. «Если у Германии теперь другие границы, чем были у нее перед войной, то в этом виновата она сама», – написал Хрущев, напомнив Аденауэру, что его страна вторглась к своим соседям и уничтожила «миллионы и миллионы».
Хотя советский посол вручил памятную записку Аденауэру, она не в меньшей степени предназначалась и Кеннеди. Советский лидер недвусмысленным способом заявил, что потерял терпение. «Сначала западные лидеры говорили: «Подождем немного, сейчас не время. В США идет подготовка к президентским выборам. Подождем, пока там все закончится». А после выборов они говорят: «Президент и новое правительство США только-только вступили в свои должности и еще не освоились со своими новыми обязанностями». А теперь Москву просят подождать до окончания выборов в Западной Германии. «Если позволить делу идти таким чередом, это может продолжаться до бесконечности».
Письмо содержало характерную для Хрущева смесь приманок и угроз. Он просил Аденауэра использовать «все его влияние и большой опыт государственного деятеля», чтобы обеспечить в Европе мир и безопасность. В то же время он напоминал Аденауэру, что в текущий момент Советский Союз и его друзья обладают силой, необходимой для своей защиты.
Он поднял на смех призыв Западной Германии к разоружению в то время, когда Аденауэр в спешном порядке создавал вооруженные силы и искал доступ к ядерному оружию, пытаясь превратить НАТО в четвертую ядерную власть. Он ругал Аденауэра за заявление, что во время выборной кампании его партия сосредоточится на антикоммунизме. «Если это действительно так, Вы… должны отдавать себе отчет в последствиях», – говорилось в письме.
Правительству Кеннеди еще не исполнилось месяца, а Хрущев уже взял курс на Берлин. Если Кеннеди не желал договариваться на приемлемых условиях, Хрущев был решительно настроен искать другие пути, чтобы получить то, что хотел.
Часть вторая. Собирается буря
Глава 7. Хрущевская весна
Западный Берлин – это кость в горле советско-американских отношений… Если Аденауэр хочет воевать, то Западный Берлин будет подходящим местом для начала конфликта.
Премьер Хрущев американскому послу Льюэллину Е. Томпсону, 9 марта 1961 годаВполне вероятно, что СССР приведет к Берлинскому кризису в этом году. Любые действия опасны и неперспективны. Бездействие еще хуже. У нас нет выбора. Если спровоцируют кризис, самым безопасным, возможно, будет дерзкий, угрожающий курс.
Бывший государственный секретарь, член Исполнительного комитета Совета национальной безопасности Дин Ачесон, памятная записка по Берлину для президента Кеннеди, 3 апреля 1961 годаНовосибирск, Сибирь
Четверг, 9 марта 1961 года
Никита Хрущев выглядел безмерно усталым и был в плохом настроении.
У советского лидера, которого привыкли видеть порывистым и жизнерадостным, было пепельно-серое лицо, потухшие глаза, он тяжело передвигался. Его внешний вид произвел тягостное впечатление на американского посла Льюэллина (Томми) Томпсона и двух его спутников, молодого американского политического советника Бориса Клоссона и Анатолия Добрынина, советского посла в США.
Томпсону понадобилось десять дней уговоров и просьб, прежде чем ему удалось договориться о встрече с Хрущевым, чтобы передать советскому лидеру первое личное письмо президента, в котором было долгожданное приглашение на встречу. После этого ему пришлось пролететь 1800 миль, чтобы поймать Хрущева в Академгородке, научном центре, построенном по приказу Хрущева под Новосибирском.
Хрущев мечтал создать в Сибири лучший в мире центр научных исследований, но, как многие мечты, эта тоже не оправдала его надежд. На прошлой неделе он уволил генетика, теории которого не пришлись ему по вкусу, и приказал сократить план научных тем нового института с девяти до четырех. Недовольство ходом дел в Академгородке негативно сказалось на настроении советского лидера и поубавило у него уверенности.
Поездка по стране отнимала у Хрущева физические и моральные силы, поскольку с каждым днем он узнавал о новых серьезных экономических проблемах своей страны. Албания перенесла свою преданную любовь с Москвы на Китай, подорвав в некоторой степени доверие к Хрущеву как к лидеру мирового коммунизма. Союзник Москвы в Конго Патрис Лумумба был убит, и Хрущев обвинил в этом Генерального секретаря ООН Дага Хаммаршельда.
Что более важно, капиталистический мир оказался намного более гибким, чем предсказывали хрущевские пропагандисты. Деколонизация Африки не смогла пошатнуть положение Запада в развивающихся странах так сильно, как это предсказывали советские эксперты. При всех усилиях Советского Союза разделить альянс углублялась натовская интеграция, а западногерманский бундесвер столь быстро наращивал возможности, что изменил военный баланс в Европе. Президент Кеннеди, и в выступлениях, и в расходах на оборону, показывал себя большим антикоммунистом, чем Эйзенхауэр. И каждый месяц увеличивалось количество беженцев из Восточной Германии. Удача отвернулась от Хрущева, и октябрьский съезд партии должен был стать для него ареной борьбы за выживание.
Столкнувшись с множеством новых проблем, Хрущев согласился встретиться с Томпсоном только после того, как американский посол в неофициальной беседе сообщил корреспонденту «Нью-Йорк таймс» Сеймуру Топпингу – и ряду дипломатов в Москве, – что советский лидер оказывает ему холодный прием в то время, когда Кеннеди пытается установить с ним отношения. 3 мая Топпинг поспешил сообщить, что Томпсону, как он ни старается, не удается передать Хрущеву важнейшее сообщение от Кеннеди. Топпинг написал, что Томпсон получил приказ «начать серию предварительных бесед перед основными переговорами по сути различий Восток – Запад».
Даже после этого Хрущев весьма неохотно согласился принять Томпсона. Советник Хрущева Олег Трояновский видел, как «быстро развеялись» за четыре месяца, прошедшие с выборов Кеннеди, большие надежды, которые его босс возлагал на новый старт в американо-советских отношениях. Трояновский, вездесущий советник Хрущева, учился в Sidwell Friends School в Вашингтоне, когда его отец в 1930-х годах был полномочным представителем СССР в США. Он с легкостью цитировал Маркса и бегло говорил на американском сленге.
Трояновский видел, Хрущев устал от выжидательной позиции Кеннеди; он хотел встретиться с новым американским президентом до того, как он будет заражен тем, что Хрущев считал антисоветским уклоном Вашингтона, но потерял эту возможность. Прошло чуть меньше года после случая с U-2 и несостоявшегося парижского саммита, и Хрущев не мог допустить, чтобы опять сорвалась встреча с американским президентом. Однако теперь, учитывая стремление Кеннеди намеренно затягивать берлинский вопрос и настаивать на соглашении о запрете ядерного оружия, что категорически не устраивало советских военных, именно это казалось наиболее вероятным исходом любой встречи на высшем уровне. Хрущев уже успел попасть в беду по своей вине, приняв решение о сокращении армии, и военные теперь будут сопротивляться любым решениям, направленным на ограничение разработок ядерного оружия.
Посещение колхозов по пути в Новосибирск усилило его плохое настроение. Согласно советскому статистическому ежегоднику, валовой внутренний продукт СССР составлял примерно 60 процентов валового внутреннего продукта США, но и эти данные были, конечно, сильно преувеличены. По данным ЦРУ, эта цифра была около 40 процентов, а согласно другим экспертным оценкам, она составляла порядка 25 процентов. Отставание сельского хозяйства Советского Союза от США по производительности труда не только не сокращалось, но увеличивалось.
Во время поездки Хрущев увидел уродливую правду за чрезмерно оптимистичными строками отчетов от провинциальных подхалимов. Невыполнение посевных сроков, неоправданная смена культур, плохие урожаи, отсутствие хорошей системы дорог, недостаточная личная заинтересованность колхозников в развитии сельского хозяйства (часто зерно гнило на полях) – все это вело к развалу сельского хозяйства. Хрущев был в ярости. С каждой неделей увеличивался список некомпетентных подчиненных, одни из которых стремились скрыть свои неудачи, а те, кто признавал допущенные ошибки, не знали, как их исправить. Так, первый секретарь Тамбовского обкома партии по фамилии Золотухин, признав себя виноватым, трижды просил, чтобы Хрущев снял с него штаны и выпорол.
«Что это вы все штаны хотите снять и зад нам показать? Вы думаете доставить нам удовольствие?! – не выдержав, рявкнул Хрущев. – Зачем нам такие секретари?»
На каждом совещании в местных партийных организациях Хрущев требовал от подчиненных догнать Америку по всем экономическим показателям и перегнать по производству мяса и молока, цель, которую он поставил после визита в США в 1959 году. Когда товарищи подвергли сомнению правильность сравнения с империалистами, Хрущев заявил, что Америка находится на «высшей стадии капитализма», а Советский Союз только приступил к строительству фундамента коммунизма – «и наши кирпичи – это производство товаров народного потребления».
В период, когда Хрущев колесил по стране, появилось множество анекдотов, связанных с его поездкой.
В о п р о с. Какой национальности были Адам и Ева?
О т в е т. Они были русскими.
В о п р о с. Почему вы так решили?
О т в е т. Только русские могут бегать босыми и голозадыми, не иметь крыши над головой, есть одно яблоко на двоих и при этом кричать, что они в раю.
Героями некоторых анекдотов были президенты других государств.
Президент Джон Кеннеди пришел к Богу и спросил:
– Скажи, Господи, через сколько лет мой народ будет счастлив?
– Через пятьдесят лет, – ответил Бог.
Кеннеди заплакал и ушел.
Пришел к Богу Шарль де Голль и спросил:
– Скажи, Господи, через сколько лет будет счастлив мой народ?
– Через сто лет, – подумав, ответил Бог.
Де Голль заплакал и ушел.
Пришел Хрущев к Богу и спросил:
– Скажи, Господи, через сколько лет будет счастлив мой народ?
Бог заплакал и ушел.
И без того дурное настроение Хрущева еще больше ухудшилось после того, как советский лидер прочел письмо Кеннеди, которое передал ему Томпсон. В письме не было ни слова о Берлине. Хрущев устало сказал, что Кеннеди должен понимать, что он будет продолжать настаивать на переговорах «по германскому вопросу». Он сказал, что детально объяснил свою позицию президенту Эйзенхауэру, и президент понял, что переговоров не избежать, но тут американские империалисты «сознательно разорвали отношения» с помощью инцидента с U-2.
Действуя в соответствии с указанием президента не упоминать о Берлине, Томпсон ответил, что президент «пересматривает нашу политику в Германии и хотел бы обсудить ее с Аденауэром и другими союзниками, прежде чем приходить к каким-то выводам».
Сытый по горло американской тактикой затягивания, Хрущев поднял на смех заявление, что самая сильная страна в мире должна советоваться по всем вопросам. «Западный Берлин – кость в горле советско-американских отношений», – заявил Хрущев Томпсону, и пришло время ее удалить. «Если Аденауэр хочет воевать, то Западный Берлин будет подходящим местом для начала конфликта».
Хотя Кеннеди не был готов вести переговоры по Берлину, советский лидер изложил Томпсону свои соображения относительно переговоров в расчете на то, что он передаст его слова президенту. Он сказал Томпсону, что готов оговорить в соглашении право жителей Западного Берлина выбрать политическую систему по своему желанию, даже капиталистическую. Однако, сказал он, американцы должны отказаться от обсуждения вопроса об объединении Германии, даже если на протяжении длительного времени этого хотели и США, и Советский Союз. Это необходимо, сказал он, если Советский Союз и США хотят подписать мирный договор с двумя республиками на основе фактически сложившихся границ.
Хрущев заверил Томпсона, что не будет отодвигать границы советской империи на запад и хочет, чтобы Вашингтон тоже воздержался от подобных намерений. Доверительным тоном, каким говорят только с близкими друзьями, Хрущев сообщил Томпсону, что он «искренне хочет» улучшить отношения с Кеннеди и избежать ядерной войны. Однако, сказал он, одному ему это не под силу.
В свою очередь, Томпсон сказал Хрущеву, что не предвидит «больших перемен» с американской стороны. Он предупредил Хрущева, что если тот будет действовать в одностороннем порядке, то это приведет только к росту напряженности. «Если что-либо способно заставить нас увеличить расходы на вооружение в той мере, как это было во время корейской войны, так это убежденность, что Советы хотят выдавить нас из Берлина», – сказал Томпсон.
«Чем же Берлин так привлекателен для Запада?» – спросил Хрущев.
Дело в том, ответил Томпсон, что Америка дала обещание жителям Берлина и должна сдержать его.
Но западные державы оказались в Берлине, пожав плечами, сказал Хрущев, только из-за капитуляции Германии во Второй мировой войне. Давайте вместе договоримся о статусе Берлина, предложил он. В Западном Берлине можно разместить символическую армию, в которую будут входить представители четырех держав. Но, сказал Хрущев, его единственное условие – никакие планы не должны касаться Восточного Берлина, в любом случае советская зона города должна оставаться столицей Восточной Германии.
Он сказал, что готов смириться с Западным Берлином как островком капитализма в Восточной Германии, поскольку в любом случае Советский Союз к 1965 году перегонит Западную Германию в производстве товаров на душу населения, а спустя пять лет перегонит и Соединенные Штаты. Этого ему показалось мало, и, дабы подчеркнуть незначительность Западного Берлина, он сказал, что ежегодно население Советского Союза увеличивается на 3,5 миллиона человек, в то время как население Западного Берлина составляет 2 миллиона – по его выражению, «дело одной ночи» для его сексуально активной страны.
Прикинувшись адвокатом дьявола, Томпсон сказал, что даже если Западный Берлин не имеет значения для Советского Союза, то Ульбрихта он очень даже интересует, и едва ли он согласится с предложением Хрущева.
Махнув рукой, словно отгоняя надоевшую муху, Хрущев заявил, что может заставить Ульбрихта согласиться на любое решение, которое примут они с Кеннеди.
Томпсон решил сменить тему и заговорил о либерализации американо-советской торговли. По этому вопросу у него была информация, которая, он надеялся, смягчит Хрущева. Он сказал, что США надеются снять все ограничения на импорт советских крабов в Соединенные Штаты.
Вместо того чтобы по достоинству оценить этот жест, Хрущев возмущенно заговорил о недавнем решении США отменить, в целях национальной безопасности, продажу Москве новейших шлифовальных станков. «СССР может управлять своими ракетами без американских станков», – буркнул Хрущев. Затем он выразил недовольство тем, что до сих пор не получено разрешение на продажу мочевины, азотного удобрения, все по той же причине – из-за ее потенциального применения в военных целях. Хрущев сказал, что технология производства мочевины не относится к разряду государственной тайны и он уже купил в Голландии три комплекта оборудования.
Однако для Хрущева ни одно удобрение не могло сравниться по важности с Берлином, и советский лидер вновь и вновь возвращался к берлинскому вопросу, и Томпсону пришлось вернуться к этому вопросу. Он заверил Хрущева, что президент понимает, насколько существующее положение не устраивает обе стороны, изучает проблему Германии в целом и Берлина в частности и обдумывает, что необходимо сделать для того, чтобы ослабить напряженность. Но, повторил Томпсон, сначала президент должен лично проконсультироваться с союзниками – и он намерен сделать это во время встречи в марте-апреле, до предполагаемой встречи с Хрущевым.
Кеннеди полностью не осознает, сказал Хрущев, что поставлено на карту. Если бы они с Кеннеди подписали договор, объяснил он Томпсону, то это привело бы к ослаблению напряженности во всем мире. А если они не смогут урегулировать свои разногласия по Берлину, то их войска продолжат находиться в положении «не мира, а перемирия». Хрущев отмел высказывание Кеннеди, что переговоры о сокращении вооружений могут создать атмосферу доверия, необходимую для решения более сложного берлинского вопроса. Ничего подобного, заявил он: только вывод американских и советских войск из Германии создаст нужную атмосферу для сокращения вооружения.
Хрущев очень долго добивался встречи с Кеннеди, но теперь уже он «занял выжидательную позицию», «не торопясь с ответом» на предложение президента о встрече и обмене мнениями. Он сказал, что «склонен принять» предложение Кеннеди встретиться в первую неделю мая, после визита в Вашингтон премьер-министра Великобритании Макмиллана и канцлера ФРГ Аденауэра и остановки, которую Кеннеди сделает в Париже, чтобы повидаться с президентом Франции Шарлем де Голлем. В качестве места встречи Кеннеди предложил Вену или Стокгольм. Хрущев ответил, что хотя предпочитает Вену, но согласен и на Швецию. Советский лидер напомнил Томпсону, что впервые видел сенатора Кеннеди в 1959 году, когда встречался с членами сенатской комиссии по иностранным делам. Не принимая, но и не отказываясь от приглашения, Хрущев сказал Томпсону, что «необходимо составить план встречи».
В конце обеда, которым завершились переговоры, Хрущев поднял стакан, наполненный любимой перцовкой, и произнес не слишком теплый тост в честь Кеннеди, который не шел ни в какое сравнение с его восторженным новогодним тостом. Он обошелся без обычных пожеланий здоровья – «Он такой молодой, что еще не нуждается в таких пожеланиях». Год назад Хрущев забрал назад свое приглашение Эйзенхауэру посетить Советский Союз и теперь сожалел, что еще не готов продемонстрировать традиционное русское гостеприимство Кеннеди и его семье. В тот же вечер самолет с Томпсоном на борту приземлился в заснеженном аэропорту Внуково, где его дожидалась машина. Шофер доставил Томпсона в посольство, откуда он отправил в Вашингтон телеграфом отчет о поездке в Сибирь. Томпсон находился в крайне возбужденном состоянии, хотя был на ногах восемнадцать часов.
Исходя из опыта Томпсон видел, что Хрущев еще никогда не был так сконцентрирован на Берлине. Советский лидер убедил Томпсона, что намерен действовать решительно. «Все мои коллеги-дипломаты полагают, что, если не начать переговоры, Хрущев подпишет сепаратный мирный договор с Восточной Германией, что вызовет кризис в вопросе о Берлине», – сообщил он в Вашингтон.
Спустя неделю Томпсон в очередной телеграмме убеждал своих боссов ускорить разработку плана на тот случай, если Советы предпримут самостоятельные действия в отношении Берлина. Отношения между Хрущевым и правительством США настолько плохие, объяснял посол, что у советского лидера, возможно, создалось впечатление, что он, скорее всего, получит, а не потеряет Берлин. Однако Томпсон добавил, что Хрущев пока еще надеется избежать вооруженной конфронтации с Западом и приказал восточным немцам ни в коем случае не вмешиваться, если войска союзников окажутся на подступах к городу.
Томпсон перечислил причины ухудшения американо-советских отношений, накопившиеся за первые недели правления Кеннеди. Кремль не увидел своего интереса в американском предложении о запрещении испытаний ядерного оружия; Кеннеди считают более воинственно настроенным, чем Эйзенхауэр, поскольку он увеличил расходы на вооружение; серьезное беспокойство вызывают приготовления США к партизанской войне в развивающихся странах; недовольство Москвы вызывают ограничения, введенные правительством Кеннеди, на продажу Советскому Союзу передовых технологий. Особое недовольство Кремля вызывала поддержка, общественная и президентская, радио «Свободная Европа» [24], доказавшего, что является эффективным средством в борьбе с монополией коммунистических режимов на информацию.
В Африке и Южной Америке, предупреждал Томпсон, будет продолжаться и, возможно, возрастет конфронтация.
Высказывая свои соображения президенту Кеннеди относительно того, что может стать основной темой на предполагаемой встрече с Хрущевым, Томпсон подчеркнул, что Хрущев особенно заинтересован в обсуждении германского вопроса – «советский лидер возьмет курс на Берлин во время или сразу после встречи». Томпсон считал, что задача президента убедить Хрущева, что Соединенные Штаты не оставят в беде жителей Западного Берлина. С другой стороны, жесткая позиция однозначно приведет к конфронтации. Хрущев может поднять вопрос на октябрьском съезде партии, предсказывал Томпсон, и если он это сделает, то появится «реальная возможность мировой войны, и мы почти наверняка опять вернемся к усилению напряженности».
Томпсон еще раз высказал мнение, что следует реально смотреть на вещи: так ли уж рискуют Соединенные Штаты, вступая в переговоры с Хрущевым, тем более что у США нет других реальных альтернатив. При всех его недостатках, заметил Томпсон, Хрущев «по всей видимости, подходит нам лучше, чем кто-либо другой». Таким образом, США заинтересованы, чтобы Хрущев оставался у власти, хотя, был вынужден признаться Томпсон, ему слишком мало известно о внутренних делах Кремля, чтобы дать надежный совет, как Кеннеди может повлиять на внутрипартийную борьбу.
Томсон продемонстрировал удивительный дар предвидения, когда сказал: «Если мы думаем, что Советы отложат решение берлинской проблемы, то нам следует, по крайней мере, ожидать, что Восточный Берлин будет отгорожен стеной, дабы остановить поток беженцев, с которым восточные немцы не могут мириться».
Высказав эту мысль, Томпсон, вероятно, стал первым американским дипломатом, предсказавшим возведение Берлинской стены.
Далее Томпсон предложил способ ведения переговоров, который, по его мнению, должен, во-первых, устроить Советы, а во-вторых, позволить Вашингтону вернуть инициативу. Кеннеди должен предложить Хрущеву временное соглашение по Берлину, согласно которому у обеих Германий будет семь лет, чтобы договориться о долгосрочном решении вопроса. Советы должны гарантировать, что в течение этого времени союзники будут иметь доступ в Западный Берлин, а Соединенные Штаты, в свою очередь, должны гарантировать, что Западная Германия не будет пытаться вернуть восточные территории, утраченные после Второй мировой войны.
В этом случае, пояснил Томпсон, восточные немцы смогут остановить поток беженцев, что, по его мнению, будет как в интересах США, так и в интересах СССР, поскольку рост числа беженцев ведет к дестабилизации положения в регионе. Подробно излагая свой план, Томпсон предложил в качестве мер по укреплению доверия сократить тайную деятельность, руководство которой осуществляется из Берлина, и закрыть РИАС (RIAS, Rundfunk im amerikanischen Sektor), радиостанцию в американском секторе Западного Берлина, которая развернула пропагандистскую кампанию против «социалистических порядков» в ГДР. Даже если Хрущев отклонит это предложение, утверждал Томпсон, то сам факт предложения позволит Кеннеди добиться признания в глазах общественности, а тогда Хрущев едва ли захочет действовать в одностороннем порядке.
Однако Кеннеди не согласился с мнением своего посла о необходимости принимать срочные меры. Он и его брат Бобби заподозрили, что Томпсон пал жертвой болезни под названием «местный патриотизм» и с излишней готовностью занял советскую позицию по данному вопросу. Президент признавался друзьям, что до сих пор не «понял» Хрущева. В конце концов, Эйзенхауэр в 1958 году не обратил внимания на берлинский ультиматум советского лидера, и ничего страшного не произошло. Кеннеди не понимал, почему вдруг сейчас появилась такая срочность.
Лучшие умы в разведывательном сообществе США подкрепили его точку зрения. Специальная подкомиссия по берлинскому вопросу, разведывательная авторитетная группа, сделала вывод, что Хрущев «едва ли пойдет в данный момент на усиление напряженных отношений по Берлину». Москва усилит давление только в том случае, если Хрущев решит, что таким образом он сможет заставить Кеннеди начать переговоры на высшем уровне. Отсюда следует: если Кеннеди покажет, что советские угрозы не производят на него никакого впечатления, то Хрущев не станет обострять положение.
В результате Кеннеди пришел к выводу, что раз Хрущев ждет уже три года, то может подождать еще. На его мнение оказали влияние еще два фактора. Дин Ачесон представил президенту свой первый отчет по берлинской политике, и, в противовес более мягкому курсу Томпсона, в нем предлагалось проводить жесткую политику в отношении Москвы.
Кеннеди все больше отвлекался на вопросы, имевшие больше отношение к США. Все было готово для вторжения на Кубу эмигрантов, подготовленных и оснащенных ЦРУ.
Вашингтон, округ Колумбия
Понедельник, 3 апреля 1961 года
Документ Ачесона, первое серьезное размышление о берлинской политике правительства Кеннеди, лег на стол государственного секретаря Дина Раска накануне прибытия в Вашингтон британского премьер-министра Макмиллана. Характерно, что государственный секретарь Трумэна точно рассчитал время, когда его документ ляжет на стол, с тем чтобы оказать максимальное воздействие на «самого трудного из союзников».
Ачесон особо подчеркнул, что Кеннеди должен продемонстрировать готовность бороться за Берлин, если он хочет избежать господства Советов в Европе, а затем и в Азии и Африке. Пользуясь словами как оружием, Ачесон утверждал, что если Соединенные Штаты «согласятся с захватом Берлина коммунистами, то будет нарушен баланс в Европе, и Германия, а возможно, Франция, Италия и Бенилюкс внесут свои коррективы. Соединенное Королевство будет надеяться на позитивные перемены. А этого не будет».
Ачесон, знавший Кеннеди достаточно хорошо, был уверен, что президент доверяет его мнению и разделяет его недоверие к Советам. Кеннеди, подыскивавший государственного секретаря в переходный период, обратился за советом к жившему по соседству в Джорджтауне Ачесону. Новоизбранный президент, оставив за порогом толпу фотографов, сказал Ачесону, что «за последние несколько лет он узнал многих людей, которые смогли помочь ему стать президентом, но он понял, что знает очень мало людей, которые могут помочь ему быть президентом».
Ачесон сумел отговорить Кеннеди рассматривать кандидатуру сенатора Уильяма Фулбрайта, который, по его словам, «был недостаточно солидным и серьезным человеком, который необходим вам на этой должности. Он всегда казался мне в некотором роде дилетантом». Вместо него Ачесон предложил Кеннеди человека, на котором Кеннеди в конечном счете остановил выбор. Это был Дин Раск, который во времена правления Трумэна помогал государственному секретарю Ачесону, являясь его заместителем по дальневосточным делам, бороться с политикой умиротворения и распространением коммунизма в Азии. Что касается других кандидатур в кабинет и посольства, то одних он осчастливил, а других торпедировал, получая огромное удовольствие от этой игры. Он отказался от предложения Кеннеди стать послом в НАТО, объяснив, что предпочитает оставаться свободным советником и посредником.
Тем не менее Ачесон хотел восстановить былое влияние в правительстве, играя ведущую роль в обдумывании двух наиважнейших вопросов: будущее НАТО и связанные вопросы о запрещении ядерного оружия и защите Берлина. Ачесон уже обеспечил себе место в истории, сыграв ведущую роль в создании Международного валютного фонда, Международного банка реконструкции и развития и плана Маршалла [25].
Он был одним из создателей НАТО, изменившим отношение Америки к договорам с иностранными государствами, втягивающими страну в акции, в которых она не заинтересована. Ачесон участвовал в разработке доктрины Трумэна 1947 года, которая установила курс Америки как «лидера свободного мира», чья миссия состояла в борьбе с коммунизмом и поддержке демократии во всем мире. То, что Кеннеди пригласил его обратно, стало для Ачесона приятным подтверждением, что его таланты по-прежнему необходимы.
В свои почти шестьдесят восемь лет Ачесон по-прежнему производил сильное впечатление. По мнению окружающих, всегда безупречно одетый, Ачесон любил говорить друзьям, что его уверенность в себе удручающе действует на его противников. Он был весьма приметной фигурой со своей шляпой-котелком, злой усмешкой, стальным взглядом голубых глаз и подкрученными усами. Ачесон был высокого роста, худощавый, длинноногий. Находчивый, остроумный, нетерпимый к дуракам, Ачесон отразил в своем отчете по Берлину решимость перехитрить и превзойти Советы, оказавшие влияние на его карьеру. Именно жесткий курс в отношении СССР способствовал установлению такой странной связи между Ачесоном и президентом Трумэном – выпускником Йельского университета, любителем мартини, сыном епископа епископальной церкви и искренним политиком со Среднего Запада, не получившим высшего образования.
Вскоре после выборов Кеннеди Ачесон в письме шутливо отругал Трумэна за опасение, которое бывший президент высказывал относительно католицизма Кеннеди. «Вас действительно беспокоит, что Джек католик?» – спросил он Трумэна, называвшего Кеннеди «молодым человеком». Ачесон сказал Трумэну, что его никогда не заботило, что де Голль и Аденауэр были католиками. «Кроме того, я не думаю, что он такой уж ревностный католик», – добавил Ачесон.
Ачесон, поскольку Кеннеди пригласил его в феврале, тщательно изучал все возможности в случае непредвиденных обстоятельств. Он согласился с Томпсоном, что в течение календарного года, по всей видимости, состоится откровенный обмен мнениями, и это было единственное, в чем совпали их мнения. Ачесон рекомендовал президенту больше рассчитывать на силу и оставить надежду на решение вопроса по Берлину путем переговоров. Он считал, что «любые действия опасны и неперспективны. Бездействие еще хуже. У нас нет выбора. Если Советы спровоцируют кризис, самым безопасным, возможно, будет дерзкий, угрожающий курс». В свое время Эйзенхауэр отказался от советов Ачесона, и Ачесон надеялся, что у Кеннеди он найдет больше понимания. Он уже убедил Кеннеди взять Раска и Банди и видел в качестве союзников двух наиболее влиятельных чиновников, заместителя главы Пентагона Пола Нитце и сотрудника государственного департамента Фоя Колера.
Наиболее спорно, утверждал Ачесон в своем меморандуме, что угроза всеобщей ядерной войны больше не является достаточной, чтобы удержать Хрущева. По мнению Ачесона, нежелание Хрущева действовать до настоящего времени основывалось скорее на его стремлении избежать ухудшения отношений с Западом, чем на убеждении, что Соединенные Штаты отважатся на ядерную войну, чтобы защитить Берлин. Исходя из этого Ачесон рекомендовал Кеннеди наращивать обычные силы в Европе, одновременно советуя убедить союзников, в особенности западных немцев, «согласиться сражаться за Берлин».
Ачесон перечислил, по его мнению, основные цели Хрущева относительно Берлина.
1. Укрепить режим в Восточной Германии и подготовиться к его возможному международному признанию.
2. Легализовать восточные границы Германии.
3. В качестве первого шага нейтрализовать Западный Берлин и подготовиться к его возможному вхождению в состав Германской Демократической Республики.
4. Ослабить, если не разрушить, Североатлантический альянс.
5. Дискредитировать Соединенные Штаты или по крайней мере серьезно подорвать их репутацию.
Ачесон, как и Аденауэр, был убежден, что нет иного решения берлинской проблемы, кроме как объединение, и это объединение не может быть достигнуто в далеком будущем и путем последовательной демонстрации западной силы. В настоящее время нет никакого смысла в переговорах, считал Ачесон.
Берлин – «ключ к властному статусу в Европе», доказывал Ачесон, вот почему так важно защищать его. Безотносительно курса, взятого Кеннеди, Ачесон рекомендовал президенту «срочно выбрать причины для борьбы за Берлин» и заставить союзников согласиться с ними.
Практический совет Ачесона Кеннеди: «В настоящее время мы должны довольствоваться сохранением в Берлине статус-кво. Нам не следует надеяться, что Хрущев согласится на меньшее, – и сами мы не должны соглашаться на меньшее».
Далее в своем новаторском труде он остановился на наиболее подходящих военных средствах для удержания Хрущева. Угроза ядерного удара долгое время была козырем, оставленным про запас, но Ачесон утверждал, что никакая это не угроза, поскольку русским «совершенно ясно, что Вашингтон не будет рисковать жизнью миллионов американцев ради Берлина». Ачесон отмечал, что некоторые военачальники отстаивают в качестве альтернативы «ограниченное использование ядерных средств – то есть где-нибудь сбросить одну бомбу».
Он отверг эту идею так же быстро, как озвучил ее. «Если сброс одной бомбы не является угрозой, но как только бомба сброшена, это означает, что вы или будете еще сбрасывать бомбы, или призываете другую сторону отступить». По мнению Ачесона, это «безответственный и неразумный шаг применительно к берлинской проблеме».
Ачесон предложил Кеннеди следующий план. Он хотел, чтобы Кеннеди существенно увеличил обычные вооруженные силы в Германии, тем самым давая Советам понять, что Соединенные Штаты полны решимости выполнять взятые на себя обязательства по защите Берлина – курс, который, возможно, не слишком отличался от предложенного Томпсоном семилетнего моратория, во время которого две Германии решают спорные вопросы. «Это единственный способ показать, что мы говорим серьезно», – доказывал Ачесон.
Его план состоял не в том, чтобы увеличить силы в Берлине, где они окажутся в ловушке и от них будет мало пользы, а в том, чтобы ввести три дивизии или больше в других местах в Германии. В случае крайней необходимости эти дивизии нападут на Берлин.
Министр обороны Макнамара принял план Ачесона. Кеннеди тоже отнесся к этому плану достаточно серьезно. Однако Ачесон знал, кто выступит против его предложения – союзники Америки. Французы и немцы будут против ослабления ядерных средств устрашения, которые, как они считали, являются долгосрочной гарантией выполнения Соединенными Штатами обязательств по их защите. Британцы стремились к увеличению акцента на переговоры с Советами, то, против чего выступал Ачесон. Поскольку союзники даже между собой не могли договориться, как лучше защищать Берлин, Ачесон посоветовал Кеннеди определиться с курсом в одностороннем порядке и представить его союзникам как свершившийся факт.
Банди срочно, перед встречей Кеннеди с Макмилланом, передал президенту то, что он назвал «важнейшим» документом своего друга Ачесона. Банди сказал Кеннеди, что он должен удостовериться, что его британские визитеры, известные «мягкостью» в отношении Берлина, поняли, что он настроен твердо стоять на своем. Раск вторил Ачесону, что в прошлом переговоры по Берлину потерпели неудачу и нет никакой причины думать, что теперь у них больше шансов достичь успеха.
Ачесон практически мгновенно взял на себя инициативу по Берлину, заполнив вакуум в правительстве. Следом за Ачесоном и Раском советник по вопросам национальной безопасности Макджордж Банди рекомендовал Кеннеди вежливо обсуждать любые планы Лондона, «возможно, надуманные, но взамен мы должны оказать давление, чтобы получить обязательство британской решительности в момент истины».
Овальный кабинет, Белый дом, Вашингтон, округ Колумбия
Среда, 5 апреля 1961 года
Британский премьер-министр Макмиллан был поражен, когда Кеннеди, кивнув Ачесону, попросил его объяснить, почему он считает, что в случае Советов и Берлина конфронтация предпочтительнее, чем достижение приемлемого компромиссного решения. На встрече с американской стороны присутствовали высокопоставленные чиновники по вопросам национальной безопасности и посол США в Лондоне Дэвид Брюс; с британской стороны среди прочих рядом с Макмилланом находился министр иностранных дел сэр Алек Дуглас-Хьюм. Все присутствующие повернулись к Ачесону, и один из самых блестящих ораторов среди дипломатов начал свое выступление.
Кеннеди не сказал, разделяет ли он бескомпромиссные взгляды Ачесона, хотя Макмиллан должен был предположить, что разделяет. Свое выступление Ачесон начал с заявления, что не делал окончательных выводов в своем исследовании по Берлину, но затем решительно изложил решения, к которым он пришел в ходе изучения проблемы. Кеннеди молча слушал.
Макмиллан и Ачесон были примерно одного возраста, а внешний вид Ачесона, великосветские манеры и англоканадское происхождение говорили о его совместимости с любым окружением. Но отличие этих двоих заключалось в оценке того, как вести себя с Советами. Макмиллан с прежним энтузиазмом настаивал на переговорах с Москвой, которые, по мнению Ачесона, не представляли никакой ценности, о чем он говорил еще в 1947 году на закрытом заседании комитета по иностранным делам: «Я считаю, что ошибочно думать, будто вы в любое время можете сесть с русскими за стол переговоров и решить все вопросы». Ачесон перечислил то, что он назвал «констатацией фактов»:
1. Не было удовлетворительного решения берлинской проблемы.
2. По всей видимости, Советы будут форсировать решение берлинской проблемы в пределах календарного года.
3. Нет договорного решения, которое могло бы создать для Запада более благоприятную ситуацию, чем в настоящее время.
Таким образом, сказал Ачесон, «мы столкнемся с проблемой и должны сейчас подготовиться ко всяким случайностям. Берлин имеет огромнейшее значение. Именно поэтому Советы настаивают на решении проблемы. Если Запад провалится, то Германию отцепят от альянса».
Президент не прерывал выступление Ачесона, и поэтому никто не решился прервать его. Ачесон заявил, что переговоры и другие невоенные средства, которым отдавали предпочтение британцы, о чем было известно всем присутствующим, недостаточны. Требуется военный ответ, сказал Ачесон, но каким он должен быть и при каких обстоятельствах?
Макмиллан и лорд Хьюм не выдали охватившего их замешательства. Они только что были в Париже, где узнали, что де Голль – который уже пытался соблазнить Аденауэра идеями голлизма – тоже сильно противится переговорам с Советами по Берлину. Британцы не хотели, чтобы мнение Кеннеди совпадало с мнением де Голля.
У шестидесятисемилетнего Макмиллана крепло убеждение, что большинство надежд Лондона зависит от его способности оказывать влияние на Вашингтон. Это, в свою очередь, зависело от того, как он будет взаимодействовать с новым президентом Соединенных Штатов.
Макмиллан, большой любитель истории, как-то сказал: «Эти американцы олицетворяют собой новую римскую империю, а мы, британцы, подобно грекам античности, должны научить их, как ею управлять… Мы должны стремиться сделать их культурными и иногда влиять на них». Но как получить согласие Кеннеди играть роль Рима по отношению к Греции Макмиллана?
После краха политической карьеры премьер-министра Антони Идена [26], последовавшего за Суэцким кризисом 1956 года, его преемник Гарольд Макмиллан многое поставил на восстановление «особых отношений» с Соединенными Штатами с помощью дружбы с президентом Эйзенхауэром.
Макмиллан играл важную роль в качестве «честного посредника», убеждая президента Эйзенхауэра организовать встречу на высшем уровне с участием Хрущева для обсуждения вопроса о будущем Германии, и он считал провал Парижского саммита своим поражением. Ему не удалось уговорить Хрущева продолжить конференцию. Макмиллан записал в своем дневнике: «Так закончилась, даже не начавшись, встреча на высшем уровне».
Именно поэтому Макмиллан собирал подробную информацию о Кеннеди, чтобы найти подход к человеку, который был на двадцать четыре года моложе его. Макмиллан жаловался другу, журналисту Генри Брэндону, что он уже никогда не сможет установить такие уникальные отношения, какие у него были с Эйзенхауэром, человеком его поколения, с которым он разделил ужасы войны. «А теперь приходится иметь дело с этим дерзким молодым ирландцем», – сокрушался Макмиллан.
Посол Эйзенхауэра в Лондоне Джон Хей Уитни, известный как Джок, предупредил Макмиллана, что Кеннеди «упрямый, обидчивый, безжалостный и любвеобильный». Однако только спустя много месяцев стало ясно, какая лежит между ними пропасть. Кеннеди шокировал моногамного, отличающегося строгим поведением шотландца дерзким вопросом: «Если у меня три дня нет женщины, я испытываю жуткие головные боли. Интересно, а как у вас, Гарольд?»
Однако большую тревогу, чем разница в возрасте и воспитании, у Макмиллана вызывала вероятность, что президент находится под чрезмерным влиянием своего отца, антикоммуниста и изоляциониста. Возможно, самым неприятным послом Соединенных Штатов, когда-либо появлявшихся при дворе Святого Иакова (Джеймса), был Джозеф Кеннеди, попросивший президента Рузвельта не переусердствовать, помогая Великобритании в борьбе против Гитлера, и «не позволить взвалить на себя ответственность в войне, в которой союзники ожидают, что будут разбиты». Макмиллан успокоился, когда в ходе его исследования выяснилось, что кумиром Кеннеди был интервент Черчилль – это их роднило.
Для того чтобы в будущем оказывать влияние на взгляды Кеннеди, Макмиллан во время переходного периода написал новому президенту письмо, в котором предложил «грандиозный план» на будущее. Если отношения с Эйзенхауэром Макмиллан построил на общих воспоминаниях о войне, то в день избрания Кеннеди он решил, что основой подхода к новому президенту станут умственные способности. Он собирался подавать себя «как человека, у которого, несмотря на преклонный возраст, есть прогрессивные идеи и свежие мысли».
В письме, написанном в манере, скорее свойственной издателю, Макмиллан польстил Кеннеди, приведя цитаты из его выступлений, где он обрисовывал будущий опасный век, в котором «свободный мир» – Соединенные Штаты, Великобритания и Европа – может одолеть растущую притягательность коммунизма посредством неуклонного роста благосостояния и совместными усилиями. Макмиллан считал, что создание единой монетарной и экономической политики намного важнее, чем политические и военные союзы.
«Грандиозный план» Макмиллана не вызвал особого интереса у союзников. На встрече в Париже де Голль благожелательно отнесся к плану Макмиллана, но, как тот ни настаивал, был категорически против вступления Великобритании в единый европейский рынок. На встрече в Лондоне британский премьер-министр нашел еще меньше поддержки со стороны Аденауэра. Макмиллан пришел к выводу, что Западная Германия стала слишком «богатой и эгоистичной», чтобы понять его предложение. Перед визитом Макмиллана в Белый дом Кеннеди обнаружил, что куда-то засунул копию «грандиозного плана». Все были брошены на поиски пропавшего письма, которое нашлось в комнате Кэролайн, трехлетней дочери Кеннеди.
Несмотря на беспокойство, которое поначалу испытывал Макмиллан, они с Кеннеди уже начали устанавливать более тесные отношения до встречи в Вашингтоне, которые, как предполагал премьер-министр, строились на остроумии обоих, хороших манерах и интеллекте – и продуманных усилиях Макмиллана. Кроме того, между ними была родственная связь: сестра Кеннеди Кэтлин вышла замуж за племянника Макмиллана. Макмиллан, как Кеннеди, с детства рос в богатстве, мог позволить себе независимость взглядов и экстравагантность. Премьер-министр был элегантным, высоким, с гвардейскими усами и улыбкой во весь рот. Он с одинаковой небрежностью носил свои сшитые на заказ костюмы и пользовался своим интеллектом. Макмиллану понравилось, что в своей книге Profiles in courage («Биографии мужественных людей») Кеннеди сделал упор на мужестве, поскольку сам был трижды ранен в Первую мировую войну. В битве при Сомме раненый Макмиллан, дожидаясь помощи, читал Эсхила в оригинале.
К облегчению премьер-министра, они с Кеннеди поладили, когда президент в последнюю минуту пригласил премьер-министра в Ки-Уэст, штат Флорида, чтобы обсудить ситуацию в Лаосе. Кеннеди благожелательно выслушал совет Макмиллана обойтись без военного вмешательства в Лаосе, и премьер-министр с удовольствием отметил, что президент управляет генералами, а не они управляют президентом. Макмиллана впечатлило природное обаяние Кеннеди, простота в общении. «Многие американцы такие скучные, а он – долгожданное исключение», – сказал Макмиллан.
Однако удачное начало в Ки-Уэсте только усилило обеспокоенность Макмиллана и лорда Хьюма, поскольку они увидели явно воинственный настрой Кеннеди в отношении Советов, тот же, что продемонстрировал Ачесон.
Размышляя о том, как защитить Берлин, Ачесон сказал, что британцы должны сосредоточиться на трех военных альтернативах: воздушной, наземной и ядерной. Учитывая, что выбор ядерного оружия «безответственный шаг и в него не поверят», Ачесон остановился на рассмотрении двух возможностей. Он отклонил возможность ответа с воздуха, поскольку «советские ракеты земля – воздух попадут в цель, не оставив самолету надежды на спасение. Так что нет никакого смысла в атаке с воздуха. Русские просто собьют самолеты своими ракетами».
На самом деле, сказал Ачесон, у США и их союзников есть единственный возможный ответ на откровенную пробу сил в Берлине, и это обычное наземное наступление, чтобы «показать русским, что не стоит пытаться остановить по-настоящему мощную западную силу». Для этого, сообщил Ачесон, потребуется значительное наращивание военной мощи. Ачесон перечислил военные контрмеры в случае блокады Берлина, включая отправку дивизии, которая двинется по автостраде, чтобы вновь открыть доступ к Берлину. Запад в случае блокады должен знать, объяснил Ачесон, где стоять, иметь возможность перевооружиться и собрать союзников, как это делалось во время корейской войны.
Кеннеди сказал Макмиллану, на лице которого отчетливо читался скептицизм, что он еще не полностью рассмотрел соображения Ачесона. Однако он согласен со своим новым советником, что еще не было «достаточно серьезного» плана действий на случай чрезвычайной обстановки в Берлине, учитывая растущую вероятность такого рода конфронтации.
Предложение Ачесона в отношении отправки дивизии по автостраде в случае блокады Берлина вызвало наибольшее возражение Макмиллана, поскольку «она будет наиболее уязвимой, продвигаясь вперед узким фронтом». Если возникнут проблемы, она будет вынуждена сойти с автострады, а это, в свою очередь, приведет к появлению еще больших проблем. Однако под давлением Кеннеди Макмиллан согласился с мнением Ачесона, что не удастся повторить Берлинский воздушный мост [27], поскольку с того времени значительно улучшились тактико-технические характеристики советских зенитных систем.
Затем американские и британские чиновники долго обсуждали вопросы военного планирования и необходимости усиления подготовки на случай непредвиденных обстоятельств в Берлине. Секретарь Раск одобрил британо-американское двустороннее соглашение, но предложил «быстро» включить западных немцев, с их военными возможностями и готовностью оказать помощь в защите Берлина. Лорд Хьюм не согласился с его предложением. Британцы, не доверявшие немцам еще больше, чем американцам, стали убеждать присутствующих, что разведывательные службы Аденауэра и другие правительственные структуры пронизаны шпионами. Хотя лорд Хьюм был согласен обсуждать будущее Германии с американцами, но он не был готов делать это с немцами.
Хьюм хотел переключить внимание американцев с обсуждения чрезвычайных обстоятельств на обсуждение потенциальных возможностей во время переговоров по Берлину с Кремлем. Он утверждал, что Хрущев связал себя всего одним обязательством, которое ограничило его пространство для маневра, и этим обязательством было прекращение оккупационного статуса Берлина. По мнению лорда Хьюма, Хрущев «мог сняться с крючка», если союзники подпишут соглашение о сохранении статус-кво примерно на десять лет, но в течение этого времени статус Берлина будет изменен. «Хрущев не попал на крючок, и, значит, ему не надо избавляться от него», – ответил Ачесон.
Ачесона выводило из себя то, что он называл британской бесхребетностью в отношении Москвы. Он резко напомнил Хьюму, что Хрущев «не является законником. Он оказывает давление, стремясь разделить союзников. Он не собирается заключать договор, который устроит нас. У нас хорошая позиция, и мы должны сохранять ее». Ачесон опасался, что обсуждение подписания договора с Восточной Германией, который служил интересам только Советского Союза, «подорвет немецкий дух».
Напряженность между Хьюмом и Ачесоном заполнила комнату.
После неловкого молчания Раск согласился с Ачесоном, что любые переговоры о принятии такого договора станут «началом спуска по скользкому пути». Он сказал, что Соединенные Штаты должны ясно дать понять, что ситуация, сложившаяся в Берлине, – это результат войны, а не «любезность со стороны Хрущева». Соединенные Штаты, заявил Раск, обращаясь к британцам, – великая держава, которая не позволит выдворить себя из Берлина.
Хьюм предупредил американских коллег о выводах, которые сделает общественность Запада, если Хрущев открыто предложит то, что может показаться разумным изменением законного статуса Берлина, и Запад не сможет выдвинуть никакой альтернативы. Для западного присутствия должно быть найдено новое правовое основание, убеждал Хьюм, поскольку существующее «право на территориальный захват» в качестве оправдания оккупации Берлина «становится неубедительным».
Ачесон не замедлил с ответом: «Это наша власть становится неубедительной».
На следующее утро работа возобновилась почти в том же составе, но, к удовольствию британцев, отсутствовал Ачесон. Однако его дух продолжал витать в воздухе. Президент Кеннеди выразил желание, чтобы американские и британские эксперты объяснили ему, почему Хрущев не предпринимал никаких действий по Берлину до настоящего времени. Что его удерживало? Неужели он опасался ответа со стороны Запада?
Лорд Хьюм сказал, что, по его мнению, Хрущев «больше не будет откладывать решение проблемы». Посол Чарльз Юстис (Чип) Болен был того же мнения. Ведущий специалист государственного департамента по Советскому Союзу, который был послом в Москве с 1953 по 1957 год, считал, что ухудшение китайско-советских отношений и «назойливость восточных немцев» вынуждают Хрущева занять более воинствующую позицию. Советы не столько заботятся о Берлине, утверждал Болен, сколько считают, что его потеря может привести к распаду их восточной империи.
Кеннеди вернулся к обсуждению доклада Ачесона. Если Хрущева удерживает угроза военной конфронтации с Западом, сказал Кеннеди, то «нам следует подумать, как создать эту угрозу. У нас нет козырей для переговоров по Берлину. Таким образом, нам следует обсудить, как вчера предложил мистер Ачесон, план действий».
С возвращением призрака Ачесона собравшиеся обсудили следующий возможный шаг Хрущева и возможный ответ Запада. Британцы не видели возможности избежать переговоров, в то время как большинство американцев высказывали сомнение в их пользе. Посол Кеннеди в Соединенном Королевстве Дэвид Брюс, бывший офицер разведки, посол Эйзенхауэра в Западной Германии, сказал, что Соединенные Штаты не должны отдавать те немногие оставшиеся у них права в Берлине. «Мы не можем игнорировать последствия, которые вызовет ослабление нашей позиции по Берлину в Центральной Европе и Западной Германии».
Встреча с Кеннеди близилась к концу, когда Макмиллан недовольно заявил, что так и не понял, когда и какие меры по Берлину Запад предпримет против шагов Советского Союза. Не имея четкого плана, сказал он, Кеннеди может быть вовлечен в войну, которую он хочет по той простой причине, что Великобритания тоже может оказаться втянута в военные действия.
Кеннеди, оспаривая мнение Ачесона по этому вопросу, ответил, что речь идет о сдерживающем эффекте ядерного оружия, который «не даст коммунистам вовлечь нас в войну за Берлин».
Макмиллана интересовало, что будет в Западной Германии после смерти Аденауэра, – не может так случиться, что при менее решительном лидере берлинская игра будет проиграна Советам. «Рано или поздно, скажем, через пять, десять лет, русские могут предложить западным немцам единство взамен нейтралитета», – рискнул он высказать мнение, упорно повторяя сомнения британцев в надежности немцев.
Отвечая Макмиллану, Болен сказал, что, по его мнению, пришло время, когда западные немцы клюнут на «приманку в виде нейтралитета». Советы, сказал он, тоже больше не могут позволить социализму исчезнуть из Восточной Германии. Брюс заявил, что в настоящий момент основная проблема состоит в том, что беженцы из Восточной Германии «ослабляют все, что делается для создания нормальной жизни в государстве»; в 1960 году страну покинуло 200 тысяч человек, и примерно 70 процентов из них люди трудоспособного возраста.
В меморандуме, который подвел итог встречи, были сглажены противоречия сторон. В нем говорилось, что США и Великобритания ожидают обострения Берлинского кризиса в 1961 году; они пришли к единому мнению, что потеря Западного Берлина явится катастрофой, и считают, что союзники должны ясно показать Советам всю серьезность намерений в отношении Берлина. В документе подчеркивалась необходимость разработки плана на случай непредвиденных обстоятельств.
В Розовом саду [28]Белого дома, освещенном яркими весенними лучами солнца, Кеннеди вместе с Макмилланом прочли совместное заявление, занявшее одну страницу, в котором говорилось «о высочайшем уровне соглашения по сути проблем, с которыми мы сталкиваемся».
Смягчая значительные разногласия, возникшие в процессе переговоров, эти двое сошлись во мнении «о важности и трудности работы по достижению удовлетворительных отношений с Советским Союзом».
Макмиллан немногого добился на этой встрече с Кеннеди. Ему, правда, удалось добиться, чтобы Кеннеди одобрил британские усилия по вступлению в Общий рынок, как часть его «грандиозного плана», решающий голос в поддержку против возражения Франции. После двух продолжительных личных разговоров между Кеннеди и Макмилланом установились личные отношения.
Несмотря на это, Макмиллану не удалось достигнуть решения по многим важнейшим вопросам. Кеннеди выступил против усилий Британии, направленных на вступление Китая в Организацию Объединенных Наций, и высказался ясно и определенно, что не собирается использовать Макмиллана в качестве посредника с Москвой. Но что было важнее всего, американцы впервые на территории Европы планировали созвать встречу на высшем уровне с русскими, не пригласив ни британских, ни французских союзников. Кеннеди, казалось, придерживался курса Ачесона, считавшего, что Лондон ведет себя излишне мягко в отношении Берлина.
Американцы удивились, когда в их прессу просочилась информация, почерпнутая из британских источников, что «переговоры Кеннеди с Макмилланом велись в грубом, раздражительном тоне, во многих случаях не удалось прийти к окончательным выводам, и, наконец, самым трудным было принятие коммюнике».
И дальше было намного хуже.
Глава 8. Время дилетанта
По мнению европейцев, они наблюдали за игрой в бумеранг молодого одаренного любителя, когда увидели, к своему ужасу, что он поразил себя. Они были потрясены, как столь неопытный человек может играть с таким смертельным оружием.
Дин Ачесон о командовании президента Кеннеди, которое привело к провалу операции в заливе Свиней, июнь 1961 годаЯ не понимаю Кеннеди. Он что, действительно такой нерешительный?
Н.С. Хрущев своему сыну Сергею после операции в заливе СвинейБелый дом, Вашингтон, округ Колумбия
Пятница, 7 апреля 1961 года
Это был первый теплый день в Вашингтоне, отличная погода для прогулки президента Кеннеди с Дином Ачесоном по Розовому саду Белого дома. Кеннеди предложил Ачесону пройтись, объяснив, что нуждается в немедленном ответе. Президент был без пиджака, а Ачесон, как всегда, в пиджаке и галстуке-бабочке. Единственная уступка, на которую он пошел в связи с теплой погодой, – шляпа-котелок, которую нес в руке.
Бывший государственный секретарь Трумэна ожидал, что Кеннеди будет расспрашивать о том, что сейчас происходит в НАТО, или о его берлинских проектах, поскольку на следующий день Ачесон летел в Европу, чтобы информировать союзников о положении дел. Однако Кеннеди сказал, что у него на очереди есть более неотложное дело. «Давайте сядем здесь, на солнышке, – сказал президент, указав Ачесону на деревянную скамейку, стоящую на солнце. – Вам что-нибудь известно о кубинском плане?»
Ачесон признался, что даже не слышал о том, что есть какой-то кубинский план.
Тогда Кеннеди в нескольких словах обрисовал ситуацию, которую хотел обсудить. Армия из 1200–1500 кубинских эмигрантов, прошедших подготовку под руководством ЦРУ в Гватемале, вторгнется на остров. С воздуха им организуют прикрытие бомбардировщики В-26, пилотируемые эмигрантами. Как только кубинские эмигранты закрепятся на береговом плацдарме, 7900 повстанцев и другие противники Кастро поднимут восстание на острове. Не используя американские войска и авиацию, США намеревались свергнуть Фиделя Кастро и установить проамериканский режим. План был подготовлен правительством Эйзенхауэра, но подвергся изменениям в первые недели правления Кеннеди. За подготовку, планирование и поставку оружия и боеприпасов отвечало ЦРУ.
Ачесон даже не пытался скрыть тревогу. «Я надеюсь, – сказал он, – что президент не рассматривает всерьез этот сумасшедший план».
«Не знаю, всерьез или нет, но такой план есть, и я обдумываю его, и это абсолютно серьезно, – ответил Кеннеди. – Я не могу принять решение, но уделяю этому плану самое серьезное внимание».
На самом деле президент дал добро на реализацию плана почти месяц назад, 11 марта 1961 года. Окончательный вариант он утвердил 5 апреля, всего за два дня до беседы с Ачесоном. Он внес всего две важные поправки – изменил место высадки и гарантировал, что поблизости будет аэродром тактической авиации для поддержки с воздуха.
Ачесон заявил, что ему не надо ни с кем советоваться, чтобы понять, что 1500 кубинцев Кеннеди не идут ни в какое сравнение с 25 тысячами кубинцев Кастро. Он заверил Кеннеди, что подобное вторжение может иметь пагубные последствия для престижа Америки в Европе и для отношений с Советами по Берлину, поскольку можно получить ответную агрессию. Кеннеди конечно же не хотел давать Советам предлог совершить нечто подобное в Берлине.
Они еще немного поговорили, и Ачесон покинул Розовый сад, не обменявшись с президентом никакой информацией, кроме кубинского плана. Ачесон, улетев в Европу, выбросил из головы кубинскую проблему, поскольку «она походила на какую-то дикую идею».
Он был уверен, что возобладает здравый смысл.
Рёндорф, Западная Германия
Воскресенье, 9 апреля 1961 года
Западногерманский канцлер Конрад Аденауэр был настолько озабочен проблемой установления отношений с Кеннеди, что попросил своего друга, Дина Ачесона, прилететь в Бонн, чтобы обсудить стратегию поведения перед его визитом в Соединенные Штаты, куда он должен был отправиться через несколько дней.
Легионы немцев, выйдя на воскресную прогулку, прохаживаясь по дорожкам под цветущими фруктовыми деревьями по берегу Рейна, в то время как Аденауэр вместе с Ачесоном мчался мимо них в «мерседесе» из аэропорта домой. Канцлер гордился высокоскоростными двигателями удачно разработанных немецких автомобилей, которые стали настоящим экспортным хитом, и Ачесона плотно прижало к спинке сиденья, когда водитель Аденауэра увеличил скорость, чтобы не отставать от ехавшего впереди джипа. Солдат, сидевший в открытом кузове джипа, указывал направление движения с помощью жезлов. Если он указывал жезлом вправо от себя, это был знак водителю Аденауэра продолжать движение в крайнем правом ряду, вдоль тротуара. Если он вытягивал левую руку с жезлом, это означало, что водитель канцлера должен сместиться в крайний левый ряд. Ачесон с мрачной улыбкой заметил, что «старик просто замечательно проводит время».
Небольшая группа соседей Аденауэра собралась, чтобы поприветствовать прибытие легендарной пары политиков в дом канцлера в Рёндорфе, поселке на берегу Рейна. Восьмидесятипятилетний Аденауэр взглянул на зигзагообразную лестницу, поднимавшуюся по склону холма, высотой примерно тридцать метров, от улицы до двери его дома, и сказал своему шестидесятисемилетнему гостю: «Мой друг, вы уже не так молоды, как тогда, когда мы встретились впервые, поэтому я убедительно прошу вас не подниматься слишком быстро». – «Вы очень любезны, господин канцлер, – улыбнувшись, сказал Ачесон. – Если я почувствую усталость, то могу взять вас за руку?» – «Вы смеетесь надо мной?» – спросил Аденауэр. «У меня даже в мыслях этого не было», – с улыбкой ответил Ачесон. Добродушное подшучивание было живительным эликсиром для охваченного тревогой Аденауэра.
Большую часть дня Ачесон потратил на то, чтобы успокоить Аденауэра, которого нашел «до смерти взволнованным, до крайности обеспокоенным» отношениями с Кеннеди. Более всего Аденауэр был обеспокоен тем, что Кеннеди замышляет за его спиной заключить мирный договор с русскими по ряду вопросов, без учета германских интересов и оставив на произвол судьбы жителей Берлина. Серьезную озабоченность вызывал у него новый всплеск враждебности со стороны американцев, спровоцированный шокирующими подробностями, описанными в недавно изданной книге Уильяма Ширера «Взлет и падение Третьего рейха», и предстоящим судебным процессом над военным преступником Адольфом Эйхманом в Израиле.
Кроме того, Аденауэр сказал, что встревожен сообщениями о том, что правительство Кеннеди сменило свою стратегию сдерживания с опорой на ядерное оружие на новую стратегию «гибкого реагирования». В этой стратегии придавалось большее значение обычному вооружению в случае непредвиденных обстоятельств в Берлине. Хотя подобное изменение политического курса могло оказать значительное влияние на безопасность Западной Германии, правительство Кеннеди не посоветовалось и не известило Аденауэра и других западногерманских коллег.
Приводя доводы против нового стратегического курса, Аденауэр даже не мог представить, что основным создателем и сторонником этой стратегии был Ачесон. Аденауэр был убежден, что Запад может сдержать Москву только в том случае, если Хрущев будет уверен, что один неверный шаг по Берлину приведет к ядерному ответу со стороны Соединенных Штатов. Аденауэр опасался, что Москва будет внимательно следить за каждым изменением в политике Соединенных Штатов, рассматривая его как приглашение проверить решимость американцев. Хотя в тот день Ачесон не сказал этого Аденауэру, но он не согласился с его мнением, поскольку сомневался, что любой американский президент стал бы когда-нибудь рисковать миллионами американских жизней ради Берлина, – и он считал, что Хрущев думает точно так же.
Вместо этого Ачесон сосредоточил усилия на том, чтобы убедить Аденауэра, что Кеннеди настроен столь же решительно, как его предшественники, защищать свободы Западной Германии и Западного Берлина. Ачесон сообщил Аденауэру некоторые детали плана, разработанного правительством Кеннеди на случай непредвиденных обстоятельств в Берлине, и о скептицизме Кеннеди в отношении намерений русских. «Вы сняли камень с моей души», – вздохнув с облегчением, сказал Аденауэр.
Однако Ачесон был вынужден огорчить Аденауэра, лишив его надежды на то, что сбудется самая несбыточная мечта западногерманского канцлера. В настоящее время Кеннеди отказался от плана, который рассматривал Эйзенхауэр, по размещению американских подводных лодок, оснащенных ракетами «Поларис», под контроль НАТО, тем самым создав альянс четырех ядерных держав. Вместо этого Кеннеди передал в распоряжение НАТО пять подводных лодок, оснащенных ракетами «Поларис», но под командованием американцев и с такими ограничительными условиями по их использованию, что это никак не соответствовало желанию Аденауэра, чтобы средства ядерного устрашения были более удобными в использовании и более доступными.
Короче говоря, Кеннеди, как следовало из отчетов КГБ того времени из Парижа и других мест, хотел, чтобы любой берлинский конфликт был местного масштаба и не перерастал в мировую войну. Отсюда следовало, что Соединенные Штаты должны были не только отказаться от опоры на ядерное оружие в любом противоборстве по Берлину, но и категорически выступать против идеи о владении НАТО ядерным оружием.
В конце дня, не отступая от традиции, Аденауэр пригласил гостя в розарий поиграть в бочче [29].
Аденауэр снял пиджак, оставив галстук, закатал рукава рубашки и начал игру, бросив меньший шар, джек-болл. После этого они по очереди бросали шары, стараясь, чтобы их шары были как можно ближе к джек-боллу.
Когда Ачесон был близок к победе, канцлер изменил правила игры и стал отбивать джек-болл от шаров Ачесона.
В ответ на возражение Ачесона Аденауэр, улыбнувшись, сказал: «Сейчас вы в Германии, а в Германии я устанавливаю правила».
Ачесон улыбнулся, радуясь, что его миссия достигла цели. Он сумел успокоить Аденауэра, заранее сообщив ему неприятные известия. Теперь Аденауэр появится в Вашингтоне более спокойным, и благодаря Ачесону первое совещание Аденауэра с Кеннеди будет более многообещающим.
Однако не в силах Ачесона было повлиять на два события, которые омрачили визит Аденауэра: исторический запуск советского корабля-спутника в космическое пространство и поражение США на Кубе.
Пицунда, Советский Союз
Вторник, 11 апреля 1961 года
В тот день, когда Аденауэр вылетел в Вашингтон, Хрущев отдыхал на даче в Пицунде, куда ему регулярно поступали самые свежие новости о планируемом на следующее утро запуске первого человека в космос. Кроме того, он начал готовиться к намеченному на октябрь XXII съезду Коммунистической партии Советского Союза.
Позже Хрущев объяснил свои частые поездки в Пицунду, куда ездил не только отдыхать, но и размышлять: «Бывают задачи, которые не решишь правильно, если как следует над ними не подумаешь. Даже куры не вдруг яйца кладут. В серьезных делах торопиться незачем». Пицунда была для него тем местом, где он мог отдышаться от напряженного темпа истории и собственноручно написать несколько страниц. Там, прогуливаясь в сосновой роще и по берегу моря, он выстраивал свою речь, произнесенную на ХХ съезде партии в 1956 году, в которой разоблачил культ личности Сталина. Хрущев любил приводить гостей в реликтовую сосновую рощу, многим деревьям в которой он даже дал имена, и хвастаться небольшим спортивным залом и плавательным бассейном со стеклянной крышей и стеклянными стенами, раздвигающимися нажатием кнопки [30].
О том, насколько большое значение придавал Хрущев отношениям с Кеннеди, свидетельствует тот факт, что среди прочих дел этим утром он принял Уолтера Липпмана, знаменитого американского журналиста, которому на тот момент было семьдесят один год, и его супругу Хелен. Это было связано не только с большим влиянием Липпмана на родине и его общением с Кеннеди, но и с тем, что в его статьях неизменно чувствовалось, что он доброжелательно настроен к Советскому Союзу.
В связи с запуском в космос у Хрущева был напряженный график, и он распорядился сообщить Липпману, что их встречу придется отложить. Липпман в это время уже сидел в кабине следующего в Рим самолета, который разгонялся по взлетной полосе в Вашингтоне. В наспех написанном сообщении советскому послу Меньшикову Липпман нагло написал – «невозможно».
Когда самолет с Липпманами приземлился, Хрущев решил, что стоит встретиться с ними, но ничего не говорить о планируемом на следующее утро запуске в космос первого космонавта Юрия Гагарина.
Первоначально планировалось запустить человека в космос 1 мая, но после трагической гибели 23 марта во время тренировки лейтенанта Валентина Бондаренко, космонавта, которого предполагали первым запустить в космос [31], Хрущев распорядился ускорить запуск. Советы слишком спешили отправить человека в космос, стремясь опередить американцев, и это, возможно, стало причиной смерти Бондаренко, наступившей после того, как в перенасыщенной кислородом атмосфере сурдокамеры возник пожар. Советы не сообщали подробности этого трагического случая. Они не сообщили о смерти космонавта, а его лицо на фотографиях советской космической команды было заретушировано. Информация об этой трагедии на долгие годы была засекречена.
Не сломленный неудачей Хрущев установил дату запуска советского аппарата на 12 апреля, желая опередить США, поскольку ему было известно, что американцы планируют 5 мая запустить в космос астронавта Алана Шепарда на «Меркурии». В случае успешного запуска Хрущев не только творил историю, но и получал крайне необходимую политическую поддержку. Если бы миссия Гагарина провалилась, Хрущев скрыл бы все доказательства запуска.
Ни о чем не подозревающие Липпман с женой прибыли на дачу Хрущева в 11:30 утра и до вечера гуляли, купались, ели, пили и вели беседы.
Липпман гордился, что имеет доступ не только к лидеру США, но и к мировым лидерам, а теперь он встречался еще и с коммунистическим лидером на его черноморской даче. Прежде чем получить колонку в газете, он был советником Вудро Вильсона и делегатом Парижской мирной конференции, результатом работы которой стал Версальский мирный договор. Благодаря Липпману общеупотребительным стало выражение «холодная война». Это он советовал Вашингтону признать советскую сферу влияния в Европе. Интерес Москвы к Липпману был столь велик, что агенты КГБ в Соединенных Штатах завербовали его секретаря, Мэри Прайс, чтобы собирать информацию о его источниках и людях, вызывавших его интерес.
Во время прогулок высокий ширококостный Липпман возвышался над невысоким, коренастым Хрущевым. Однако во время игры в бадминтон Хрущев в паре с сопровождавшей Липпмана в поездке по Советскому Союзу довольно полной дамой из Министерства иностранных дел одержал победу над более спортивными Липпманами, которых он поразил своей необычайной ловкостью, быстротой и реакцией. Хрущев несколько раз с силой посылал волан, явно целясь в голову соперникам.
Во время обеда к ним присоединился заместитель Хрущева Анастас Микоян. Основной темой беседы, длившейся три с половиной часа, был берлинский вопрос, из чего Липпман, как до него посол Томпсон, сделал вывод, что для советского лидера нет ничего более важного, чем будущее Берлина.
Чиновники из Белого дома, Государственного департамента и ЦРУ перед отъездом проинформировали Липпмана, чтобы он смог запустить пробный шар от их имени. Липпман спросил, почему Хрущев считает, что решение берлинского вопроса не терпит отлагательства. Почему бы не договориться о пятидесятилетней паузе, во время которой Соединенные Штаты и Советский Союз могли бы уделить внимание другим вопросам, касающимся их отношений, и создать атмосферу, более способствующую решению этой сложной проблемы?
Когда Хрущев в резком тоне отказался от очередной отсрочки решения вопроса, Липпман попросил, чтобы он мотивировал свой отказ.
Решение, ответил Хрущев, должно быть принято до того, как «гитлеровские генералы с их двенадцатью натовскими дивизиями получат ядерное оружие из Франции и Соединенных Штатов». Прежде чем это произойдет, сказал Хрущев, он хочет с помощью мирного договора установить нынешние границы Польши и Чехословакии и обеспечить существование Восточной Германии. В противном случае, заметил Хрущев, Западная Германия будет втягивать НАТО в войну, нацеленную на объединение Германии и восстановление ее довоенной восточной границы.
Липпман делал заметки в уме, а его жена дословно записала беседу. Они оба пытались остаться трезвыми, несмотря на то что Микоян все время подливал им в бокалы армянское вино и водку, пока Хрущев не сжалился над ними.
Хрущев время от времени, видимо чтобы Липпманы осознали это, говорил, что решительно настроен «обострить германский вопрос» в этом году. Позже Липпман сообщил своим читателям, что советский лидер был «решительно настроен окончательно урегулировать спорный вопрос по Берлину с помощью силы», чтобы остановить непрекращающийся поток беженцев и спасти коммунистическое восточногерманское государство.
Хрущев изложил Липпману свои мысли относительно Берлина, причем рассказал больше, чем ранее планировал. Вторую Пулитцеровскую премию Липпман получил за репортаж, состоявший из трех частей, о беседах с Хрущевым – он появился в 450 газетах.
Во-первых, сказал Хрущев обозревателю, он хочет, чтобы Запад признал, что «есть на самом деле две Германии», которые никогда не воссоединятся. Следовательно, США и Советский Союз должны с помощью мирных договоров официально признать три части Германии: Западная Германия, Восточная Германия и Западный Берлин. Установить статус демилитаризованного и нейтрализованного вольного города [32] для Западного Берлина.
После этого, сказал Хрущев, символические французские, британские, американские контингенты, советские войска и нейтральные войска, назначенные ООН, могли бы обеспечивать доступ и свободу. Четыре оккупирующие державы подписали бы соглашение с обеими Германиями, которые бы привели к тому же результату.
Поскольку Хрущев не был уверен, что Кеннеди согласится с его решением, он коротко обрисовал Липпману то, что назвал своей «позицией, подготовленной для отступления», или запасным вариантом.
Он готов пойти на временный договор, сроком на два-три года, в течение которых две Германии смогли бы договориться о создании конфедерации или какой-то другой формы объединения. Если бы эти два государства достигли соглашения в отведенный промежуток времени, то был бы подписан договор. Если бы им не удалось договориться, то оккупационные державы лишились бы всех прав и вывели войска.
Если США отказываются от этих предложений, сказал Хрущев Липпману, то его третий запасной вариант заключается в подписании сепаратного мирного договора с Восточной Германией, который предоставит Ульбрихту полный контроль над всеми подступами к Западному Берлину. Если союзники воспротивятся новой роли Восточной Германии, то он, сказал Хрущев, введет советские войска для установления полной блокады города.
Хрущев, чтобы несколько смягчить удар, объяснил Липпману, что не станет ускорять кризис, пока у него есть возможность встретиться с Кеннеди и обсудить эту проблему. Другими словами, он начал переговоры с президентом через обозревателя.
Взяв на себя навязанную ему роль посредника в переговорах, Липпман предложил Хрущеву пятилетний мораторий на переговоры по Берлину, сохранив на этот период текущее положение, – Липпман знал, что для Кеннеди это был бы оптимальный вариант.
Хрущев замахал руками. С берлинского ультиматума, сказал он, прошло тринадцать месяцев, и он не собирается ни соглашаться с очередной, да еще такой длительной, отсрочкой, ни оставлять нерешенной берлинскую проблему до октябрьского съезда партии.
Хрущев сказал Липпману, что не верит в то, что Кеннеди примет решение. Он одним словом подвел итог силам, стоящим за Кеннеди: Рокфеллер. По его мнению, президентом управляли большие деньги. Он считал, что, несмотря на «империалистическую сущность», у этих капиталистов возобладает здравый смысл. Если им придется выбирать между взаимовыгодным соглашением, действием Советского Союза в одностороннем порядке и войной, то, сказал Хрущев, по его мнению, группа Рокфеллеров заключит сделку.
Хрущев сказал, что готов объявить о ядерном блефе со стороны США. «По моему мнению, на Западе нет таких глупых государственных деятелей, которые бы развязали войну, понимая, что в ходе этой войны погибнут сотни миллионов только из-за того, что мы подпишем мирный договор с ГДР, который будет предусматривать особый статус вольного города для Западного Берлина с его 2,5-миллионным населением. Еще не родились такие идиоты».
В конце дня Липпманы, а не Хрущев, почувствовали усталость. Прощаясь, Хрущев по очереди сжал Липпманов в медвежьих объятиях, и они, усталые от впечатлений этого дня, разговоров и выпивки, отправились в свой гостиничный номер. Липпман не заметил ни следа усталости у Хрущева, о которой месяцем раньше говорил посол Томпсон. Однако ничто не могло больше пробудить энергию советского лидера, чем новости, которые ему сообщили на следующее утро.
Пицунда, Советский Союз
Среда, 12 апреля 1961 года
Когда Сергей Королев, знаменитый ракетостроитель и руководитель советской космической программы, позвонил Хрущеву, тот нетерпеливо спросил: «Скажите мне только, он действительно жив?»
Жив, ответил Королев, и чувствует себя даже лучше, чем мы могли предположить. Юрий Гагарин благополучно возвратился на Землю и стал первым человеком, слетавшим в космос, и первым человеком, облетевшим вокруг Земли. Его космический корабль назвали «Восток», чтобы подчеркнуть, каких добились успехов. И они достигли цели. К восторгу Хрущева, во время 108-минутного полета Гагарин насвистывал мелодию, сочиненную в 1951 году Дмитрием Шостаковичем: «Родина слышит, Родина знает, где в облаках ее сын пролетает…» Несмотря на протесты военачальников, Хрущев, пребывая в состоянии эйфории, приказал повысить Гагарина в звании, и в тот же день старший лейтенант Гагарин стал майором.
Хрущев раздувался от радости и гордости. Он, как в случае с запуском спутника в 1957 году, опять победил американцев в космической гонке. Помимо этого, он продемонстрировал, каких успехов достигло советское ракетостроение. Но что самое важное, «Восток» обеспечил ему столь необходимую поддержку перед октябрьским съездом партии, успешно нейтрализовав его противников.
Заголовки в газете «Известия», целиком посвященной полету, кричали о «величайшей победе нашей страны, нашей науки, нашей техники, нашего народа».
Торжествующий Хрущев сказал сыну Сергею, что он организовал грандиозное событие, позволившее советскому народу прославлять настоящего героя. Сергей пытался отговорить отца от немедленного возвращения в Москву, поскольку напряженный год сильно подорвал его здоровье, но Хрущев не слушал никаких разумных доводов. Он не принял во внимание и доводы КГБ, который пришел в ужас от известия о всенародном празднике, поскольку не мог осуществлять полный контроль над толпой.
По приказу советского лидера был организован самый грандиозный парад и праздник с окончания Второй мировой войны 9 мая 1945 года. Хрущева обуревали столь сильные чувства, что он неожиданно сел в открытый лимузин вместе с Гагариным и его женой, который повез их по Ленинскому проспекту на Красную площадь. На освещенных солнцем улицах их приветствовали толпы людей – на тротуарах, в окнах, на балконах, крышах и деревьях.
С трибуны Мавзолея Хрущев заявил: «Пусть знают все, кто точит когти против нас. Пусть знают, что Юрка был в космосе, все видел, все знает». Он с насмешкой говорил о тех, кто принижал Советский Союз и считал, что русские ходят «голые и босые». Полет Гагарина, по мнению Хрущева, явился подтверждением правильности его руководства страной и сообщил миру о технических возможностях его страны. Крестьянский парень, неграмотный и босой, превзошел Кеннеди и его намного более развитую страну.
Спустя более трех недель Алан Шепард на «Меркурии» стал вторым человеком и первым американцем, побывавшим в космосе.
Вашингтон, округ Колумбия
Среда, 12 апреля 1961 года
Аденауэр, похоже, не мог выбрать более неудачного времени.
Западногерманский канцлер приземлился в Вашингтоне спустя всего несколько часов после того, как Юрий Гагарин благополучно приземлился на парашюте в Казахстане. Аденауэр сидел в Овальном кабинете с президентом, которому не терпелось выпроводить его из города и продолжить подготовку к вторжению на Кубу.
Ситуация осложнялась еще и тем, что Аденауэр прибыл в Вашингтон примерно через месяц после визита Вилли Брандта, бургомистра Берлина, и лидера парламентской фракции социал-демократов Эгона Бара. Это был практически беспрецедентный случай, чтобы новоизбранный американский президент запланировал встречу с представителями оппозиции союзнической страны раньше, чем встретился с национальным лидером, но такова была суть напряженных отношений между Кеннеди и Аденауэром.
Кеннеди сказал Брандту, что «из всего, что Запад унаследовал после Второй мировой войны, Берлин был самой трудной проблемой». Президент сказал, что вообще сомневается в разрешении этой проблемы. «Нам придется жить в этой ситуации», – сказал Кеннеди.
Брандт вошел в число тех, кто сказал Кеннеди, что Хрущев, скорее всего, будет стараться изменить статус Берлина до октябрьского съезда партии. Брандт, желая проверить решительность намерений Запада, сказал, что восточные немцы и русские усилили активность между двумя частями Берлина. Если Советы опять заблокируют Западный Берлин, сказал Брандт, то запасов топлива и продовольствия хватит на шесть месяцев. Таким образом, у Кеннеди будет время, чтобы договориться о выходе из любой сложной ситуации, возникшей в Берлине.
Брандт попытался использовать сорок минут, проведенных в Овальном кабинете, на то, чтобы Кеннеди больше проникся идеей освобождения Берлина. Он назвал Западный Берлин окном в свободный мир, сохранявшим надежды восточных немцев на освобождение. «Эти надежды умрут без Западного Берлина», – сказал Брандт, а американское присутствие является «значительной гарантией» существования города. Брандт почувствовал облегчение, услышав, что Кеннеди впервые отклонил советское предложение об установлении статуса «вольного города» для Берлина, то, что президент, по слухам, поддерживал. Со своей стороны Брандт заверил Кеннеди, что заигрывания его социал-демократов с русскими относительно нейтралитета ушли в прошлое.
Прошел месяц, и переговоры Кеннеди с Аденауэром носили уже более напряженный характер. Кеннеди задал Аденауэру многие из тех вопросов, которые задавал Брандту, но некоторые ответы не удовлетворили президента. На вопрос, есть ли вероятность того, что Советы что-то предпримут в Берлине в 1961 году, Аденауэр ответил, что «может, предпримут, а может, и нет», заметив, что он не пророк. Когда в ноябре 1958 года Хрущев выдвинул шестимесячный ультиматум, сказал Аденауэр, никто не ожидал, что он будет настолько терпелив.
Кеннеди хотел узнать, какой, по мнению Аденауэра, должна быть реакция США, если Советский Союз все-таки подпишет сепаратный мирный договор с Восточной Германией, предположив, что Хрущев сделает это без блокады Берлина.
Пожилой Аденауэр прочел лекцию молодому президенту о том, почему создалась такая сложная ситуация с Берлином. Знает ли президент, спросил Аденауэр, что до сих пор не подписан мирный договор между четырьмя державами и Германией? Известен ли президенту такой «малоизвестный факт», задал он следующий вопрос, что Советский Союз до сих пор сохраняет военные миссии в Западной Германии? Западные союзники просили Аденауэра не слишком распространяться об этом, сказал канцлер, поскольку они тоже оставили миссии в Восточной Германии, которые помогают им собирать информацию.
Министр иностранных дел Генрих фон Брентано оценил шаги, которые может предпринять Советский Союз, поскольку Аденауэр не смог ответить на прямой вопрос Кеннеди. По его мнению, Советский Союз едва ли повторит блокаду Берлина. Вероятнее всего, сказал Брентано, Советы передадут контроль над Берлином руководству Восточной Германии, которое будет всеми силами препятствовать доступу в город. Исходя из этого Брентано предложил разработать план на случай возникновения непредвиденных ситуаций с учетом такой возможности.
В случае нападения Советского Союза, сказал Аденауэр, Западная Германия выполнит свои обязательства и вмешается, чтобы поддержать западные войска. «Падение Берлина станет смертным приговором для Европы и западного мира», – сказал Брентано.
Далее началось обсуждение, какие права имеет каждая из сторон в случае возникновения непредвиденных ситуаций в Берлине. Какие права в соответствии с международным правом имела Западная Германия на Берлин? Какие права хотела иметь? Какие права имели четыре державы, чтобы обеспечивать и защищать жителей Берлина? В чем суть натовских гарантий в отношении Берлина?
Все эти вопросы требуется тщательно проработать, сказал Аденауэр.
Кеннеди с трудом сдерживал раздражение, слушая перевод.
Для Аденауэра решение Берлинского кризиса состояло в том, чтобы не было деления города на восточный и западный и была единая Германия. По его замыслу, интеграция Западной Германии в сообщество западных стран являлось предпосылкой для возможного объединения, поскольку давала больше шансов вести переговоры с позиции силы. Аденауэр объяснил Кеннеди, что Западная Германия не испытывает никакого интереса к двусторонним переговорам с Советами. В большой игре, сказал Аденауэр, Западная Германия «всего лишь маленькая фигура». Он нуждался в помощи со стороны американцев и не скрывал этого.
Кеннеди сказал, что обеспокоен ежегодной «утечкой золота», порядка 350 миллионов долларов, которые идут на содержание американских войск в Германии. Он назвал эту ситуацию «одним из основных факторов в наших счетах платежного баланса». Он хотел, чтобы канцлер помог ему уменьшить расходы США в Германии и увеличил закупки военных и других товаров в Соединенных Штатах. Президент не стремился к прямому бюджетному облегчению за счет Аденауэра. Он хотел, чтобы более богатая Западная Германия оказывала больше помощи менее развитым странам, тем самым сняв часть этого бремени с Соединенных Штатов. Аденауэр согласился с этим и другими экономическими требованиями, которые могли облегчить бремя Соединенных Штатов.
Кеннеди меньше связывал себя обязательствами с Германией, чем его предшественники, и, кроме того, он считал, что преуспевающая Германия должна взять на себя часть расходов Соединенных Штатов.
По результатам встречи было опубликовано совместное заявление, в котором не было ни слова о проблемах, по которым стороны не пришли к соглашению. Корреспондент немецкого журнала «Шпигель» сообщил, что Аденауэр сильно разочарован визитом, в ходе которого не удалось обсудить основные проблемы, интересующие Бонн. По словам журналиста, три продолжительных совещания за два дня «лишили западногерманского канцлера физических сил и уничтожили его политические планы». Аденауэр, говорилось в статье, после окончания переговоров спускался по ступеням Белого дома «явно усталый, а его загорелое лицо казалось пепельно-желтым».
«Шпигель» сообщил, что правительство Кеннеди не удовлетворило просьбу Аденауэра по окончании переговоров в Белом доме провести выходные с другом, президентом Эйзенхауэром, в Пенсильвании. Вместо этого, по сообщению журнала, ему было «разрешено» полететь в Техас на «ранчо вице-президента Джонсона».
Аденауэр, несмотря на высокие темпы экономического роста страны, страдал от уменьшения собственного влияния в Вашингтоне. С американскими союзниками он выполнил план Маршалла, восстановил свою страну, вошел в НАТО, а теперь должен освободить место Советам. Его ближайший друг и советник, Джон Фостер Даллес, умер два года назад. Пара немецких журналистов, крутившихся у Белого дома, рассказали, что у Аденауэра и Кеннеди установились тесные личные отношения, но этому не было никаких доказательств.
По окончании визита западногерманского канцлера Кеннеди вышел на лужайку у Белого дома в сырой и холодный вашингтонский апрель. История оценит его по заслугам, сказал он об Аденауэре, за его невероятные «успехи по соединению народов Западной Европы и укреплению связей между Соединенными Штатами и Федеративной Республикой».
Аденауэр, в свою очередь, назвал человека, в котором сильно сомневался, «великим лидером», несущим «огромную ответственность за судьбу свободного мира».
Почти незамеченным остался ответ Аденауэра на вопрос репортера в Национальном пресс-клубе относительно слуха о возможном строительстве бетонной стены. «В ракетный век, – немного помолчав, сказал Аденауэр, – бетонные стены не имеют большего значения».
Стоунволл, Техас
Воскресенье, 16 апреля 1961 года
В воскресный солнечный полдень Аденауэр с дочерью Либет и министром иностранных дел Брентано вылетел из Вашингтона в Остин, штат Техас. Оттуда на вертолете их доставили в Стоунволл, расположенный примерно в ста километрах от Остина с населением около пятисот человек, места рождения вице-президента Джонсона, рядом с которым находилось его ранчо.
Аденауэр обменял мир реальных проблем на то, что для немцев обладало невероятной притягательностью, – открытые пространства Америки и Среднего Запада, ставшие популярными благодаря романам немецкого писателя Карла Фридриха Мая [33] (который, между прочим, никогда не был в Америке).
В центральной части Техаса, где находилось ранчо Джонсона, столетием раньше обосновались немецкие переселенцы, и их предки тепло приветствовали бундесканцлера. Отец Вунибальд Шнайдер специально для Аденауэра отслужил дневную мессу на немецком языке в церкви Святого Франсиска Хавьера в Стоунволле.
Во время посещения расположенного по соседству города Фредериксберга, где до сих пор был широко распространен немецкий язык, Аденауэр сказал на родном языке, что «за свою жизнь понял две вещи. Человек может стать техасцем, но не может перестать быть человеком. И второе, что в мире есть только одна вещь больше Техаса, и это Тихий океан». Его высказывание понравилось и народу, и Джонсону. Сопровождаемый известными немецкими репортерами Аденауэр использовал Техас как противоядие от вашингтонских разочарований и паузу перед выборами. Джонсон не пришел в восторг от порученной ему Кеннеди миссии; вице-президент предпочел бы находиться в Вашингтоне, чтобы настаивать на своей более жесткой линии в отношении Кубы, однако он, следуя указанию президента, «грубо льстил» Аденауэру.
В гигантском шатре, установленном на берегу реки Педерналес, протекавшей через ранчо Джонсона, Аденауэр наслаждался сосисками барбекю, а примерно в то же время бригада 2506 находилась в шестидесяти четырех километрах к югу от Кубы. Джонсон надел на голову канцлера широкополую ковбойскую шляпу; незабываемая фотография Аденауэра в заломленной ковбойской шляпе появилась во всех основных немецких газетах. Джонсон подарил канцлеру седло и шпоры и похвалил за то, как смело он скачет на коне свободы через холодную войну. Аденауэр был в восторге: он чувствовал себя в Техасе как дома.
В понедельник 17 апреля, когда Джонсон провожал Аденауэра в аэропорт, раздался звонок от Кеннеди. Президент попросил Джонсона передать канцлеру привет и сказать, что он считает Западную Германию «великой державой». Затем Джонсон шепнул Аденауэру, что президент информировал его о том, что на Кубе началось восстание, вызванное вторжением эмигрантов.
Теперь надо ждать развития событий, сказал Джонсон Аденауэру.
Белый дом, Вашингтон, округ Колумбия
Вечер вторника, 18 апреля 1961 года
Вместе с благополучно вернувшимся в Бонн Аденауэром президент Кеннеди в белом фраке и галстуке-бабочке отдыхал от разворачивавшегося на Кубе кризиса и пил шампанское с членами конгресса и их женами в Белом доме. Все присутствующие наслаждались ощущением роскоши, изысканности и шарма, которое супруги Кеннеди принесли в Вашингтон.
Гости Кеннеди по большей части не знали, что накануне утром началось десантирование в заливе Свиней 1400 кубинских эмигрантов, вооруженных и обученных в Гватемале ЦРУ, и что операция уже движется к провалу.
Двумя днями ранее восемь бомбардировщиков B-26 с опознавательными знаками кубинских ВВС вылетели с секретной базы ЦРУ Пуэрто-Кабесас, Никарагуа, и нанесли удары по трем аэродромам с целью уничтожить кубинскую авиацию. Однако им удалось уничтожить только пять из трех дюжин боевых самолетов Кастро.
Истребители Кастро потопили два грузовых судна, одно из которых перевозило продовольствие, снаряжение и средства связи для бригады 2506. Утром того дня, когда состоялся прием в Белом доме, советник по вопросам национальной безопасности Макджордж Банди принес Кеннеди дурные вести: «Ситуацию на Кубе нельзя считать хорошей. Кубинские вооруженные силы сильны, реакция населения вялая, а наши тактические позиции слабее ожидаемых».
Несмотря на это, в тот вечер в Белом доме играл оркестр морской пехоты, начав выступление с Mr. Wonderful («Мистер Чудо»). Под музыку этого бродвейского мюзикла, под громкие аплодисменты по лестнице, покрытой красной дорожкой, спускалась прекрасная пара с ослепительными улыбками, президент и первая леди.
Джеки танцевала с сенаторами. Президент, рейтинги которого превышали по-прежнему 70 процентов, был возбужден и словоохотлив.
В 23:45 президента оторвали от гостей ради совещания, которое давало последний шанс спасти провальную попытку операции на Кубе. Это был словно кадр из голливудского фильма: президент и члены его правительства во фраках обсуждали планы ведения боевых действий с военным руководством в парадной форме одежды и увешанные медалями. Тем временем на Кубе людей, которых они отправили воевать, становилось все меньше. Хотя Кеннеди всячески пытался избежать использования в операции американских солдат и самолетов, он оставил свой след на всем в этой развернувшейся катастрофе.
Большинство военных, собравшихся в комнате, занимали свои должности при Эйзенхауэре, когда в январе 1960 года он одобрил план свержения Кастро. Аллен Даллес, шестидесятивосьмилетний директор ЦРУ, оставленный Кеннеди в этой должности, осуществлял общее руководство операцией. Он разработал первый план вторжения на Кубу, взяв за образец успешную операцию в Гватемале в 1954 году, в результате которой было свергнуто прогрессивное правительство с помощью 150 эмигрантов и американских летчиков на нескольких истребителях Второй мировой войны. Сотрудники ЦРУ, принимавшие участие в операции в Гватемале, также были привлечены к реализации новой операции на Кубе.
Самой значительной фигурой на совещании был Ричард Биссел, высокоинтеллектуальная, высококлассная, в высшей степени таинственная фигура, олицетворявшая для братьев Кеннеди увлекательный шпионский мир. Бывший профессор экономики Йельского университета был заместителем директора ЦРУ по планированию и отвечал за проведение кубинской операции. Этот высокий, сутуловатый, с изысканными манерами человек насмешил Кеннеди, когда они впервые встретились на обеде, устроенном сотрудниками ЦРУ для новоизбранного президента в мужском клубе «Алиби», назвав себя «акулой, питающейся людьми».
Работая теперь на Кеннеди, Даллес и Биссел добавили последние штрихи в план по высадке десанта, состоявшего приблизительно из 1400 кубинских солдат, эмигрировавших с Кубы. Расчет делался на то, что успешная атака десантников вызовет восстание противников Кастро, которые, по оценке американской разведки, составляли 25 процентов населения – их будут подстрекать к восстанию 2500 членов организации сопротивления и 20 тысяч сочувствующих.
Кеннеди не подвергал сомнению эти цифры, однако приказал внести изменения в план, которые уменьшили шансы на успех. Он отказался от первоначально запланированного места высадки морского десанта в районе города Тринидад, расположенного в центре южного побережья, и в результате было принято решение десантироваться в заливе Свиней. Свое решение он мотивировал стремлением провести десантирование скрытно, в темное время суток и в районе, удаленном от населенных пунктов. Кеннеди настоял на том, чтобы не было никакой поддержки, ни с воздуха, ни какой-либо другой, и на уменьшении количества самолетов, которые должны были нанести бомбовые удары по аэродромам ВВС Кубы, с шестнадцати до восьми – все с той же целью, чтобы «уменьшить масштаб вторжения». Берлин так рассудил действия президента: он всеми силами стремился не дать Хрущеву повода для военных действий в разделенном городе слишком откровенной причастностью Соединенных Штатов к вторжению на Кубу.
Изменения, внесенные Кеннеди в последнюю минуту, требовалось настолько быстро отработать, что в результате был допущен ряд оплошностей. Никто не ожидал, что в заливе Свиней окажется такое количество предательских рифов. Согласно первоначальному плану кубинские беженцы могли скрыться в горах и поддержать местных антикастровских повстанцев, а по новому плану сотни людей были переброшены на побережье, и никто не подумал о путях отступления в горы. Кроме того, не обошлось без утечки информации. 10 января на первой полосе «Нью-Йорк таймс» появилась статья под заголовком: «США помогают тренировать антикастровские силы на секретной базе в Гватемале». Затем за несколько часов до вторжения Кеннеди через своего помощника Артура Шлезингера был вынужден вмешаться, чтобы запретить журналу «Нью рипаблик» напечатать материал, в котором в красках и довольно точно описывались планы вторжения на Кубу.
«Кастро не нужны агенты в Америке, – сетовал Кеннеди. – Ему достаточно просто читать наши газеты».
Вторжение 17 апреля вызвало резкий обмен посланиями между Кеннеди и Хрущевым. Советский лидер, который еще не знал, насколько неважно идет операция, 18 апреля в 14:00 по московскому времени сделал предупредительный выстрел на языке угроз, который он уже использовал в общении с Кеннеди. «Военная техника и мировая политическая обстановка теперь таковы, что любая так называемая «малая война» может вызвать цепную реакцию во всех частях земного шара».
Хрущев не купился на заверения Кеннеди, заявив, что ни для кого не секрет, что США подготовили, снабдили и вооружили вторгшуюся на Кубу армию и что самолеты, которые подвергают бомбардировке Кубу, как и бомбы, принадлежат Соединенным Штатам. Хрущев счел нужным предупредить американского президента, чтобы не было заблуждений насчет позиции Советского Союза, что «мы окажем кубинскому народу и его правительству всю необходимую помощь в отражении вооруженного нападения на Кубу».
Кеннеди ответил Хрущеву в тот же день приблизительно в 18:00 по вашингтонскому времени. «Вы серьезно заблуждаетесь», – заявил президент советскому лидеру. Он объяснил, по каким причинам кубинцы сочли «невыносимой» потерю своих демократических свобод и как это привело к тому, что более 100 тысяч беженцев решили оказать сопротивление режиму Кастро. Одним словом, он упорно настаивал на версии невмешательства США и посоветовал Хрущеву тоже держаться подальше. Вооруженные силы США не намерены вторгаться на Кубу, сказал президент, но в случае вмешательства Советского Союза Соединенные Штаты выполнят свои обязательства «по защите этой части земли от внешней агрессии».
Кеннеди всячески сопротивлялся всем требованиям о вмешательстве Америки. Он отверг предложение Биссела о срочном предоставлении эмигрантам прикрытия с воздуха. По мнению Биссела, в этом случае еще можно было рассчитывать на успех операции. Все, что требуется, заявил Биссел, – это два истребителя с авианосца «Эссекс», чтобы сбить вражеский самолет и оказать помощь попавшей в затруднительное положение армии.
Президент ответил категорическим отказом.
Всего шестью днями ранее Кеннеди был недоволен тем, что помощники выражали сомнение относительно разумности проведения операции. Никто не хочет брать на себя ответственность, сказал президент. Теперь он точно так же раздражался, когда люди, втянувшие его в эти неприятности, заявляли, что успех операции невозможен без увеличения вмешательства в том виде, при котором сразу станет ясно, что Соединенные Штаты принимают в этом участие.
«Стоит мне высадить одного морского пехотинца, и мы увязнем по горло, – сказал президент Бисселу. – Я не могу ввязать Соединенные Штаты в войну и проиграть ее, вне зависимости от причин». Кроме того, Кеннеди не хотел повторения «американской Венгрии», ситуации, в которой Соединенные Штаты, как считалось, поддерживали восстание, но в конечном итоге не предприняли никаких усилий, чтобы оказать помощь. Это может привести только к массовому кровопролитию, сказал президент. «Вам это понятно, господа?»
Если президент не хочет использовать военные самолеты, сказал адмирал военно-морских сил США Арли Берк, герой Второй мировой и корейской войн, он может оказать помощь кубинской бригаде, используя американские эсминцы. Адмирал, получивший прозвище «31 узел», после того, как однажды в сражении на одном из эсминцев его эскадры произошел разрыв котла, ограничивший скорость движения всей эскадры 31 узлом, теперь хотел, чтобы Кеннеди проделал подобный трюк. Он заявил, что Кеннеди может изменить ход сражения, если всего один эсминец «пробьет чертовы котлы Кастро», что, по его мнению, было относительно легкой задачей.
«Я не хочу вовлекать в это Соединенные Штаты», – возмущенно ответил Берку президент. «Черт побери, господин президент, но мы и так уже вовлечены», – резко ответил адмирал, словно разговаривал с молодым капитаном торпедного катера, а не с президентом. Он слишком часто видел, как нерешительность стоила жизни многим и влияла на исход сражений.
В 2:45 Кеннеди закончил трехчасовое совещание, согласившись на небольшой компромисс. Он одобрил ограниченную операцию. Утром шесть реактивных самолетов без опознавательных знаков должны были облететь побережье «для защиты кубинского экспедиционного корпуса от воздушной атаки». Эта утренняя ограниченная операция провалилась из-за неправильного расчета времени: бомбардировщики появились на час раньше американских самолетов сопровождения, и кубинцы сбили два самолета.
В целом потери кубинской бригады 2506 составили 114 человек убитыми, и 1189 были взяты в плен. После трехдневных боев противники Кастро признали поражение и сдались в плен.
Ачесон мгновенно понял, какие негативные последствия для Кеннеди будет иметь провал операции на Кубе, как он отразится на взглядах Хрущева и повлияет на уверенность союзников. По его мнению, это был «абсолютно непродуманный, безответственный шаг».
Выступая перед дипломатами в Foreign Service Institute (Институте дипломатической службы), Ачесон сказал, что, «по мнению европейцев, они наблюдали за игрой в бумеранг молодого одаренного любителя, когда увидели, к своему ужасу, что он поразил себя». Он объяснил слушателям, что европейцы «были поражены, как столь неопытный человек может играть с таким смертельным оружием».
После возвращения из поездки в Европу Ачесон с тревогой написал своему бывшему боссу Трумэну о беседе с Кеннеди в Розовом саду, но без упоминания имени президента. «Зачем мы приняли участие в этой глупой кубинской авантюре? Я даже не могу представить. До отъезда мне сказали об операции, и я объяснил своим информаторам, как Вы и я отклонили подобные предложения в отношения Ирана и Гватемалы и почему. Я считал, что от кубинского плана откажутся, как это следовало сделать».
Ачесон рассказал Трумэну, что провал операции на Кубе в значительной степени повлияет на мнение Европы о Кеннеди. «Это правительство кажется удивительно слабым. Насколько я понимаю, план Эйзенхауэра выполнялся чисто по инерции. Все, что сделало нынешнее правительство, так это лишило его тех деталей, которые были необходимы для успеха операции. Ум не может заменить здравый смысл. Кеннеди, по крайней мере в Европе, утратил большую часть того восхищения, которое вызывали его молодость и приятная внешность». Вашингтон, сообщил Ачесон Трумэну, «в подавленном состоянии», «в Государственном департаменте царит уныние».
Выступление Ачесона перед дипломатами достигло ушей Кеннеди, который попросил посмотреть полную расшифровку стенограммы выступления. С этого момента Ачесон заметил, что Кеннеди изменил свое отношение к нему; он утратил доверие президента, и тот уже не хотел видеть его так часто, как прежде.
Резкая критика Ачесона задела Кеннеди за живое.
Москва
Четверг, 20 апреля 1961 года
Хрущев с трудом поверил в свою удачу.
Он заранее знал о действиях Кеннеди на Кубе и сообщил об этом Липпману, который посетил его в Пицунде. Однако никогда, даже в самых несбыточных мечтах он не мог себе представить подобной некомпетентности. Первая же проверка показала Хрущеву, что новый американский президент не оправдал его ожиданий. Кеннеди продемонстрировал слабость под обстрелом. У него не хватило силы воли, чтобы отказаться от планов Эйзенхауэра, или характера, чтобы заставить работать эти планы как свои собственные. Он не сумел привести к успешному завершению операцию, имевшую такое важное значение для престижа Соединенных Штатов.
Хотя Кеннеди сумел не дать Хрущеву повода для адекватного ответа, но своей неудачей обеспечил советского лидера ценной информацией о том, что за человек осуществляет руководство Соединенными Штатами. «Я не понимаю Кеннеди, – сказал Хрущев своему сыну Сергею. – Он что, действительно такой нерешительный?» Хрущев сравнил операцию в заливе Свиней, закончившуюся провалом, со своей кровавой, но дерзкой вооруженной интервенцией в Венгрию, предпринятой с единственной целью – не допустить выхода страны из коммунистической сферы влияния.
Однако Хрущев допускал возможность, что директор ЦРУ Даллес, которого он годом раньше обвинил в инциденте с U-2, реализовал план вторжения, чтобы сорвать подготовку к американо-советскому саммиту. К тому же Хрущев был достаточно эгоистичен, чтобы решить, что Кеннеди, вероятно, наметил начало операции на 17 апреля, чтобы оскорбить советского лидера в день рождения. Но вместо того, чтобы испортить праздник, провал Кеннеди стал неожиданным подарком Хрущеву.
Отчеты КГБ о Кеннеди после провала операции на Кубе показались Хрущеву одновременно обнадеживающими и тревожными. С одной стороны, в рапортах КГБ из Лондона – очевидно, информация была из источников в американском посольстве – сообщалось, что Кеннеди говорил коллегам, будто сожалеет о том, что оставил на своих постах республиканцев, таких как Даллес, директор ЦРУ, и К. Дуглас Диллон, министр финансов. С другой стороны, Хрущев был озабочен вопросом о сущности президентского правления Кеннеди. Президент управляет страной или им управляют антикоммунистические ястребы, такие как Даллес? Или Кеннеди сам ястреб? Или, более вероятно, неудачный план означает, что Кеннеди является кем-то еще более опасным – человеком настроения и непредсказуемым противником?
Как бы то ни было, но совершенно ясно, что в течение одной недели удача дважды улыбнулась Хрущеву. Едва ли что-то могло так резко изменить его настроение, чем сочетание триумфального полета Гагарина и провал в заливе Свиней. Прошло всего шесть недель после встречи Хрущева с Томпсоном в Сибири, когда советский лидер равнодушно отреагировал на предложение Кеннеди о встрече.
Теперь, когда Кеннеди продемонстрировал слабость, Хрущев был более склонен рискнуть встретиться на ринге.
Хотя удача могла отвернуться намного быстрее, чем он, возможно, предполагал, он понимал, что надо продолжать еще быстрее двигаться вперед. Вопрос по Берлину оставался на точке замерзания. В Берлине собиралось совершенно новое поколение, стремившееся насладиться достопримечательностями и атмосферой единственного в мире города, в котором можно было увидеть, как соревнуются две враждующие системы, открыто и без вмешательства с целью примирения.
Хрущев хотел рискнуть, не зная, куда это может привести.
Йорн Доннер находит город
То, что привлекло молодого финского писателя Йорна Доннера в Берлине, было его уверенностью в том, что это место больше понятие, чем город. Вот почему, получив диплом, Доннер отправился в Берлин, чтобы утолить жажду приключений и найти источник вдохновения.
Левый берег Сены в Париже – это Сартр и его ученики; римская Виа Венета представила свою «Сладкую жизнь», и ничто не могло соперничать с лондонским Сохо, в который Доннера привели поиски изучения человеческого поведения. Однако только Берлин мог предоставить Доннеру уникальное окно в разделенный мир, в котором он жил.
Доннер считал, что различие между жителями Восточного и Западного Берлина определяют обстоятельства, и, следовательно, они служат отличными лабораторными мышами для наиважнейшего социального эксперимента в мире. Они были берлинцами, сформированными одной и той же историей до 1945 года, когда неожиданное использование разных систем развело их в разные стороны: одних – в процветание, раскрывающее пороки, других – в добродетель, стесняющую движение. Берлинцы всегда были зажаты между Европой и Россией, но холодная война превратила географическую карту в психологическую и геополитическую драму.
Спустя двадцать лет Доннер станет продюсером фильма Ингмара Бергмана «Фанни и Александр», который завоюет четыре премии «Оскар». Но в то время он лепил себя как Кристофер Ишервуд [34] и сразу по окончании учебы в Стокгольмском университете захотел начать артистическую карь еру с хроники Берлина как живой истории своего времени.
В романе «Прощай, Берлин!» отслежены импровизированные уличные бои между коммунистами и нацистами в 1930-х годах, которые были прелюдией к Второй мировой войне и геноциду. Доннер расскажет историю, которая будет иметь не меньшее историческое значение, хотя берлинцам в ней будет отведена роль безучастных наблюдателей в окружающем их мире высокой политики.
Немцы, пренебрежительно говоря о громогласных жителях Берлина, используют термин «Berliner Schnauze», «берлинская морда», и ничего не изменилось во времена послевоенной оккупации. Стивен Спендер описал очевидную храбрость берлинцев времен холодной войны следующим образом: «Если берлинцы демонстрируют бесстрашие, которое вызывает удивление у почти разучившегося удивляться мира, это потому, что они достигли того места в глубинах страха, где, будучи полностью во власти конфликта двух великих держав, понимают, насколько там бесполезен страх, а потому нет ничего, что бы заставило их бояться».
В западноберлинском метро Доннер изучал неприятные равнодушные лица берлинцев, находившихся в центре драмы. Хотя судьба человечества, возможно, решалась в их городе, Доннер понял, что берлинцы на удивление безразличны, словно действительность была слишком сложной для их понимания.
Доннер впоследствии извинился перед читателями, что в поисках точной метафоры для описания разделенного города не мог сопротивляться «почти непроизвольной мании лунатика» построить свой рассказ на сопоставлении двух абсолютно разных главных улиц – западноберлинской Kurfьrstendamm (Курфюрстендамм) и восточно-берлинской Stalinallee (Шталиналлее, аллея Сталина).
Подобно Западному Берлину, Ку’дамм (так называют ее берлинцы) появилась из хаоса послевоенных лет наполненной беспокойной энергией, неоновым светом, модными тенденциями и новыми кафе и барами, соперничающими за толстые бумажники. Шталиналлее, подобно Восточному Берлину, скрывала подразумеваемую недолговечность общества с его планируемым из центра неоклассическим великолепием, диктующим все, от размера квартиры до ширины ее прихожей и высоты окон. Директивы государственной безопасности точно устанавливали количество осведомителей относительно численности населения.
Хотя длина Ку’дамм составляет всего четыре километра, на ней находилось семнадцать самых дорогих ювелирных магазинов, десять дилерских фирм по продаже автомобилей и самые шикарные рестораны. Вдовы, потерявшие мужей в войну, просили милостыню, стоя на углах этой улицы, поскольку там гуляли самые богатые жители города. Одно из таких мест находилось напротив выставочного салона Эдуарда Винтера, дилера «Фольксваген», самого богатого человека в Берлине.
Ишервуд, на основе романа которого был снят фильм «Кабаре», описывал довоенную Ку’дамм как «скопление дорогих отелей, баров, кинотеатров, магазинов… сияющее пятно света, как фальшивый бриллиант в тусклых сумерках города». В период холодной войны она почти не изменилась, хотя в результате послевоенной реконструкции в 1950-х годах появились современные строения из стекла и бетона.
В дешевом баре под названием «Старомодный» Доннер наблюдал за бизнесменом из Дюссельдорфа, который приставал к белокурой девушке-бармену, вылизывая ей ухо, пока она, устав от его приставаний, не отступила, и его губы уткнулись ей в подмышку. Берлин был местом, куда немцы приезжали в поисках удовольствий, в котором было все, от баров трансвеститов до обычных развлечений, и не было комендантского часа. Они приезжали и уезжали, и то, что происходило в Берлине, оставалось в Берлине.
В коммунистическом Восточном Берлине Доннер нашел alter ego Ку’дамм. В 1949 году в связи с семидесятилетием Сталина Ульбрихт переименовал улицу Большая Франкфуртская (Grosse Frankfurter Strasse) в аллею Сталина – Шталиналлее. Это название оставалось до ноября 1961 года, несмотря на то что диктатор был уже мертв и развенчан Хрущевым [35].
В последние дни Второй мировой войны советские солдаты вешали на деревьях, стоявших вдоль улицы, нацистов, часто прикрепляя им на грудь табличку с надписью: здесь висит такой-то, поскольку он не смог защитить жену и детей.
Эта улица, по задумке Ульбрихта, стала демонстрацией власти и возможностей коммунизма, «первой социалистической дорогой Германии». В период с 1952 по 1960 год строительные бригады возвели длинные ряды восьмиэтажных жилых домов в стиле сталинского монументализма. Жилые дома строились как «дворцы для рабочих» и были призваны отражать мощь инженерной мысли. В этих домах были лифты, мраморные лестницы, квартиры с высокими потолками, балконами и – роскошь для того времени – ваннами. Улица была достаточно широкой и длинной, позволявшей проводить военные парады. По ней ежегодно проходили первомайские демонстрации, и на ней же в 1953 году рабочие начали забастовку, распространившуюся по всей Германской Демократической Республике.
Доннер описал молчаливое отчаяние жителей Восточного Берлина, живущих рядом со Шталиналлее, которые прошли через ужасы Второй мировой войны только для того, чтобы снова очутиться на неправильной стороне истории.
Raabe-Diele [36], один из старейших пабов в Берлине, находился в переулке Sperlingsgasse (Воробьиный переулок), узком, еще не до конца очищенном от развалин. В пабе было всего три стола, стойка, скамейки вдоль стен и обычные стулья.
Единоличной владелицей паба была фрау Фридрих Конарске, которая провела за стойкой пятьдесят семь из своих восьмидесяти двух лет. Она не рассказывала Доннеру о своей тяжелой жизни, но с удовольствием сплетничала о своих посетителях, мужчинах, среди которых была всего одна женщина, сорока с чем-то лет, вульгарная и крикливая. «Десять пьяных мужчин лучше одной подвыпившей женщины», – ворчала Конарске.
Двое мужчин средних лет, сидя за столиком у окна, играли на гитарах и пели сентиментальные песни. Когда они собрались уходить, горбун выкрикнул писклявым голосом: «Спойте «Лили Марлен»! Я хочу послушать эту песню. А затем куплю вам выпивку».
Самый хорошо одетый посетитель – по мнению остальных посетителей паба, он был или членом коммунистической партии, или офицером госбезопасности – крикнул, что он против, поскольку песня была одной из любимых песен Гитлера.
Возмущенный горбун вскочил со своего стула: «Это еще почему? «Лили Марлен» исполняли во время войны, чтобы выразить – да, чтобы выразить – стремление солдат к миру. Она не имеет никакого отношения в нацизму». И это действительно так. Слова песни были написаны в годы Первой мировой войны солдатом Хансом Ляйпом, когда он стоял на часах в Берлине, перед отправкой на Восточный фронт. Горбун утверждал, что даже американцам и англичанам нравится эта песня.
«Эту песню знают во всем мире!» – выкрикнул подвыпивший молодой человек с приплюснутым носом, изуродованными ушами и пожелтевшими от никотина пальцами, который, похоже, был боксером. Один за другим посетители фрау Конарске выступали против предполагаемого коммуниста, но певцы все еще не решались исполнить песню, поскольку одномоментный акт неподчинения мог привести к длительному тюремному заключению.
Расхрабрившийся от выпитого мужчина, похожий на боксера, сказал, обращаясь к хорошо одетому мужчине: «Если не хочешь слушать, можешь уйти». А затем запел. Почти сразу к нему присоединились музыканты, следом один за другим песню подхватили все посетители паба, за исключением мужчины в черном пальто, который молча потягивал пиво.
Фрау Конарске выставила выпивку за счет заведения, а затем подозвала Доннера и показала ему висящий у нее за спиной на стене в рамке небольшой лист бумаги с текстом. Там было написано: «Мы уйдем из жизни такими же нагими, какими вошли в этот мир».
Она спросила незнакомца: «Вы думаете, что кто-то займет мое место, когда я уйду? Все мои родственники и друзья в Западной Германии. Вы думаете, они захотят переехать в Восточный Берлин и работать в этой дыре с десяти утра до двух ночи?»
И сама же ответила: «Нет».
Глава 9. Рискованная дипломатия
Американское правительство и президент обеспокоены тем, что советское руководство недооценивает способности нового правительства США и лично президента.
Роберт Кеннеди советскому агенту военной разведки Георгию Большакову, 9 мая 1961 годаБерлин – гнойный нарыв, который следует удалить.
Премьер Хрущев американскому послу Льюэллину Томпсону на ледовом шоу Ice Capades о цели Венского саммита, 23 мая 1961 годаВашингтон, округ Колумбия
Вторник, 9 мая 1961 года
Генеральный прокурор Роберт Кеннеди в белой рубашке, с ослабленным галстуком и перекинутым через плечо пиджаком вышел из министерства юстиции, спустился по ступеням на Пенсильвания-авеню и протянул руку советскому секретному агенту Георгию Большакову.
«Привет, Георгий, давно не виделись», – сказал генеральный прокурор, словно встретил друга, которого давно не видел, хотя на самом деле они виделись всего один раз, притом недолго и давно, около семи лет назад. Кеннеди сопровождал Эд Гатман, журналист, лауреат Пулитцеровской премии, ставший пресс-секретарем Роберта Кеннеди. Гатман устроил эту беспрецедентную встречу через человека, который привез Большакова к министерству юстиции на такси и стоял рядом с ним, корреспондента «Нью-Йорк дейли ньюс» Фрэнка Хоулмена.
«Прогуляемся?» – спросил Кеннеди Большакова.
Кеннеди кивнул Гатману и Хоулмену, приказывая остаться, и вместе с советским агентом прогулочным шагом в сгущающихся весенних сумерках пошел по Национальной аллее, ведя светскую беседу о журнале, редактором которого был Большаков.
В воздухе стоял запах свежескошенной травы, и Кеннеди предложил сесть на лужайке в уединенной части парка. С одной стороны на заднем плане возвышался Капитолий, с другой – памятник Вашингтону, а непосредственно за ними находились парадные ворота Смитсоновского замка. Любители прогулок и туристы наблюдали за дождевыми облаками, предвещавшими грозу.
Большаков рассказал о своей близости к Хрущеву и сам предложил себя в качестве связного, как имеющего непосредственный контакт с советским лидером и более полезного, чем посол Москвы в Соединенных Штатах Михаил Меньшиков, которого Бобби с братом считали клоуном.
Бобби сказал Большакову, что брат очень хочет встретиться с Хрущевым и что надеется наладить отношения в преддверии первой встречи. Генеральный прокурор заметил, что знает о связи Большакова с некоторыми влиятельными людьми из окружения Хрущева и уверен, что Большаков способен исполнять выбранную им роль. «Было бы замечательно, если бы они получали информацию непосредственно от вас, – сказал Бобби. – И у них, я полагаю, была бы возможность сообщать ее Хрущеву».
При первых раскатах грома Кеннеди шутливо заметил: «Если меня убьет молния, то газеты сообщат, что русский шпион убил брата президента. Это может вызвать войну. Давайте уйдем, пока этого не случилось». Хлынул ливень, заставив их с быстрого шага перейти на бег. Подбежав к министерству юстиции, они на личном лифте генерального прокурора поднялись в его кабинет. Там они сняли мокрые пиджаки и, оставшись в рубашках, продолжили беседу в маленькой комнате, в которой стояли два кресла, холодильник и книжный шкаф.
Так было положено начало одним из самых удивительных – и даже спустя годы – только отчасти объяснимых отношений холодной войны. С этого дня генеральный прокурор и советский агент стали часто встречаться – были периоды, когда они встречались два-три раза в месяц. Это общение практически не оставило следов в документах и отчетах – упущение, о котором позже сожалел Роберт Кеннеди. Он никогда не вел записи их встреч и сообщал о них только брату, причем в устной форме. Таким образом, эти встречи удалось восстановить только по рассказам Роберта Кеннеди, советским отчетам, частично по воспоминаниям Большакова и некоторых людей, присутствовавших на встречах.
Президент Кеннеди одобрил первую встречу брата с Большаковым, не консультируясь ни с одним из своих советников по внешней политике и экспертов по Советскому Союзу. Это свидетельствовало о растущем недоверии Кеннеди к военному и разведывательному аппарату после залива Свиней, склонности Кеннеди к секретным действиям, желании так аккуратно сложить вместе отдельные части, чтобы саммит прошел по возможности гладко.
А вот для Хрущева Большаков был скорее полезной пешкой, чем значимой фигурой. Словно на шахматной доске, Хрущев мог так управлять Большаковым, чтобы вызывать на откровенность Кеннеди, не показывая собственной игры. С самого начала советский лидер получил преимущество. Президент Кеннеди мог узнавать от Большакова только то, что Хрущев и другие руководители хотели, чтобы узнал Кеннеди, в то время как Большаков мог получать намного больше информации от Бобби Кеннеди, который хорошо знал президента и его взгляды.
Канал Большаков – Роберт Кеннеди был одним из каналов связи, используемых Хрущевым в начале мая для оказания влияния на президента. В то время как советское руководство с максимальной выгодой использовало два канала, американские коллеги знали только об официальном канале, установленном пятью днями ранее, когда министр иностранных дел Андрей Громыко позвонил послу Томпсону, чтобы передать запоздалый ответ на февральское письмо Кеннеди, в котором содержалось предложение о встрече.
Громыко принес извинения Томпсону, что Хрущев не смог лично сообщить, что согласен на встречу. Советский лидер уехал из Москвы в очередную поездку по стране, чтобы хорошенько подготовиться к октябрьскому съезду партии, и собирался вернуться не раньше 20 мая. Но говоря от имени Хрущева, Громыко сообщил, что советский лидер «сожалеет о разногласиях» между двумя странами в отношении залива Свиней и Лаоса.
Тщательно подбирая слова, Громыко сказал, что «если Советский Союз и Соединенные Штаты считают, что между ними нет непреодолимой пропасти, то они должны сделать из этого соответствующие выводы, а именно что мы живем на одной планете, а потому должны находить способы улаживать необходимые вопросы и выстраивать отношения». Хрущев, сказал Громыко, готов принять предложение Кеннеди о встрече и верит, что «удастся построить мосты, которые свяжут наши страны».
Громыко хотел узнать у Томпсона, остается ли после провала операции в заливе Свиней приглашение Кеннеди «в силе или пересматривается». Хотя Громыко корректно сформулировал вопрос, за ним скрывался вызов. По сути, он спрашивал, посмеет ли Кеннеди встретиться с Хрущевым после столь неудачной попытки на Кубе.
Таким образом, сближение Хрущева с президентом Кеннеди вступило в третью стадию. Первая стадия – отчаянные усилия Хрущева по организации встречи с Кеннеди сразу после выборов и в первые дни вступления Кеннеди в должность. Вторая стадия – утрата Хрущевым интереса к встрече с Кеннеди после выступления новоизбранного президента с обращением «О положении страны». Теперь Хрущев вновь хотел встретиться с президентом и оказать давление на ослабевшего, по его представлению, противника.
После телефонного разговора с Громыко Томпсон подготовил телеграмму. Он мгновенно сделал вывод, что если президент хочет изменить резко ухудшающиеся отношения, то риски, связанные с этой встречей, во много раз перевешиваются ее необходимостью. В секретной телеграмме, отправленной в 16:00 государственному секретарю Дину Раску и содержавшей отчет о беседе с Громыко, Томпсон убеждал президента ухватиться за протянутую Хрущевым руку. Критики утверждали, что Кеннеди, словно раненая добыча, шел в медвежий капкан, но Томпсон предложил Кеннеди открыто заявить, что он отправил приглашение Хрущеву задолго до событий в заливе Свиней и что советский лидер ответил на него только сейчас.
Затем Томпсон изложил свои аргументы в пользу встречи.
● Перспектива встречи сделает Советы более сговорчивыми при обсуждении проблем Лаоса, запрещения ядерных испытаний и всеобщего разоружения.
● Встреча наедине будет наилучшим вариантом для Кеннеди, чтобы повлиять на ключевые решения октябрьского съезда партии, который может подготовить почву для отношений на последующие годы.
● Поскольку Мао Цзэдун выступает против таких американо-советских консультативных совещаний, то, по мнению Томпсона, сам факт встречи углубит кризис в советско-китайских отношениях.
● И наконец, демонстрация миру готовности вести переговоры лично с Хрущевым окажет влияние на общественное мнение таким образом, что облегчит Кеннеди удержание твердой позиции в пользу защиты свобод Западного Берлина.
Томпсон утверждал, что, несмотря на обострение отношений с Москвой, Хрущев не передумал наладить деловые отношения с Западом и не отказался от своей внешнеполитической программы мирного сосуществования. Томпсона беспокоило, что критики в Вашингтоне часто навешивали ему ярлык апологета Хрущева, однако он утверждал, что советский лидер не способствовал усилению конфронтации с Западом в странах третьего мира, а просто использовал в своих интересах неудачи Соединенных Штатов на Кубе, в Лаосе, Ираке и Конго.
Но для Кеннеди эта встреча была сопряжена с большим риском, и прежде, чем встречаться, следовало тщательно изучить намерения Советов, чтобы избежать дальнейших ошибок во внешней политике. Кеннеди, желая понять, действительно ли Хрущев стремится к улучшению отношений между их странами, решил прибегнуть к помощи дипломатов.
Проведя день в раздумьях, Кеннеди обратился к Томпсону через Раска. Он хотел, чтобы посол сказал Хрущеву, что президент не намерен отказываться от идеи саммита и надеется, что его можно будет провести в начале июня в Вене, которой Советы отдают предпочтение. Однако, к большому сожалению, Кеннеди еще не принял окончательного решения, но примет его до возвращения Хрущева в Москву 20 мая.
Важнее всего, говорилось в телеграмме Раска, чтобы Томпсон передал Хрущеву, что в том случае, если Советы не изменят своего отношения к событиям в Лаосе, встреча может не состояться. На следующей неделе начинаются переговоры в Женеве, и Кеннеди хочет сделать все для достижения и создания действительно нейтрального Лаоса.
Посол по особым поручениям Аверелл Гарриман, возглавлявший американскую делегацию в Женеве, сообщил Кеннеди, что сомневается относительно готовности Хрущева согласиться на нейтральный Лаос, поскольку «коммунисты в Женеве полны уверенности и, кажется, совершенно не волнуются относительно достижения своих целей в Лаосе». Советы, по словам Гарримана, делают все возможное, чтобы поставить США в невыгодное положение накануне предстоящей встречи на высшем уровне.
Кроме того, Раск сказал Томпсону, что «по внутриполитическим причинам» президент хочет, чтобы во время переговоров в Вене Хрущев поделился, в каком направлении он собирается действовать, чтобы достигнуть соглашения по проблеме запрещения ядерных испытаний. Кроме того, президент хотел быть уверен, что в публичных заявлениях в Вене не будет никаких ссылок на Берлин – вопрос, по которому он не готов к переговорам.
Спустя три дня президент Кеннеди запустил ту же информацию через своего брата, и Бобби поделился ею с Большаковым, когда они спрятались от дождя в кабинете Бобби в министерстве юстиции.
Большакова устраивало, что Бобби выбрал для их первой тайной встречи 9 мая – национальный праздник Советского Союза. В Вашингтоне это был обычный рабочий день, а у сотрудников советского посольства – выходной; в этот день они отмечали шестнадцатую годовщину победы над нацистами. Таким образом, Большакову удалось скрыть даже от ближайших товарищей установленный им сверхсекретный канал связи с президентом Кеннеди.
Большаков не сообщил, что идет на встречу, даже своему начальнику, главе резидентуры ГРУ, советской военной разведки, работавшему под крышей советского посольства в Вашингтоне. Начальник Большакова не мог допустить мысли, чтобы рядовой советский агент устанавливал наиважнейший американо-советский канал связи. На встрече с Робертом Кеннеди Большаков устанавливал связь не просто с братом президента, его самым доверенным лицом, но и с генеральным прокурором, тем самым устанавливая наблюдение за всеми действиями контрразведки ФБР.
Уверенные действия Большакова по выполнению задания такого высокого уровня объяснялись тем, что он действовал с согласия советского лидера, полученного через Алексея Аджубея, зятя Хрущева, редактора газеты «Известия» и друга Большакова. Аджубей порекомендовал Большакова Хрущеву, когда в 1959 году советский лидер планировал свою первую поездку в США, как одного из тех, кто мог оказать ему помощь. (Незадолго до этого Большаков служил в качестве «офицера по особым поручениям» у маршала Георгия Жукова, героя войны и министра обороны, который в 1957 году был снят Хрущевым со всех постов.)
В 1959 году Большаков был направлен в США под видом советника посольства по печати и редактора англоязычного советского пропагандистского журнала «Совьет лайф». Это была вторая командировка Большакова в Вашингтон – первая, под видом корреспондента информационного агентства ТАСС, длилась с 1951 по 1955 год.
Для разведчика у Большакова была весьма нетипичная внешность. Это был человек высокого роста, с пронзительными голубыми глазами, темными вьющимися волосами, с типичным русским акцентом, кутила и весельчак. Среди его друзей и знакомых было много людей из круга Кеннеди: главный редактор газеты «Вашингтон пост» Бен Брэдли; журналист Чарльз Бартлетт, в доме которого президент познакомился с будущей женой, Жаклин; начальник штаба Кен О’Доннелл; спичрайтер Тед Соренсен и пресс-секретарь Пьер Сэлинджер.
Однако самым важным связующим звеном Большакова с Кеннеди был Фрэнк Хоулмен, вашингтонский журналист, который тесно общался с Никсоном и теперь пытался снискать расположение правительства Кеннеди. Коренастый, с акцентом и манерами южанина, с галстуком-бабочкой и вечной сигарой, он был известен коллегам как «полковник». Хоулмену было всего сорок лет, но он уже считался вашингтонским старожилом, поскольку освещал жизнь Рузвельта, Трумэна, Эйзенхауэра, а теперь Кеннеди.
Большаков был информатором Хоулмена с того времени, когда в 1951 году они встретились в советском посольстве на обеде в честь американского журналиста. Хоулмен вызвал к себе любовь Кремля, сорвав план Национального пресс-клуба лишить всех советских журналистов аккредитации в ответ на арест чешским правительством по обвинению в шпионаже всех сотрудников пресс-бюро Ассошиэйтед Пресс в Праге. Объясняя, почему он выразил несогласие с общим решением, Хоулмен, смеясь, сказал, что хотел, чтобы клуб оставался открытым для всех, «кто хочет обмениваться ложью». Он пошел еще дальше, обеспечив членство в клубе новому советскому пресс-атташе, человеку, который вполне мог быть шпионом. Советское посольство выразило ему признательность, пригласив на обед. Вот тогда Хоулмен и познакомился с Георгием Большаковым.
Когда в 1955 году Большакова отозвали в Москву, он передал свой контакт другому сотруднику ГРУ, своему преемнику Юрию Гвоздеву, работавшему под «крышей» посольства в качестве атташе по культуре. Гвоздев передал через Хоулмена, который называл себя «почтовым голубем», важное сообщение, что правительство Эйзенхауэра не должно остро реагировать на берлинский ультиматум Хрущева от 27 ноября 1958 года, поскольку Хрущев не начнет войну из-за Берлина. Действуя через Хоулмена, Гвоздев также помог подготовить почву для визита Никсона в Советский Союз.
Осенью 1959 года ГРУ заменило Гвоздева Большаковым, который возобновил встречи с американским журналистом. Они стали дружить семьями, часто ходили друг к другу в гости и обсуждали «самые острые проблемы» в советско-американских отношениях. Хоулмен находился в дружеских отношениях с пресс-секретарем генерального прокурора Эдом Гатманом и передавал ему «самые интересные места» своих бесед с Большаковым. Гатман, в свою очередь, суммировал «наиболее существенную информацию» и передавал ее своему боссу, Роберту Кеннеди. Хоулмен не скрывал, что делился информацией с Гатманом для передачи Роберту Кеннеди, который «живо интересовался положением дел в американо-советских отношениях». 29 апреля с благословения Гатмана Хоулмен впервые заговорил с Большаковым о встрече с Робертом Кеннеди, спросив своего советского друга, не думает ли он, что ему было бы лучше непосредственно встречаться с Робертом Кеннеди, чтобы тот получал информацию «из первых рук».
Спустя десять дней, прошедших в бесконечных переговорах, Большаков понял, что случилось что-то важное, когда Хоулмен позвонил ему в 16 часов и пригласил на «поздний ланч». Когда Большаков спросил, почему он звонит так поздно, Хоулмен ответил, что разыскивал Большакова целый день и дежурный в посольстве сказал, что Большаков в типографии, занят выпуском журнала.
Почти сразу после того, как они сели за стол в ресторане в Джорджтауне, Хоулмен посмотрел на часы. На вопрос Большакова, не торопится ли он домой, Хоулмен ответил, что торопится не он, а Большаков, поскольку сегодня в 18:00 у него встреча с Робертом Кеннеди. «Черт побери, – сказал Большаков. – Почему ты не предупредил меня заранее?» – «Ты что, боишься?» – спросил Хоулмен. «Нет, просто я не готов к встрече», – ответил Большаков, посетовав, что не одет надлежащим образом. «Ты всегда готов», – улыбнулся Хоулмен.
Бобби сказал Большакову, что его брата волнует напряженность между двумя странами, вызванная в значительной степени неправильным пониманием и истолкованием намерений и действий друг друга. Его брат, сказал Бобби, опираясь на опыт, полученный в заливе Свиней, понял, насколько опасно предпринимать действия, основываясь на неверной информации. Бобби сказал Большакову, что его брат сделал ошибку, немедленно уволив после провала операции в заливе Свиней высших должностных лиц, ответственных за операцию.
«Американское правительство и президент обеспокоены тем, – сказал Бобби, – что советское руководство недооценивает способности нового правительства США и лично президента». Сообщение, которое он хотел, чтобы Большаков передал в Кремль, было более чем недвусмысленным: если Хрущев предпримет попытку проверить решимость его брата, то у президента не будет иного выбора, как ужесточить меры в отношении Москвы. «Недавние события на Кубе, в Лаосе и Южном Вьетнаме усугубляют опасность непонимания Москвой политики новой администрации. Если недооценка сил США имеет место, то это может вынудить американских руководителей выбрать соответствующий курс».
Роберт сообщил Большакову, что «в настоящее время нашу особую тревогу вызывает ситуация в Берлине. Важность этой проблемы, возможно, очевидна не для всех. Президент считает, что дальнейшее расхождение наших мнений по Берлину может привести к войне». Однако, добавил Бобби, президент не хочет, чтобы венская встреча сосредоточилась исключительно на этой проблеме из-за невозможности решения столь сложной проблемы за несколько дней.
Президент, объяснил Бобби Большакову, рассматривает венскую встречу как возможность лучше понять друг друга, установить личные связи и наметить в общих чертах курс дальнейшего развития отношений. Что касается Берлина, то, по мнению президента, не стоит предпринимать важных дипломатических шагов до тех пор, пока не появится необходимое количество времени для глубокого изучения этого серьезнейшего вопроса.
Человеку, которого пригласили на встречу всего несколько часов назад, казалось, что Советский Союз готов дать ответ. Если состоится встреча лидеров двух держав, сказал Большаков, то Хрущев будет обсуждать вопросы, связанные с ядерными испытаниями и положением в Лаосе. Большаков никак не отреагировал на заявление RFK [37] о том, что на этой встрече Берлин останется запретной темой и по нему не будет приниматься никаких решений.
Ответ Большакова вдохновил Бобби, и он вкратце обрисовал возможное соглашение о запрете ядерных испытаний. США и Советский Союз вели переговоры на более низком уровне начиная с 1958 года, но камнем преткновения были инспекции. США безуспешно добивались права проводить инспекции в Советском Союзе. Бобби был готов пойти на уступки и уменьшить количество инспекций на территории обоих государств для определения источника сейсмических колебаний с двадцати до десяти. При этом, сказал Бобби, ни одна из сторон не будет накладывать вето на создание международной комиссии для наблюдения за соблюдением договора.
Ранее Москва соглашалась самое большее на три ежегодные инспекции и хотела, чтобы наблюдение за выполнением договора осуществляла тройка: один представитель от коммунистической страны, один – от США или Великобритании и один – от нейтральных стран. Оппоненты президента внутри страны, сказал Бобби, будут яростно сопротивляться смягчению позиции, но США могут пойти на компромисс. Президент не хочет повторять печальный опыт встречи Хрущева с Эйзенхауэром в Кемп-Дэвиде и надеется, что встреча в Вене закончится конкретным соглашением.
Большаков не сказал ничего, что бы заставило Бобби считать, будто предварительные условия президента неприемлемы для Хрущева. Была только одна проблема: Большаков был простым курьером, который не мог знать мысли Хрущева так хорошо, как Бобби знал мысли своего брата.
Для Соединенных Штатов контакт Большаков – Бобби Кеннеди был сопряжен с огромным риском. Большаков, действуя по указанию Москвы, мог дать ложную информацию, сам того не ведая, в то время как Бобби вряд ли стал бы предоставлять заведомо ложную информацию, но даже если бы он попытался это сделать, то едва ли у него это получилось. Кроме того, агенты ФБР почти наверняка следили за Большаковым, и, скорее всего, у директора ФБР Джона Эдгара Гувера, получавшего отчеты агентов о встречах Кеннеди с Большаковым, усилились подозрения в отношении братьев Кеннеди.
И наконец, поскольку JFK [38] до окончания саммита в Вене держал эти контакты в тайне даже от членов кабинета, то у него не было независимых источников, которые могли бы проверить надежность Большакова и достоверность его информации.
Москва решала не только что может обсуждать Большаков, но и как и в какой момент он должен поднимать тот или иной вопрос. Если Роберт Кеннеди задавал вопрос, к обсуждению которого Большаков был не готов, то советский агент отвечал, что обдумает его и позже вернется к обсуждению.
Важнейшая информация, переданная Большаковым после первого разговора с Бобби, состояла в том, что президент готов к встрече на высшем уровне и боится, что советский лидер воспринимает его как нерешительного человека, избегающего вести переговоры о статусе Берлина и стремящегося в первую очередь достичь соглашения о запрете ядерных испытаний. Бобби после первой встречи не смог составить мнения о Хрущеве. У него создалось ложное впечатление, что Хрущев готов принять условия, выдвинутые его братом.
После пятичасовой беседы Бобби отвез Большакова домой. Советский секретный агент был настолько возбужден, что ночью не мог заснуть и лег спать только после того, как рано утром отправил в Москву телеграмму с подробным докладом. От Большакова Хрущев узнал, чего Кеннеди надеется достигнуть во время саммита и чего опасается. Ему, в свою очередь, удалось создать у президента ложное впечатление о готовности советской стороны принять его предложения.
Москва
Пятница, 12 мая 1961 года
Хрущев, стремившийся достигнуть соглашения на венской встрече, мгновенно отреагировал на желание Кеннеди установить доверительные отношения.
В Женеве во время переговоров по Лаосу советские чиновники достигли договоренности с британскими представителями по разрядке нависшей напряженности. Результатом международного совещания представителей четырнадцати стран по урегулированию лаосского вопроса стали Женевские соглашения, включающие Декларацию о нейтралитете Лаоса и Протокол к Декларации, предусматривающие уважение участниками совещания суверенитета, независимости, нейтралитета, единства и территориальной целостности Лаоса.
12 мая Хрущев, выступая с речью в Тбилиси, столице Грузинской Советской Республики, сказал, что чиновники из Государственного департамента приняли во внимание крайне сдержанное советское заявление об американо-советских отношениях начиная с инцидента с U-2, случившегося в мае прошлого года. Он повторил свои слова, сказанные в ответ на приглашение Кеннеди на саммит: «Хотя президент Кеннеди и я – люди разных полюсов, мы живем на одной Земле и должны найти общий язык по некоторым вопросам».
В этот же день Хрущев отправил Кеннеди письмо, сообщив, что принимает его приглашение на саммит, отправленное президентом более двух месяцев назад. В письме не упоминалось о запрещении ядерных испытаний, но говорилось о тех вопросах, по которым они могли бы достигнуть договоренности, в частности по Лаосу. Однако Хрущев не был готов отложить решение берлинской проблемы. Он сообщил Кеннеди, что не добивается одностороннего преимущества в разделенном городе, но хочет с помощью саммита удалить «опасный источник напряженности в Европе».
Теперь ход был за Кеннеди.
Вашингтон, округ Колумбия
Воскресенье, 14 мая 1961 года
Кеннеди, не желавшему демонстрировать нетерпение, потребовалось на ответ сорок восемь часов. Он был недоволен отказом Хрущева обсуждать проблему запрещения испытаний и настойчивостью в отношении берлинской проблемы. Темы для обсуждения, обозначенные в письме советского лидера, отличались от тех, что Кеннеди передал через Бобби Большакову. Однако, несмотря на все опасности, президент не видел иного выхода, как согласиться на встречу.
Выступление Хрущева в Тбилиси и его действия по Лаосу вселяли надежду на положительный исход встречи. Однако дело заключалось в том, что невозможно было на одной из самых решающих встреч со времен Второй мировой войны за короткий промежуток времени достигнуть соглашения по ключевому вопросу. С точки зрения опытных дипломатов, действия президента были поспешными и непродуманными.
Кеннеди отправил телеграммы ближайшим союзникам о предстоящей встрече, зная, что немцы и французы особенно скептически относятся к его плану. Аденауэру, который с подозрением относился к желанию Кеннеди установить отношения с Хрущевым, президент написал: «Я рискну предположить, что Вы разделите мою точку зрения, что, поскольку ранее я не встречался с Хрущевым, такая встреча будет полезной в свете нынешнего международного положения. Если встреча состоится, я рассчитываю информировать Вас о содержании переговоров с Хрущевым, которые, по моему мнению, будут носить довольно общий характер».
Подготовка к встрече шла полным ходом, поскольку все понимали, что это будет историческая встреча – первая подобная встреча на высшем уровне в век телевидения. Несмотря на усилия Кеннеди избежать обсуждения берлинского вопроса, его советники по внешней политике были вынуждены признать, что этот вопрос больше, чем Куба, Лаос, запрещение ядерных испытаний и любая другая проблема, охарактеризует первый год президентства Кеннеди.
17 мая член Штаба политического планирования Государственного департамента Генри Оуэн вызвал одобрение членов правительства, заявив, что «из всех проблем, стоящих перед правительством, Берлин кажется мне самым чреватым последствиями». Он предложил увеличить бюджет 1963 года на обычное вооружение и защиту Европы, чтобы «увеличить наши возможности в случае Берлинского кризиса, а может, и предотвратить его».
Спустя два дня, 19 мая, было официально объявлено о том, о чем пресса сообщала, черпая информацию из неофициальных источников, в течение нескольких дней: после встречи с де Голлем в Париже президент 3 или 4 июня встретится в Вене с Хрущевым.
Западноевропейские и американские комментаторы волновались, что утративший решимость президент не в лучший для себя момент отправляется в Вену. Еженедельная газета для интеллектуалов «Цайт» сравнила Кеннеди с коммивояжером, бизнес которого пришелся на тяжелые времена и который надеется улучшить свое положение путем прямых переговоров с соперниками. В обзоре европейского мнения влиятельной ежедневной деловой газеты «Уолл-стрит джорнал» говорилось, что Кеннеди пытается создать «сильное впечатление… о нерешительной Америке, отчаянно стараясь вернуть лидерство Запада в холодной войне». Влиятельная ежедневная швейцарская газета «Цюрихер цайтунг» писала, что американцы плохо подготовились к саммиту и что Кеннеди отказался от первоначального мнения, будто перед подобной встречей Кремль изменит свое отношение.
Хотя формально Вена была нейтральной территорией, европейские дипломаты по-прежнему считали, что Австрия намного ближе к советской сфере влияния. «Таким образом, создается впечатление, что Кеннеди собирается встретиться с Хрущевым в том месте и в то время, которые выбрал Хрущев», – сообщила «Нойе цюрихер цайтунг». Дискредитированный американский президент «помчался восстанавливать связи и прибывает ненадолго в Австрию на личную встречу с влиятельным русским лидером».
Восточный Берлин
Пятница, 19 мая 1961 года
Чувствуя, что ситуация изменилась в его пользу, восточногерманский лидер Вальтер Ульбрихт с большей уверенностью отправился в Берлин. Советский посол в Восточной Германии Михаил Первухин пожаловался министру иностранных дел Громыко, что Ульбрихт, не получив одобрения Кремля, оказывает давление на Западный Берлин путем ужесточения контроля за гражданскими лицами.
«Наши друзья, – сообщил посол, используя термин, введенный Москвой для восточногерманских союзников, – хотели бы обеспечить контроль на границе между Демократическим Берлином и Западным Берлином, чтобы, как они говорят, «закрыть дверь на Запад», уменьшить поток беженцев из ГДР и прекратить акты экономической диверсии против ГДР, осуществляемые из Западного Берлина». Он сообщил, что Ульбрихт хочет захлопнуть секторную берлинскую границу, что противоречит советской политике.
Хрущев испугался, что Ульбрихт может зайти так далеко, что американцы решат отменить Венский саммит, поэтому попросил Первухина обуздать своего излишне нетерпеливого и дерзкого восточногерманского клиента.
Вашингтон, округ Колумбия
Воскресенье, 21 мая 1961 года
Президент Кеннеди чувствовал опасение, что сам идет в западню.
За две недели до саммита Роберт Кеннеди вновь встретился с Большаковым, на этот раз в воскресенье, когда их встреча не так бросалась в глаза. Генеральный прокурор пригласил советского секретного агента на двухчасовую беседу в Hickory Hill, свой загородный дом в Маклине, штат Вирджиния.
Большаков перед встречей выучил наизусть пятистраничную подробную инструкцию и в соответствии с ней изложил советскую позицию. Он был наделен блестящей памятью, а его манера излагать информацию скрывала тот факт, что он является не более чем проводником информации.
Бобби ясно дал понять, что говорит от лица президента. Он объяснил Большакову, что, назначая встречу, тот должен звонить ему только из телефона-автомата и называть свое имя только его пресс-секретарю Эду Гатману. В тех случаях, когда Большаков не хочет звонить сам, за него это сделает Хоулмен. Он позвонит Гатману и скажет: «Мой парень хочет встретиться с твоим парнем». Бобби объяснил Большакову, что только президент знает об их встречах – и одобряет их.
В отличие от этого роль Большакова становилась известна все большему кругу советских чиновников. ГРУ передавало все отчеты Большакова Анатолию Добрынину, официальному представителю Министерства иностранных дел, возглавлявшему группу советских советников по венским переговорам. Один из московских начальников Большакова с удивлением написал о встрече Большакова с Бобби Кеннеди 21 мая: «Беспрецедентная ситуация, когда член правительства Соединенных Штатов встречается с нашим человеком, и тайно». Советское посольство в Вашингтоне и тайные агенты получили приказ из Москвы держать эти встречи в секрете и не допустить, чтобы о них стало известно ФБР и американской прессе.
Бобби сказал Большакову, что в письме президенту Хрущев не высказался по вопросу запрещения ядерных испытаний. Он предложил Большакову такой вариант: Вашингтон даст согласие на тройку, как этого хочет Кремль – по одному представителю от коммунистической, западной и нейтральной страны, – а Россия отказывается от права вето.
Большаков позволил Бобби думать, что у него больше возможностей вмешиваться в ход переговоров, чем было на самом деле. Он сказал, что Советы согласятся на пятнадцать инспекций на советской территории, что ближе к требованию американской стороны относительно девятнадцати инспекций.
В поисках общих точек соприкосновения с Хрущевым Бобби подчеркнул, что брат «разделяет» и понимает опасения СССР за Германию. Он знает, почему Хрущев обеспокоен «германским реваншизмом», пытающимся вернуть восточные территории. «Мой брат воевал против них», – сказал Бобби Большакову.
Большаков и Бобби Кеннеди продолжали встречаться, когда до саммита в Вене оставалась всего неделя. Вероятно, по этой причине Москве потребовался только один день, чтобы ответить на просьбу президента Кеннеди иметь «больше бесед с Хрущевым, только в присутствии переводчиков».
Однако спустя два дня после встречи Большакова с Бобби перед Венским саммитом Хрущев отправил послание, не оставлявшее сомнений в том, что он намерен вести переговоры о будущем Берлина.
В этом случае он использовал официальный канал – через посла в Москве Томпсона. Он хотел, чтобы никто не сомневался в его намерении поднять этот вопрос.
Дворец спорта, Москва
Вторник, 23 мая 1961 года
Так совпало, что Хрущев ясно дал понять, что собирается обострить берлинский вопрос в том же Дворце спорта, где двумя с половиной годами ранее, выступая перед польскими коммунистами, начал Берлинский кризис.
Как только посол Томпсон с женой, получившие приглашение на выступление американского ледового шоу Ice Capades, заняли свои места в ложе Хрущева, советский лидер заявил, что за свою жизнь видел много ледовых шоу, и позвал Томпсона не для того, чтобы смотреть выступление фигуристов. Он пригласил Томпсона в отдельный кабинет, где был уже сервирован стол, объяснив, что приглашение на шоу было всего лишь предлогом для встречи с послом, чтобы обсудить Венский саммит.
Томпсон не записывал беседу, но без труда восстановил ее по памяти, отправляя телеграмму в Вашингтон. Под звуки музыки, чирканье коньков по льду и громкие аплодисменты зрителей Хрущев высказался точно и определенно. Если вопрос по Берлину не будет решен дипломатическим путем, сказал Хрущев Томпсону, то он еще до конца года заключит мирный договор с ГДР и передаст ей всю полноту власти над городом.
Кеннеди сконцентрировался на вопросе запрещения ядерных испытаний, сказал Хрущев, но лично его намного больше занимает берлинский вопрос. И следовательно, пока не будет решен берлинский вопрос, заявил Хрущев, разоружение невозможно. Если Соединенные Штаты решат с помощью силы нарушить планы Советского Союза, то столкнутся с ответной силой. Если США хотят войны, то они получат войну. Томпсон и раньше слышал от Хрущева угрозы применения военной силы, но он встревожился, услышав их за несколько дней до встречи в Вене.
И тут же Хрущев заявил, что не стремится к конфликту. «Только сумасшедшему нужна война, а западные лидеры не сумасшедшие, хотя Гитлер был им». Хрущев стучал кулаком по столу, говоря об ужасах войны, о которых знал не понаслышке. Он не мог представить, что Кеннеди способен пойти на это ради Берлина.
Томпсон возразил, что Хрущев, а не Кеннеди своими угрозами создает опасную ситуацию.
Может, это и так, сказал Хрущев, но если начнутся военные действия, то американцы, а не русские пересекут границу, чтобы защитить Берлин, и тем самым развяжут войну.
Во время обеда Хрущев то и дело повторял, что прошло шестнадцать лет со Второй мировой войны и пришло время положить конец оккупации Берлина. Хрущев напомнил Томпсону, что в своем первом берлинском ультиматуме 1958 года потребовал в течение шести месяцев освободить Западный Берлин. С тех пор прошло уже тридцать месяцев, возмущенно отреагировал Хрущев на предложение Томпсона отложить решение берлинского вопроса. Соединенные Штаты пытаются подорвать репутацию Советского Союза, сказал Хрущев, так больше не может продолжаться, этому надо положить конец.
Томпсон допускал, что США не смогут помешать Хрущеву подписать мирный договор с Восточной Германией, но было важно понять, станет ли советский лидер использовать этот момент для того, чтобы перекрыть американцам доступ в Берлин. Томпсон, предположив, каким может быть ответ Кеннеди, следующим образом отреагировал на заявление Хрущева об ужесточении подхода к берлинской проблеме, сделанное за несколько дней до встречи в Вене.
Репутация Соединенных Штатов в мире, сказал Томпсон, под угрозой из-за обязательств перед жителями Берлина. Вашингтон опасается, что если он уступит под давлением Советов и пожертвует Берлином, то следом придет очередь Западной Германии и Западной Европы. Это пагубным образом скажется на нашем положении, сказал Томпсон Хрущеву.
Хрущев рассмеялся в ответ на озабоченность Томпсона, повторив слова, которые он уже не раз произносил: Берлин на самом деле так мало значит и для Америки, и для Советского Союза, так почему изменение статуса города вызывает такие страсти?
Если бы Берлин имел так мало значения, парировал Томпсон, то он сомневается, что Хрущев пошел бы на такой огромный риск, чтобы захватить власть в городе.
В ответ Хрущев озвучил предложение, которое он планировал выдвинуть на встрече в Вене: ничто не помешает США по-прежнему иметь войска в «свободном» Западном Берлине. Вся разница в том, что Вашингтону в дальнейшем придется обо всем договариваться с Восточной Германией, вот и все.
Томпсон поинтересовался, что беспокоит Хрущева больше всего, предположив, что, вероятно, это проблема беженцев. Небрежно отмахнувшись, Хрущев открыто сказал: «Берлин – гнойный нарыв, который следует вскрыть».
Хрущев объяснил Томпсону, что не видит «перспективы воссоединения Германии в ближайшие годы» и на самом деле никто не хочет этого воссоединения, включая де Голля, Макмиллана и Аденауэра. Он сообщил Томпсону, что де Голль разделяет его точку зрения и считает, что Германия должна быть разделенной, а еще лучше, если она будет поделена на три части. Он определенно не был сторонником объединения, считая, что объединенная Германия может представлять угрозу.
Томпсон не видел иного выхода, кроме как ответить угрозой на угрозу. «Ну, если вы примените силу, если захотите силой лишить нас доступа в Берлин, то мы применим силу против силы», – сказал Томпсон, не повышая голоса.
Томпсон все неправильно понял, спокойно с улыбкой сказал Хрущев. Переменчивый русский заявил, что он не собирался применять силу. Он просто хочет подписать договор и покончить с правами, которые Соединенные Штаты получили в качестве «условий капитуляции».
В телеграмме, отправленной в Вашингтон, Томпсон не стал особо заострять внимание на словах Хрущева, считая, что они не имеют большого значения. Для Хрущева эта беседа была генеральной репетицией перед встречей в Вене. Томпсон преуменьшил недовольство Хрущева. Он сообщил, что советский лидер впервые подробно обрисовал, каким может стать разделенный город, но при этом не собирается нарушать права Соединенных Штатов. Томпсон повторил свое мнение о том, что Хрущев не будет поднимать берлинский вопрос до окончания октябрьского съезда партии. По его мнению, в Вене Хрущев «только слегка коснется берлинской проблемы».
Томпсон посоветовал, чтобы в Вене Кеннеди предложил Хрущеву такой вариант по Берлину, который позволит обеим сторонам спасти репутацию, поскольку проблема, по всей видимости, достигнет кульминации в конце года. В противном случае, сказал он, «на чашу весов ляжет война».
В тот же день Кеннеди получил сообщение из Берлина. Глава американской миссии в Западном Берлине дипломат Э. Алан Лайтнер-младший написал, что «статус-кво Берлина будет сохраняться какое-то время» и что у Хрущева нет никакого плана действий. Таким образом, рассуждал Лайтнер, Кеннеди на встрече в Вене может остановить Хрущева, сообщив, что США полны решимости защищать свободу города и что «Советы должны убрать руки от Берлина».
Лайтнер хотел, чтобы Кеннеди понимал, к каким последствиям приведет проявленная на венской встрече слабость. «Любой намек на то, что президент готов обсудить промежуточные решения, пойти на компромисс или временное решение, ослабит влияние на Хрущева предупреждения о пагубных последствиях неверной оценки им нашего решения».
Вашингтон, округ Колумбия
Четверг, 25 мая 1961 года
Кеннеди, видя первые неудовлетворительные действия своего президентства, решил выступить 25 мая с докладом о положении дел в стране – Специальным посланием о срочных нуждах страны – спустя всего двенадцать недель после первого послания. Он понимал, что после залива Свиней и перед Веной он должен подготовить почву, сообщив Хрущеву безошибочное решение.
В одну из встреч с Большаковым Бобби Кеннеди предупредил его, что в своей речи на совместном заседании палат конгресса президент будет вынужден выразить разочарование поведением СССР. Тем не менее жесткая риторика президента не означает отказа от встречи с Хрущевым.
Выступая перед конгрессом и телевизионной аудиторией, Кеннеди объяснил, что американские президенты в «исключительных случаях» в течение одного года выступали со вторым обращением к народу. Такие случаи были, сказал Кеннеди. Он заявил, что, поскольку Соединенные Штаты отвечают за «безопасность свободного мира», собирается представить «доктрину свободы».
Президентская речь, длившаяся сорок восемь минут, семнадцать раз прерывалась аплодисментами. Кеннеди подчеркнул необходимость поддерживать процветающую американскую экономику и отметил окончание спада и начало восстановления. Он объявил «великим полем битвы за защиту и распространение свободы в наши дни… Азию, Латинскую Америку, Африку и Ближний и Средний Восток, земли поднимающихся народов».
Кеннеди предложил увеличить расходы на повышение боеспособности вооруженных сил, на разработку и модернизацию вооружения примерно на 700 миллионов долларов, чтобы догнать и перегнать Советы в гонке вооружений; провести реорганизацию системы гражданской обороны, выделив втрое больше средств на противорадиационные укрытия. Он потребовал уделить больше внимания партизанским войнам в странах третьего мира, увеличив поставку гаубиц, вертолетов, бронетранспортеров и боеспособных подразделений запаса. Наша страна, сказал президент, должна поставить перед собой цель до окончания текущего десятилетия высадить человека на Луне и благополучно вернуть его на Землю. Ни один космический проект в этот период не будет более впечатляющим для человечества или более важным в плане долгосрочного освоения космоса; и ни один из них не будет столь дорогостоящим и сложным для реализации. В этой гонке он принял решение обогнать Советы, которые первыми запустили спутник и человека в космос.
До встречи в Вене оставалось всего девять дней, когда американский народ узнал, что с каждым часом возрастает угроза миру, что Америка несет глобальную ответственность как борец за мир, и это требует определенных жертв. Для обсуждения в Вене президент оставил всего один вопрос.
Москва
Пятница, 26 мая 1961 года
Хрущев в ответ на то, что он расценил как попытку Кеннеди сломить его, собрал своих самых критически настроенных избирателей, президиум коммунистической партии. Хрущев вызвал стенографистку, и членам президиума стало ясно, что он собирается сказать что-то важное.
Он заявил своим товарищам, что Кеннеди «сукин сын». Однако, несмотря на это, он придает большое значение венской встрече, потому что хочет использовать ее для обострения германского вопроса. Он обрисовал в общих чертах предложение, которое он выдвинет в Вене, используя почти те же выражения, что и в разговоре с послом Томпсоном.
Могут ли предлагаемые им шаги по изменению статуса Берлина вызвать ядерную войну? – спросил он своих товарищей по партии. Да, ответил он, а затем объяснил, что «есть риск, и этот риск, на который мы идем, оправдан, я бы сказал, если в процентном отношении брать, больше чем на 95 процентов, что войны не будет».
Из всех партийных вождей только Анастас Микоян осмелился не согласиться с Хрущевым. Он утверждал, что Хрущев недооценивает готовность и возможность Соединенных Штатов вступить в обычную, неядерную войну за Берлин. Далее Хрущев объяснил собравшимся, что наибольшую опасность для Советского Союза представляют Соединенные Штаты, а не Западная Германия и Аденауэр. Испытывая к Америке любовь-ненависть, при подготовке к встрече в Вене он склонился в сторону ненависти, и у товарищей не осталось сомнений относительно того, что Хрущев ожидает от этой встречи.
Хрущев упорно повторял ставшую навязчивой идею, что хотя он встречается с Кеннеди, но Соединенными Штатами управляют Пентагон и ЦРУ, это, по его словам, он уже испытал во время переговоров с Эйзенхауэром. Вот почему, сказал он, нельзя рассчитывать, что американские лидеры могут принимать решения, основанные на логических суждениях. Отсюда следует, сказал он, что «могут возникнуть некие силы и найти предлог, чтобы развязать против нас войну».
Хрущев объяснил товарищам, что подготовился к угрозам развязывания войны, но что он знает, как наилучшим образом этого избежать. «США могут пойти на развязывание войны», но европейские союзники и общественные силы не дадут Кеннеди применить ядерное оружие в ответ на изменение статуса Берлина. Де Голль и Макмиллан никогда не поддержат решение американцев развязать войну, поскольку им известно, что советские ракеты нацелены на объекты в Европе. «Они умные люди и понимают это», – сказал он.
Затем Хрущев обрисовал, как будут разворачиваться события после того, как он выдвинет в Вене новый шестимесячный ультиматум. Он подпишет мирный договор с правительством Восточной Германии, а затем передаст восточным немцам всю ответственность за доступ в Западный Берлин. «Мы не вторгаемся в Западный Берлин, мы не объявляем блокаду, – сказал он, а значит, не даем повода для боевых действий. – Мы показываем, что готовы разрешить воздушное движение, но при условии, что западные самолеты будут садиться на аэродромах ГДР. Мы не требуем вывода войск. Хотя это незаконно, но мы не будем применять силовые методы для их выдворения из Берлина. Мы не будем отрезать пути поставок продовольствия и другие жизненно важные коммуникации. Мы будет придерживаться политики невмешательства в дела Западного Берлина. Исходя из этого, я не думаю, что прекращение состояния войны и оккупационного режима приведет к развязыванию войны».
Микоян был единственным, кто предупредил Хрущева, что вероятность войны больше, чем считает советский лидер. Однако из уважения к Хрущеву, он оценил ее в 10 процентов, в отличие от 5 процентов Хрущева. «По-моему, они могут пойти на военные действия без применения атомного оружия», – сказал Микоян.
Хрущев возразил, что Кеннеди так боится войны, что не отважится на военные действия. Он сообщил членам президиума, что им, возможно, придется пойти на компромисс по Лаосу, Кубе и Конго, где не так очевидно советское превосходство, но что касается Берлина, то тут превосходство Кремля не вызывает сомнений.
Для того чтобы обрести полную уверенность в своих силах, Хрущев сказал, обращаясь к военачальникам: «Я хочу, чтобы Малиновский, Захаров, Гречко хорошенько посмотрели, какое у нас соотношение сил в Германии и что нужно. Может быть, подбросить вооружение, одним словом, на тот случай, если надо будет подкрепление туда… На это срок вам полгода». Он сказал им, что готов потратить на это необходимые средства. Его жесткие слова, предназначенные для венской встречи с президентом Кеннеди, было необходимо подкрепить повышенной боеспособностью.
Микоян возразил, что Хрущев ставит Кеннеди в опасное положение, когда у него не будет иного выбора, как отважиться на военные действия. Микоян высказал предложение сохранить «воздушный мост», чтобы решение по Берлину было более приемлемым для Кеннеди.
Хрущев не согласился с Микояном. Он напомнил товарищам, что происходит в Восточной Германии. Каждую неделю тысячи профессионалов покидают страну. Если проявить слабость, то это вызовет волнение не только у Ульбрихта, но и у союзников по Варшавскому договору, которые «почувствуют в наших действиях несогласованность и неуверенность».
Мало того что Хрущев был готов закрыть воздушный коридор, он, глядя на Микояна, сказал: «Если мы оставим какую-то возможность открытых ворот, то мы покажем свою слабость, а нам надо проявить твердость, и, если надо будет, будем сбивать самолеты… Наша позиция очень сильная, но нам придется, конечно, тут и припугнуть реально. Например, если будут полеты, нам придется сбивать самолеты. Могут ли они пойти на провокацию? Могут. Если не собьем самолет, значит, мы капитулируем».
Заседание президиума закончилось обсуждением того, должен ли Хрущев в соответствии с протоколом обмениваться с Кеннеди в Вене подарками.
Представители министерства иностранных дел предложили преподнести президенту пластинки с записью советской и русской музыки и двенадцать банок черной икры. Среди других подарков был серебряный кофейный сервиз для госпожи Кеннеди. Помощники рассчитывали, что Хрущев одобрит их выбор.
«Подарками можно обмениваться даже перед войной», – сказал Хрущев.
Хайяннис-Порт, Массачусетс
Суббота, 27 мая 1961 года
«Борт номер один» [39] взлетел в ливень с ураганным ветром с базы ВВС Эндрюс и взял курс на Хайяннис-Порт.
Оставалось всего три дня до его встречи с де Голлем в Париже и всего неделя до встречи с Хрущевым в Вене. Его отец украсил президентскую спальню фотографиями чувственных женщин – розыгрыш такого же, как президент, бабника в сорок четвертый день рождения сына.
Кеннеди приехал в родительский дом, чтобы по-быстрому отметить в семейном кругу день рождения, а затем погрузиться в чтение отчетов по самым разным темам, от ядерного баланса до психологического портрета Хрущева. Американские разведывательные службы нарисовали портрет человека, который в первый момент попытается очаровать президента, а в следующий начнет запугивать; игрока, который будет проверять президента; преданного марксиста, который хочет сосуществовать, а не соперничать; грубого, опасного и хитрого лидера, выросшего в крестьянской семье и, главное, непредсказуемого.
Президенту оставалось только надеяться, что полученная Хрущевым информация об американском президенте не является столь же откровенной. Его никогда не оставляли боли в спине, но сейчас они были сильнее обычного из-за травмы, которую он получил несколькими днями ранее, участвуя в церемонии посадки дерева в Канаде. Собираясь в поездку, он взял с собой прокаин, местное анестезирующее средство для спины, кортизон, необходимый при болезни Аддисона, витамины и амфетамины для снятия усталости и увеличения энергии.
Он никогда не пользовался костылями на людях, прихрамывая, словно спортсмен, получивший травму во время подготовки к чемпионату.
Глава 10. Вена: грустный мальчик встречается с Аль-Капоне
Итак, мы попали в нелепое положение. Глупо стоять на пороге ядерной войны из-за обязательства по защите Берлина как будущей столицы воссоединенной Германии, когда всем нам известно, что Германия, вероятно, никогда не воссоединится. Но мы считаем своим долгом выполнять обязательства и поэтому не можем позволить русским заставить нас отказаться от этих обязательств.
Президент Кеннеди своим помощникам во время приема ванны, 1 июня 1961 года, ПарижСоединенные Штаты не желают стабилизировать положение в самом опасном месте в мире. Советский Союз хочет провести хирургическую операцию по вскрытию нарыва – уничтожить этот источник зла, эту язву, – не ущемляя интересов сторон, а скорее к радости народов во всем мире.
Председатель Совета Министров СССР Хрущев президенту Кеннеди, 4 июня 1961 года, ВенаПариж
Среда, 31 мая 1961 года
Тысячи журналистов, описывавших поездку президента, сообщали о толпах восторженных французов и роскошных приемах, но для Кеннеди во время пребывания в Париже самым счастливым было время, которое он проводил, погрузившись в огромную позолоченную ванну в отведенных ему «королевских покоях» во дворце XIX века на набережной Д’Орсэ.
«У нас должна быть такая же ванна в Белом доме», – сказал президент своему ближайшему помощнику Кенни О’Доннеллу, лежа в глубокой, испускающей пар воде, которая позволяла унять мучительную боль в спине. О’Доннелл прикинул, что ванна такая же по длине и ширине, как стол для пинг-понга. Помощник президента Дэвид Пауэрс высказал предположение, что, если президент «правильно разыграет свои карты», де Голль может вручить ее в качестве подарка.
Так началось то, что эти трое назвали «ванными разговорами» в бывших покоях короля Людовика XIV, в которых де Голль разместил Кеннеди во время его трехдневного пребывания в Париже по пути в Вену. Все перерывы в плотном графике президент проводил в ванной комнате, обсуждая свежие новости с двумя самыми близкими друзьями, ветеранами Второй мировой войны и его политических кампаний. О’Доннелл был секретарем Белого дома по протоколу, но его отношения с Кеннеди начались тогда, когда в Гарварде они с Бобби стали соседями по комнате. Пауэрс, приветливый и услужливый человек, был для Кеннеди таким же верным и преданным сотрудником, как Пятница для Робинзона Крузо. Он развлекал президента и поставлял ему сексуальных партнерш.
В то утро приветствовать самую известную пару в мире на парижские улицы вышли от пятисот тысяч до миллиона человек, цифры зависели от того, кто считал – французская полиция или пресс-центр Белого дома. Учитывая холодные отношения де Голля с предшественниками Кеннеди, Эйзенхауэром и Рузвельтом, теплый прием, оказанный Кеннеди, был явным отступлением от правил. Де Голль считал, что все американские лидеры хотят лишить Францию ведущего положения в Европе и занять ее место. Однако он с удовольствием грелся в лучах славы первой пары, чьи фотографии украшали обложки всех французских журналов. Кроме того, помогала разница в возрасте, позволявшая де Голлю играть роль мудрого, легендарного человека, берущего под крыло молодого, многообещающего американца.
В десять утра чета Кеннеди сошла по трапу самолета на гигантский алый ковер, развернутый в аэропорту Орли. По обе стороны трапа президентского самолета выстроились республиканские гвардейцы. Де Голль прибыл в аэропорт, чтобы лично встретить Кеннеди. Генерал в двубортной пиджачной паре стоял выпрямившись во весь рост – сто девяносто три сантиметра – во время исполнения оркестром «Марсельезы».
Согласно «Нью-Йорк таймс», «эти двое весь день вместе перемещались по Парижу, старый и молодой, величественный и непринужденный, возвышенный и практичный, безмятежный и пылкий».
Когда колонна черных «ситроенов» двигалась по бульвару Сен-Мишель по левому берегу Сены, приветственные крики достигли такой силы, что де Голль попросил американского президента встать, чтобы люди могли лучше рассмотреть его. Лимузин был с открытым верхом, и, когда Кеннеди встал, толпа взревела от восторга. Несмотря на холодный ветер, Кеннеди был в легком пальто и без головного убора. Так же легко он был одет, когда, проезжая по Елисейским Полям, они попали под дождь.
За всей этой внешней бравадой скрывался человек, вступавший в самую важную неделю своего президентства, словно усталый, раненый главнокомандующий, недостаточно подготовленный и в недостаточной мере соответствующий тому, что ждало его в Вене. После залива Свиней Хрущев внимательно изучил все слабые стороны Кеннеди, и их оказалось предостаточно.
На родине Кеннеди столкнулся с расовыми беспорядками, вспыхнувшими в южных штатах: афроамериканцев переполняла решимость положить конец притеснениям, длившимся на протяжении двух столетий. Первоочередная проблема была связана с «Всадниками свободы». Их усилия по запрещению сегрегации в автобусах дальнего следования и поездах нашли весьма незначительную поддержку со стороны правительства Кеннеди и встретили противодействие большей части американцев.
Что касается Европы, то парижско-венская поездка Кеннеди была весьма рискованным предприятием, учитывая провал операции на Кубе, нерешенный конфликт в Лаосе и напряженность вокруг Берлина. Кеннеди не забывал о Берлине даже во время борьбы с расовыми беспорядками на родине. Когда отец Теодор Хесбург, член комиссии по гражданским правам, высказал недоумение в связи с нежеланием президента предпринять более решительные шаги по десегрегации, Кеннеди ответил: «Послушайте, отец, мне, возможно, придется завтра отправить в Берлин национальную гвардию Алабамы, и я не хочу делать это в разгар революции в США».
К прочим неудачам первого периода президентства следует отнести повторную травму спины, полученную во время церемонии посадки дерева в Оттаве; во время многочасового перелета в Европу боль усилилась. Он ковылял на костылях впервые с тех пор, как в 1954 году перенес тяжелейшую операцию на позвоночнике. Не желая разрушать созданный образ, он категорически отказывался появляться на костылях на людях, от этого боли в спине усиливались. Во время пребывания во Франции он испытывал страшные боли.
Джанет Трэвел, личный врач Кеннеди, сопровождавшая его в Париж, была обеспокоена не только усилившимися болями, но и тем, как лечение могло сказаться буквально на всем, от его настроения до выносливости во время поездки. Президенту, чтобы ослабить боль, приходилось по пять раз в день принимать ванну и стоять под горячим душем. Американцам было невдомек, что знаменитое кресло-качалка, стоявшее в Овальном кабинете, предназначалось для ослабления пульсирующей боли в пояснице, в которую врачи на протяжении почти десятилетия кололи прокаин, сильнодействующий обезболивающий препарат. Кроме того, Трэвел лечила его от хронического воспаления надпочечников, высокой температуры, повышенного холестерина, бессонницы, проблем с желудком, толстой кишкой и предстательной железой.
Несколько лет спустя Трэвел напишет, что Париж стал началом «очень тяжелого периода». В Париже она делала Кеннеди по два-три укола в день. Врач Белого дома, адмирал Джордж Беркли считал, что прокаин дает только временное облегчение, и когда проходит его анестезирующий эффект, то боли становятся еще сильнее, а значит, требуется увеличение дозы и более сильные наркотики. Беркли назначал физиотерапию и лечебную физкультуру, но Кеннеди предпочитал наркотики, которые быстро избавляли от боли.
Трэвел вела журнал, в котором ежедневно записывала лекарственные препараты, которые давала президенту, и уколы, которые ему делала: пенициллин от инфекций мочеполовой системы и от колитов; туинал от бессонницы, антигистаминные препараты от диареи и для стабилизации веса и другие препараты, включающие тестостерон и фенобарбитал. Но она не вела запись нетрадиционных препаратов, которые изготавливал врач, тайно поехавший с Кеннеди в Париж и Вену.
Доктор Макс Джекобсон, известный своим знаменитым пациентам, в число которых входили Теннесси Уильямс и Трумен Капоте [40], как «доктор Филгуд», делал внутривенные инъекции, содержавшие гормоны, стероиды, витамины, ферменты и – самое главное – амфетамины для борьбы с усталостью, стрессами и депрессией.
Кеннеди был настолько доволен «коктейлями» Джекобсона, что рекомендовал их Джеки, когда у нее после рождения сына, Джон-Джона, в конце ноября 1960 года начались приступы депрессии – и затем перед поездкой в Париж для поднятия жизненного тонуса. Вечером перед обедом, который де Голль устроил в честь американской четы в зеркальном зале Версаля, Филгуд, как обычно, сделал Кеннеди укол. Затем этот тщедушный, краснощекий, темноволосый человечек прошел в спальню Джеки, где она выбирала вечерний наряд – между элегантным французским платьем от Живанши и платьем от американского модельера Олега Кассини [41], чтобы влить в нее свежие силы.
Когда доктор Джекобсон вошел в комнату, Джеки убирала разбросанные вещи. Он воткнул иголку в ягодицу и ввел свой коктейль, который помог ей быть оживленной и радостно-возбужденной в течение обеда, состоявшего из шести перемен. Позже Трумен Капоте тоже хвалил средства доктора Джекобсона: «Вы чувствуете себя суперменом. Вы не ходите, а летаете. Идеи поступают со скоростью света».
Но помимо того, что эти средства вызывали привыкание, они оказывали побочное действие – приводили к повышенной нервозности, гиперактивности, способствовали повышению давления, ухудшали память. Между приемами настроение президента мгновенно менялось от чрезмерной уверенности до приступов депрессии [42].
Бобби настоял, чтобы президент отдал на анализ лекарство Джекобсона в ФБР и в администрацию по контролю за продуктами питания и лекарствами. Кеннеди не расстроился, когда выяснилось, что Джекобсон вводит ему стероиды и амфетамины. «Мне наплевать, что я пью. Пусть это даже и моча лошади, – сказал Джон Бобби. – Но это работает, это помогает».
Кеннеди, разрабатывая подробный план визита в Париж, преследовал три цели, и все они имели отношение к венской встрече и ее влиянию на Берлин. Во-первых, он хотел, чтобы де Голль посоветовал, как ему лучше всего вести себя с Хрущевым в Вене. Во-вторых, он хотел узнать мнение французского лидера, как союзникам бороться против следующего Берлинского кризиса, который, как ему теперь казалось, был на подходе. И наконец, Кеннеди хотел использовать визит в Париж, чтобы довести до блеска общественный имидж и тем самым укрепить свои позиции на переговорах в Вене.
Когда Кеннеди рассказал де Голлю об угрозах в связи с Берлином, высказанных Хрущевым Томпсону на ледовом шоу Ice Capades, де Голль отмахнулся от этой информации. «Господин Хрущев твердит не переставая, что его репутация зависит от решения берлинского вопроса и что решение должно быть принято в течение шести месяцев, а затем еще шести месяцев и еще шести месяцев, – пренебрежительно заявил де Голль. – Если бы он хотел развязать войну за Берлин, то уже давно бы начал действовать».
Де Голль объяснил Кеннеди, что, по его мнению, Берлин – это в первую очередь психологическая проблема. Этот город является раздражителем для обеих сторон.
Встреча Кеннеди с де Голлем с самого начала отличалась от встреч предыдущих американских президентов с французским лидером. Эйзенхауэр предупреждал Кеннеди, что де Голль поставил под удар Атлантический союз со своим националистическим презрением к США и НАТО. «Чем старше я становлюсь, тем испытываю к ним большее отвращение – не к французам, а к французскому правительству», – сказал Эйзенхауэр Кеннеди. Франклин Рузвельт утверждал, что у де Голля мерзкий характер и он страдает «комплексом Жанны д’Арк».
Лежа в позолоченной ванне, Кеннеди сказал друзьям: «Мы с де Голлем легко находим общий язык, вероятно, потому, что у меня такая очаровательная жена».
Киевский вокзал, Москва
Суббота, 27 мая 1961 года
В то время как Кеннеди стойко переносил парижский вихрь, Хрущев совершал путешествие из Москвы в Вену в специально оборудованном шестивагонном поезде. Он сделал остановку в Киеве, Праге и Братиславе, где выступил с речами – на станциях по пути следования поезда его приветствовали местные жители.
Тысячи коммунистов собрались на Киевском вокзале Москвы, чтобы проводить Хрущева в Вену. Перед отправлением поезда Хрущев отвел в сторону посла Томпсона, чтобы обменяться последней информацией. В телеграмме, в которой Томпсон доложил об этой короткой беседе, он с деланым оптимизмом сообщил: «Я думаю, что Хрущев хочет, чтобы встреча с президентом была приятной, и хочет по возможности занять такую позицию по некоторым вопросам, которая будет способствовать улучшению атмосферы и отношений. Я считаю это невероятно трудным, но думаю, что это возможно».
Хрущев уже заходил в вагон, когда из толпы выбежала девушка и протянула ему огромный букет алых роз. Импульсивный Хрущев подозвал жену американского посла Джейн и под аплодисменты толпы вручил ей букет.
Собравшимся на вокзале представителям прессы Томпсон неуверенно сказал: «Я надеюсь, все пройдет хорошо». На самом деле Томпсон беспокоился, что берлинские проблемы могут загнать Кеннеди в ловушку. В день отъезда Хрущева в передовой статье правительственной газеты «Известия» открыто заявлялось, что Советский Союз больше не намерен ждать решения Запада по Берлину.
Хрущев раздувался от гордости, махая рукой людям, которые радостно приветствовали его на всем пути следования поезда; многие станции были украшены праздничными флагами, плакатами с его изображением и транспарантами. Но самое сильное впечатление на Хрущева произвела надпись на украинском языке на темно-бордовом транспаранте, закрывавшем весь фасад небольшого вокзала в Мукачеве: «Будьте счастливы, дорогой Никита Сергеевич!»
Тысячи людей приветствовали Хрущева, когда он проезжал по городу и торжественно возлагал венок на могилу любимого поэта Тараса Шевченко. В Чиерне, первая остановка в Чехословакии, по распоряжению президента Чехословакии Антонина Новотного был повешен гигантский портрет Хрущева. Оркестр исполнил гимны Советского Союза и Чехословакии. Пионеры из организации Социалистического союза молодежи Чехословацкой Социалистической Республики вручили Хрущеву букеты цветов, а симпатичные девушки в вышитых блузках поднесли традиционный хлеб с солью.
Гостеприимные хозяева в Братиславе тщательно подготовились к встрече Хрущева. Общественные здания были украшены транспарантами: «Слава Хрущеву – непоколебимому борцу за мир». В своих выступлениях Хрущев и Новотный говорили, что нашли «окончательное решение» берлинского вопроса, не задумываясь о невольной аналогии с гитлеровским «окончательным решением еврейского вопроса». Местные жители отметили канун венских переговоров салютом в замке древнего города Тренчин. Во время войны в замке располагался штаб гестапо, который в апреле 1945 года был захвачен советскими войсками.
Поезд из Братиславы в Вену отошел в два часа дня, на четыре часа позже, чем планировалось. Причина была в следующем. Получив информацию о том, какая встреча была оказана Кеннеди в Париже, подчиненные Хрущева пришли к выводу, что они могут обеспечить соответствующую встречу в Вене только в том случае, если австрийским коммунистам удастся собрать рабочих до конца рабочего дня.
Париж
Среда, 31 мая 1961 года
Действуя как самозваный наставник, де Голль подробно объяснил Кеннеди, как ему вести себя в моменты наиболее сильного раздражения Хрущева. Он предупредил Кеннеди, что во время венских переговоров Хрущев обязательно будет угрожать войной.
Де Голль вспомнил, как сказал советскому лидеру, будто тот только делает вид, что стремится к разрядке. А если вы, сказал де Голль, в самом деле стремитесь к разрядке, то действуйте в этом направлении. Если вы хотите мира, но начните с переговоров по всеобщему разоружению. В этом случае ситуация в мире начнет постепенно изменяться, а затем мы решим вопросы, связанные с Берлином и Германией в целом. Но если вы настаиваете на решении берлинской проблемы в контексте холодной войны, то ни о каком решении не может идти и речи. Что вы хотите? Вы хотите войну?
Тогда Хрущев ответил де Голлю, что не хочет войны.
В таком случае, сказал француз, не делайте ничего, что может привести к войне.
Кеннеди выразил сомнение, что ему будет легко общаться с Хрущевым. Он сказал де Голлю, что ему известно о желании французского президента создавать собственное ядерное оружие, поскольку он сомневается, что Соединенные Штаты станут рисковать Нью-Йорком ради Парижа – не говоря уже о Берлине, – обмениваясь ядерными ударами с Москвой. Если генерал так сильно сомневается в Соединенных Штатах, то почему Хрущев должен думать иначе? – задал вопрос Кеннеди.
Де Голль не растерялся. Вне зависимости от того, верил ли он сам в то, что говорил, француз сказал: «Важно показать, что мы не намерены позволить измениться существующему положению. Любое отступление, любое изменение статуса, любой вывод войск, любые препятствия в транспортной и коммуникационной системах будут означать поражение. Это приведет к почти полной потере Германии и к серьезным потерям во Франции, Италии и в других местах». Кроме того, добавил де Голль, «если Хрущев хочет войну, мы должны ясно дать понять ему, что она у него будет». Французский лидер был уверен, что если Кеннеди откажется уступать советскому нажиму, то Хрущев не решится пойти на вооруженную конфронтацию.
Гораздо больше де Голля волновало, что Советский Союз и Восточная Германия постепенно подтачивают позицию Запада в Берлине, чтобы «мы проиграли, не понимая, что проигрываем, но чтобы это стало понятно всему миру. В частности, население Берлина не состоит исключительно из героев. Столкнувшись с чем-то, что они расценят как нашу слабость, они могут начать уезжать из Берлина, Берлин превратится в пустую оболочку, которую поднимет Восток».
Кеннеди решил, что де Голль может столь смело рассуждать о Берлине, поскольку Франция не собирается брать на себя ответственность за безопасность Америки в Германии. Де Голль так неопределенно рассуждал о возможных подходах решения проблемы, что Кеннеди попытался заставить его высказаться более конкретно. Кеннеди сказал, что он прагматик и хочет, чтобы де Голль сказал четко и определенно, вступит ли он в войну за Берлин.
Де Голль ответил, что ни один из рассматриваемых в данный момент вопросов не заставит его вступить в войну. «Если Советы в одностороннем порядке подпишут мирный договор с Германией и предоставят восточным немцам большую свободу в Восточном Берлине, к примеру дадут право ставить печать в проездных документах при пересечении границы, это не будет являться причиной для ответного военного удара с нашей стороны».
Кеннеди не успокоился и продолжил допрашивать великого француза: «Но тогда каким образом и в какой момент мы должны оказать давление?» У Советов и восточных немцев масса способов обострить берлинскую ситуацию, возможно, даже уничтожить Западный Берлин, но они могут сделать это так, чтобы не вызвать ответной реакции Запада. И что нам делать в этом случае? Каким должен быть наш ответ?
По мнению де Голля, Запад должен только в том случае нанести военный удар, если Советы или восточные немцы прибегнут к военной силе. «Если Хрущев или его лакеи применят силу, чтобы разорвать нашу связь с Берлином, то нам придется применить силу», – сказал де Голль.
Кеннеди согласился, но не поверил словам де Голля, что любое ослабление позиции Запада по Берлину приведет к катастрофе. Он считал, что, конечно, это станет ударом «не смертельным, но чувствительным» для Западной Германии и всей Европы.
Кеннеди хотел, чтобы де Голль посоветовал, как ему убедить Хрущева в решимости Запада, учитывая, что после провала операции в заливе Свиней советский лидер подверг сомнению решимость Соединенных Штатов. Ему хотелось знать, что французский лидер думает о Соединенных Штатах и планах союзников на случай непредвиденных обстоятельств.
Де Голль, учитывая превосходство Советов в Берлине в обычном вооружении, сказал Кеннеди, что он может сдержать Советы, только выказав готовность использовать ядерное оружие, то есть именно то, чего президент хотел избежать.
«Мы должны ясно дать понять, что любая борьба за Берлин означает всеобщую войну», – сказал де Голль.
Еще до начала грандиозного банкета в Версальском дворце Джек и Джеки, как называли их французские журналисты, покорили французов. В тот вечер, сидя с тремястами гостями в зале, стены которого были покрыты зеркалами и гобеленами, за огромным столом, застеленным одной огромной скатертью из белой органзы с золотой вышивкой, Кеннеди не переставали удивляться, как можно было создать такую красоту. Симфонический оркестр республиканской гвардии играл все, от Гершвина до Равеля, и каждое произведение имело отношение и к Америке, и к Франции.
Кеннеди шутливо говорил о том, какое большое влияние оказывают французы на его жизнь. «Я сплю на французской кровати. Утром французский повар подает мне завтрак. Я иду в кабинет, и ежедневно дурные новости приносит мой пресс-секретарь Пьер Сэлинджер, но не на родном [французском] языке, и я женат на дочери Франции».
За высокими арочными окнами, отражавшимися в висящих на противоположной стене зеркалах, открывался вид на лужайки и великолепные фонтаны. Послеобеденный прием, на котором присутствовала уже тысяча гостей, «Вашингтон пост» назвала «неописуемо элегантным». Французы с яркими орденскими лентами через плечо, огромными звездами и крестами, прикрепленными к фракам, француженки в длинных перчатках и драгоценностях и несколько вдов с богато украшенными диадемами.
Однако звездой вечера была Джеки в бледно-розовом платье с палевыми кружевами в стиле времен Директории. Александр [43], парикмахер парижской элиты, шепнул «Нью-Йорк таймс», что, делая прическу первой леди к этому приему, на дюйм укоротил длину волос и подровнял челку, создавая образ готической Мадонны.
Мать Кеннеди, Роуз, стройная и гибкая, словно веточка, в платье до пола от Баленсиага из белого шелка с аппликацией в виде цветов нежно-розового цвета с настоящими алмазами в центре цветков. Парижские издания взахлеб повествовали о том, какую освежающую струю в Европу внесли все Кеннеди.
На следующий день во время «ванных разговоров» Кеннеди обсуждал с друзьями слова де Голля относительно того, что Запад ни за что не сможет сохранить Западный Берлин свободным без готовности использовать ядерное оружие.
«Итак, мы попали в нелепое положение. Глупо стоять на пороге ядерной войны из-за обязательства по защите Берлина как будущей столицы воссоединенной Германии, когда всем нам известно, что Германия, вероятно, никогда не воссоединится. Но мы считаем своим долгом выполнять обязательства и поэтому не можем позволить русским заставить нас отказаться от этих обязательств», – констатировал Кеннеди, лежа в ванне, наполненной горячей водой, над которой поднимался пар.
Вена
Суббота, 3 июня 1961 года
Команда Кеннеди, выехавшая в Вену для подготовки встречи президента, устроила все таким образом, чтобы расстроить Хрущева, который высказал своим помощникам недовольство в связи с неуклонно растущей популярностью Кеннеди в мире. Чем активнее Советы выступали против грандиозной встречи Кеннеди в аэропорту и автоколонны, тем упорнее О’Доннелл настаивал на этом. После каждого высказанного Советами возражения он увеличивал количество лимузинов и флагов.
Вена наслаждалась этим соревнованием за свое внимание. Никогда в ней не было встреч глав государств такого высокого уровня, привлекшего внимание средств массовой информации всего мира. По крайней мере 1500 репортеров с необходимым оборудованием и помощниками освещали жизнь и встречи двух лидеров великих держав.
В 12:45 фотографы сделали снимки первой исторической встречи двоих людей на покрытых красной дорожкой ступенях резиденции американского посла, серого оштукатуренного дома с коричневыми каменными колоннами. Затем Кеннеди и Хрущев вошли в небольшой, круглый внутренний дворик, покрытый гравием, где толстые стволы елей и прогнувшиеся под дождем плакучие ивы скрыли их от посторонних взоров.
Несколькими минутами ранее советский премьер-министр выбрался из своего черного лимузина, и Кеннеди несколько скованно двинулся ему навстречу. Он ничем не выдал боль, притупленную уколами, таблетками и плотно затянутым корсетом. Нет ничего странного в том, что после столь долгого ожидания первая встреча была неловкой.
Голосом, отработанным во время политической предвыборной кампании, Кеннеди со своим бостонским акцентом громко выпалил: «Как дела? Рад вас видеть».
«Взаимно», – ответил Хрущев через переводчика. Лысая макушка Хрущева находилась на уровне носа Кеннеди. Позже О’Доннелл вспоминал, как жалел, что не сообразил взять кинокамеру, чтобы заснять поразивший его момент, когда Кеннеди слишком явно изучал «коренастого невысокого советского лидера».
Кеннеди, держа одну руку в кармане, отступил на шаг и с нескрываемым любопытством внимательно осмотрел Хрущева с головы до ног. Даже когда фотографы попросили их пожать друг другу руки, Кеннеди продолжал глазеть на Хрущева, словно охотник, наткнувшийся на редкого зверя после нескольких лет выслеживания.
Хрущев что-то прошептал министру иностранных дел Громыко и двинулся в дом.
Описывая первую встречу Кеннеди и Хрущева, журналист «Нью-Йорк таймс» Рассел Бейкер поражался тому, насколько отличались приветствия съехавшихся в Вену 146 лет назад на Венский конгресс Меттерниха, Талейрана и других европейских лидеров, на долгие годы определивших новую расстановку сил в Европе и обозначивших ведущую роль стран-победительниц. «Здесь на родине вальса, слащаво-сентиментальной музыки, хот-догов и Габсбургов, двое самых могущественных людей встретились сегодня в музыкальной комнате», – написал он.
«Уолл-стрит джорнал» представил этих двоих в виде вышедших на ринг боксеров тяжелого веса: «Американский президент – представитель более молодого поколения, высокообразованный, в то время как Хрущев прошел суровую школу жизни, и его политические амбиции связаны с будущим. Конфронтация этих двоих, столь же влиятельных, как Наполеон и Александр I в то время, когда они в 1807 году встретились на плоту на реке Неман, чтобы перекроить карту Европы на фоне старой Вены, некогда влиятельного центра, а теперь столицы небольшого государства, желающего только чтобы его оставили в покое».
По мнению «Уолл-стрит джорнал», если Кеннеди будет упорно настаивать на том, что приехал только для того, чтобы познакомиться Хрущевым, и не будет вести переговоры по Берлину, это будет «наименее худшим» вариантом.
Европейские газеты распространялись об историческом значении этой встречи. Влиятельная швейцарская газета «Нойе цюрихер цайтунг» высказывала сожаление, что Кеннеди, презрев советы, приехал неподготовленным на встречу с упертым кремлевским боссом. Немецкая интеллектуальная газета «Цайт» сообщила из Вены, что «что перед Западом стоит тот же вопрос, который Демосфен поставил перед афинянами в своей речи против Филиппа: «Но если наш противник, держа в руках оружие и имея вокруг себя большое войско, только прикрывается перед вами словом «мир», между тем как собственные его действия носят все признаки войны, что тогда остается, как не обороняться?» [44]
Шестью годами ранее австрийцы подписали «Государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии» с четырьмя союзниками, который позволил им избежать судьбы соседних стран Варшавского договора и восстановить свободную, суверенную и демократическую страну. Таким образом, венцам пришлось по вкусу решение выбрать их город в качестве нейтральной территории для проведения встречи сверхдержав. Герберт фон Кароян дирижировал Вагнером в Венской государственной опере, и местные жители собирались в кафе и на улицах, чтобы посплетничать и в надежде хотя бы мельком увидеть гостей города.
Моника Зоммер, молодая жительница Вены, написала в дневнике, что она и ее подруги считают Кеннеди «национальным кумиром». Она повесила фотографию Кеннеди на стену в спальне и высказывала сожаление, что в ее стране нет таких образцов для подражания. Совершенно иначе отреагировала на шумиху вокруг этой встречи на высшем уровне другая молодая жительница Вены, Вероника Зейр. Всего пять лет назад она была свидетелем жестокости, проявленной советскими войсками в Будапеште, и большое количество полицейских напугало ее. Сидя на дереве, она наблюдала за кружившими в небе советскими истребителями и вертолетами. Напуганная возможностью нового вторжения, она упала на землю и какое-то время лежала на спине, «словно жук», продолжая наблюдать за вертолетами.
В ожидании двух долгих дней переговоров Кеннеди начал беседу с Хрущевым с воспоминания об их первой встрече в 1959 году в Сенатской комиссии по иностранным делам во время визита советского лидера в Соединенные Штаты.
Хрущев сразу же воспользовался возможностью поставить Кеннеди в невыгодное положение. Он сказал, что помнит эту встречу, хотя «не имел возможности сказать ничего, кроме здравствуйте и до свидания», поскольку Кеннеди, в то время сенатор, пришел с большим опозданием. Советский лидер напомнил Кеннеди, что отметил тогда, продемонстрировав свой дар предвидения, что Кеннеди молодой и многообещающий политик.
В ответ Кеннеди напомнил Хрущеву, что он также сказал, что Кеннеди выглядит слишком молодо для сенатора.
Хрущев сказал, что Кеннеди что-то путает. Обычно, сказал он, «я не говорю подобных слов, поскольку молодой человек хочет казаться постарше, вроде как и помудрее, ну а человеку пожилому всегда хочется выглядеть помоложе. У меня то же самое было, когда я был юношей». Хрущев сказал, что выглядел моложе своих лет, но в двадцать два года преждевременно поседел. Он, смеясь, сказал, что «был бы счастлив поделиться годами с президентом или поменяться с ним местами».
Начиная с вступительной беседы Хрущев установил тональность и темп переговоров, отвечая на короткие высказывания и вопросы Кеннеди затянутыми разглагольствованиями. Американская сторона, стремясь как можно раньше занять главенствующее положение, хотела, чтобы в первый день переговоры проходили на территории американского посольства, и Советы согласились, сказав, что их это устраивает.
Кеннеди в общих чертах обрисовал свои надежды, связанные с переговорами. Он сказал, что его, как президента США, интересует главным образом вопрос, как обеспечить такое положение, при котором США и СССР – две мощные державы, имеющие многочисленных союзников и придерживающиеся разных социальных систем, державы, находящиеся в соревновании друг с другом в различных частях земного шара, – могли бы жить в мире.
Хрущев подробно объяснил то, что он назвал своими многолетними усилиями по «созданию дружественных отношений с Соединенными Штатами и их союзниками». В то же самое время, сказал он, «Советский Союз не хочет достигать соглашения с США за счет других народов, потому что подобное соглашение не будет означать мир».
Кеннеди и Хрущев договорились отложить дискуссию по Берлину на второй день, а в первый день сосредоточить внимание на общих, принципиальных вопросах отношений между США и СССР и проблемах разоружения.
Хрущев сказал, что наибольшее беспокойство вызывают у него попытки США использовать свое экономическое превосходство над Советским Союзом таким способом, который может привести к конфликту, делая завуалированные намеки на растущую зависимость Советского Союза от торговли и кредитов Запада. Он заявил, что сделает Советский Союз богаче Соединенных Штатов, действуя не как хищник, а путем выявления собственных ресурсов.
Хрущев, не обратив особого внимания на замечание Кеннеди, какое впечатление произвели на него советские показатели экономического роста, продолжил разговор, опять взяв инициативу на себя. Он выразил недовольство, что Джон Фостер Даллес, занимавший пост государственного секретаря при президенте Эйзенхауэре с 1953 по 1959 год, противник Советского Союза, пытался полностью «низложить» коммунизм. Он сказал, что Даллес, чье имя он произнес как проклятие, отказывается признать «де-факто и де-юре» возможность существования бок о бок двух систем. Хрущев заявил Кеннеди, что во время переговоров он «не будет пытаться убедить президента в преимуществе коммунизма, как и президент не должен впустую тратить время на то, чтобы пытаться обратить его в капиталистическую веру».
Во время бесед перед встречей в Вене посол Томпсон советовал Кеннеди не втягиваться в дискуссию общего и тем более философского характера, не тратить драгоценное время на споры, в которых, по его мнению, Кеннеди не мог одержать победу над коммунистом, имевшим огромный опыт диалектических дискуссий. Однако Кеннеди приехал в Вену абсолютно уверенный в силе своего убеждения, а потому не мог сопротивляться искушению.
Хрущев, сказал Кеннеди, поднял «чрезвычайно важный вопрос». «У нас очень серьезное беспокойство» вызывает тот факт, сказал Кеннеди, что Хрущев считает, будто допустимо пытаться ликвидировать свободные системы в странах, связанных с Соединенными Штатами, но противится любым усилиям Запада сдержать распространение коммунизма.
Стараясь говорить как можно спокойнее, Хрущев ответил, что это «неправильное понимание советской политики». Советский Союз не навязывает свою систему другим, а просто скользит по волнам исторических перемен. С этого момента Хрущев начал лекцию по истории, с феодализма до Французской революции. Он заявил, что советская система будет оценена по достоинству, хотя он не сомневается, что Кеннеди думает иначе. «В любом случае это не повод для спора, тем более для войны», – добавил Хрущев.
Упорно игнорируя советы экспертов, Кеннеди опять решил сцепиться в идеологическом споре с советским лидером. Позже президент объяснит, что, по его мнению, он удачно втянул Хрущева в идеологический спор. «Мы считаем, что у людей должна быть свобода выбора», – заявил Кеннеди Хрущеву. Правительства меньшинства, которые не выражают волю народа – управляемые товарищами из Москвы, – захватывают контроль над местами, представляющими интерес для Соединенных Штатов. «СССР считает, что это историческая неизбежность», – сказал Кеннеди, но США так не считают. Кеннеди выразил озабоченность, что подобные ситуации могут привести к военному конфликту между СССР и США.
Хрущев поинтересовался, уж не хочет ли Кеннеди «возвести преграду на пути развития человеческого разума и совести». Если хочет, сказал Хрущев, то это «не в человеческих силах. Испанская инквизиция сжигала людей, имевших свое мнение, но идеи не сгорали и в конечном итоге побеждали. Следовательно, если мы начнем бороться с идеями, то это неизбежно приведет к конфликтам и столкновениям между нашими странами».
Хрущев наслаждался процессом обмена мнениями. Предпринимая неловкие попытки найти вопросы, по которым бы их мнения совпадали, Кеннеди заявил, что Хрущев может оставаться там, где уже утвердился, а именно в таких странах, как Польша и Чехословакия, то есть «заморозить» сложившийся в мире статус-кво. Американские чиновники, позже прочитавшие расшифровки стенограмм, были потрясены тем, насколько дальше, чем его предшественники, зашел Кеннеди в своей готовности признать существующее деление Европы на сферы влияния. Кеннеди, похоже, считал, что заложит будущее тех, кто стремится к свободе в странах Варшавского договора, если Кремль оставит надежду на распространение коммунизма.
Кеннеди, видимо, не понимает, сказал Хрущев, что Советский Союз отвечает за развитие коммунизма в мире. Если президент говорит, что выступает против распространения коммунистических идей там, где их в настоящий момент нет, заявил Хрущев, тогда действительно «конфликты неизбежны».
Приступив к следующему уроку со своенравным учеником, Хрущев напомнил Кеннеди, что, между прочим, не русские, а родившиеся в Германии Карл Маркс и Фридрих Энгельс являются основоположниками коммунизма. Он пошутил, что, даже если ему придется отказаться от коммунизма – но он ясно дал понять Кеннеди, что не намерен этого делать, – идеи коммунизма будут развиваться. Кеннеди должен согласиться, что коммунизм и капитализм являются двумя главными идеологиями в мире. Естественно, сказал Хрущев, каждая сторона будет довольна, если распространяется ее идеология.
Хрущев с самого начала взял на себя инициативу ведения переговоров. Хрущев был уверен в своей правоте и непоколебим, а у Кеннеди не было опыта общения с такого рода людьми. Томпсон, вместе с другими американскими официальными лицами наблюдавший со стороны за ходом переговоров, знал по предыдущему опыту, что советский лидер только разогревается.
«Идеи не должны опираться на штыки или ракетные боеголовки», – заявил Хрущев. В войне идей, сказал он, советская политика одержит победу без применения насильственных мер.
Но ведь Мао Цзэдун выдвинул лозунг «винтовка рождает власть», не так ли? Кеннеди информировали о нарастании разногласий между СССР и Китаем, и он решил прощупать Хрущева.
«Я не верю, что Мао мог так сказать», – солгал Хрущев, испытавший на себе стремление Мао к войне с Западом. Мао – марксист, сказал Хрущев, а «марксисты всегда против войны».
Кеннеди, пытаясь вернуться к интересовавшим его вопросам, связанным с уменьшением напряженности и обеспечением мира, сказал, что хотел бы не допускать просчета, чреватого резким обострением советско-американских отношений, просчета, который станет причиной того, что обе страны «исчезнут на долгие годы» – после обмена ядерными ударами.
«Просчет? – скривившись, воскликнул Хрущев. – Просчет! Просчет! Просчет! Я только и слышу от ваших людей, ваших журналистов, ваших друзей в Европе и в других местах это проклятое слово «просчет».
Какое-то непонятное слово, пробормотал Хрущев. Каково значение слова «просчет»? Он несколько раз повторил слово для усиления эффекта. Президент хочет, чтобы он «сидел, словно школьник, положив руки на парту?» – спросил Хрущев. Он заявил, что не может гарантировать, что советские границы станут преградой на пути распространения идей коммунизма. Однако, сказал он, «мы не начнем войну по ошибке… Вы должны взять слово «просчет», похоронить и никогда не использовать».
Ошеломленный Кеннеди откинулся на спинку кресла, пережидая этот взрыв негодования.
Кеннеди попытался объяснить, что он имел в виду, используя это слово. Во время Второй мировой войны, сказал президент, Западная Европа пострадала из-за того, что не смогла точно определить, что будут делать другие страны. США были не в состоянии предвидеть недавние действия Китая в Корее. «Я приехал сюда, – сказал Кеннеди, – в надежде улучшить отношения между нашими странами и получить более ясное представление о том, куда мы движемся».
Перед перерывом на обед последнее слово осталось за Хрущевым.
Он заявил, что цель их переговоров состоит в улучшении, а не ухудшении отношений. Если им с Кеннеди это удастся, то «расходы, связанные с этой встречей, будут оправданны». В противном случае деньги будут потрачены впустую, а обмануты надежды народов.
Взглянув на часы, участники совещания с удивлением поняли, что уже два часа дня.
В столовой резиденции американского посла был накрыт стол. На обед была говядина по-веллингтонски. Хрущев продолжал громогласно рассуждать, запивая говядину водкой с сухим мартини, на разные темы, от сельскохозяйственных технологий до полетов в космос.
Хрущев с гордостью рассказал о полете Гагарина, первого человека, побывавшего в космосе.
Кеннеди предложил Хрущеву организовать совместную экспедицию на Луну.
Сначала Хрущев отверг это предложение, но, подумав, сказал: «Хорошо, почему бы и нет?» Это, похоже, был первый успех.
После обеда Кеннеди закурил сигару, а спичку выбросил за стул, на котором сидел Хрущев.
Хрущев, сделав вид, что напуган, спросил: «Вы пытаетесь поджечь меня?»
Кеннеди заверил, что у него и в мыслях этого не было.
«А, вы же капиталист, а не поджигатель», – со смехом сказал Хрущев.
Послеобеденные тосты отразили неуравновешенный характер переговоров. Кеннеди был лаконичен, одобрительно отозвался о «живости и энергии» Хрущева и выразил надежду, что их переговоры будут плодотворными.
Ответ советского лидера был несколько длиннее. Он рассказал о своих изначально хороших отношениях с Эйзенхауэром. Хотя Эйзенхауэр взял на себя ответственность за инцидент с U-2, испортивший их отношения, Хрущев сказал, что «почти уверен, что Эйзенхауэр не знал о полете», но взял на себя вину, будучи благородным человеком. Хрущев заявил, что полет организовали те, кто стремился ухудшить американо-советские отношения, – и им это удалось.
Хрущев поведал о своем желании принять Кеннеди в Советском Союзе, «когда придет время». Но затем он с неодобрением отозвался о визите предыдущего гостя, вице-президента Никсона, который решил, что если «покажет советским людям кухню, которой не существует и никогда не будет существовать в США, он обратит их в капитализм». Только Никсону, сказал Хрущев, «могла прийти в голову подобная глупость».
Советский лидер сказал Кеннеди, что это благодаря ему, Хрущеву, Никсон потерпел поражение на выборах, поскольку он отказался выпустить из тюрьмы американских летчиков. Если бы он их освободил, объяснил Хрущев, то Кеннеди потерял бы по крайней мере 200 тысяч голосов.
«Не рассказывайте об этом во всеуслышание, – рассмеявшись, сказал Кеннеди. – Если вы будете всем рассказывать, что я нравлюсь вам больше, чем Никсон, то дома у меня будут серьезные неприятности».
Хрущев поднял бокал за здоровье президента и сказал, что завидует его молодости. К этому времени у Кеннеди усилилась боль в пояснице. Сделанный утром «доктором Филгудом» укол постепенно терял болеутоляющий эффект. Прокаин, витамины, амфетамины и ферменты не могли противостоять силе хрущевского натиска.
После обеда Кеннеди пригласил Хрущева прогуляться в парке только в присутствии переводчиков. Томпсон и другие советники Кеннеди считали, что Хрущев будет более уступчивым, когда вокруг не будет советских чиновников, перед которыми он считал необходимым играть определенную роль.
Друзья Кеннеди, О’Доннелл и Пауэрс, наблюдали за прогулкой из окна второго этажа. Хрущев кружился вокруг Кеннеди, огрызаясь на него, словно терьер, и грозя пальцем, а Кеннеди шел прогулочным шагом, останавливаясь время от времени, чтобы сказать несколько слов, не выказывая огорчения и гнева.
О’Доннелл пил австрийское пиво и снова ругал себя за то, что не сообразил взять камеру. Он находился достаточно близко, чтобы видеть, как тяжело дается прогулка Кеннеди. Президент морщился от боли, когда приходилось наклоняться к Хрущеву, который был намного ниже его.
Когда они вернулись с прогулки, Кеннеди предложил продолжить конфиденциальную беседу только в присутствии переводчиков, прежде чем к ним присоединятся их помощники. Хрущев, довольный ходом переговоров, согласился.
Кеннеди захотел еще раз объяснить, почему он опасается «просчитаться». Предприняв очередное неловкое усилие в поисках общих точек соприкосновения, Кеннеди признал ошибкой вторжение на Кубу.
Он сказал Хрущеву, что хотел использовать эту встречу для установления взаимопонимания, с тем чтобы «две наши страны смогли пережить этот период соперничества, не ставя под угрозу национальную безопасность».
Хрущев возразил, что опасность появляется из-за неправильного понимания американцами источников революции, которые, по его утверждению, имеют домашнее происхождение, и Советы тут совершенно ни при чем. В качестве примера он привел Иран, союзника США. Советскому Союзу, сказал Хрущев, «не нужна там революция, и он ничего не делает в этой стране, чтобы побуждать ее к развитию в этом направлении».
Однако Хрущев сказал, что «народ в этой стране настолько бедный, что страна превратилась в вулкан, и рано или поздно, но перемены обязательно произойдут. Шаха, конечно, свергнут. Поддерживая шаха, Соединенные Штаты вызывают неприятные чувства у народа Ирана к Соединенным Штатам, а к Советскому Союзу, наоборот, добрые чувства».
Затем наступила очередь Кубы. «Маленькая горстка людей во главе с Фиделем Кастро свергла репрессивный режим Батисты, – сказал Хрущев. – Во время борьбы Кастро с Батистой капиталистические круги Соединенных Штатов… поддерживали Батисту, вот почему гнев кубинского народа направлен против США. Решение президента о вторжении на Кубу только укрепило позицию революционных сил и самого Кастро». И, сделав паузу, сказал: «Нет, Фидель Кастро не коммунист… Но если Соединенные Штаты еще немного «постараются», то они сделают его коммунистом».
Что касается его самого, сказал Хрущев, то он не родился коммунистом – «это капиталисты сделали меня коммунистом». Хрущев осмеял заявление президента Кеннеди, что Куба якобы представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Разве могут шесть миллионов человек представлять реальную угрозу для могущественных Соединенных Штатов? – с деланым удивлением спросил советский лидер.
Хрущев бросил вызов Кеннеди, объяснив ему, к чему может привести его утверждение, что США вольны действовать как им пожелается в отношении Кубы. Это значит, что СССР может свободно вмешиваться во внутренние дела Турции и Ирана, которые являются союзниками Соединенных Штатов и на территории которых расположены американские военные базы? Своей операцией в заливе Свиней, заявил Хрущев, «Соединенные Штаты создали прецедент для вмешательства во внутренние дела других стран. СССР сильнее Турции и Ирана, а США сильнее Кубы. Эта ситуация может стать причиной «просчета» во время президентского срока».
Для пущей важности Хрущев голосом выделил слово «просчет».
Примерив слова Кеннеди на себя, Хрущев согласился, что обе стороны должны «исключить просчеты». Вот почему он «доволен, что президент признал ошибкой вторжение на Кубу».
Кеннеди предпринял очередную попытку успокоить рычащего медведя. Он согласился с Хрущевым, что если нынешний премьер-министр Ирана не позаботится об улучшении жизни народа, то в стране «произойдут важные перемены». Кеннеди чувствовал себя обязанным ответить на обвинения в отношении Кубы, Турции и Ирана. Он возразил, что не является поклонником Батисты, но его тревога вызвана тем, что Кастро превратит Кубу в источник региональных проблем. У США действительно есть военные базы в Турции и Иране, сказал Кеннеди, но «две эти страны настолько слабые, что не могут представлять угрозы Советскому Союзу, во всяком случае не больше, чем Куба США».
Когда через несколько дней американские чиновники прочли расшифровку стенограмм, они опять испытали шок. Кеннеди интересовал вопрос, как бы отреагировал Хрущев, если, к примеру, в Польше в результате свободных выборов к власти пришла какая-нибудь другая партия, дружески настроенная к Западу, а не ПОРП. «Важно, чтобы перемены, происходящие в мире и воздействующие на баланс сил, не оказывали влияния на выполнение нашими государствами договорных обязательств», – сказал Кеннеди. Отсюда следовало, что Америка не может вмешиваться в дела Польши, поскольку Польша, являясь членом Варшавского договора, приняла на себя определенные обязательства.
Еще ни один американский президент не заходил так далеко в отношениях с советским коллегой, признавая раздел Европы приемлемым и долговременным. С целью уравновесить уступку Кеннеди добавил, что сочтены дни тех лидеров советского блока, которые не в состоянии улучшить жизненный уровень народа. Однако, сказал президент, Соединенные Штаты не будут вмешиваться там, где престиж Кремля под вопросом, – и Москва должна играть по тем же правилам.
Американская политика непоследовательная, мгновенно отреагировал Хрущев, но тут же пояснил, что не имел в виду Кеннеди, который совсем недавно въехал в Белый дом. Советский лидер опять вернулся к обсуждению Ирана. При всем американском упоре на демократию, сказал он, Вашингтон поддерживает шаха, который говорит, что власть дана ему Аллахом. Но всем известно, как эта власть была захвачена отцом шаха, который был «сержантом иранской армии и узурпировал трон путем убийств, грабежа и насилия… Соединенные Штаты тратят огромные денежные средства, но эти деньги не доходят до народа, их присваивает окружение шаха».
Продолжая разоблачать то, что он назвал американским лицемерием, Хрущев перешел к обсуждению поддержки, оказываемой Вашингтоном испанскому диктатору Франко. «США знают, как он пришел к власти, однако поддерживают его, – сказал Хрущев. – Соединенные Штаты поддерживают самые реакционные режимы, вот как народ расценивает политику США». Хрущев признал, что Кастро мог стать коммунистом, хотя начинал не с этого. По его мнению, санкции США заставили Кастро развернуться к Москве.
У Кеннеди голова шла кругом – это было выше его понимания. Он был готов к дебатам с Хрущевым, но не мог нанести удар по самым уязвимым местам советского лидера. Он не осудил Советы за использование силы в Восточной Германии и Венгрии в 1953 и 1956 годах. Мало того, он не задал самый важный вопрос: почему сотни тысяч восточных немцев устремились на Запад в поисках лучшей жизни?
В конце первого дня Кеннеди вернулся к обсуждению Польши и заявил: было бы лучше, если бы в результате демократических выборов на смену существующему правительству, дружески настроенному к Советскому Союзу, пришло более прозападное правительство. Хрущев сделал вид, что возмущен. Со стороны Кеннеди невежливо, сказал он, «так говорить о правительстве, которое признали Соединенные Штаты и с которым установлены дипломатические отношения». Он заявил, что польская «избирательная система намного демократичнее избирательной системы США».
Попытка Кеннеди доказать различие между многопартийной системой США и однопартийной системой Польши с треском провалилась. Эти двое не смогли договориться, что следует понимать под демократией, а уж тем более есть ли она в Польше.
Можно сказать, что Кеннеди и Хрущев совершали кругосветное путешествие, причем Хрущев нападал, а Кеннеди отбивался, обсуждая темы от Анголы до Лаоса. Самой большой уступкой, сделанной в этот день Хрущевым, было согласие признать нейтральный, независимый Лаос. А в обмен он потребовал от Кеннеди самую малость.
Он хотел, чтобы центральной темой следующего дня был Берлин.
В 18:45, после шестичасовых почти непрерывных дискуссий, Кеннеди объявил перерыв. Он заметил, что уже довольно поздно, и предложил обсудить следующий пункт повестки дня, вопрос о запрете ядерных испытаний, вечером за обедом с австрийским президентом, чтобы большую часть следующего дня оставить для переговоров по Берлину. Но если Хрущеву угодно, то можно отложить обсуждение обеих тем на завтра, сказал Кеннеди.
Президент хотел быть уверен, что Хрущев не нарушит своего обещания, данного перед саммитом, относительно обсуждения вопроса запрещения испытаний, который, как он знал, не представлял особого интереса для Москвы. Кеннеди знал, что Хрущев приехал в Вену с твердым намерением решить берлинский вопрос.
При одном упоминании Берлина Хрущев, не обращая внимания на то, что Кеннеди выразительно смотрит на часы, заявил, что согласится обсуждать ядерные испытания только в контексте проблем всеобщего разоружения. Кеннеди это не устраивало по той простой причине, что вопрос о запрещении испытаний мог быть решен быстро, в то время как на обсуждение проблемы всеобщего и полного разоружения могли потребоваться годы.
Что касается Берлина, сказал Хрущев, то, если завтра его требования не будут удовлетворены, он подпишет договор в одностороннем порядке. «Советский Союз надеется, что США захотят понять суть вопроса, и обе страны вместе смогли бы подписать договор. Это улучшило бы наши отношения. Но если Соединенные Штаты откажутся подписать мирный договор, то Советский Союз подпишет его, и ничто не сможет его остановить».
После того как советский лимузин с Хрущевым отъехал от резиденции американского посла, Кеннеди, повернувшись к Томпсону, спросил: «Это всегда так?» – «Зависит от обстоятельств», – ответил посол.
Томпсон не стал объяснять президенту, насколько лучше прошли бы переговоры, если бы он прислушался к совету избегать идеологических споров. Томпсон знал, что завтрашние дебаты по Берлину будут еще тяжелее.
День еще не подошел к концу, но уже было ясно, что команда Соединенных Штатов терпит поражение.
Теперь Хрущев был абсолютно уверен в слабохарактерности Кеннеди. «Ну что тебе сказать? Этот парень очень неопытный, даже не возмужавший. Эйзенхауэр по сравнению с ним был куда рассудительней и дальновидней», – сказал Хрущев своему помощнику Олегу Трояновскому.
Американский дипломат Уильям Ллойд Стирман, находившийся в то время в Вене, будет впоследствии читать студентам лекцию об уроках саммита, которую назовет «Грустный мальчик встречается с Аль-Капоне». По его мнению, название отражало наивную, почти примирительную позицию, которую занял Кеннеди, столкнувшись с грубыми нападками Хрущева. Он считал, что неудача в заливе Свиней негативным образом сказалась на поведении президента на саммите и заставила Хрущева думать, что «Кеннеди теперь у него в руках».
Стирман был информирован лучше большинства обозревателей, поскольку регулярно получал информацию от своего друга, Мартина Хилленбрандта, который был стенографистом на переговорах Кеннеди и Хрущева. С точки зрения Стирмана, переговоры не удались в какой-то степени по вине главных советников Кеннеди, которые плохо подготовили президента.
По мнению Стирмана, государственный секретарь Раск, специалист по Азии, недостаточно разбирался в вопросах, связанных с Советским Союзом. Советник по вопросам национальной безопасности Банди – интеллектуал, умница, но не сторонник решительных мер. Советниками, которые могли объяснить Кеннеди суть исторического момента и указать направление стратегии, были Дин Ачесон, государственный секретарь при президенте Трумэне, и Джон Фостер Даллес, государственный секретарь при президенте Эйзенхауэре.
По мнению Стирмана, Кеннеди снизил шансы на успех, когда в обход советников, занимавшихся планированием его встречи с Хрущевым, тайно готовился к саммиту вместе с братом Бобби и Большаковым. Когда переговоры пошли не в том направлении, у Кеннеди не оказалось людей, обладающих необходимой информацией, которые могли бы ему помочь изменить ход переговоров.
К счастью, в американском посольстве была ванна, правда более скромная, чем позолоченный бассейн в Париже. Пока Кеннеди отмокал в ванне, О’Доннелл расспрашивал его о том неловком моменте, когда президент беззастенчиво разглядывал советского лидера на ступенях резиденции.
«После того как я в течение нескольких последних недель изучал материалы и говорил о нем, вы не должны упрекать меня за то, что мне хотелось рассмотреть его», – сказал Кеннеди.
«Ну и как, совпадает увиденное с прогнозом?» – спросил О’Доннелл.
«Не очень, – ответил Кеннеди и сразу поправился: – Он оказался более безрассудным, чем я предполагал… Из того, что я прочел о нем и что рассказали мне помощники, я ожидал увидеть умного и жесткого человека. Он должен был быть умным и жестким, чтобы проложить путь к вершине, и ведь он его проложил».
Дэйв Пауэрс рассказал президенту, что они с О’Доннеллом смотрели из окна второго этажа, как советский лидер крутился вокруг президента во время прогулки по парку. «Вы казались довольно спокойным, когда он явно усложнял вам жизнь».
Кеннеди пожал плечами. «А что, по вашему мнению, я должен был делать? – спросил он. – Снять один ботинок и стукнуть его по голове?» Кеннеди объяснил, что Хрущев приставал к нему с Берлином. Он говорил, что не понимает, как Соединенные Штаты могут поддерживать идею объединения Германии. Хрущев заявил, что не может сочувствовать немцам, которые в войну убили его сына.
Кеннеди напомнил Хрущеву, что тоже потерял брата, но Соединенные Штаты не будут разрывать отношения с Западной Германией и не выведут войска из Берлина. «Вот так, и никак иначе», – сказал Кеннеди Хрущеву.
Президент рассказал друзьям о жесткой реакции Хрущева на высказанное им беспокойство по поводу возможного просчета каждой из сторон, который может привести к войне. «Хрущев пришел в ярость», – сказал Кеннеди. По словам президента, после этой вспышки гнева он старался не произносить слово «просчет».
Президент Австрии Адольф Шерф должен был решить серьезный протокольный вопрос: чья жена, Кеннеди или Хрущева, должна сидеть справа от него во время обеда, который он давал в честь лидеров двух стран в Шенбруннском дворце.
С одной стороны, Хрущев освободил Вену, которую вполне могла постигнуть судьба Берлина, позволив Австрии стать суверенным государством – «Государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии, подписанный в Вене 15 мая 1955 года». Благодаря этому жена Хрущева Нина заслужила сидеть на почетном месте. Однако венцам нравилась чета Кеннеди, и, несмотря на нейтралитет, австрийцы понимали, что являются частью Запада.
Шерф принял компромиссное решение: мадам Хрущева будет сидеть справа от него на обеде, а госпожа Кеннеди займет это место во второй половине вечера, во время представления в музыкальной гостиной.
Более шести тысяч венцев толпились у залитых светом прожектора ворот 265-летнего дворца [45], чтобы увидеть прибытие Хрущева и Кеннеди.
Паркетный пол во дворце был натерт воском до зеркального блеска; окна вымыли так, что стекол вообще не было видно, до абсолютной прозрачности. Столы украшали вазы с роскошными букетами цветов, собранными в парке Шенбрунна, и бесценный парадный сервиз из белого фарфора, украшенный золотым бордюром с точечным орнаментом и черно-красно-золотым двуглавым орлом, изготовленный по заказу императора Франца-Иосифа.
Гости отметили, что Джеки и Нина нашли общий язык. Джеки была в платье от Олега Кассини – розовом облегающем платье до пола, без рукавов, с заниженной талией. Нина – в темном шелковом платье с еле заметной золотой нитью – более пролетарский выбор.
Такой же контраст представляли их мужья. Кеннеди был в смокинге, а Хрущев – в обычном темном костюме с серым в клеточку галстуком.
По коридорам и залам сновали официанты в белых перчатках с серебряными подносами, уставленными напитками.
«Господин Хрущев, не могли бы вы обменяться рукопожатиями с господином Кеннеди, чтобы я мог сфотографировать вас?» – попросил фотограф.
«Сначала я хотел бы пожать руку ей», – усмехнувшись, сказал Хрущев, кивнув в сторону президентской жены.
Корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс написал, что стоявший рядом с Джеки «грубый и зачастую агрессивный коммунистический лидер был похож на охваченного страстью школьника, растаявшего, как лед на Волге в весеннюю пору». Хрущев старался не отходить от Джеки, когда оркестр Венской филармонии исполнял Моцарта и во время исполнения солистами балетной труппы Венской государственной оперы вальса «Голубой Дунай».
Выступление Кеннеди было не столь удачным. Перед началом концерта он начал опускаться на стул и только тогда понял, что на нем уже сидит жена Хрущева. Ему удалось остановиться буквально в нескольких сантиметрах от ее колен.
Он с улыбкой извинился. Венский саммит продолжался так же, как начался.
Глава 11. Вена: угроза войны
Соединенные Штаты не желают стабилизировать положение в самом опасном месте в мире. Советский Союз хочет провести хирургическую операцию по вскрытию нарыва – уничтожить этот источник зла, эту язву…
Председатель Совета Министров СССР Хрущев – президенту Кеннеди, Вена, 4 июня 1961 годаНикогда еще не встречал такого человека. Я ему говорю, что ядерная война убьет семьдесят миллионов человек за десять минут, а он так смотрит на меня, словно хочет сказать: «Ну и что?»
Президент Кеннеди – корреспонденту «Тайм» Хью Сайди, июнь 1961 годаСоветское посольство, Вена
10:15, воскресенье, 4 июня 1961 года
Стоя перед посольством, Никита Хрущев переступал с ноги на ногу, словно боксер, стремящийся выйти из своего угла на ринг после одержанной в первом раунде победы. Когда он, протягивая для пожатия свою маленькую пухлую руку Кеннеди, широко улыбнулся, стала видна щель между передними зубами.
Московское посольство было бесстыдно имперским, и это притом, что Советское государство заявляло о себе как о государстве рабочего класса. Дворец, приобретенный в 1891 году у герцога фон Нассау послом России в Вене князем А.Б. Лобановым-Ростовским, был одним из красивейших зданий, возведенных в Вене в конце XIX века в стиле венского неоренессанса с колоннами, парадной лестницей и деталями внутреннего убранства, выполненными из натурального мрамора и гранита. «Приветствую вас на маленькой части советской территории», – сказал Хрущев Кеннеди. А затем произнес русскую поговорку, смысл которой ускользнул от Кеннеди: «Иногда пьем из маленькой рюмки, а говорим с большим чувством».
После приблизительно девятиминутной беседы, ни у кого не оставшейся в памяти, Хрущев провел своих американских гостей по коридору с колоннами к широкой лестнице, по которой они поднялись на второй этаж в зал для заседаний, стены которого были обтянуты тканью красного цвета.
То, как Кеннеди и Хрущев провели утро второго дня перед тем, как встретиться в советском посольстве, говорило о том, насколько разными были эти люди. Католик Кеннеди послушал венский хор мальчиков и мессу, которую отслужил кардинал Франц Кениг в соборе Святого Стефана. Глаза первой леди наполнились слезами, когда она опустилась на колени, чтобы помолиться. Толпа, собравшаяся на площади, встретила выход четы Кеннеди из собора приветственными возгласами. Примерно в то же самое время лидер Советского Союза, атеист Хрущев, возлагал венок у советского мемориала на Шварценбергплац. Местные жители с горькой иронией называли его «памятник неизвестному мародеру».
В конференц-зале, где собрались обе делегации, темно-красные портьеры, задернутые на высоких и широких окнах, не впускали солнечные лучи. Кеннеди начал разговор с той же темы, что и в начале первого дня, – спросил советского премьер-министра о его детстве. У Хрущева не было никакого желания обсуждать свое крестьянское происхождение с этим избалованным ребенком. Поэтому он, не вдаваясь в подробности, сказал, что родился в русской деревне, недалеко от Курска, менее чем в десяти километрах от украинской границы.
Быстро перейдя к настоящему времени, он сказал, что недавно около Курска обнаружены большие запасы железной руды, оцененные в тридцать миллиардов тонн. Скорее всего, сказал он, запасы в целом будут раз в десять больше. В США, напомнил Хрущев Кеннеди, запасы железной руды составляют всего часть от советских запасов, пять миллиардов тонн. «Советских запасов хватит, чтобы обеспечить потребности всего мира на долгие годы», – похвастался Хрущев.
Хрущев ловко ушел от обсуждения семейной темы и с гордостью рассказал о богатой материально-сырьевой базе своей страны. Он не стал расспрашивать президента о детстве, о котором и так был осведомлен достаточно хорошо, и предложил сразу перейти к главной цели встречи: обсуждению Берлина и его будущего.
В этот день в утреннем выпуске лондонской «Тайм» было приведено высказывание британского дипломата относительно венской встречи на высшем уровне: «Мы надеемся, что парню удастся выйти из клетки с медведем не слишком помятым». А Хрущев вышел утром второго дня с выпущенными когтями. Несмотря на то что им удалось быстро решить проблему, связанную с Лаосом, Хрущев не желал использовать эту проблему как пример возможного ослабления отношений между государствами.
Министры иностранных дел Соединенных Штатов и Советского Союза достигли соглашения о признании нейтрального Лаоса. Эта уступка дорого обошлась Хрущеву, поскольку против выступили китайцы, северные вьетнамцы и лаосцы Патет Лао, коммунистического движения Лаоса. Однако стоило Кеннеди сказать об интересах США в Азии, как Хрущев возмущенно заявил, что Соединенные Штаты «так богаты и могущественны, что приписывают себе какие-то особые права и не считают нужным признавать права других», и это не что иное, как «мегаломания и мания величия».
Кроме того, все усилия Кеннеди перевести переговоры к проблемам запрета ядерных испытаний наталкивались на сопротивление Хрущева. Заявление президента, что только оздоровление отношений может открыть путь к возможному урегулированию берлинского вопроса, не устраивало Хрущева. Для него Берлин был на первом месте.
Кеннеди, настаивая на решении вопроса о запрещении испытаний, напомнил Хрущеву китайскую пословицу: «Путь в тысячу миль начинается с первого шага».
«Вы, похоже, хорошо знаете китайцев», – произнес Хрущев.
«Мы оба можем узнать их лучше», – ответил Кеннеди.
«Теперь я узнал их достаточно хорошо», – улыбнувшись, сказал Хрущев.
Пусть только намек на испорченные отношения, но как это было нехарактерно для Советов.
Однако Советы подделают при расшифровке запись этих переговоров, добавив слова, которые на самом деле Хрущев не говорил Кеннеди: «Китай – наш сосед, друг и союзник», и отправят исправленную копию в Китай.
Важнейший обмен мнениями начался с предупреждения Хрущева. Для начала советский лидер напомнил, как долго пришлось ждать Москве переговоров по Берлину. То, что он хочет сделать, объяснил Хрущев, «повлияет на отношения между нашими двумя странами», особенно «если США неверно поймут советскую позицию».
При этих словах советники Кеннеди и Хрущева поняли, что все, что было до этого, являлось прелюдией к основным переговорам. «С окончания Второй мировой войны прошло шестнадцать лет. Советский Союз потерял в войну двадцать миллионов человек, и большая часть территории СССР была опустошена. Теперь Германия, страна, развязавшая Вторую мировую войну, восстановила военную мощь и заняла господствующее положение в НАТО. Немецкие генералы занимают высшие должности в этой организации. Нарастает угроза третьей мировой войны, во много раз более разрушительной, чем Вторая мировая война».
Вот почему, объяснил он Кеннеди, Москва отказывается откладывать обсуждение берлинского вопроса; любая задержка на руку только западногерманским милитаристам. Объединение Германии, сказал советский лидер, практически невозможно, и даже сами немцы не стремятся к объединению. Таким образом, Советский Союз будет действовать, исходя из «реального положения дел, а именно что есть два немецких государства».
Хрущев сказал, что хочет достигнуть соглашения, которое изменит статус Берлина, именно с президентом. Однако, если Соединенные Штаты не ответят взаимностью, СССР «подпишет мирный договор» с Восточной Германией, положив тем самым конец всем оккупационным договоренностям, в том числе и о доступе западных держав к Берлину. Когда Западный Берлин станет «свободным городом», сказал Хрущев, американские войска смогут там оставаться, но только вместе с советскими войсками. В этом случае Советы присоединятся к США в обеспечении того, «что Запад называет свободой Западного Берлина». Кроме того, Москва «согласится» с присутствием войск нейтральных стран.
Кеннеди поблагодарил Хрущева за «откровенность, с какой он высказал свое мнение». Находившийся под воздействием болеутоляющих, затянутый в корсет Кеннеди понял, что Хрущев только что выдвинул новый ультиматум по Берлину. От него требовался четкий и определенный ответ. Кеннеди готовился к этому моменту и тщательно взвешивал каждое слово.
Он подчеркнул, что речь больше не идет о незначительных вопросах, таких как Лаос, что теперь они перешли к обсуждению чрезвычайно важной проблемы, такой как Берлин. Президент пояснил, что это «одна из основных проблем, волнующих США». Соединенные Штаты пришли туда «не по чьей-то милости. Мы прорвались туда с боем». И хотя Соединенные Штаты не понесли таких огромных потерь во Второй мировой войне, как Советский Союз, сказал Кеннеди, «мы находимся в Берлине согласно договорным правам, а не по соглашению с восточными немцами».
Кеннеди заявил, что если США позволят выгнать себя из Западного Берлина, лишившись в одностороннем порядке завоеванных ими и оформленных договором прав, то все обязательства США по отношению к другим странам «превратятся в пустой клочок бумаги», никто больше не станет верить Соединенным Штатам и это приведет к их полной политической изоляции.
Все, что до этого момента говорилось на венской встрече, не вызывало особого интереса. Но теперь стенографисты, напряженно слушая обмен репликами, точно записывали каждое из произнесенных лидерами слов. Два самых могущественных человека в мире мерились силами, обсуждая самую трудную, взрывоопасную тему.
«Западная Европа необходима нам для обеспечения нашей национальной безопасности, и мы поддерживали ее в двух мировых войнах, – сказал Кеннеди. – Если мы уйдем из Западного Берлина, то уйдем и из Европы. Поэтому, когда мы говорим о Западном Берлине, то говорим также о Западной Европе».
Кеннеди дважды сделал ударение на слове «Западный» перед Берлином, и это было новостью для русских. Раньше ни один американский президент не делал столь явного различия между обязательствами перед Берлином и Западным Берлином. Кеннеди напомнил Хрущеву, что в первый день советский лидер согласился с тем, что «сегодня существует равенство военной мощи». А потому ему «трудно понять, почему такая страна, как Советский Союз, со значительными достижениями в космосе и экономике, предлагает США покинуть территорию жизненно важных интересов». Он еще раз подчеркнул, что США никогда не согласятся отказаться от «завоеванных» прав.
Лицо Хрущева медленно багровело, словно столбик термометра, показывающий повышение температуры тела. Он прервал президента, заявив, что понял его слова, означающие нежелание подписывать мирный договор. Хрущев язвительно заявил, что, судя по тому расширенному толкованию, которое Кеннеди придает понятию национальной безопасности, «США могут и Москву оккупировать – ведь это улучшит их позиции!».
«США не требуется никуда идти, – ответил Кеннеди. – Мы не говорим о США, идущих в Москву, и о СССР, идущем в Нью-Йорк. Мы говорим о том, что сейчас мы находимся в Берлине, и это продолжается уже пятнадцать лет. Мы собираемся оставаться там».
Видя, что выбранный им тон переговоров не приносит успехов, Кеннеди решил испробовать более примирительный тон. Я понимаю, сказал президент, что положение в Западном Берлине «неудовлетворительное». Однако, добавил Кеннеди, «во многих частях мира положение неудовлетворительное, и сейчас не время нарушать баланс в Берлине и в мире в целом. Изменение баланса приведет к изменению ситуации в Западной Европе и явится серьезным ударом для Соединенных Штатов. Господин Хрущев не согласился бы с такой потерей, и мы тоже этого не хотим».
Если до этого момента Хрущев еще как-то сдерживался, то теперь замахал руками, его лицо побагровело, и он стал выкрикивать слова со скоростью пулемета. «Соединенные Штаты не желают стабилизировать положение в самом опасном месте в мире. Советский Союз хочет провести хирургическую операцию по вскрытию нарыва – уничтожить этот источник зла, эту язву, – не ущемляя интересов сторон, а скорее к радости народов во всем мире».
Советский Союз собирается изменить статус Берлина, но не путем «интриг и угроз», а «торжественно подписав мирный договор». Теперь президент говорит, что эта акция направлена против интересов США. Вот это действительно трудно понять. Советы не собираются изменять границы, доказывал Хрущев, а только пытаются официально оформить их, чтобы «воспрепятствовать тем, кто хочет развязать новую войну».
Хрущев с иронией сказал о желании Аденауэра пересмотреть границы Германии и вернуть территории, утраченные после Второй мировой войны. «Гитлер намеревался обеспечить германской нации на Востоке жизненное пространство до Урала. Гитлеровские генералы, которые помогали ему в осуществлении его планов, занимают теперь высокие должности в НАТО».
Он сказал, что «СССР не может понять и принять» логику Соединенных Штатов, заявляющих о необходимости защищать свои интересы в Берлине. Он сожалеет, но «никакая сила в мире не сможет помешать Советскому Союзу подписать мирный договор к концу года. Для дальнейшей отсрочки нет ни возможности, ни необходимости».
Хрущев в очередной раз повторил, что с окончания войны прошло шестнадцать лет. Сколько еще, по мнению Кеннеди, должна ждать Москва? Еще шестнадцать лет? А может, тридцать лет?
Хрущев оглядел своих товарищей, махнул рукой и сказал, что потерял в последнюю войну сына, Громыко потерял двоих братьев и Микоян тоже потерял сына. «В Советском Союзе нет семьи, не потерявшей кого-либо из близких на войне». Американские матери, конечно, тоже оплакивают своих сыновей, как советские матери, сказал Хрущев, но если потери Соединенных Штатов исчисляются тысячами, то потери Советского Союза – миллионами.
Затем он заявил: «СССР подпишет мирный договор. Любое нарушение суверенитета ГДР будет рассматриваться СССР как акт открытой агрессии» со всеми вытекающими последствиями.
Как и предсказывал де Голль, Хрущев угрожал войной. Члены американской делегации замерли в ожидании ответа своего президента.
Кеннеди спокойно спросил, останется ли доступ в Берлин свободным после того, как Советы подпишут этот мирный договор. Кеннеди уже решил, что может смириться с тем, что Советы заключат договор с восточными немцами, если это не повлияет на права союзников в Западном Берлине и они будут иметь доступ в Западный Берлин.
Хрущев, однако, сказал, что в соответствии с новым договором доступ западным державам в Западный Берлин будет прегражден. Терпению Кеннеди пришел конец.
«В этом случае у нас возникнет серьезная проблема, и никто не может предсказать, насколько серьезными могут оказаться последствия», – заявил Кеннеди. Он не собирался приезжать в Вену только для того, сказал президент, чтобы «отказываться от нашей позиции в Западном Берлине и доступа в город». Он надеялся, что встреча в Вене будет способствовать улучшению отношений между Соединенными Штатами и Советским Союзом, а вместо этого отношения явно ухудшаются. Москва, конечно, вправе решать вопрос с передачей своих прав восточным немцам, но президент не может позволить Москве отбирать права у Соединенных Штатов.
Хрущев начал прощупывать позицию Соединенных Штатов. Он предложил заключить по Берлину промежуточное соглашение, которое обсуждал еще с Эйзенхауэром, защищающее «престиж и интересы обеих стран». За время, ограниченное шестью месяцами, все стороны могли бы договориться об объединении двух Германий. Если бы не удалось договориться за это время – а Хрущев был убежден, что договориться не удастся, – то «каждый получает право заключить мирный договор».
Советское решение подписать мирный договор, сказал Хрущев, «твердо и непоколебимо, и, если Соединенные Штаты откажутся от промежуточного соглашения, Советский Союз подпишет договор в декабре» и доступ к Западному Берлину будет находиться под контролем восточных немцев. Его право решать этот вопрос на статистическом анализе разницы в цене, заплаченной обеими сторонами за победу над немцами: Советский Союз потерял во Второй мировой войне двадцать миллионов человек, а потери Соединенных Штатов составили всего сто сорок три тысячи человек.
Кеннеди ответил, что никогда не забывает о потерях и хочет избежать войны. Советский лидер, повторив столь не понравившееся слово, напомнил Кеннеди о высказанном им беспокойстве относительно возможного «просчета» Советского Союза. И вдруг заявил: «Если США хотят развязать войну, то уж лучше пусть сейчас. Ведь именно этого хочет Пентагон. Однако Аденауэр и Макмиллан очень хорошо понимают, что значит война. Если есть такой сумасшедший, который хочет развязать войну, то на него надо надеть смирительную рубашку».
Команда Кеннеди вновь испытала шок. Теперь Хрущев заговорил о войне и трижды произнес это слово. Небывалое событие в истории дипломатических переговоров на любом уровне.
Словно желая прекратить обсуждение вопроса, Хрущев категорически заявил, что Советский Союз подпишет мирный договор в конце года, навсегда изменив права Запада в Берлине, но, добавил советский лидер, он уверен, что возобладает здравый смысл.
Поскольку Хрущев так и не ответил на предложение Кеннеди, президент предпринял еще одну попытку. Он подчеркнул, что не рассматривает сам по себе мирный договор как воинственный шаг, если Хрущев оставит в покое Западный Берлин. «Однако мирный договор, лишающий нас договорных прав, – воинственный шаг. Непозволительно передавать наши права Восточной Германии».
Кеннеди открыто сказал: делайте все, что желаете, с тем, что является вашим, но не трогайте того, что является нашим. Если Соединенные Штаты пойдут на любую уступку по Западному Берлину, то мир не будет всерьез воспринимать США. Однако поскольку Восточный Берлин является советской территорией, то, по его мнению, СССР волен делать там все, что пожелает.
Хрущев не согласился с предложением Кеннеди (впоследствии будет принято соглашение, похожее на то, что на венской встрече предложил Кеннеди). Советский лидер заявил, что после подписания мирного договора СССР «никогда, ни при каких условиях, не признает права США в Западном Берлине».
Затем он обвинил Соединенные Штаты в том, что после войны они непорядочно ведут себя в отношении Советского Союза. Хрущев заявил, что США лишили СССР репараций от Западной Германии. Кроме того, по его словам, США придерживаются политики «двойных стандартов»: отказываются вести переговоры о мирном договоре с Восточной Германией, хотя в 1951 году подписали точно такой договор с Японией – не советуясь с Москвой в период подготовки документа [46].
Заместитель министра иностранных дел Андрей Громыко, возглавлявший советскую делегацию на конференции в Сан-Франциско, отказался подписать мирный договор с Японией, сделав упор на то, что на конференцию не пригласили представителей КНР.
Кеннеди возразил, что Хрущев публично заявлял, будто подписал бы договор с Японией, если бы в то время был у власти.
Однако для Хрущева вопрос заключался не в том, что бы он мог сделать, а, скорее, в том, что США даже не сочли нужным посоветоваться с СССР. По словам Хрущева, такой же была политика Кеннеди в отношении Берлина – «делаю то, что хочу».
Хрущев заявил, что достаточно насмотрелся на такое поведение американцев. Москва подпишет договор с Восточной Германией, и если США нарушат суверенитет Восточной Германии, то им это очень дорого обойдется.
Кеннеди возразил, что он хочет полностью исправить отношения между восточными и западными немцами и американо-советские отношения, чтобы решить проблему Германии в целом, а не конфликтовать из-за Берлина. Он сказал, что и не помышлял действовать таким образом, чтобы «лишать Советский Союз связей в Восточной Европе», и в очередной раз заверил Хрущева, что не сделает ничего, что могло бы нарушить баланс сил в Европе.
Кеннеди заметил, что советский лидер назвал его молодым человеком, и высказал предположение, что Хрущев пытается использовать его относительную неопытность в своих интересах. Однако, сказал президент, «он не так молод, чтобы принимать предложения, явно враждебные интересам США». Хрущев повторил, что единственная альтернатива одностороннему договору – промежуточное соглашение, в соответствии с которым две Германии могут вести переговоры и по истечении которого союзники распрощаются со своими правами в Берлине. Это соглашение в какой-то степени возложит ответственность за проблему на самих немцев. Но поскольку они не согласятся на объединение, в чем Хрущев был уверен, результат будет таким же.
Со свойственным актеру умением выбрать нужный момент, Хрущев вручил Кеннеди памятную записку по берлинскому вопросу, цель которой состояла в том, чтобы придать ультиматуму Хрущева официальную силу. Никто в команде Кеннеди не подготовил президента к такой кремлевской инициативе. Большаков даже не намекнул о возможности подобного хода. Хрущев сказал, что советская сторона подготовила этот документ для того, чтобы Соединенные Штаты могли ознакомиться с советской позицией и «возможно, позже вернуться к этому вопросу, если возникнет такое желание».
Этим смелым шагом Хрущев усугубил разногласия с Кеннеди по берлинскому вопросу. Он поступил так частично из-за того, что Кеннеди продолжал цепляться за сохранение статус-кво и, в отличие от Эйзенхауэра, даже не выказывая готовности договориться по этой проблеме. Хрущеву было довольно трудно смириться с этим при Эйзенхауэре и перед инцидентом с U-2. Но теперь это было просто невозможно.
Утро пролетело незаметно.
Когда Хрущев и Кеннеди сделали перерыв на обед, их жены гуляли в центре города. Перед дворцом Паллавичини на залитой солнцем Йозефсплац собралась тысячная толпа в надежде хотя бы мельком увидеть двух дам, направлявшихся на обед. Толпа скандировала «Дже-ки! Дже-ки!», и два американских журналиста, почувствовав жалость к Нине из-за невнимания венцев, стали выкрикивать «Нина! Нина!». Но их голоса потонули в общем шуме.
Адам Келлетт-Лонг, представитель агентства Рейтер, приехавший из Берлина для освещения Венского саммита, был шокирован, услышав, как фотографы кричали Джеки, чтобы она приняла соблазнительную позу. «И она сделала это! – рассказывал позже Келлетт-Лонг. – Она вела себя как Мэрилин Монро. Она упивалась этим».
Из окна ресторана две эти женщины смотрели на толпу, стоявшую на площади. Джеки была словно картинка из журнала мод в темно-синем костюме, черной маленькой шляпке без полей с плоским донышком, белых перчатках и с четырьмя нитками жемчуга. Представители советской прессы не сообщали, во что была одета Нина, а «Нью-Йорк таймс» сравнила жену Хрущева с домохозяйкой. Но ничто не могло вывести Нину Петровну из равновесия. Она нашла в Джеки интересную и умную собеседницу и сказала, что Джеки «похожа на произведение искусства». Она держала Джеки за руку, затянутую в перчатку, стоя в окне перед толпой, заполнившей площадь, – последняя трапеза их мужей не отличалась подобной теплотой.
Двое мужчин вели разговор о производстве оружия и силовых методах. Хрущев рассказал, что внимательно изучил майское обращение президента к конгрессу, в котором президент предложил увеличить расходы на вооружение. Он понимает, сказал Хрущев, что США не могут разоружаться, поскольку все решают монополисты. Но если США будут наращивать силы, то это вынудит его увеличить численность советских вооруженных сил.
Затем Хрущев перевел разговор на тему, которую они обсуждали накануне за обедом, и сказал, что обдумает возможность совместного лунного проекта. Он выразил сожаление, что такое сотрудничество невозможно, пока не решен вопрос разоружения. Хрущев оставил открытым и этот вопрос о возможном сотрудничестве.
Кеннеди высказал мнение, что они могли бы, по крайней мере, скоординировать время своих космических проектов.
В ответ Хрущев только пожал плечами в знак того, что не уверен в такой возможности, и поднял бокал, наполненный сладким советским шампанским, за Кеннеди.
Он пошутил, что «естественная любовь лучше, чем любовь через посредников», и хорошо, что они общаются друг с другом напрямую.
Он хотел, чтобы президент понял, что новый советский ультиматум по Берлину «не будет направлен против США и их союзников». Он сравнил действия Москвы с хирургической операцией, болезненной для пациента, но необходимой, чтобы остаться в живых. Хрущев, большой любитель метафор, сказал, что Москва «хочет перейти этот мост и она перейдет его».
Хрущев признал усиление напряженности в американо-советских отношениях, но сказал, что уверен: «снова взойдет солнце и засияет ярко. США не нужен Берлин, как он не нужен Советскому Союзу… Единственная сторона, по-настоящему заинтересованная в Берлине, – Аденауэр. Он умный человек, но уже очень старый. Советский Союз не может согласиться с тем, чтобы старое, отжившее свой век сдерживало молодое и энергичное».
Хрущев, произнося тост, допустил, что поставил Кеннеди в трудное положение, поскольку союзников будут интересовать его решения по Берлину. Затем он отмахнулся от влияния и интересов союзников, заметив, что Люксембург не доставит Кеннеди проблем точно так же, как неназванные союзники Советского Союза «никого не напугают».
Подняв бокал, Хрущев заметил, что Кеннеди, как верующий человек, скажет: «Господь поможет нам в наших усилиях». Но лично он, подчеркнул Хрущев, выпьет за здравый смысл, а не за Божью помощь.
В ответном тосте Кеннеди сосредоточил внимание на обязанностях лидеров двух государств в ядерный век, когда последствия конфликта «будут передаваться от поколения к поколению». Он подчеркнул, что каждая сторона «должна признавать интересы и обязательства другой стороны».
Подарок, который Кеннеди преподнес советскому лидеру, стоял перед ними на столе. Это была модель американского военного фрегата Constitution [47], дальность стрельбы орудий которого, по словам президента, не превышала полумили.
В ядерный век, сказал Кеннеди, с его межконтинентальным оружием, несущим несравнимые разрушения, лидеры стран не могут позволить начаться войне.
Кеннеди напомнил, что они находятся в нейтральной Вене, и выразил надежду, что они не уедут из этого города, представляющего возможности для поиска справедливых решений, в условиях возросшей угрозы для безопасности и престижа обеих сторон, не придя к согласию. «Цель может быть достигнута только в том случае, если каждый проявит здравомыслие и останется в своей зоне», – сказал президент.
И вновь Кеннеди озвучил свое отношение к берлинскому кризису. Он в очередной раз сказал, что Советы могут делать на своей территории все, что пожелают. В течение дня он несколько раз в той или иной форме высказывал это мнение – и теперь повторил его в своем заключительном тосте.
Заканчивая речь, сорокачетырехлетний Кеннеди напомнил Хрущеву, как спросил его, кем он был в сорок четыре года. Кремлевский лидер ответил, что был председателем Московского планового комитета. Кеннеди пошутил, что хотел бы в шестьдесят семь лет возглавить Бостонский плановый комитет.
«Президент, вероятно, хотел бы возглавить всемирный плановый комитет», – с насмешкой сказал Хрущев.
Нет, ответил президент. Только Бостонский.
Понимая, сколь неудачно заканчиваются двухдневные переговоры, Кеннеди решил предпринять последнюю попытку. Он попросил Хрущева о еще одной послеобеденной встрече наедине.
«Я не могу уехать, не сделав еще одной попытки», – сказал президент Кенни О’Доннеллу.
Когда советники сказали президенту, что это сорвет запланированный отъезд, Кеннеди резко ответил, что в данный момент нет ничего важнее, чем договориться с Хрущевым. «Мы задержимся! Я не уеду, пока не добьюсь большего». На протяжении всей жизни Кеннеди преодолевал препятствия за счет своего обаяния и индивидуальности. Однако в случае с Хрущевым это не сработало.
Кеннеди начал последнюю короткую встречу с признания важности Берлина. Он надеялся, что Хрущев, в интересах установления отношений между их странами, не станет втягивать Соединенные Штаты в ситуацию, «глубоко затрагивающую наши национальные интересы». Президент в очередной раз подчеркнул разницу «между мирным договором и правом доступа в Берлин». Кеннеди надеялся, что отношения будут развиваться таким образом, чтобы избежать прямой конфронтации между Соединенными Штатами и Советским Союзом.
Однако Хрущев продолжал гнуть свою линию. Если Соединенные Штаты, настаивая на своих правах, нарушат восточногерманские границы после подписания мирного договора, то «сила будет встречена силой», заявил советский лидер. «Соединенные Штаты должны подготовиться к этому, и Советский Союз сделает то же самое».
Прежде чем покинуть Вену, Кеннеди хотел ясно понять, какие варианты оставляют ему русские. Останутся ли в Берлине американские войска и сохранится ли свободный доступ к городу согласно промежуточному соглашению, предложенному Хрущевым, спросил Кеннеди.
Да, в течение шести месяцев, ответил Хрущев.
А затем войска придется вывести? – спросил Кеннеди. Хрущев ответил, что президент все правильно понял.
Кеннеди сказал, что Хрущев то ли не верит, что Соединенные Штаты настроены весьма серьезно, то ли ситуация кажется ему настолько «неудовлетворительной», что он считает, будто нуждается в таких «радикальных мерах». Кеннеди сказал, что по пути домой встретится в Лондоне с премьер-министром Макмилланом и будет вынужден рассказать ему, что был поставлен перед выбором – признать решение Советов по Берлину свершившимся фактом или вступить в конфронтацию. У него создалось впечатление, сказал Кеннеди, что Хрущев предлагает ему выбор между отступлением и конфронтацией.
«Я хочу мира, – заверил Хрущев. – Но если вы хотите войны, то это ваша проблема. Не Советский Союз угрожает войной, а Соединенные Штаты» [48].
«Но это вы, а не я хотите изменить положение!» – воскликнул президент, избегая использовать слово «война», чтобы не провоцировать Хрущева.
Это выглядело так, словно два подростка с палками спорили о том, кто с кем пытается начать драку.
«В любом случае у Советского Союза не будет иного выбора, как принять вызов. Он должен будет ответить, и он ответит. Военные бедствия будут поделены поровну… Соединенным Штатам решать, будет война или мир», – заявил Хрущев. Кеннеди, сказал он, может сообщить это Макмиллану, де Голлю и Аденауэру.
Его решение по Берлину, сказал Хрущев, «твердо и непоколебимо, и, если Соединенные Штаты откажутся от промежуточного соглашения, Советский Союз подпишет договор в декабре».
«Если это правда, нас ждет холодная зима», – ответил на это Кеннеди.
Даже в этом Кеннеди умудрился ошибиться. Проблемы начнутся намного раньше, чем он предполагал.
Берлин
Воскресенье, полдень, 4 июня 1961 года
В то время как между Хрущевым и Кеннеди шел раздраженный обмен мнениями о возможности войны в Берлине, сами берлинцы наслаждались первым теплым солнечным днем после месяца непрерывных дождей. Автомобили, поезда надземной железной дороги и метро доставляли их в парки и на берега озер и каналов, где можно было купаться, загорать, играть и ходить под парусом.
Берлинские газеты назвали этот день «прекрасной погодой саммита», и все сходились во мнении, что встреча двух лидеров, управляющих их судьбой, скорее всего, будет способствовать ослаблению напряженности. Вечером жители обеих частей города заполнили кинотеатры Западного Берлина, в которых шли новые фильмы: «Спартак» Стэнли Кубрика, получивший четыре премии «Оскар», «Бен Гур» с Чарлтоном Хестоном (завоевал рекордные для своего времени одиннадцать премий «Оскар») и «Свадебная карусель» со Сьюзан Хейворд и Джеймсом Мэйсоном. Жителям Восточного Берлина объявили, что при покупке билетов в кинотеатры их неконвертируемые марки будут приравнены к западногерманской марке, и это был самый выгодный курс в городе [49].
На Востоке Вальтер Ульбрихт переживал нехватку хлеба и отмечал вместе с народом День защиты детей. Газеты, коротко сообщавшие о встрече на высшем уровне в Вене, были заполнены фотографиями и сообщениями о совместном времяпрепровождении жен лидеров двух стран.
Во время венской встречи на высшем уровне впервые за последние годы уменьшился поток беженцев из Восточной Германии, поскольку у восточных немцев появилась надежда, что венские переговоры приведут к переменам к лучшему.
Ульбрихт на вопрос, что он ожидает от переговоров, ответил, что занимает выжидательную позицию. Бургомистр Вилли Брандт объяснил гражданам, что «наше правое дело в надежных руках президента Кеннеди… Большее, на что мы можем надеяться, – это то, что будут устранены некоторые недоразумения, которые могли бы привести к новым угрозам в будущем».
Вена
Воскресенье, полдень, 4 июня 1961 года
Только что угрожавший войной Хрущев, широко улыбаясь, попрощался с хмурым, сбитым с толку Кеннеди на ступенях советского консульства. На следующий день в газетах появились фотографии, отражавшие настроение обоих лидеров – один радостно улыбался, другой выглядел мрачным и усталым.
Хрущев понимал, что одержал победу, даже притом, что не мог предположить последствий. Позже он вспоминал, что «Кеннеди был очень мрачен. Не только озабочен, но и мрачен. Когда я смотрел на его лицо, он у меня вызывал сочувствие, сожаление. Я хотел, чтобы мы расстались с другим настроением, но помочь ему ничем не мог. Политика неумолима, а наше классовое положение не дало возможности, несмотря на усилия с моей стороны, прийти к соглашению. Как политик я это понимал, а как человек сочувствовал Кеннеди».
Советский лидер предполагал, каким будет мнение сторонников жесткой политики в отношении Советского Союза, когда узнают о неудачном выступлении Кеннеди. Он был уверен, что они скажут президенту: «Вот, ты надеялся, что сможешь при встрече с Хрущевым добиться каких-то соглашений, а теперь сам убедился, что мы были правы, проводя политику с позиции силы. У нас и выхода другого не было, потому что коммунисты признают только силу, а иного языка не понимают. Ты хотел с ними разговаривать языком соглашений и в ответ получил щелчок по носу, возвращаешься опозоренным. Объявил всем, что едешь с уверенностью найти возможность договориться, а вернулся к разбитому корыту, приехал ни с чем. Следовательно, наша политика была правильной, а ты заблуждался».
Проводив Кеннеди в аэропорту, министр иностранных дел Австрии Бруно Крайский нанес визит Хрущеву. «Очень уж мрачен был президент, очень удручен, на нем просто лица не было. Видимо, итоги переговоров так его огорчили», – сказал Крайский Хрущеву.
Хрущев ответил, что тоже отметил мрачное настроение президента, и объяснил Крайскому, что проблема Кеннеди заключается в том, что «когда наступает момент принимать решение, он не проявляет понимания. Не понимает времени, в котором мы живем, и нового соотношения сил. Живет старыми понятиями своих предшественников. К принятию серьезных решений он, видимо, еще не готов. Наша встреча была полезна тем, что мы прощупали друг друга и теперь конкретно представляем позицию каждого. Но и только, а этого, конечно, мало».
Эти двухдневные переговоры были настолько свежи в его памяти, что Хрущев пересказал Крайскому большую часть их с Кеннеди диалогов, понимая, что Крайский передаст информацию о его победе другим членам левых европейских партий, включая бургомистра Берлина Вилли Брандта.
В отличие от Кеннеди Хрущев покинул Вену в той же неторопливой манере, в какой прибыл в столицу Австрии. В то время как советский лидер присутствовал на обеде, данном в его честь австрийским правительством, Кеннеди зализывал раны на пути в Лондон.
Кеннеди был предельно честен перед собой, оценивая свое неудачное выступление на саммите.
Когда его черный лимузин, на капоте которого были закреплены американский флаг и личный флаг президента, отъехал от советского посольства, Кеннеди с силой ударил кулаком по дверце машины. Раск, ехавший в машине с Кеннеди, был особенно потрясен тем, что Хрущев использовал слово «война» во время резкого обмена мнениями, слово, которое избегают использовать дипломаты, заменяя его менее тревожными синонимами.
Несмотря на все инструктивные совещания, которые проводились в период подготовки к саммиту, Раск понимал, что Кеннеди не был готов к грубости со стороны Хрущева. Позже он написал, что «Кеннеди был очень расстроен. Он оказался не готов к лобовому столкновению с Хрущевым» [50].
Степень серьезности ошибки в Вене было сложнее оценить, чем провал операции в заливе Свиней. Здесь не было погибших, совершивших высадку в неудачном месте, которые рискнули своими жизнями в надежде, что Кеннеди и Соединенные Штаты не бросят их в беде. Однако в этом случае последствия могли быть еще более кровавыми. Получивший подтверждение своим подозрениям в слабости Кеннеди, Хрущев мог допустить своего рода «просчет», который привел бы к ядерной войне.
Кеннеди показал премьер-министру Макмиллану памятную записку, в которой подробно излагались требования Советского Союза в отношении урегулирования германского вопроса в течение шести месяцев, «иначе…». Если Советы обнародуют этот документ, а Кеннеди предполагал, что они так и сделают, то критики обвинят его в том, что в Вене он попался в ловушку, которую ему следовало бы предвидеть.
Кеннеди хотел высказаться публично, но как представить результат встречи в средствах массовой информации? Рассказать, что это был любезный обмен мнениями, как он приказывал своему эксперту по Советскому Союзу Чарльзу Болену делать на встречах с прессой?
Нет, Кеннеди решил оставить в Вене своего пресс-секретаря Пьера Сэлинджера, чтобы он подробно изложил ведущим журналистам «безрадостные» итоги встречи на высшем уровне. Перед отъездом у президента в посольстве состоялась конфиденциальная встреча с корреспондентом «Нью-Йорк таймс» Джеймсом Скотти Рестоном. Он объяснил О’Доннеллу, что хочет донести до американцев «всю серьезность ситуации и для этого лучше всего подходит «Нью-Йорк таймс». «Я обрисую Скотти мрачную перспективу».
Однако Кеннеди все еще не был убежден, что Хрущев приведет в действие свою угрозу по Берлину. Возможно, де Голль был прав, когда говорил, что Хрущев в вопросе о Берлине будет вести себя агрессивно, запугивать и бушевать, но пойдет на компромисс, если Кеннеди проявит твердость.
«Любой, кто говорит так, как он сегодня, и действительно намеревается это сделать, должен быть сумасшедшим, но я уверен, что он не сумасшедший», – сказал Кеннеди О’Доннеллу, не чувствуя особой уверенности.
Родившийся в Шотландии пятидесятидвухлетний Рестон был дважды лауреатом Пулитцеровской премии и, вероятно, самым влиятельным и популярным журналистом в Вашингтоне. Он был, как обычно, в твидовом пиджаке и галстуке-бабочке и сосал трубку из бриара, пока Кеннеди объяснял ему, что он не может ни цитировать президента, ни упоминать об их приватной беседе.
Кеннеди сидел на диване в низко надвинутой на лоб шляпе. Это была одна из самых искренних бесед, когда-либо происходивших между журналистом и главнокомандующим.
Получение эксклюзива от Кеннеди о Венском саммите, когда полторы тысячи репортеров всеми правдами и неправдами пытались получить доступ к президенту, имело существенное значение для Рестона в новый век телевидения, столь презираемого им. Это было тем более значимо, что Кеннеди разговаривал с ним в полутемной комнате, за закрытыми жалюзи, чтобы скрыть встречу от других репортеров.
«Что, было очень трудно?» – спросил Рестон.
«Это было самое тяжелое испытание в моей жизни, – ответил Кеннеди. – Он яростно нападал на меня».
Рестон пометил в блокноте: «Не обычные враки. Он похож на человека, который говорит правду».
Сидя рядом с Рестоном на диване, Кеннеди рассказал, что Хрущев подверг яростной критике американский империализм – и повел себя особенно агрессивно при обсуждении берлинского вопроса. «У меня два вопроса, требующие ответа, – сказал президент Рестону. – Во-первых, надо понять, почему он вел себя так агрессивно. И во-вторых, понять, как нам действовать дальше».
Рестон, ни словом не обмолвившись в своей статье в «Нью-Йорк таймс» о встрече с Кеннеди, написал, что «непреклонность и твердость советского лидера поразили президента». Он назвал полемику двух лидеров ожесточенной и справедливо отметил, что Кеннеди уехал из Вены, явно не испытывая оптимизма. В частности, у президента определенно создалось впечатление, что «германский вопрос встанет в самое ближайшее время». Кеннеди сказал Рестону, что, по его мнению, Хрущев «так себя вел из-за нашей неудачи на Кубе. Видимо, решил, что с человеком, ухитрившимся ввязаться в такую историю, легко будет справиться. Решил, что я молод, неопытен и слаб духом. Он меня просто отколошматил… У нас серьезнейшая проблема». Однако, продолжил президент, «если он считает, что я неопытен и слаб – я обязан его в этом разубедить, иначе мы так никуда и не двинемся. Так что мы должны действовать». Он сообщил Рестону, что, среди прочего, собирается увеличить военный бюджет и направить еще одну дивизию в Германию.
Во время полета из Вены в Лондон Кеннеди, желая еще немного отвести душу, пригласил в свой салон О’Доннелла, чтобы его не слышали Раск, Болен и остальные находившиеся на «борту номер один». В самолете царила столь мрачная атмосфера, что адъютант Кеннеди генерал ВВС Годфри Макхью сравнил этот полет с «полетом бейсбольной команды, проигравшей в Мировой серии [51]. Все в основном молчали».
Кеннеди начал свое президентство с твердого решения на время отложить берлинскую проблему. Однако теперь ситуация грозила выйти из-под контроля. Он был в ужасе оттого, что вопрос сохранения определенных прав Западной Германии и союзников в Западном Берлине может вызвать ядерную войну.
«Все войны начинаются с глупости, – сказал Кеннеди О’Доннеллу. – Бог свидетель, я не изоляционист, но кажется чрезвычайной глупостью рисковать жизнью миллионов американцев из-за спора о правах доступа по автобану… или из-за того, что немцы хотят объединения Германии. Должны быть гораздо более крупные и важные причины, чем эти, если мне придется грозить России ядерной войной. Ставкой должна быть свобода всей Западной Европы, прежде чем я припру Хрущева к стенке и подвергну его окончательному испытанию».
Больше всех были разочарованы те, кто перед Венским саммитом старался как можно подробнее проинструктировать президента. Особое разочарование постигло сотрудников посла Томпсона, которые поняли, что президент проигнорировал большую часть их советов. Позже один из них, Кемптон Дженкинс, высказал мнение, что это была «прекрасная возможность для Кеннеди продемонстрировать свое обаяние, очарование Джеки, а затем взять и заявить: «Я хочу сказать совершенно откровенно. Уберите свои окровавленные руки от Берлина, или мы уничтожим вас».
У Соединенных Штатов было столь существенное ядерное превосходство, что у Кеннеди не было причин терпеть поражение на венской встрече. Позже, внимательно изучив расшифровку стенограмм, Дженкинс выразил сожаление, что Кеннеди «ни разу» не дал жесткого отпора Хрущеву. «Он постоянно говорил: «Мы должны найти выход»; «Что нам сделать, чтобы убедить вас?»; «Нам бы хотелось, чтобы вы не сомневались в наших намерениях»; «Мы не агрессоры».
Далее президент сделал все, чтобы Хрущев еще более укрепился во мнении, что им легко манипулировать, и, поняв это, Хрущев стал вести себя более агрессивно.
Предшественники Кеннеди так упорно защищали Западный Берлин отчасти в надежде на то, что в конечном итоге удастся освободиться от коммунистического управления Восточной Германией, и для того, чтобы поддержать притязания западногерманского правительства, которое рассматривало Берлин как будущую столицу объединенной Германии. Кеннеди думал не об этом, а о том, чтобы не допустить ошибок. По его мнению, в результате вывода войск Западная Германия могла выступить против США и Великобритании и появлялась вероятность распада НАТО.
В разговоре с О’Доннеллом по пути в Лондон Кеннеди сказал, что сочувствует Хрущеву, попавшему в столь трудное положение. Он понимал, что проблема Советов носит экономический характер; процветающий западногерманский капитализм притягивал таланты Восточной Германии.
«Мы не можем обвинять Хрущева в том, что он так остро реагирует, когда речь заходит о Германии», – сказал президент О’Доннеллу.
Несмотря на то что Хрущев его только что «отколошматил», Кеннеди излил свою злобу на Аденауэра и западных немцев, которые непрерывно жаловались на то, что он недостаточно жестко ведет себя по отношению к Советам. Президент не собирался ввязываться в войну из-за Берлина – хотя послевоенные соглашения обязывали его к этому. «Не мы явились причиной отсутствия единства в Германии, – сказал Кеннеди О’Доннеллу. – На самом деле мы не несем ответственности за оккупацию Берлина четырьмя державами. А теперь западные немцы хотят, чтобы мы выгнали русских из Восточной Германии».
В разговоре с О’Доннеллом Кеннеди с недовольством констатировал, что «мы тратим огромные средства на обеспечение защиты Западной Европы и в особенности Западной Германии, в то время как Западная Германия стремительно приближается к тому, чтобы стать одной из наиболее развитых в промышленном отношении стран в мире. Что ж, если они думают, что мы ввяжемся в войну за Берлин, считая, что это последний отчаянный шаг для спасения НАТО, то они ошибаются!».
Когда президентский самолет приземлился в Лондоне, Кеннеди сказал О’Доннеллу, что сомневается в том, будто Хрущев, «несмотря на все угрозы», на самом деле сделает то, о чем говорил. Однако, добавил он, «если мы окажемся перед необходимостью начать ядерную войну, то должны понимать, что ее начнет президент Соединенных Штатов, и только он. А не всегда готовый схватиться за оружие сержант на контрольно-пропускном пункте в Восточной Германии».
Лондон
Понедельник, утро, 5 июня 1961 года
Британский премьер-министр Макмиллан мгновенно почувствовал, какие физические и душевные страдания испытывает Кеннеди – боль в спине и переживания от встречи с Хрущевым.
В то время как Кеннеди общался с Макмилланом, американские чиновники разъехались по Европе, чтобы ознакомить союзников с новым советским ультиматумом. Раск вылетел в Париж, где посетил де Голля и НАТО. Чиновники Государственного департамента, Фой Колер и Мартин Хилленбранд, вылетели в Бонн на встречу с Аденауэром.
Британский премьер-министр отменил запланированную на утро официальную встречу с президентом – «с сотрудниками министерства иностранных дел и прочими» – и пригласил Кеннеди в свою квартиру в доме Адмиралтейства, поскольку дом на Даунинг-стрит, 10 находился на реконструкции. Их разговор продолжался почти три часа, с 10:30 до 13:25, на час дольше, чем было запланировано. Макмиллан главным образом слушал и угощал Кеннеди бутербродами и виски. Затем до 15:00 в переговорах принимал участие министр иностранных дел лорд Хьюм. Эти переговоры способствовали установлению тесных, доверительных отношений Кеннеди с британским лидером. Президенту понравились сдержанное остроумие британца, глубокий ум и спокойствие при обсуждении самых серьезных вопросов.
Позже Макмиллан, вспоминая о венской встрече Кеннеди и Хрущева, сказал, что «впервые в жизни Кеннеди встретил человека, который не попал под его обаяние». Британский премьер заметил, что его собеседник был «совершенно подавлен грубостью и безжалостностью» Хрущева. Он, по мнению Макмиллана, производил впечатление человека, «впервые встретившегося с Наполеоном в расцвете его могущества и славы», или «Невилла Чемберлена, пытающегося вести переговоры с господином Гитлером».
Макмиллан объяснил Кеннеди, что для Запада самый простой выход – сказать русским, что они могут, раз им так хочется, подписать договор с ГДР, но Запад не откажется от своих прав и будет защищать их всеми имеющимися в его распоряжении силами.
К сожалению, ответил Кеннеди, Хрущев понимает, что Запад ослабел после недавних событий в Лаосе и «в другом месте» – подразумевая под другим местом Кубу. Кроме того, даже в 1949 году, когда Запад был ядерным монополистом, он не был готов пробиться в Западный Берлин, и русские понимают, что теперь они стали сильнее, чем были двенадцатью годами ранее, сказал Кеннеди.
Лорд Хьюм высказал опасение, что Хрущева вынуждают к действию проблемы, связанные с непрекращающимся потоком беженцев из Восточной Германии и с другими сателлитами. Хрущев, возможно, считает, что должен найти способ остановить этот процесс, заявил лорд Хьюм. Как только будет обнародовано новое требование Хрущева, сказал он, Запад почувствует себя неловко, «поскольку на первый взгляд его [Хрущева] требования кажутся довольно разумными».
Кеннеди хотел, чтобы британцы помогли ему сочинить речь, с которой он собирался выступить на следующий день в Вашингтоне. В речи следовало отразить взгляды Хрущева, вновь подтвердить решимость Запада выполнить обязательства перед Западным Берлином и еще раз напомнить о праве жителей Берлина самим выбирать свое будущее. Вне зависимости от того, что происходит в других частях мира, сказал Макмиллан, в Берлине Запад находится в выигрышном положении. То, что огромное количество людей стремятся покинуть коммунистический рай, очень плохо характеризует советскую систему.
Кеннеди и Макмиллан договорились увеличить войсковой контингент в Берлине на случай непредвиденных ситуаций, сделав особый акцент на том, каковы будут действия Запада, если русские подпишут договор с Восточной Германией. Хьюм хотел, чтобы Кеннеди выставил Советам встречные предложения на требования, выдвинутые в их меморандуме. Кеннеди не согласился, опасаясь, что предложение относительно переговоров по Берлину может быть расценено как еще один «признак слабости».
Вернувшийся в Соединенные Штаты Кеннеди сидел в шортах в окружении своих главных помощников. Его воспаленные, слезящиеся глаза выдавали, как он смертельно устал. Боль пульсировала в спине – и даже сам Кеннеди не знал, сколько у него болезней и сколько он принял против них препаратов, повлиявших на его выступление в Вене. Он покачал головой, смущенно глядя на свои голые ноги, и вдруг, обхватив колени, забормотал о непреклонности Хрущева и о надвигающейся опасности. Кеннеди сказал своему секретарю Эвелин Линкольн, что хочет немного отдохнуть, чтобы подготовиться к напряженному дню в Вашингтоне. Он попросил, чтобы она рассортировала и подшила документы, которые он внимательно изучил. Разбирая бумаги, она наткнулась на листок с небрежно написанными рукой Кеннеди двумя строками:
...
Я знаю, что Бог есть – и я вижу, что приближается буря;
Если у Него есть место для меня, я думаю, что готов.
Линкольн не поняла, что означают эти строки, но они взволновали ее. Она не знала, что Кеннеди по памяти написал фразу Авраама Линкольна, произнесенную весной 1860 года во время его разговора с ученым из Иллинойса о своей решимости покончить с рабством. И речь в ней шла вовсе не о желании смерти, как решила Эвелин Линкольн, а скорее о готовности принять вызов.
Бобби сидел рядом с братом, вернувшимся из Вены. По лицу президента текли слезы – результат напряжения физических и душевных сил. Позже Бобби вспоминал, что никогда не видел брата «таким расстроенным. Мы сидели в моей спальне, и он, глядя на меня, сказал: «Бобби, если начнется обмен ядерными ударами, для нас это не имеет значения. У нас была хорошая жизнь, мы зрелые люди. Мне не дает покоя мысль о гибели женщин и детей. Я не могу свыкнуться с этой мыслью».
Журналист Стюарт Олсоп, давний друг президента, встретился с Кеннеди в Лондоне, в Вестминстерском аббатстве, где состоялось крещение новорожденной дочери Станислава Радзивилла, третьей женой которого была младшая сестра Джеки Кеннеди, Ли Бувье. Это было важное событие, проходившее в присутствии премьер-министра и всей семьи Кеннеди. Президент отвел Олсопа в сторону и в течение пятнадцати минут рассказывал о том, через что ему пришлось пройти. «Я почувствовал, что он испытал сильное потрясение, но уже начал приходить в себя», – сказал Олсоп.
По мнению Олсопа, залив Свиней был важен с той точки зрения, что «излечил от иллюзии, что Кеннеди всегда будет сопутствовать успех», поскольку до этого в его жизни было мало неудач. Олсоп считал Вену более серьезной неудачей, чем Кубу, поскольку в будущем она могла привести к ядерной войне.
Кеннеди находился у власти четыре месяца и шестнадцать дней, но, считал Олсоп, на самом деле только в Вене он стал настоящим главнокомандующим. Он столкнулся с жестокостью противника и реальностью того, что Берлин может стать полем битвы.
«Именно после этого он действительно стал президентом в полном смысле этого слова», – пришел к выводу Олсоп.
Восточный Берлин
Среда, 7 июня 1961 года
Восточногерманский лидер Вальтер Ульбрихт едва мог поверить в удачу, когда узнал о венских переговорах от Михаила Первухина, советского посла в Восточной Германии. Он окончательно поверил в удачу, почти ежедневно в конце дня получая информацию от высших офицеров советской военной администрации, размещавшейся в берлинском районе Карлсхорст.
Трехдневные военные учения Национальной народной армии, проведенные вместе с советскими коллегами, показали, что Ульбрихт в военном отношении готов к тому, что Запад может атаковать его, когда Хрущев начнет наконец воплощать в жизнь свои угрозы. Солдаты Ульбрихта произвели впечатление на советского министра обороны Родиона Малиновского и Андрея Гречко, главнокомандующего Объединенными вооруженными силами государств – участников Варшавского договора, которые решили лично наблюдать за ходом учений. В полевых условиях восточногерманские солдаты оказались намного более дисциплинированными, чем предполагали советские офицеры.
По окончании обычного двенадцатичасового рабочего дня, когда шофер вез его в новый дом в Вандлице, городке, расположенном в лесистой местности примерно в тридцати километрах к северо-востоку от Берлина, Ульбрихт почувствовал прилив сил. На протяжении месяцев и, возможно, лет он еще не испытывал таких радостных эмоций, когда шофер провозил его мимо ухоженных садов и вилл в районе Панков.
Первухин передал ему копию советских требований, врученных Хрущевым в Вене Кеннеди. Многие из идей Ульбрихта относительно будущего Берлина, которые он упорно повторял в многочисленных письмах, были изложены официальным языком. Первухин сказал Ульбрихту, что через два дня Москва обнародует этот документ.
На этот раз Ульбрихт был уверен, что Хрущев не будет увиливать от своего берлинского ультиматума. Он вообще занял более решительную позицию по Германии. Министр иностранных дел Громыко направил гневный протест в посольства Великобритании, Франции и Соединенных Штатов в Москве в связи с решением канцлера Аденауэра провести в Западном Берлине 16 июня пленарное заседание бундесрата, верхней палаты парламента. Он назвал это «очередной провокацией» против всех социалистических государств.
Впервые за долгое время Ульбрихт в письме советскому лидеру выражал признательность: «Мы искренне благодарим президиум и Вас, дорогой друг, за огромные усилия, которые Вы предпринимаете для достижения мирного договора и резолюции по проблеме Западного Берлина».
Ульбрихт сообщил, что согласен не только с формулировкой ультиматума, но и полностью согласен с выступлением Хрущева на Венском саммите и тем, как он представлял коммунистическую партию, советское правительство и социалистический лагерь.
«Это было большим политическим достижением», – написал Ульбрихт.
Однако Ульбрихт понимал, что в основном это произошло благодаря его давлению на Хрущева и он собирался продолжать оказывать давление. Большую часть письма он потратил на возмущение по поводу роста западногерманского «реваншизма», который угрожал им обоим. Западногерманское министерство экономики грозилось аннулировать соглашение о торговле с Восточной Германией, если будет подписан мирный договор. Для восточногерманской экономики это был бы серьезный удар, поскольку в этом случае Восточная Германия рассматривалась как иностранное государство, которое должно было рассчитываться с Западной Германией иностранной валютой, которой у нее не было.
Ульбрихт сообщил Хрущеву, что действия Аденауэра и западногерманских чиновников в нейтральных странах направлены на то, чтобы уменьшить права консульств и торговых представительств Восточной Германии. Кроме того, Аденауэр пытается помешать ГДР принять участие в следующих Олимпийских играх.
Теперь, когда Хрущев, казалось, целиком сосредоточился на Берлине, Ульбрихт был больше всего обеспокоен тем, чтобы он не откладывал принятого решения. «Товарищ Первухин сообщил нам, что Вы считаете нужным, чтобы совещание первых секретарей [коммунистических партий советского блока] состоялось как можно раньше». Ульбрихт сказал, что готов обратиться к лидерам Польши, Венгрии, Румынии и Болгарии с предложением собраться 20 или 21 июля, чтобы «обсудить подготовку к мирному договору».
Ульбрихт хотел, чтобы весь социалистический блок принимал участие в его делах. Цель этой встречи, сказал Ульбрихт, состоит в том, чтобы договориться о проведении подготовительной работы во всех сферах деятельности, координации действий и агитации через прессу.
Москва
Среда, 7 июня 1961 года
По возвращении из Вены в Москву Хрущев приказал сделать копии расшифровок стенограмм венской встречи и раздать друзьям и союзникам. Он хотел, чтобы все узнали о том, насколько умело он обошелся с Кеннеди, – главное, чтобы это поняли его критики дома и за границей. У него были документы с грифом «совершенно секретно», но он знакомил с ними довольно широкий круг лиц. Одна копия отправилась на Кубу Кастро, хотя его еще не считали членом социалистического лагеря. Среди восемнадцати стран, которым были направлены документы, были и такие страны, как Египет, Ирак, Индия, Бразилия, Камбоджа и Мексика. Был проинформирован и югославский лидер Иосип Броз Тито.
Хрущев действовал как победитель, желая вместе со всеми еще раз пережить чемпионский матч. Хрущев продолжил дома взятый в Вене жесткий курс, но еще решительнее и жестче. Все более и более уподобляясь своим неосталинистским критикам, он обвинял в росте преступности, бродяжничества, гражданского недовольства, безработицы излишнюю либерализацию. Кроме того, в соответствии с его политикой десталинизации была проведена реформа судебной системы.
«Какими либералами вы стали!» – язвительно сказал он Роману Руденко, генеральному прокурору, критикуя законы, излишне мягкие по отношению к ворам, которых, по его мнению, следовало расстреливать.
«Как бы вы меня ни ругали, – ответил Руденко, – мы не можем назначать смертную казнь, если она не предусмотрена в законе».
«У крестьян есть поговорка: «От плохого семени не жди хорошего племени», – сказал Хрущев. – Сталин занимал правильную позицию по этому вопросу. Он зашел слишком далеко, но мы никогда не были милосердны к преступникам. Наша борьба с врагами должна быть беспощадной и целенаправленной».
Хрущев ввел смертную казнь за ряд экономических преступлений, увеличил численность милицейских подразделений, усилил КГБ [52].
В то время как Кеннеди отправился домой, озабоченный тем, что рассказать американцам, Хрущев находился в посольстве Индонезии на приеме в честь шестидесятилетия президента Сукарно, прибывшего с визитом в Советский Союз.
На лужайке посольства оркестр заиграл танцевальные мелодии, и партийные руководители, среди которых были председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев и заместитель председателя Совета министров Анастас Микоян, побуждаемые Хрущевым, пустились в пляс. Дипломаты и видные советские деятели поддерживали танцоров, хлопая в ладоши. Среди танцоров был премьер-министр Лаоса принц Суванна Фума.
Сукарно пригласил на танец жену Хрущева Нину. Возбуждение Хрущева, не отпускавшее его после Венского саммита, заразило всех присутствующих. В какой-то момент советский лидер, взяв в руки дирижерскую палочку, стал размахивать ею перед оркестром; весь вечер он шутил и рассказывал анекдоты. Когда Сукарно сказал, что хотел бы получить новую ссуду, советский лидер вывернул карманы и показал, что они пустые.
«Видите, он все у меня отнял», – сказал Хрущев под смех гостей. Глядя на танцующего Микояна, Хрущев пошутил, что его второй номер только потому остается на своей должности, что Центральный комитет партии постановил, что он прекрасный танцор. Никто не видел Хрущева столь беззаботным со времен венгерского восстания 1956 года и попытки переворота 1957 года.
Когда Сукарно сказал, что хочет поцеловать симпатичную девушку, жена Хрущева с трудом уговорила девушку, муж которой поначалу был категорически против.
«О, пожалуйста, поцелуйте его только один раз», – попросила Нина.
Молодая женщина уступила ее просьбе и поцеловала Сукарно.
Однако самым памятным был момент, когда Сукарно вытащил танцевать Хрущева. Сначала они танцевали, взявшись за руки, а затем находившийся в приподнятом настроении Хрущев исполнил сольный танец. Он утверждал, что танцует как «корова на льду».
Однако Хрущев вдруг пошел вприсядку и начал выбивать такт каблуками. Грузный советский лидер оказался удивительно подвижным.
Глава 12. Грозовое лето
Строители в столице ГДР занимаются в основном возведением жилых домов и работают с полной нагрузкой. Никто не собирается возводить стену.
Вальтер Ульбрихт на пресс-конференции 15 июня 1961 годаТак или иначе, он справляется с обязанностями президента.
Дин Ачесон в письме президенту Трумэну о своей работе по Берлину для президента Кеннеди, 24 июня 1961 годаПроблема Берлина, которую теперь Хрущев превращает в кризис… больше чем проблема этого города. Она намного шире и глубже даже, чем германский вопрос в целом. Это разрешение проблемы между США и СССР, в результате чего станет ясно, будет ли Европа – а фактически мир – доверять Соединенным Штатам.
Дин Ачесон, из доклада по Берлину для президента Кеннеди, 29 июня 1961 годаДом министерств, Восточный Берлин
Четверг, 15 июня 1961 года
Решение Вальтера Ульбрихта созвать журналистов, находящихся в Западном Берлине, на пресс-конференцию на его коммунистической стороне границе было столь беспрецедентным, что даже помощники Ульбрихта не знали, как сообщить об этом журналистам.
Проблема заключалась в том, что в 1952 году по приказу Ульбрихта были разорваны телефонные коммуникации между Восточным и Западным Берлином. В результате через границу была отправлена специальная группа, снабженная западногерманскими монетами по десять пфеннигов и списками журналистов. Они обзванивали из городских телефонных будок указанных в списке журналистов и делали сообщение в телеграфном стиле: «Пресс-конференция. Председатель Государственного совета ГДР Ульбрихт. Дом министерств. В четверг. Одиннадцать часов. Вы приглашены».
Спустя три дня около трехсот журналистов – журналистов с той и другой стороны было примерно поровну – заполнили огромный зал, в котором когда-то Герман Геринг устраивал приемы для офицеров министерства авиации Третьего рейха. В глубине стены, там, где раньше размещался нацистский орел и свастика, победно возвышались огромный молот и циркуль [53], национальная эмблема Восточной Германии.
К моменту появления Ульбрихта в зале уже было невыносимо жарко и душно: день был жаркий, в помещение набилось слишком много людей, вентиляция едва работала. Вместе с Ульбрихтом в зал вошел Герхард Эйслер, глава информационного агентства Восточной Германии. Известный журналистам как восточногерманский Геббельс, он рассматривал толпу маленькими глазками через толстые стекла бифокальных очков. Обвиненный в антиамериканской деятельности, признанный советским шпионом, Эйслер в 1950 году бежал из США на польском корабле «Баторий». Западным журналистам было хорошо известно, кто такой Эйслер.
Радиожурналист Норман Гельб погрузился в атмосферу, царившую в зале. Он никогда не видел Ульбрихта так близко и задавался вопросом, как этот невысокий, скромный, молчаливый человек с визгливым голосом, в очках без оправы сумел выдержать борьбу за власть. Хотя аккуратно подстриженная козлиная бородка придавала ему некоторое сходство с Лениным, Гельб считал, что Ульбрихт больше напоминает стареющего конторского служащего, чем диктатора.
Длинная вступительная речь Ульбрихта, рассчитанная по времени таким образом, чтобы совпасть с обнародованием в Москве отчета Хрущева о поездке в Вену, разочаровала журналистов, ожидавших что-то вроде исторической сенсации. С какой целью Ульбрихт решил собрать журналистов, стало ясно только после того, как ему начали задавать вопросы, на которые он отвечал долго и нудно.
Журналисты дружно застрочили в блокнотах, когда Ульбрихт заявил, что статус Западного Берлина резко изменится после того, как Восточная Германия подпишет мирный договор с Советским Союзом, с согласия или без согласия Запада. Берлин будет «свободным городом», сказал он, и «само собой разумеется, что так называемые лагеря беженцев в Западном Берлине закроются и те, кто занимался торговлей людьми, покинут Берлин». Кроме того, продолжил Ульбрихт, это означает, что закроются американские, британские, французские и западногерманские «шпионские центры», действовавшие в Западном Берлине. Он объяснил, что после подписания договора выехать из Восточной Германии можно будет только по специальному разрешению, полученному в министерстве внутренних дел.
Аннемари Дохерр, корреспондент леволиберальной газеты Frankfurter Rundschau, потребовала, чтобы Ульбрихт более подробно остановился на этом вопросе. Она попросила ответить, как Ульбрихт собирается установить контроль над выездом с учетом открытой границы. «Господин председатель, – сказала она, – вы собираетесь создать «свободный город», как вы его называете. Означает ли это, что у Потсдамских ворот будет проведена государственная граница?» Она хотела понять, претворяя в жизнь свой план, учитывал ли он «все последствия», включая возможность войны.
Ничто не дрогнуло в лице Ульбрихта, глаза остались такими же холодными. Он ответил бесстрастным голосом: «Я ваш вопрос понял так, что в Западной Германии есть люди, желающие, чтобы мы мобилизовали строителей, работающих в столице ГДР, на возведение стены». Он сделал многозначительную паузу, глядя с трибуны на невысокую, полную фрау Дохерр, а затем продолжил: «Мне ничего не известно о подобных намерениях. Строители в столице ГДР занимаются в основном возведением жилых домов и работают с полной нагрузкой. Никто не собирается возводить стену».
Ульбрихт впервые публично произнес слово «стена», хотя журналистка не говорила ни о какой стене. Он раскрыл свои планы, но никто из представителей СМИ, присутствовавших на пресс-конференции, не упомянул об этом в своих статьях; заявление восточногерманского лидера прошло фактически незамеченным.
В этот же день в шесть часов вечера восточные немцы смогли посмотреть по государственному телевидению выступление Хрущева по результатам венской встречи. Советский лидер прямо объявил: «Мы больше не можем откладывать мирный договор с Германией». В восемь вечера, следом за выступлением советского лидера, была показана отредактированная пресс-конференция Ульбрихта.
Последовала немедленная реакция. Несмотря на ужесточение контроля на границе, на следующий день было зафиксировано рекордное число беженцев. После выступления Ульбрихта паника распространилась по Восточной Германии; слово Torschlusspanik («страх опоздать») – страх, что двери закроются, прежде чем через них удастся пройти, – как нельзя лучше описывало настроение восточных немцев.
По мнению некоторых комментаторов, увеличение числа беженцев свидетельствовало о том, что Ульбрихт неверно оценил возможные последствия пресс-конференции. Несмотря на публично продемонстрированную решимость Хрущева в отношении Берлина, Ульбрихт понимал, что советский лидер не имеет четкого сценария последующих действий.
В отличие от Хрущева Ульбрихт тщательно продумывал каждый шаг. После сделанных заявлений он не мог позволить Хрущеву бездействовать.
Ульбрихт был полон решимости сохранять взятый в Вене темп наступления.
Белый дом, Вашингтон, округ Колумбия
Пятница, 16 июня 1961 года
Дин Ачесон был польщен и немного удивлен, когда после его критики в адрес действий Кеннеди в заливе Свиней президент вновь обратился к нему за советом. Насколько просты были вопросы президента, настолько же сложно было ответить на них. Как вести себя с Хрущевым после предъявления венского ультиматума? Насколько серьезно следует воспринимать угрозу советского лидера в отношении Берлина и какими должны быть его действия?
Отношение Ачесона к Кеннеди становилось все более и более сложным. Они познакомились в конце 1950-х, и в то время еще сенатор Кеннеди иногда после совещаний на Капитолийском холме подвозил домой Ачесона, который тоже жил в Джорджтауне. Молодой Кеннеди не знал, как сильно ненавидит Ачесон его отца не только за поддержку изоляционизма [54] во внешней политике, но и за то, что свое богатство старший Кеннеди, по мнению Ачесона, добыл нечестным путем. Ачесон считал, что с помощью этих добытых нечестным путем денег он купил для своего сына Белый дом.
А вот для президента Кеннеди Ачесон был, скорее всего, человеком, способным давать ясные ответы на срочные вопросы. В тот день Ачесон сравнил свою работу с пробиванием сквозь мешанину решений, принимаемых Interdepartmental Coordinating Group on Berlin Contingency Planning (Межведомственная координационная группа по Берлину по планированию на случай непредвиденных ситуаций), более известной как Берлинская целевая группа. Ачесон заверил собравшихся, что его цель «состоит не в том, чтобы вмешиваться в какую-либо текущую операцию, а продумывать будущие шаги».
Он сказал, что целевая группа должна понимать буквально угрозы Хрущева, произнесенные в Вене, и, таким образом, их планирование на случай непредвиденных ситуаций в Берлине из теоретической задачи превратится в практическую. Пора принимать решения, отметил он. Слишком велика цена бездействия. Хрущев все больше утверждается во мнении о слабости США, и есть опасность, что не удастся заставить убедить его в обратном. От решения берлинской проблемы зависит «престиж Соединенных Штатов и, возможно, даже существование».
Ачесон сказал, что вопрос заключается в том, есть ли у них политическая воля, чтобы принять трудные решения «независимо от мнения наших союзников». Хрущев, пояснил Ачесон, «сейчас готов сделать то, что не был готов делать раньше, исключительно потому, что считает, что Соединенные Штаты не станут использовать ядерное оружие».
Если Соединенные Штаты не захотят этого делать, продолжил Ачесон, они не смогут сопротивляться атакам русских. Ачесон без особого интереса выслушал мнения присутствующих. Ему предстояло убедить их разделить его взгляды. По его мнению, правительство Кеннеди вступало в наихудший период истории. Чем сильнее Хрущев сомневался в готовности Соединенных Штатов использовать ядерное оружие, тем сильнее советскому лидеру хотелось проверить Кеннеди, и в этом случае у президента не оставалось иного выбора, как применить ядерное оружие. «Не следует рассматривать ядерное оружие как последнее и самое мощное средство устрашения и в качестве первого шага перейти к новой политике защиты Соединенных Штатов, отказавшись от политики сдерживания», – сказал Ачесон.
Многие противники жесткой политики Ачесона в Демократической партии и высшие чиновники, собравшиеся на совещание, склонились на его сторону. Ачесон объяснил, что теперь бездействие по Берлину отзовется далеко за пределами города, подвергнув опасности интересы Соединенных Штатов в мире. Берлин имеет жизненно важное значение для сохранения Соединенными Штатами господствующих позиций, объяснил Ачесон. Вывод войск лишит нас этих позиций. Таким образом, сказал он, «нам следует действовать так, чтобы не вызвать серию поражений и не ввергнуть себя в окончательную катастрофу».
Ачесон в общих чертах обрисовал то, что собирался предложить президенту Кеннеди. Отнестись с большим вниманием к подготовке резервистов; провести летние учения не формально, как обычно, а таким образом, чтобы привести резервистов в состояние боевой готовности. Он предложил направить в Европу «подразделения армейского корпуса стратегического резерва, провести там учения, а после учений оставить часть подразделений для усиления союзнических сил на границе». Ачесон хотел, чтобы Соединенные Штаты возобновили проведение ядерных испытаний и в нарушение обещания, данного Кеннеди Хрущеву, возобновили разведывательные полеты, которые в свое время привели к взятию в плен летчиков U-2 и RB-47 и ухудшению американо-советских отношений.
Выступление Ачесона потрясло присутствующих. Ачесон предлагал не что иное, как полную военную мобилизацию, то есть переход страны на военные рельсы. В любом случае они были свидетелями исторического поворотного момента в конфронтации с Москвой по Берлину.
Ачесон продолжил в том же духе. Он предложил значительно увеличить военный бюджет и объявить в стране чрезвычайное положение, чтобы американцы прониклись важностью момента. Для этого, конечно, требовалось психологически подготовить американский народ и конгресс. Ачесон предложил программу строительства бомбоубежищ как способ побудить население к действию.
Он хотел, чтобы в состояние боевой готовности был приведен флот Стратегического командования ВВС США. Если ни одно из предложенных мероприятий не произведет впечатления на Советы, тогда, считал Ачесон, надо усилить проверку контрольно-пропускных пунктов, увеличить интенсивность движения на дорогах; «переброска военной техники будет указывать на возможное использование тактического, а затем и стратегического ядерного оружия».
Ачесон предполагал, что союзники, особенно британцы, будут против. «Было бы важно добиться согласия наших союзников, – сказал Ачесон, – но мы должны быть готовы действовать самостоятельно». Ачесон был уверен, что его друг Аденауэр поддержит его план, и это было крайне важно, поскольку наибольшей опасности подвергались войска и интересы Германии. «Мы должны быть готовы идти до конца, если немцы согласятся с нами», – сказал Ачесон.
Хотя присутствующие на заседании не знали, насколько доверительными были отношения между Ачесоном и Кеннеди, ни у кого не вызывало сомнений, что Ачесон отражал испытываемое президентом растущее чувство безотлагательности. Президент приходил в отчаяние от того, каким вялым был процесс принятия решений в Государственном департаменте, который он сравнивал с размазыванием каши по тарелке, а Пентагон зачастую тратил дни и недели на то, чтобы ответить на его вопросы. Кеннеди хотел иметь в своем распоряжении аппарат, способный в считаные минуты решать вопросы, от которых зависели жизни миллионов людей.
Ачесон дал группе всего две недели на изучение своего плана. Он сказал, что через две недели должно быть принято решение, а затем начнется реализация его предложений. Оглядев удивленные лица собравшихся, Ачесон сказал, что понимает, насколько опасным является предложенный им курс, но он не безрассудный, если американское правительство действительно подготовится к тому, чтобы применить ядерное оружие для защиты Берлина. «Если мы не готовы идти до конца, то не стоит и начинать. Если мы начнем, то отступать будет уже невозможно. Если мы не готовы рисковать, то тогда должны попытаться уменьшить пагубные последствия отказа выполнить взятые на себя обязательства».
После того как Ачесон закончил свое выступление, в комнате повисла тишина. Ачесон знал, что те, кто вершит политику в Вашингтоне, полны решимости следовать именно этим курсом и никто из высших советников Кеннеди по внешней политике не высказал мнения, идущего вразрез с предложенным им курсом. Сотрудник Государственного департамента Фой Колер, союзник Ачесона и председатель собрания, нарушил молчание, сказав, что полностью поддерживает Ачесона. Однако, добавил он, Британия против предложения Ачесона относительно демонстративной отправки войск на автостраду для того, чтобы помешать коммунистам ограничить доступ в Берлин; Макмиллан утверждал, что Советы их «уничтожат».
Пол Нитце добавил, что сэр Эвелин Шакбург, глава британского отдела стратегического планирования по Берлину и Германии, сказал, что «важно до смерти не испугать народ нашим развертыванием сил».
Если союзники по НАТО против действий по защите Берлина, ответил Ачесон, Соединенные Штаты должны знать об этом. «Нам следует действовать, не спрашивая их, если они боятся, что мы скажем русским: «Фу!» Мы шикнем на них и посмотрим, как далеко они убегут».
«Нам не следует загонять Хрущева в угол», – высказал свое мнение посол Томпсон, противник Ачесона, прилетевший из Москвы на это совещание. Русские не должны знать, что США обособились от союзников, «наверное, лучше сначала договориться с британскими лидерами, а потом уже говорить «Фу!».
Ачесон ответил, что плохо представляет себе, как убедить Хрущева, что они настроены серьезно, но дать понять британцам, что это не так.
Томпсон, в отличие от Ачесона, был убежден, что советский лидер не стремится к военной конфронтации и постарается сделать все, чтобы избежать ее. Он считал, что куда эффективнее будет более сдержанная позиция, что не стоит провоцировать Хрущева, поскольку это может привести к войне, которую Соединенные Штаты тоже надеются избежать.
Нитце возразил, что едва ли подобная политика может быть эффективной. Трудно будет заниматься планированием на случай непредвиденных ситуаций, сказал он, не проявляя инициативы, которая требуется в связи с заявленной президентом непримиримой позицией.
Ачесон прервал его, заметив, что они в состоянии избежать особого шума, поскольку конгресс, возможно, удастся убедить согласиться с большинством мероприятий, основываясь на существующем чрезвычайном законодательстве.
Ачесон, казалось, продумал все.
На вопрос об отведенном президентом времени Ачесон ответил, что решение должно быть передано государственному секретарю и министру обороны к концу следующей недели. На все дается максимум десять дней. Ачесон обозначил предельный срок, и все дружно согласились с ним.
Нитце сказал, что рабочая группа через три дня приступит к работе, которая будет заключаться в перечислении всех необходимых шагов в отношении Берлина. Таким образом, к 26 июня будет готов полный перечень рекомендаций по военным акциям.
Для правительства это были неслыханно высокие темпы работы.
Кремль, Москва
Среда, 21 июня 1961 года
На собрании, посвященном двадцатой годовщине начала войны с Гитлером, закончившейся его поражением, Хрущев появился в форме генерал-лейтенанта, увешанный наградами. Во время Второй мировой войны он был членом военного совета Сталинградского фронта и не носил военной формы. С тех пор он располнел, и форма была ему мала.
В московских кинотеатрах как раз начался показ документального фильма о жизни Хрущева, героя войны и политика, под названием «Наш Никита Сергеевич». Газета «Известия» опубликовала статью об этом фильме, в которой, в частности, говорилось: «Всегда и во всем вместе с народом, в гуще событий – таким знают советские люди Никиту Сергеевича Хрущева».
Перед телекамерами космонавт Юрий Гагарин назвал Хрущева «первооткрывателем космической эры». Советский лидер был награжден орденом Ленина и третьей золотой медалью «Серп и Молот» «за выдающиеся заслуги в руководстве по созданию и развитию ракетной промышленности, науки и техники и успешном осуществлении первого в мире космического полета советского человека на корабле-спутнике «Восток», открывшего новую эру в освоении космоса». Хрущев наградил семь тысяч человек, принимавших участие в осуществлении первого полета человека в космос. Стремясь объединить союзников и соперников, Хрущев вручил ордена Ленина «за заслуги в развитии ракетной техники и обеспечение успешного полета советского человека в космическое пространство на корабле-спутнике «Восток» своему союзнику Леониду Брежневу и потенциальному противнику на октябрьском съезде партии Фролу Козлову. Прежде чем предпринять шаги по Берлину, Хрущев, будучи умелым и хитрым политиком, защищал свои фланги.
Хрущев преподнес отказ Запада пойти на компромисс по Берлину как угрозу не только Москве, но и всему коммунистическому миру. Запад, как нацисты двадцатью годами ранее, сказал он, потерпит поражение от вооруженных сил Советского Союза и социалистического лагеря.
Один за другим герои Советского Союза и командующие восхваляли Хрущева за руководство страной и предупреждали об опасности в связи с Берлином. Маршал Василий Чуйков, главнокомандующий сухопутными войсками, объяснил, что «историческая правда в том, что при взятии Берлина не было ни одного американского, британского и французского вооруженного солдата, а только военнопленные, которых мы освободили». Таким образом, сказал он, требования союзников относительно особых прав в Берлине на протяжении такого длительного времени после капитуляции «полностью необоснованны».
Его выступление было встречено аплодисментами. Народ торжествовал.
Генерал Андрей Сабуров, бывший командир партизанского соединения на Украине, свидетельствовал, что Хрущев – талантливый военный стратег, способный в исторический момент оценить главного врага и указать, как следует действовать для достижения намеченной цели. В своем выступлении министр обороны Родион Малиновский подчеркнул, что американцы и их союзники создали «гигантский военный аппарат и систему агрессивных союзов и блоков вблизи советских границ. Они запасают ядерное оружие и ракеты и создают напряженность в Алжире, Конго, Лаосе и на Кубе, сказал Малиновский. «Ослепленные классовой ненавистью», заявил маршал Советского Союза, они проводят ту же политику, которая привела ко Второй мировой войне.
Хрущев назвал причины, объясняющие его политику в отношении Берлина. Американцы – самый опасный враг Москвы. Берлин – поле боя, которое будет очищено. В этот исторический момент Хрущев, герой прошлого и настоящего, возглавит социалистов всего мира. Это был одновременно боевой клич и сообщение о кампании в преддверии октябрьского съезда партии. Будущее Берлина и Хрущева было неразрывно связано.
Затем Хрущев отблагодарил вооруженные силы за оказанную поддержку. С середины 1950-х годов он сократил оборонный бюджет и численность армии, переадресовав ресурсы обычных вооруженных сил ракетным войскам. Теперь он полностью изменил политику, заявив об обеспечении всех видов войск новым оружием и увеличении расходов для оказания равной помощи «всем родам наших вооруженных сил», поскольку у них «должно быть все необходимое, чтобы немедленно разбить любого противника… ради свободы нашей Родины».
Народ бурно приветствовал своего лидера.
Вашингтон, округ Колумбия
Суббота, 24 июня 1961 года
Закончив отчет по Берлину, Дин Ачесон написал короткое личное письмо бывшему боссу, президенту Гарри Трумэну, относительно своего нынешнего босса. Кеннеди «взволновал и озадачил» его, сообщил Ачесон Трумэну. «Так или иначе, он справляется с обязанностями президента».
Спустя четыре дня, 28 июня, Ачесон представил на рассмотрение Кеннеди предварительный вариант плана по Берлину, когда президент был занят подготовкой к пресс-конференции, которая должна была состояться в этот день, и к решающей встрече с членами Совета по национальной безопасности, назначенной на следующий день.
Тринадцатая пресс-конференция за шесть месяцев президентства Кеннеди была результатом усиливающегося давления со стороны общественности и средств массовой информации. Нежелание президента на протяжении большей части июня обсуждать берлинский вопрос дало повод общественности и Пентагону, готовым противостоять Хрущеву, сделать вывод, что президент не испытывает уверенности в этом вопросе. 7 июля в журнале «Тайм», самом популярном американском еженедельнике, появилась статья, в которой говорилось, что создается ощущение, будто «правительство еще не обладает достаточным умением, чтобы повести за собой Соединенные Штаты по путям холодной войны». Статья призывала Кеннеди «уверенно и смело» взяться за решение берлинской проблемы.
Кеннеди выразил недовольство подобными статьями своему пресс-секретарю Пьеру Сэлинджеру. «Надо положить конец этому вздору», – сказал он. Но более всего президента раздражали нападки Никсона: «Никогда еще в американской истории не было человека, который бы говорил так много, а делал так мало».
Как часто случалось в период его президентства, риторика Кеннеди на пресс-конференциях была более жесткой, чем проводимая им политика. «Никто не в состоянии оценить серьезность этой угрозы. Она затрагивает спокойствие и безопасность западного мира», – сказал Кеннеди. Он заявил, что не рассматривал предложение по военной мобилизации, а будет рассматривать «весь спектр предложенных мер». Президент не обманул только в одном: на следующий день он должен был обсуждать с Ачесоном план действий на случай возникновения непредвиденных обстоятельств.
Кабинет, Белый дом, Вашингтон, округ Колумбия
Четверг, 29 июня 1961 года
Первые три абзаца отчета Ачесона по Берлину содержали откровенный призыв к действию.
Проблема Берлина, которую теперь Хрущев стремится перевести в кризис, по его словам, к концу 1961 года, больше чем проблема этого города. Она намного шире и глубже даже чем германский вопрос в целом. Это конфликт между США и СССР, и по тому, как разрешится этот конфликт, станет ясно, будет ли Европа – а фактически мир – доверять Соединенным Штатам. Можно сказать, что Соединенные Штаты находятся в критическом положении.
Пока остается этот конфликт, попытка решить берлинский вопрос путем переговоров будет пустой тратой времени и сил. Это опасно по той причине, что результат переговоров зависит от настроения Хрущева и его коллег.
В настоящее время Хрущев показал, что, по его мнению, он добьется своего, поскольку Соединенные Штаты и их союзники не станут ничего делать, чтобы остановить его. Его нельзя убедить с помощью красноречия и логики и уговорить с помощью лести. Как пишет сэр Уильям Хейтер (бывший посол Великобритании в России), «единственный способ изменить намерения русских заключается в том, чтобы показать… что то, что они собираются сделать, не представляется возможным».
Далее Ачесон коротко изложил свои соображения. Берлин является проблемой только потому, что Советы решили сделать из него проблему. Для этого у них есть несколько причин: они хотят нейтрализовать Берлин, чтобы затем захватить его; ослабить и разрушить западный альянс: они хотят дискредитировать Соединенные Штаты. «На самом деле Хрущев вероломный опекун и поджигатель войны, и эту мысль следует довести до сознания каждого».
Ачесон преследовал цель изменить взгляды Хрущева, убедить его, что ответ Кеннеди на любое действие в Берлине будет настолько решительным, что Хрущеву не стоит рисковать. Ачесон хотел, чтобы президент объявил в стране чрезвычайное положение и отдал приказ о срочном наращивании ядерной и обычной военной мощи Соединенных Штатов. По его мнению, было необходимо в срочном порядке направить в Германию для усиления две-три дивизии. Если кто-то и должен уходить из Берлина, то безусловно Советы.
В отчете Ачесон перечислил три «основных момента», которые в случае, если будут нарушены, приведут к военному конфликту. Советы не могут угрожать гарнизонам Запада в Берлине, не могут закрывать доступ, воздушный и наземный, к городу и не могут угрожать жизнеспособности Западного Берлина и свободного мира. Ачесон подчеркнул, что ответом на любое запрещение доступа должен быть воздушный мост по типу моста 1948 года. Если Советы более эффективно, чем прошлый раз, заблокируют доступ к городу по воздуху, учитывая их возросшую военную мощь, то Кеннеди должен отправить две американские бронетанковые дивизии на автостраду, чтобы заставить открыть доступ к Западному Берлину.
Ачесон бросил вызов, но Кеннеди пока еще не был готов принять его. На совещании президент в основном молчал. Он сомневался, что американский народ готов к курсу, предлагаемому Ачесоном. Союзники хотят этого еще меньше. У де Голля проблемы в Алжире, а Макмиллану, как было известно Кеннеди, не нравится решение относительно штурмующих автостраду войск.
Томпсон привел аргументы против плана. Он не согласился с Ачесоном, что Хрущевым двигало желание оскорбить Соединенные Штаты, и сказал, что советский лидер хочет усилить свой восточноевропейский фланг. Он считал, что Западу не стоит особенно спешить с наращиванием военной мощи и после сентябрьских выборов в Западной Германии следовало выйти с инициативой относительно переговоров по Берлину. Томпсон был уверен, что если Кеннеди объявит в стране чрезвычайное положение, то покажет себя «истериком» и вполне может спровоцировать Хрущева пойти на опрометчивый шаг.
Адмирал Арли Берк, начальник штаба ВМС США, тоже выступил против плана Ачесона. Ветеран был против масштабного военного «зондирования», предложенного Ачесоном. Берк знал о нежелании Кеннеди оказывать военную помощь во время операции на Кубе и не собирался совать голову в петлю, выполняя берлинский план Ачесона.
Кеннеди видел, что его правительство разделилось на два лагеря. Одни, известные как сторонники жесткой линии, и другие, которых присутствующие на совещании «ястребы» пренебрежительно именовали «слюнтяями» (акроним SLOBs – в переводе с английского «недотепы, слюнтяи» от softliner on Berlin – сторонники «мягкой политики по Берлину») или сторонниками «мягкой» линии по Берлину, противниками применения силы при решении конфликтов. Среди противников компромиссов были Ачесон и заместитель государственного секретаря Фой Колер, весь германский отдел, заместитель министра обороны Пол Нитце, большинство из Объединенного комитета начальников штабов и вице-президент Линдон Джонсон.
Сторонникам мягкой политики не понравился акроним. Они увидели в этом попытку подвергнуть сомнению их готовность найти решение берлинского вопроса путем переговоров, несмотря на то что они поддерживали жесткость в отношении Советов и незначительное наращивание военной мощи. В состав этой группы входили люди, имевшие более тесные отношения с Кеннеди: посол Томпсон, советник по советским делам Чарльз Болен, специальный помощник президента Артур Шлезингер, консультант Белого дома и преподаватель Гарварда Генри Киссинджер и ближайший помощник президента Тед Соренсен. В эту группу входили также министр обороны Роберт Макнамара и советник президента по вопросам национальной безопасности Макджордж Банди.
Однако у Ачесона был детально разработанный план, в котором четко определялось место и действия всех участников процесса, вплоть до последнего солдата. У сторонников мягкой политики не было альтернативы.
После совещания Шлезингер вступил в идеологическую борьбу с Ачесоном. Сорокатрехлетний историк трижды принимал участие в президентской кампании Эдлая Стивенсона, прежде чем стал работать с Кеннеди. Он считал, что для достижения благородных целей генераторы идей должны сотрудничать с сильными мира сего. Он приводил примеры из истории, когда интеллектуалы своего времени – Тюрго, Вольтер, Струэнзе, Бенджамин Франклин, Джон Адамс, Томас Джефферсон – «считали сотрудничество с властью в порядке вещей». Шлезингер обратился к советнику по правовым вопросам Абрахаму Чейесу с предложением начать работу над альтернативным планом.
Ачесон предупредил своего давнего друга Чейеса, что рассматривал более мягкие варианты и они не сработают. «Эйб, вы, конечно, можете попробовать, но увидите, что у вас ничего не выйдет».
Пицунда
Начало июля 1961 года
Со своей черноморской дачи расстроенный Хрущев потребовал прислать лучшую карту Берлина.
Его посол в Восточной Германии Михаил Первухин прислал «детальную карту Берлина с нанесением границы секторов», чтобы можно было понять, прав ли Ульбрихт, считающий, что можно разумно разделить город. В некоторых частях Берлина разделительная линия проходила по центру улицы. В других местах граница проходила по домам и каналам. Хрущев, внимательно изучив карту, увидел, что «одна сторона улицы находится в одном секторе, а вторая – в другом. Просто перешел улицу, а оказалось, что пересек границу». Это ему очень не понравилось.
В письме от 4 июля Первухин сообщил министру иностранных дел Андрею Громыко, что закрытие городской границы обернется кошмаром, поскольку примерно двести пятьдесят тысяч берлинцев ежедневно пересекают границу на поездах, машинах и пешком. «Потребуется на всем протяжении границы установить большое количество полицейских постов», – сообщил Первухин. Кроме того, он высказал мнение, что закрытие границы «так или иначе» приведет к «обострению политической ситуации». Первухин опасался отрицательной реакции на подобные действия, считая, что в этом случае есть большая вероятность экономической блокады со стороны Запада.
Ульбрихт давно преодолел всяческие сомнения и к концу июня разработал вместе с членом национального совета обороны Эриком Хонеккером подробный план закрытия границы. Ульбрихт привез советского посла Первухина и Юлия Квицинского, молодого, приобретающего известность дипломата, исполнявшего роль переводчика, к себе домой, чтобы привести самые неотразимые доводы в защиту своей точки зрения. Ситуация в ГДР явно ухудшается, сказал он Первухину, «в скором времени она приведет к взрыву». Ульбрихт попросил Первухина передать Хрущеву, что крах ГДР «неизбежен», если Советы будут бездействовать.
Сын Хрущева Сергей был поражен тем, что после встречи в Вене отец «постоянно возвращался к мыслям о Германии». В то же время советский лидер утратил интерес к мирному договору с Восточной Германией. С 1958 года он настаивал на подписании договора и теперь пришел к выводу, что это не поможет решить самую насущную проблему – проблему беженцев.
Кеннеди действительно был не слишком озабочен тем, подпишет или нет Хрущев договор с восточными немцами. Тот факт, что Соединенные Штаты и их союзники не придали значения этому документу, заставило Хрущева подвергнуть сомнению его значимость. Хотя Ульбрихт продолжал настаивать на подписании мирного договора, Хрущев пришел к выводу, что первым на повестке дня должен стоять вопрос о необходимости срочно «заделать все дыры» между Восточным и Западным Берлином, а не о подписании мирного договора.
Хрущев сказал сыну, что, «если захлопнется дверь, ведущая на Запад, люди перестанут метаться, начнут работать, экономика двинется в гору и недалек тот час, когда уже западные немцы начнут проситься в ГДР. Тогда уже ничто не сможет помешать подписать мирный договор с двумя германскими государствами».
Однако в данный момент Хрущева больше всего интересовала карта. Когда после Второй мировой войны четыре державы разделили город на четыре сектора, никто не допускал мысли, что когда-нибудь эти разделительные линии могут превратиться в непроходимую границу. «История создала эти неудобства, и мы вынуждены с этим жить», – напишет Хрущев через несколько лет.
Хрущев был недоволен картой, которую ему прислал Первухин, поскольку «карта оказалась неясной. Я подумал, что ему самому трудно найти нужную, и попросил обратиться от моего имени к Ульбрихту». Одновременно Хрущев обратился к Ивану Якубовскому, главнокомандующему группой советских войск в Германии, «с той же просьбой – прислать карту, но военно-топографическую».
Затем Хрущев попросил Первухина рассказать о его плане Ульбрихту. В своих воспоминаниях Хрущев пишет, что «Ульбрихт, узнав от Первухина о моем плане, просиял и в восторге сказал: «Я полностью за! Вот настоящая помощь!»
Ульбрихт уже давно обдумывал вопрос закрытия границы.
А далеко от Германии, в Майами-Бич, восточногерманская беженка напоминала миру о проблеме беженцев в Восточной Германии – Ульбрихт, возможно, хотел как можно скорее закрыть границу еще и по этой причине.
Марлен Шмидт, самая красивая беженка Вселенной
Она окончательно унизила Ульбрихта.
Когда Вальтер Ульбрихт тайно добивался закрытия границы в Берлине, одна из его беженцев гордо шла по подиуму в Майами-Бич в сверкающей короне мисс Вселенной. В вспышках камер самая трудная проблема Ульбрихта приобрела безошибочную форму той, кого судьи назвали «самой красивой женщиной в мире».
Двадцатичетырехлетняя Марлен Шмидт была умной, улыбчивой, немного застенчивой, высокой блондинкой. Западногерманский журнал «Шпигель» описал ее как боттичеллевскую женщину с умом инженера-электрика. Но самым большим успехом пользовалась история ее удивительного побега на свободу, которая обошла все газеты мира.
Прошел всего год, как Марлен сбежала из Йены, восточногерманского промышленного города, практически полностью разрушенного в результате бомбардировки союзников во время Второй мировой войны. Отстроенный после войны город представлял собой ряды бесцветных, однообразных блочных домов. Хотя новый дом Марлен в Штутгарте находился всего в двухстах двадцати милях от Йены, это был другой мир.
Большая часть Штутгарта тоже была разрушена в результате англо-американских воздушных бомбардировок; автомобильный концерн был превращен в груду развалин.
Однако западногерманское экономическое чудо превратило Штутгарт в цветущий город подъемных кранов, новых автомобилей, город, устремленный в будущее, – в результате экономического подъема Штутгарт стал третьим по величине экспортером в мире.
Спустя всего несколько недель после переезда в Штутгарт Марлен, узнав из объявления в местной газете о конкурсе «Мисс земля Баден-Вюртемберг», за победу в котором полагался французский автомобиль «рено», приняла в нем участие. После победы в национальном конкурсе, проходившем в модном курортном городе Баден-Баден, где она завоевала титул «Мисс Германия», Марлен одержала победу во Флориде над сорока восемью участницами из разных стран мира и стала первой и единственной немецкой мисс Вселенная.
Журнал «Тайм» не мог отказать себе в удовольствии поиздеваться над коммунистами, позволившими Марлен убежать из страны. «Даже с учетом давки на границе, трудно понять, как восточногерманские пограничники могли не заметить изящную фигуру Марлен, рост которой пять футов восемь дюймов (172 сантиметра)… На Западе такого бы не случилось».
Марлен была героиней красочного театрализованного представления, организованного кинокомпанией «Парамаунт пикчерз»; в роли ведущих выступали Джон Карсон и Джейн Медоуз. Передачу смотрели десятки тысяч восточных немцев; тысячи антенн, установленных на крышах, позволяли большей части страны ловить телевизионный сигнал Западной Германии. Они смотрели, затаив дыхание, стараясь запомнить каждую мелочь.
Марлен, которая, работая инженером в Штутгартской исследовательской лаборатории, получала 53 доллара в неделю, волнуясь, говорила о том, что за победу в конкурсе получила 5 тысяч долларов, норковую шубу стоимостью 5 тысяч долларов, полный гардероб и контракт на 10 тысяч долларов. Газеты сообщили, что празднование продолжалось до пяти утра. Завтрак победительницы был «в американском стиле»: апельсиновый сок, яичница с беконом, тосты и кофе. «Я немного устала, но так счастлива», – призналась Марлен через переводчика, влюбленного в нее немецкого лингвиста, сопровождавшего Марлен на пресс-конференции, интервью, фотосессии.
Пропагандистский аппарат Ульбрихта был вынужден отреагировать на пристальное внимание всего мира. Стремясь остановить непрекращающийся поток беженцев, восточногерманский лидер все чаще и увереннее говорил о достоинствах социализма и недостатках капитализма; были усилены репрессивные меры, включавшие наказание за соучастие членов семьи беженца; тем, кто соглашался вернуться, обещали рабочие места и жилье.
Однако ничто не могло остановить возрастающий поток беженцев, поскольку ходили упорные слухи, что, возможно, скоро не будет возможности убежать.
Газета «Юнг вельт», центральный орган Союза свободной немецкой молодежи, обвинила американцев в том, что в случае с Марлен они фальсифицировали итоги конкурса, чтобы привлечь внимание к проблеме беженцев в Восточной Германии. В газете с издевкой говорилось о том, как западногерманские СМИ создали «Золушку из советской зоны», которую благородный Запад спас от полуголодного коммунизма. Восточные немцы ценили ее за образованность, говорилось в статье, а «теперь имеют значение только ее бюст, талия и бедра. К ней больше нельзя относиться серьезно».
Когда американские журналисты попросили Марлен прокомментировать эту статью, она спокойно ответила: «Я ожидала чего-то подобного. Думаю, что правительство Восточной Германии чувствует себя неловко, когда миру напоминают о ситуации в Восточной Германии».
История Марлен, за исключением победы на конкурсе красоты, была типична для того времени. Спустя несколько недель после того, как она помогла бежать из ГДР своей матери и сестре, Марлен решила последовать за ними, поскольку узнала, что власти хотят привлечь ее за соучастие в преступлении – Republikflucht – побег из республики. Если бы она предстала перед судом, то согласно уголовному законодательству ГДР была бы осуждена и провела в тюрьме три года.
Победу Марлен в Майами газета «Юнг вельт» назвала одной из мимолетных радостей капитализма, за которой последует трудная жизнь в недружелюбной стране. «Ты будешь царствовать всего лишь год, а потом мир забудет тебя», – говорилось в статье.
В данном случае восточногерманская пропаганда частично доказала свою правоту. В 1962 году Марлен стала третьей из восьми жен американского актера Тая Хардина, исполнителя главной роли в телесериале «Бронко». Спустя четыре года они развелись. В течение одиннадцати лет Марлен работала в киноиндустрии, где была актрисой, продюсером и автором сценариев. «Я поняла, что жизнь в Голливуде не для меня», – сказала она, подумывая о том, чтобы вернуться в Германию и работать инженером в Саарбрюккене.
Когда она покидала Германию, то должна была выбирать между свободой и тюрьмой. После освобождения из тюрьмы она бы уже не имела права работать инженером и влачила жалкое существование. Голливуд не оправдал ее надежд, но побег на Запад был ее спасением.
Марлен Шмидт носила корону меньше месяца, когда Ульбрихт закрыл спасательный люк, через который выбрались она и огромное множество других людей.
Часть третья. Проба сил
Глава 13. «Огромный испытательный полигон»
Непосредственная угроза свободе людей – в Западном Берлине. Но каждая отдельная застава не является отдельной проблемой. Угроза всемирная… теперь, как никогда прежде, Западный Берлин превратился в огромный полигон для испытания мужества и воли Запада, в место, где столкнутся наши обязательства, взятые в 1945 году, и честолюбивые замыслы Советов.
Президент Кеннеди в специальном телевизионном обращении, 25 июля 1961 годаХрущев теряет Восточную Германию. Он не может этого позволить. Потеряв Восточную Германию, Советский Союз лишился бы Польши, да и всей Восточной Европы. Он должен что-то предпринять, чтобы остановить поток беженцев. Может быть, стена? Мы не сможем выступить против. Я могу объединить альянс для защиты Западного Берлина, но не в силах удержать открытым Восточный Берлин.
Президент Кеннеди – заместителю помощника президента по вопросам национальной безопасности Уолту Ростоу, спустя несколько днейVolksKammer (Народная палата) [55], Восточный Берлин
6 июля 1961 года
Михаил Первухин, советский посол в Восточной Германии, приказал своему помощнику Юлию Квицинскому срочно разыскать Ульбрихта. «Мы получили подтверждение из Москвы», – объяснил Первухин.
Двадцатипятилетний Квицинский, восходящая звезда в советском Министерстве иностранных дел, благодаря трезвым суждениям и безупречному немецкому языку сделался незаменимым для Первухина. Он чувствовал исторический момент. Хрущев после тщательного изучения карты Берлина, присланной ему Якубовским, главнокомандующим группой советских войск в Германии, пришел к выводу, что Ульбрихт был прав: Берлин можно будет забаррикадировать.
Несколько лет спустя Хрущев поставил себе в заслугу решение построить Берлинскую стену. «Я был тем, кто придумал решение проблемы, которая стояла перед нами как результат неудовлетворительных переговоров с Кеннеди в Вене». На самом деле Хрущев просто дал добро восточногерманскому лидеру претворить в жизнь то, чего тот добивался с 1952 года, еще при Сталине. Советы помогли доработать план и обеспечить поддержку, гарантирующую успех операции, но решающую роль сыграли непрекращающиеся приставания и жалобы Ульбрихта, и его команда, а не Советы отработала все детали операции.
Позже Хрущев сказал западногерманскому послу в Москве Гансу Кроллю: «Не скрою, это именно я в конечном итоге отдал приказ. Ульбрихт оказывал на меня давление в течение долгого времени, а в последние месяцы с особой горячностью, но я не хочу прятаться за спину Ульбрихта». Советский лидер со смехом сказал послу, что Ульбрихт слишком слаб, чтобы отдавать такие приказы. «Стена когда-нибудь исчезнет, но только тогда, когда исчезнут причины, которые привели к ее строительству».
Хрущев мучительно пытался решить проблему; он понимал, что на кону репутация всей мировой системы социализма. «Что мне делать? – спрашивал себя Хрущев. – Можно легко просчитать, когда рухнет экономика Восточной Германии, если мы ничего не предпримем, чтобы остановить массовый побег. Есть всего два способа решить эту проблему: прервать сообщение по воздуху и построить стену. Первый приведет к серьезному конфликту с Соединенными Штатами, даже, вероятно, к войне. Я не могу и не хочу рисковать. Значит, остается стена». После того как Хрущев сообщил о своем решении в Восточный Берлин, Квицинский отыскал Ульбрихта в Народной палате, где тот присутствовал на заседании однопалатного парламента Восточной Германии.
Первухин сказал Ульбрихту, что Хрущев просил передать согласие на закрытие границы с Западным Берлином и начало практической подготовки этой акции при соблюдении строжайшей секретности. «Операция должна быть проведена быстро и неожиданно для Запада», – сказал Первухин Ульбрихту.
Ульбрихт спокойно в мельчайших подробностях изложил тщательно продуманный план онемевшим от удивления Первухину и Квицинскому.
Единственный способ быстро закрыть границу, сказал Ульбрихт, и достичь по возможности эффекта неожиданности – использовать колючую проволоку и заграждения. Он точно знал, откуда и как доставит в Берлин колючую проволоку, чтобы не вызывать подозрений у западных спецслужб. Непосредственно перед закрытием границы будет остановлено движение поездов метро и надземной железной дороги. Он хотел установить стену из небьющегося стекла на станции Фридрихштрассе, чтобы жители Восточного Берлина не могли садиться на поезда, идущие в Западный Берлин.
Советы не должны недооценивать трудностей, связанных с закрытием границы, сказал Ульбрихт Первухину. Он собирался приступить к закрытию границы ранним воскресным утром, когда движение через границу не такое интенсивное и многих берлинцев нет в городе. Пятьдесят тысяч жителей Восточного Берлина, которые работали в Западном Берлине, так называемые Grenzgдnger («люди, регулярно переходящие через границу»), в выходной день были дома и, естественно, попались в ульбрихтовскую ловушку.
Ульбрихт сказал, что поделится подробностями операции только с несколькими пользующимися особым доверием помощниками: членом Национального совета обороны Эрихом Хонеккером, который будет руководить операцией; министром государственной безопасности Эрихом Мильке; министром внутренних дел Карлом Мароном; министром национальной обороны Хайнцем Гофманом и министром транспорта Эрвином Крамером. Ульбрихт сказал, что поручит своему начальнику охраны ежедневно информировать Первухина и Квицинского о ходе подготовительных работ.
Белый дом, Вашингтон, округ Колумбия
Пятница, 7 июля 1961 года
Спустя всего день после того, как Ульбрихт получил согласие Хрущева приступить к реализации смелого плана, специальный помощник Кеннеди Артур Шлезингер приступил к разработке плана, нацеленного на то, чтобы несколько поубавить излишнюю горячность советника Дина Ачесона.
Шлезингер, в двадцать семь лет получивший Пулитцеровскую премию за книгу «Возраст Джексона», был придворным историком Кеннеди и тоже обдумывал способы улаживания конфликта. Президент неожиданно сосредоточил внимание на Берлине, а это говорило о том, что он считает неудовлетворительным свое участие в подготовке операции в заливе Свиней. Шлезингер был одним из ближайших советников, выступавших против вторжения на Кубу, и теперь упрекал себя за то, что сумел лишь «задать несколько робких вопросов», в то время как военачальники и ЦРУ убеждали Кеннеди одобрить план вторжения на Кубу. Шлезингер ограничился личной запиской: «Одним махом вы уничтожите то невероятное расположение, которое мир стал испытывать к новому правительству».
Шлезингер не собирался дважды повторять одну и ту же ошибку. Он считал план Ачесона таким же безрассудным, как план операции в заливе Свиней. И Шлезингер попросил двух советников, имевших значительное влияние на Кеннеди, принять участие в составлении альтернативного плана. Одним из них был советник по правовым вопросам Абрахам Чейес, тридцатидевятилетний юрист, в 1960 году возглавлявший команду по составлению проекта демократической платформы Кеннеди. Вторым был тридцативосьмилетний советник Белого дома Генри Киссинджер, восходящая звезда, чья книга «Необходимость выбора: перспективы американской внешней политики» оказала влияние на формирование взглядов Кеннеди по ядерным проблемам. Киссинджер поддерживал Нельсона Рокфеллера, губернатора штата Нью-Йорк, и был его советником, когда тот выдвигался кандидатом в президенты от республиканцев в 1960 году, но, действуя через своих гарвардских коллег, приобрел влияние в Белом доме.
Когда в феврале Кеннеди пригласил на работу Дина Ачесона, Шлезингер решил, что президент просто хочет иметь спектр самых разнообразных мнений. Теперь Шлезингер опасался, что Кеннеди, если никто не предложит альтернативу, примет жесткий политический курс по Берлину, предложенный Ачесоном. Постоянный представитель США в ООН Эдлай Стивенсон тоже был обеспокоен растущим влиянием Ачесона.
Шлезингер хотел помешать Ачесону убедить президента в том, что «Западный Берлин не проблема, а предлог» для Хрущева проверить, собираются ли Соединенные Штаты и их новый президент противостоять советскому вторжению.
Шлезингер волновался, что Ачесон, блестящий оратор, устроит дебаты относительно «неограниченных целей» Советов в разжигании Берлинского кризиса. Однако те, кто лучше знал Москву, Томпсон и Аверелл Гарриман, бывший посол в Москве, считали, что хрущевская игра ограничивается одним Берлином и, следовательно, действовать следует абсолютно иначе. Хотя мнения в Государственном департаменте разделились, Шлезингер переживал, что Раск «ведет себя осмотрительно и никто не знает, на чьей он стороне».
В статье, опубликованной в журнале «Экономист» [56], основанной на неофициальной информации от британского правительства, придерживающегося более мягкого курса в отношении Советов, говорилось, что «если господин Кеннеди не проявит решимости, то Запад рискует идти на компромиссы до тех пор, пока не окажется в тупике, где ни у него, ни у России не будет иного выбора, как между позорным отступлением и ядерным опустошением».
Шлезингер считал, что должен действовать быстро, поскольку «в разговоре о военной мобилизации в связи с объявлением в стране чрезвычайного положения содержится риск проталкивания кризиса за точку невозврата». Он боялся повторения ситуации, сложившейся при обсуждении плана операции в заливе Свиней, когда был принят неудачный план, поскольку не было никого, кто бы выступил против или представил альтернативный план.
Он решил, что должен добиться откровенного обмена мнениями по Берлину прежде, чем станет слишком поздно.
7 июля, сразу после утреннего совещания с Кеннеди по другим вопросам, Шлезингер вручил президенту свой меморандум по Берлину и попросил, чтобы он просмотрел его днем по пути в Хайяннис-Порт. Время было выбрано удачно, поскольку президент должен был на следующий день встречаться там с высокопоставленными чиновниками по берлинской проблеме. Кеннеди сказал, что прочтет соображения Шлезингера незамедлительно, поскольку считает берлинский вопрос самым срочным.
Шлезингер все правильно рассчитал: ничто не могло больше привлечь внимание президента, чем предупреждение о вероятности повторения ошибки на Кубе. После провала операции в заливе Свиней Кеннеди, смеясь, сказал, что меморандум Шлезингера по Кубе будет «выглядеть довольно хорошо, когда историк найдет время для написания книги о правительстве», а затем добавил: «Только лучше бы, пока я жив, он не опубликовывал этот меморандум».
В своем антиачесоновском меморандуме Шлезингер напомнил Кеннеди, что провал на Кубе стал результатом «чрезмерной концентрации на военных и оперативных проблемах» и недооценки политических проблем на предварительной стадии. После неудачного вторжения на Кубу Артур Шлезингер упрекал себя «за молчание во время принципиальных дискуссий в Овальном кабинете», хотя его «чувство вины заглушалось сознанием того», что его «возражения приведут лишь к тому», что его «сочтут занудой».
Шлезингер отдал должное Ачесону в том, что тот тщательно рассмотрел проблему, но у него вызвало опасение, как бывший государственный секретарь ставит вопрос, «грубо говоря: струсите вы или нет, когда кто-нибудь предложит то, что покажется жестким, трудным, когда надо «доказать или заткнуться», этому трудно противостоять, оставаясь мягким, сентиментальным, идеалистом…». Шлезингер напомнил президенту, что, по мнению его советолога Чипа Болена, при обсуждении Советов не следует использовать такие прилагательные, как «жесткий» и «мягкий».
«Люди, у которых были сомнения относительно Кубы, – написал Шлезингер, явно имея в виду себя, – не высказывали сомнений, боясь показаться слишком «мягкими». Очень важно, чтобы подобные страхи не помешали свободному обмену мнениями по Берлину».
Президент внимательно прочел меморандум и с тревогой посмотрел на своего друга. Он согласился, что план Ачесона слишком узко нацелен на военную сторону проблемы и что «планированию по Берлину надо придать более сбалансированный характер». Президент дал задание Шлезингеру подробнее изложить то, что указано в его меморандуме, чтобы завтра его соображения можно было использовать на совещании в Хайяннис-Порте.
Вертолет с Кеннеди должен был подняться с лужайки перед Белым домом в пять вечера. У Шлезингера оставалось всего два часа до отлета президента. Чейес и Киссинджер, юрист и политолог, диктовали, а Шлезингер бешено печатал на машинке. К нужному времени был готов окончательный вариант. В нем говорилось:
«Ачесон исходит из того, что основная цель Хрущева в форсировании берлинского вопроса состоит в том, чтобы опозорить Соединенные Штаты, заставив нас отказаться от священного обязательства и тем самым поколебать наше могущество и влияние в мире. Берлинский кризис в этом случае не имеет никакого отношения к Берлину, Германии и Европе. Из этого следует, что подвергают испытанию нашу волю… и что Хрущева может остановить только демонстрация готовности Соединенных Штатов скорее вступить в ядерную войну, чем отказаться от статус-кво. По этой теории опасно вести переговоры, пока кризис не разросся; далее, они полезны только в пропагандистских целях; и, наконец, главная цель – найти способ прикрыть поражение Хрущева. Проверка воли становится самоцелью, а не средством для достижения политической цели».
Затем Шлезингер, Чейес и Киссинджер перечислили проблемы, которым, по их мнению, Ачесон не придал должного значения.
● «Какие мы предпринимаем политические шаги, пока не разросся кризис?» В меморандуме говорится, «если будем сидеть молча или ограничиваться опровержением советских заявлений», Хрущев возьмет на себя инициативу, заставив Кеннеди, который будет выглядеть упорным и неразумным, защищаться.
● «В документе Ачесона ничего не говорится о связи предложенных военных действий и политических целей». На языке, предназначенном для того, чтобы ошеломить, Ачесон не излагает никакой политической цели, кроме как сохранить существующие правила доступа, ради которых мы готовы уничтожить мир. Отсюда следует, что «самое главное – сформулировать причину, по которой мы готовы начать ядерную войну».
● «В документе рассматривается только один возможный случай… закрытие коммунистами доступа в Западный Берлин». Однако далее в меморандуме утверждается, что «фактически есть целый спектр беспокоящих действий, из которых полномасштабная блокада, возможно, является одной из наименее вероятных».
● «Все зависит от нашей готовности к ядерной войне». Эти трое, Шлезингер, Чейес и Киссинджер, посоветовали Кеннеди, который, как они уже знали, был и без того встревожен вариантом возможной войны, «прежде, чем вас попросят принять решение о начале ядерной войны, вы наделены правом узнать, какая конкретно ядерная война имеется в виду. Пентагон обязан проанализировать возможные уровни ядерного удара и возможные уровни нашего ядерного ответа».
● Шлезингер подверг критике Ачесона за то, что он целиком сосредоточился на проблеме военного доступа в Берлин, в то время как 95 процентов приходилось на поставки для гражданского населения и только 5 процентов были связаны с военными поставками. Восточная Германия уже установила полный контроль над движением гражданского населения. Цель Соединенных Штатов состоит в том, чтобы сохранить свободу Западного Берлина, и, следовательно, самым важным является вопрос, связанный с движением гражданского населения.
● Ачесон, говорилось в меморандуме, не придает значения чувствам членов НАТО. «Что случится, если наши союзники откажутся поддержать нас?» Маловероятно, что союзники поддержат идею Ачесона об отправке войск на автостраду для прорыва блокады; де Голль уже выступил против этой идеи. «А что относительно Организации Объединенных Наций? Что бы ни случилось, но этот вопрос встанет в ООН. Лучше или хуже, но у нас должна быть убедительная позиция».
Редкий случай, чтобы так быстро составлялся столь важный документ. Шлезингер печатал с огромной скоростью, чтобы не отставать от мыслей, излагаемых его блестящими соавторами. Поглядывая на часы, он приступил к новому разделу: «Случайные соображения о нерассмотренных альтернативах». В нем перечислялись вопросы, которые необходимо выяснить президенту.
Авторы меморандума хотели, чтобы все вопросы и альтернативы «систематически вытаскивались на поверхность и детально обсуждались», и советовали не торопиться воплощать в жизнь план Ачесона. Шлезингер посоветовал президенту подумать над тем, чтобы изъять из обращения документ Ачесона. Опасность утечки предложений Ачесона, говорилось в его меморандуме, намного больше, чем опасность подробного обсуждения ограниченной группой лиц.
Не обращая внимания на то, что Хрущев уже выработал курс по Берлину, американские чиновники в Вашингтоне вели закулисную бюрократическую войну против Дина Ачесона. Инспирированный Шлезингером меморандум, хотя и был создан за такой короткий промежуток времени, включал даже предложения относительно новых людей, которые должны быть привлечены в процесс по ослаблению влияния Ачесона. Среди прочих были предложены Аверелл Гарриман и Эдлай Стивенсон.
Это была месть так называемых «слюнтяев» – сторонников мягкой политики по Берлину. Меморандум Шлезингера заканчивался предложением, чтобы один из авторов руководил процессом. На эту роль, по мнению Шлезингера, лучше всех подходил Генри Киссинджер. Это был удачный шанс для человека, который на протяжении долгого времени станет одной из наиболее влиятельных фигур в сфере внешней политики в истории США.
Белый дом, Вашингтон, округ Колумбия
Пятница, 7 июля 1961 года
Генри Киссинджер, работая в Гарвардском университете, проводил всего день, иногда два в неделю в Вашингтоне, где работал в качестве консультанта Белого дома, но этого было достаточно для того, чтобы, оказавшись в центре борьбы, формировать взгляды Кеннеди на Берлин. Честолюбивый молодой преподаватель был бы счастлив на постоянной основе работать на президента, но против этого был бывший декан Гарвардского университета, а ныне советник президента по вопросам национальной безопасности Макджордж Банди.
Хотя Киссинджер в совершенстве владел искусством лести по отношению к вышестоящим, Банди, более чем кто-либо, был невосприимчив к лести. Он считал Киссинджера, как и президента, выдающимся человеком, но страшным занудой. Банди пародировал монотонную речь и немецкий акцент Киссинджера. Киссинджер в свою очередь жаловался, что Банди использует его высокие интеллектуальные способности не по назначению. Биограф Киссинджера Уолтер Айзексон пришел к выводу, что все дело было в классовых различиях и манере поведения: тактичный бостонец из высшего сословия снисходил до нахального немецкого еврея.
Однако, находясь в непосредственной близости к эпицентру власти, Киссинджер приобрел новый опыт и рано включился во внутреннюю борьбу в Белом доме, которая станет частью его необычной жизни. Генри Киссинджер родился в баварском городе Фюрт в 1923 году, получив при рождении имя Хайнц Альфред Киссингер. Ему было пятнадцать лет, когда его семья, спасаясь от нацистского преследования, эмигрировала в США и поселилась в Нью-Йорке. А теперь он был советником американского президента. В то время как Банди прилагал титанические усилия, чтобы удерживать его на почтительном расстоянии от Кеннеди, Киссинджер добрался до президента через другого гарвардского преподавателя, Артура Шлезингера, развернувшего кампанию против Ачесона.
Киссинджер не имел доступа в Овальный кабинет и не имел места в истории, как Ачесон, – он был на тридцать лет моложе Ачесона, – но его «Меморандум для президента» по Берлину на тридцати двух страницах был смелой попыткой переиграть бывшего государственного секретаря. Меморандум лег на стол Кеннеди непосредственно перед вылетом президента в Хайяннис-Порт. Хотя Киссинджер был сторонником более жесткой политики в отношении Москвы, чем Шлезингер, он понимал, что Кеннеди не должен рассматривать план Ачесона, полностью отвергающий дипломатию как единственно возможный способ общения с Советами.
Киссинджер опасался, что помощники Кеннеди и, возможно, сам президент могут оказаться достаточно наивными и соблазниться хрущевской идеей «свободного города», в соответствии с которой Западный Берлин и подходы к нему находились бы под юрисдикцией Организации Объединенных Наций. Кроме того, Киссинджер был обеспокоен тем, что Кеннеди испытывает неприязнь к великому Аденауэру. По мнению Киссинджера, Кеннеди не до конца понимал, что невнимание к Берлину может породить кризис в западном альянсе, что нанесет намного больший ущерб интересам безопасности Соединенных Штатов, чем сможет оправдать любой договор с Москвой.
Киссинджер изложил Кеннеди свои предостережения следующим образом:
«Первая задача состоит в том, чтобы понять, что именно находится под угрозой. Судьба Берлина – пробный камень для будущего Североатлантического союза. Поражение в Берлине неизбежно приведет к деморализации Федеративной Республики. Проводимая ФРГ политика, ориентированная на Запад, будет признана как потерпевшая фиаско. Остальные страны, входящие в НАТО, безусловно, должны будут сделать надлежащие выводы из подобной демонстрации бессилия Запада. В других частях мира придадут еще большее значение коммунистическому движению. Добавьте к этому завоевания коммунистов на протяжении последних пяти лет, и даже у нейтралистов не останется сомнений. В будущем западные гарантии будут немногого стоить. Претворение в жизнь предложения коммунистов сделать Берлин «свободным городом» может стать поворотным моментом в борьбе свободы против тирании. Любое обсуждение политического курса должно начинаться с констатации того, что Запад просто не может позволить себе потерпеть поражение в Берлине».
Что касается объединения, то Киссинджер предупредил Кеннеди, что отказ от обычной американской поддержки деморализует западных немцев, заставив их сомневаться относительно их места на Западе. В то же самое время это поощрит Советы усилить давление на Берлин, поскольку они сделают вывод, что Кеннеди уже «прекратил свое невыгодное дело». Вместо этого Киссинджер предложил, чтобы ответ Кеннеди на увеличение Хрущевым напряженности в Берлине «касательно объединения Германии был наступательного, а не оборонительного характера. Мы должны использовать любую возможность для того, чтобы настаивать на свободных выборах и отстаивать свою позицию на этой земле перед Организацией Объединенных Наций». Он предупредил Кеннеди, что тот не должен считать, что Западный Берлин никогда не падает духом, как считали американские лидеры, начиная с Берлинского кризиса 1959 года. «Мы должны продемонстрировать им реальное доказательство нашей уверенности, чтобы поддержать их надежды и придать храбрости».
Больше всего Киссинджера беспокоило, что у Кеннеди не было надежного плана действий на случай непредвиденных обстоятельств в Берлине. В любом обычном (неядерном) конфликте, утверждал Киссинджер, США ощутят на себе превосходство Советов, и он сомневался, что Кеннеди будет когда-нибудь принимать участие в ядерной войне за свободу Берлина. В его меморандуме все эти соображения были изложены более ясно и подробно, чем в тех документах, которые до этого времени попадали в Белый дом.
В сопроводительной записке к меморандуму Киссинджера, написанной Банди, говорилось: «Он, Генри Оуэн, Карл Кайсен и я, все сошлись во мнении, что текущий стратегический военный план излишне жесткий и если не внести поправки, то он не оставляет Вам почти никакого выбора. По сути, этот план призывает к нанесению удара».
Наступают напряженные дни, Советы будут сохранять свою агрессивную, поственскую позицию по Берлину, и Кеннеди должен сделать так, чтобы любое одностороннее действие Советов показалось слишком опасным не склонному к риску Хрущеву. По мнению Киссинджера, это была единственно правильная линия поведения в данных условиях. «Другими словами, мы должны быть готовы к пробе сил», – сказал он. Киссинджер был не согласен с мнением некоторых членов правительства, что Кеннеди следует пойти на уступки по Берлину, чтобы перед октябрьским съездом партии помочь Хрущеву в его внутренней борьбе против наиболее опасных сторонников жесткой линии. «Внутренние дела Хрущева – его, а не наша проблема», – заявил Киссинджер.
Сам Киссинджер считал, что нет ничего опаснее, чем ничего не делать по Берлину и ждать действий со стороны Советов. Хрущев, по мнению Киссинджера, мог расценить «нашу выжидательную позицию как неуверенность». Он подчеркнул, что такой подход заставит Москву вызвать кризис в «самый трудный» для США момент, создав ситуацию, при которой мир усомнится в решимости Кеннеди.
Позже Киссинджер сказал Шлезингеру: «Я нахожусь в положении человека, сидящего рядом с водителем в машине, движущейся к пропасти, которого просят проверить, полон ли бензобак и какой уровень масла».
Его мучило, что Белый дом хочет использовать его только для «мозговой атаки», а не как человека, к чьим советам прислушиваются и берут на вооружение. В конечном итоге в октябре он вышел в отставку, придя к заключению, что его идеи не будут принимать всерьез.
Хайяннис-Порт, Массачусетс
Суббота, 8 июля 1961 года
Президент Кеннеди был раздражен.
Можно было допустить ошибку по Лаосу и даже по Кубе. Ни то ни другое не имело решающего значения для Соединенных Штатов и для его места в истории. Но Берлин – главная сцена в мире для решающей борьбы! Он неоднократно повторял это советникам, когда выражал тревогу по поводу того, что они так и не дали ответа на врученную Кеннеди в Вене памятную записку Хрущева – это притом, что с Венского саммита прошло уже больше месяца. В то утро пришли плохие новости из Советского Союза. Хрущев объявил, что отменит приказ о сокращении Советской армии на 1,2 миллиона человек и на треть увеличит военный бюджет, до 12,399 миллиона рублей – примерно 3,4 миллиона долларов. Выступая перед выпускниками военных академий, Хрущев сказал, что мировая война за Берлин едва ли возможна, но предупредил, что надо готовиться к худшему [57].
Советские солдаты громко выразили свое одобрение.
Хрущев объяснил, что его решение является ответом на сообщение о том, что президент Кеннеди потребовал резко увеличить военный бюджет на 3,5 миллиарда долларов. В связи с этим советский лидер отказался от решения инвестировать в экономику, а затем уже увеличивать военный бюджет. «Это вынужденные меры, товарищи, – объяснил советский лидер. – Мы пошли на них, поскольку не имеем права пренебрегать безопасностью советского народа».
Кеннеди был вне себя, когда журнал «Ньюсуик» [58] опубликовал подробности совершенно секретного плана Пентагона на случай чрезвычайной ситуации в Берлине.
Кеннеди был настолько рассержен утечкой информации, что приказал ФБР провести расследование и выявить источник информации.
Хрущев ответил на статью в «Ньюсуик» так, словно это был официальный государственный документ, содержащий основополагающие принципы внешней политики Кеннеди. В Москве проходили гастроли Королевского балета. В антракте спектакля с участием примы-балерины Марго Фонтейн Хрущев, понимая, что Лондон является самым слабым союзническим звеном в вопросе о Берлине, пригласил британского посла Фрэнка Робертса в свою ложу. По мнению Хрущева, британцы совершенно напрасно противились советским требованиям относительно Берлина. Советский лидер заявил Робертсу, что может разместить в Германии в сто раз больше войск, чем западные державы, и шести атомных бомб будет достаточно, чтобы уничтожить Британские острова, а девяти, чтобы стереть с лица земли Францию. Понимая, что поет с голоса Макмиллана, он сказал: «Почему двести миллионов должны умирать за два миллиона берлинцев?»
В Хайяннис-Порте Кеннеди отругал секретаря Раска, который был в обычной пиджачной паре даже на борту быстроходного моторного пятидесятидвухфутового катера Кеннеди под названием «Мэрлин», за то, что он не в состоянии придумать ответ на берлинский ультиматум Хрущева. В то время как президент выражал недовольство Раску, первая леди каталась на водных лыжах, а Роберт Макнамара и генерал Максвелл Тейлор присоединились к другу Кеннеди Чарльзу Сполдингу и его жене и наслаждались чаудером, густым супом из морепродуктов.
Когда Раск объяснил, что ответ задержали по той простой причине, что необходимо согласовать текст с союзниками, Кеннеди гневно воскликнул, что не на союзниках, а на американском президенте лежит бремя ответственности за Берлин. Президент, под влиянием записки Шлезингера, дал указание Раску в течение десяти дней разработать и представить переговорную позицию США по германским делам. Затем Кеннеди переключил свой гнев на советника по советским делам Чипа Болена, бывшего посла в Москве: «Чип, что происходит с вашим проклятым департаментом? Я не могу быстро получить ответ ни на один вопрос».
Мартин Хилленбранд, заведующий отделом Государственного департамента, позже утверждал, что на самом деле проект ответа на советскую памятную записку был подготовлен быстро. Но спустя десять дней выяснилось, что проект затерялся где-то в Белом доме. Специальный помощник президента Ральф Дунган обратился в Государственный департамент с просьбой прислать проект. Уходя в двухнедельный отпуск, представитель Белого дома запер документ в сейф, не оставив комбинации замка. Натовские союзники тоже медлили, мучительно раздумывая над ответом. Пока каждый пытался свалить вину за задержку ответа на другого, обеспокоенный Кеннеди требовал, чтобы Пентагон представил ему план, «который допускал бы неядерное сопротивление в масштабах, достаточных как для того, чтобы продемонстрировать нашу решимость, так и для того, чтобы дать коммунистам время вторично подумать и вступить в переговоры прежде, чем все выльется в ядерную войну». «Я хочу получить этот чертов план через десять дней», – заявил Кеннеди.
Спальня Линкольна, Белый дом, Вашингтон, округ Колумбия
Вторник, 25 июля 1961 года
Днем президент Кеннеди ушел в спальню, чтобы прочесть речь, с которой в десять вечера должен был выступить перед национальной телевизионной аудиторией. Кеннеди впервые использовал для этой цели Овальный кабинет, и весь день рабочие готовили кабинет к вечернему эфиру.
Кеннеди понимал, как высоки ставки. Дома он должен был полностью изменить растущее впечатление о слабости внешней политики. После неудачи с Кубой и Веной он должен был убедить Хрущева, что готов защищать Берлин любой ценой. Посол Меньшиков рассказывал всем, кто был готов его слушать, в Вашингтоне, что Хрущев больше не верит, будто Кеннеди будет бороться за Берлин. В то же время Кеннеди хотел, чтобы Хрущев понимал, что американский президент готов к разумному компромиссу.
Кеннеди погрузился в ванну с горячей водой, чтобы ослабить сильную боль в пояснице. Затем ему принесли ужин, который он съел прямо с подноса. Во время ужина он позвонил своей секретарше Эвелин Линкольн: «Зайдите ко мне, я хочу кое-что добавить в речь, с которой буду выступать вечером».
«В заключение мне бы хотелось сказать о себе. Когда я участвовал в президентской гонке, я понимал, что в 60-х мы столкнемся с серьезными трудностями, но я не мог представить, как этого не может представить человек, который не несет ответственности, насколько тяжелыми и непрерывными будут эти трудности. В конце 40-х безопасность Соединенных Штатов строилась на том, что только у нас была атомная бомба и средства доставки. Даже в начале 50-х, когда Советский Союз приступил к термоядерным исследованиям, у нас было явное преимущество в средствах доставки, но в последние годы Советский Союз провел собственные ядерные испытания и начал создавать и серийно выпускать свое ядерное оружие и средства его доставки».
Кеннеди диктовал, а Линкольн быстро записывала слова, которые складывались в безупречные предложения и абзацы.
«Это означает, что если Соединенные Штаты и Советский Союз вступят в борьбу, в которой применят ракеты, то это может привести к уничтожению нашего народа и нашей страны. Такой мрачный прогноз основывается на том, что Советский Союз изо всех сил пытается укрепить свое могущество и они столкнутся с нами в таких местах, как Берлин, в отношении которых у нас есть давние обязательства. Три раза за мою жизнь наша страна и Европа были вовлечены в войны, и в каждом случае с обеих сторон были допущены серьезные ошибки, которые привели к невероятной разрухе. Однако теперь неправильное понимание каждой из сторон намерений другой стороны может обернуться за несколько часов таким колоссальным опустошением, какого мы не знали за все войны в нашей истории».
Линкольн, учитывая серьезность президентских слов, старалась не допустить ни единой ошибки. Она ощущала исторический момент и слышала боль в голосе человека, на которого было возложено бремя – слово, которое он несколько раз повторил в своей речи и использовал ежедневно.
«Мы с вами вступаем в опасное время. В течение трех с половиной лет я буду нести ответственность, возложенную на президента, в соответствии с нашей конституцией. Я уверен, что вы понимаете, я сделаю все, что смогу, для нашей страны и нашего дела.
Как и у вас, у меня есть дети, и я хочу, чтобы они росли в мирной стране и в мире, где существует свобода.
Я знаю, что иногда вы выражаете нетерпение и хотите, чтобы мы срочно приняли какие-нибудь меры, которые положат конец нашим страхам, но нет легких и быстрых решений. Мы противостоим системе, которая объединила миллиард человек и которая считает, что если Соединенные Штаты действуют нерешительно, то ее победа неизбежна. Поэтому мы должны понимать, что впереди долгий путь и если мы будем мужественны и решительны, то нас ждет то, что мы все желаем. Поэтому я прошу вашего совета и жду ваших предложений. Я жду ваших критических замечаний, когда вы думаете, что мы не правы, но прежде всего, мои сограждане, я хочу, чтобы вы понимали, что я люблю эту страну и приложу все силы, чтобы защитить ее. Мне необходима ваша доброжелательность и поддержка».
Эвелин Линкольн не могла вспомнить, чтобы президент добавлял в уже готовую речь такую длинную концовку, когда до выступления оставалось всего пара часов.
«Вы сможете напечатать и передать мне, когда я вернусь?» – спросил Кеннеди Эвелин.
В 21:30 президент вошел в Овальный кабинет, чтобы проверить кресло, в котором он будет сидеть за столом, и освещение. Он сказал Эвелин Линкольн, что хотел бы просмотреть текст, который надиктовал, прошел в кабинет, сел за стол, пробежал текст, внес исправления, что-то сократил. Когда пришло время появиться перед камерами, он вошел в кабинет Линкольн, попросил у нее расческу и зашел в ее туалетную комнату, чтобы убедиться, что прическа в порядке.
В кабинете было жарко и душно; президент вспотел и, несмотря на все приготовления, был напряжен. Для того чтобы улучшить качество звука, техники отключили кондиционеры, хотя в тот день столбик термометра достиг 94 градусов [59].
Кроме того, в кабинет, в котором было установлено семь камер, набилось порядка шестидесяти человек, которые хотели стать свидетелями исторического момента.
Кеннеди вышел из кабинета, вымыл лицо и вернулся за несколько секунд до выступления перед огромной аудиторией, национальной и мировой. Свет был слишком яркий, и ему было трудно читать текст с внесенными поправками. Он споткнулся в нескольких местах, а в каких-то говорил менее выразительно, чем обычно. Но мало кто обратил на это внимание. Его жесткая риторика скрыла ряд компромиссов, на которые он пошел в предыдущие дни, что значительно ослабило план Ачесона.
Кеннеди не стал, как призывал его Ачесон, объявлять чрезвычайное положение в стране, отклонил предложение о немедленной мобилизации и сократил расходы на оборону. За семнадцать дней, прошедших между совещанием в Хайяннис-Порте и выступлением 25 июля, «слюнтяи» методично ослабляли позицию Ачесона.
13 июля в Зале Кабинета секретарь Раск, используя собственные слова Ачесона, процитировал часть документа своего друга, в которой говорилось о том, что первые шаги должны быть по возможности сдержанными. «Мы должны пытаться избегать действий, которые могут быть восприняты как провокационные», – сказал он.
Ачесон, при поддержке вице-президента Джонсона, возразил Раску. Если, как советует его друг Раск, не призывать резервистов, то «мы не повлияем на мнение Хрущева относительно кризиса больше, чем могли бы, если бы сбросили бомбу после того, как он максимально форсирует события».
Банди предложил четыре альтернативы: 1) продолжать с максимально возможной скоростью укреплять вооруженные силы США; 2) продолжать все мероприятия, не требующие объявления чрезвычайного положения в стране; 3) объявить о чрезвычайном положении в стране и продолжать все приготовления, за исключением призыва резервистов; 4) пока избегать существенного наращивания военных сил.
Президент слушал, как его советники обсуждают варианты. Но впервые он раскрыл свой план перед телевизионной аудиторией. На совещании Совета по национальной безопасности он сказал, что только две вещи имеют для него значение: «Наше присутствие в Берлине и наш доступ к Берлину».
Ачесон был настолько расстроен тем, что он считал дрейфом в политике, что сказал в июле членам небольшой рабочей группы по Берлину: «Господа, вы тоже можете столкнуться с этим. В этой стране нет руководства».
На втором решающем совещании Совета по национальной безопасности, состоявшемся 19 июля, план Ачесона тихо умер после обмена мнениями между его автором и министром обороны Макнамарой. Ачесон настаивал на том, чтобы не позже сентября объявить в стране чрезвычайное положение и начать призыв резервистов. Макнамара считал, что пока этого не стоит делать, полагая, что Кеннеди может позже объявить чрезвычайное положение и, «когда потребует ситуация», мобилизовать резервы сухопутных войск.
Ачесон настаивал на своем, утверждая, что курс Макнамары недостаточно энергичный и конкретный.
Кеннеди не прерывал дискуссию, и Ачесону стало понятно, что у главнокомандующего не хватает смелости объявить полную мобилизацию. В конечном итоге Ачесон согласился с предложением Макнамары.
Посол Томпсон не присутствовал на совещании, но помог одержать победу своими телеграммами из Москвы, в которых утверждал, что Кеннеди произведет на Советы большее впечатление, удерживая союзников вместе для подготовки серьезных военных действий. Согласно его логике, более длительное сосредоточение и развертывание сил окажет большее влияние, чем эффектные, рассчитанные на публику жесты. Советники Кеннеди по разведывательной деятельности придерживались такого же мнения: слишком нарочитые военные приготовления только заставят Хрущева занять еще более жесткую позицию и, вполне вероятно, принять собственные контрмеры.
Таким образом, 25 июля президент не объявил в стране чрезвычайное положение, но сказал, что обратится к конгрессу по вопросу о выделении дополнительных средств на вооружение, призыве резервистов и введении экономических санкций против государств – участников Варшавского договора в случае блокады Берлина. На совещании Совета по национальной безопасности Кеннеди сказал, что чрезвычайное положение в стране – это «сигнал тревоги, которым можно воспользоваться только один раз», и следование курсом, предложенным Ачесоном, только убедит Советы в том, что «мы запаниковали», а не в решимости Соединенных Штатов.
Ачесон привел доводы в пользу объявления чрезвычайного положения в стране, доказывая, что это произведет впечатление и на Советы, и на тех, кто не считает ситуацию серьезной, позволив президенту мобилизовать один миллион резервистов и продлить сроки службы.
Однако Кеннеди не стремился слишком обострять ситуацию, в частности, потому, что хотел восстановить уверенность союзников в своей способности руководить страной после провала в заливе Свиней. Кроме того, он считал, что находится в длительной конфронтации с Советами, и опасался, что преждевременная эскалация может привести к «ложному кульминационному моменту» в конфронтации. Президент не хотел тратить понапрасну силы.
Итак, Кеннеди объявил об увеличении расходов на вооружение на 3,454 миллиарда долларов, почти столько, сколько Хрущев, но меньше, чем первоначально предлагал Ачесон (4,3 миллиарда долларов), и доведении численности сухопутных сил с 875 тысяч до 1 миллиона человек. Соединенные Штаты были готовы в кратчайший срок перебросить в Европу шесть дополнительных дивизий и приняли меры для приведения в боевую готовность ряда авиационных соединений, необходимых для их поддержки.
Самым поразительным, но оставленным без внимания СМИ было то, что президент семнадцать раз упомянул в своей речи Западный Берлин, упорно добавляя определение «Западный». Кеннеди повторил то, что сказал Хрущеву в Вене: Советы вольны делать все, что хотят, с восточной частью города, при условии, что не будут касаться его западной части.
И только на следующий день один из высокопоставленных сотрудников Информационного агентства США, Джеймс О’Доннелл, выразил недовольство Теду Соренсену относительно того, что в заключительной части речи был сделан акцент на Западном Берлине. Мнение О’Доннелла имело значение, поскольку он был другом семьи Кеннеди, ветераном Второй мировой войны и первым из иностранных солдат-победителей побывал в гитлеровском бункере. Он написал книгу о последних днях Гитлера и пережил берлинскую блокаду в качестве корреспондента «Ньюсуик».
Во время обеда Соренсен с гордостью показал О’Доннеллу проект выступления 25 июля, заявив, что речь понравится «даже сторонникам жесткого курса», вроде него. Однако чем внимательнее О’Доннелл изучал речь, тем более поражался содержавшимся в ней односторонним уступкам. В речи говорилось о готовности Кеннеди удалить «раздражители» из Западного Берлина и в то же время подчеркивалось, что «свобода этого города не может быть предметом обсуждения». Согласно Ульбрихту, в число «раздражителей» входили западноберлинские СМИ, радиостанция РИАС в американском секторе, свобода, с которой действовали западные военные и спецслужбы, и – самое главное – возможность восточных немцев пересекать открытую границу и искать убежище на Западе.
Президент соглашался с «исторической обеспокоенностью Советского Союза относительно безопасности в Центральной и Восточной Европе после ряда опустошительных вторжений, и мы верим, что могут быть приняты меры, которые помогут решить эти проблемы, и эта неспокойная область станет безопасной и свободной».
Что мог Кеннеди подразумевать под этим? – недоумевал О’Доннелл, не зная, что именно так президент изъяснялся в частных беседах с Хрущевым в Вене. Кеннеди поверил в жалобы Москвы относительно возродившегося германского милитаризма? Он навсегда уступал Советам порабощенные страны – Польшу, Чехословакию, Венгрию?
Но ничто не вызвало у О’Доннелла большей тревоги, чем повторные акцентированные ссылки на безопасность Западного Берлина. По мнению О’Доннелла, это можно было расценивать единственным образом: Советам развязывали руки в Восточном Берлине, хотя формально город оставался под властью четырех держав.
Кеннеди объяснил американцам, что «существует реальная угроза свободе людей в Западном Берлине». Для наглядности он использовал карту, чтобы показать американскому народу, что Западный Берлин словно остров в коммунистическом море. Кеннеди сказал:
«У Западного Берлина, беззащитно лежащего внутри Восточной Германии, окруженного советскими войсками, много ролей. Он – символ свободы, остров свободы в коммунистическом море. Он даже больше, чем связь со свободным миром, он – маяк надежды за железным занавесом, спасательный люк для беженцев. Все это – Западный Берлин. Но теперь, как никогда прежде, Западный Берлин превратился в огромный полигон для испытания мужества и воли Запада, в место, где столкнутся наши обязательства, взятые в 1945 году, и честолюбивые замыслы Советов. Там Соединенные Штаты; там Соединенное Королевство и Франция; там обязательства НАТО – и там народ Берлина. Мы не можем отделить их безопасность от нашей собственной… мы дали слово, что нападение на этот город будет рассматриваться как нападение на нас».
На тридцать первой минуте Кеннеди вернулся к Западному Берлину:
«Торжественное обещание, которое каждый из нас дал Западному Берлину в мирное время, не будет нарушено в минуту опасности. Если мы не выполним наших обязательств в Берлине, что с нами будет дальше? Если мы нарушим обещание там, то все, чего мы добились в коллективной безопасности, которая зависит от этих обещаний, ничего не будет значить».
Соренсен расстроился, что О’Доннелл недооценил эмоциональный настрой, с каким говорится о решимости защищать Берлин. Что касается его равнодушия в отношении Восточного Берлина и Восточной Европы в целом, объяснил Соренсен О’Доннеллу, то это просто констатация факта. Русские так или иначе делают то, что хотят, в своем секторе. Американцы и так были вынуждены согласиться на военное наращивание, чтобы охранять два миллиона жителей Западного Берлина, и было бы слишком ожидать, что американцы будут рисковать своими жизнями еще и ради миллиона жителей Восточного Берлина, оказавшихся на неправильной стороне истории.
О’Доннелл предложил легкий выход. Президент может просто опустить слово «Западный» в большинстве мест, где оно стоит перед словом «Берлин». После часового спора Соренсен не выдержал: «Я больше ничего не могу делать с этим текстом… эта речь прошла через шесть ветвей власти. В течение десяти дней мы взад-вперед гоняли копии. Это – окончательный вариант. Это – политический курс».
«Больше к этому нечего добавить».
На этой ноте закончился их обед.
Соренсен точно так же обошелся с подобными возражениями внутри правительства. Так называемая «Берлинская мафия», группа чиновников старшего возраста, которая в течение многих лет внимательнейшим образом следила за тупиковой берлинской ситуацией, считала, что президент высказал ересь, сообщив Советам, что они могут игнорировать договор четырех держав и делать все, что хотят, со своей частью города.
«Такое чувство, о мой Бог! – что он не понимает, что говорит», – сказал австриец по происхождению Карл Маунтре, сотрудник Бюро разведки и исследований [60] Государственного департамента, работавший до этого в американской миссии в Берлине.
Во время Второй мировой войны он воевал в составе 82-й воздушно-десантной дивизии в Нормандии, принимал участие в «Битве за Выступ» (операция в Арденнах в 1945 году), и его оскорбило отступничество Кеннеди.
Акцент, сделанный на Западном Берлине, показался тем более намеренным, когда спустя пять дней после выступления Кеннеди, 30 июля, в телевизионном интервью сенатор Фулбрайт прямо заявил: «Если они хотят закрыть границу, то могут сделать это на следующей неделе и даже не станут из-за этого нарушителями договора. Я не понимаю, почему восточные немцы не закрыли уже давно свою границу, ведь, как мне кажется, у них есть все права на это».
Фулбрайт неправильно интерпретировал соглашение и, выступая в сенате 4 августа, исправил свою ошибку, сказав, что свобода передвижения по Берлину гарантирована послевоенными соглашениями и что его телевизионное интервью произвело «неприятное, ложное впечатление». Тем не менее Кеннеди никогда не объявлял о несогласии с ним, а Макджордж Банди даже доложил президенту о благоприятных отзывах на телевизионное выступление Фулбрайта, о «комментариях из Бонна и Берлина о полезном влиянии замечаний сенатора Фулбрайта».
На самом деле западные немцы впали в отчаяние, в то время как восточные немцы были в восторге от предложения Фулбрайта. Западноберлинская газета «Тагешпигель» выразила возмущение тем, что предложения сенатора потенциально так же поощряют противника к действию, как слова Ачесона перед корейской войной, когда он заявил, что Южная Корея находится за пределами «оборонительного периметра» США. Газета коммунистической партии «Нойес Дойчланд» («Новая Германия») назвала предложения Фулбрайта «реалистичными».
В начале августа Кеннеди размышлял о том, что может произойти в Берлине, прогуливаясь в Розовом саду с экономистом Уолтом Ростоу, советником президента. «Хрущев теряет Восточную Германию. Он не может этого позволить. Потеряв Восточную Германию, Советский Союз лишился бы Польши, да и всей Восточной Европы. Он должен что-то предпринять, чтобы остановить поток беженцев. Может быть, стена? Мы не сможем выступить против. Я могу объединить альянс для защиты Западного Берлина, но не в силах удержать открытым Восточный Берлин».
Москва
Четверг, 3 августа 1961 года
Душным московским утром Ульбрихт ехал на встречу с Хрущевым в лимузине с закрытыми и занавешенными окнами. Ульбрихт не объявил об отъезде из Берлина на совещание секретарей коммунистических и рабочих партий стран Варшавского договора и хотел, если бы мог, избежать публичности.
Москва показалась Ульбрихту безмятежной, особенно по сравнению с его родным Берлином. На Красной площади туристические группы слушали рассказы экскурсоводов. На Москве-реке уже появились первые экскурсионные катера и вышедшие на утреннюю тренировку гребцы на байдарках. На берегу реки был открыт огромный плавательный бассейн. Это было время школьных каникул, и город заполняли родители с детьми.
Хрущев с Ульбрихтом встречались, чтобы обговорить последние детали закрытия границы, прежде чем представить этот вопрос на одобрение прибывшим в Москву членам стран Варшавского договора. Кроме того, Ульбрихт хотел, чтобы его союзники обсудили вопрос об оказании срочной экономической помощи в ответ на санкции Запада.
Оба руководителя в течение прошлого месяца внимательно отслеживали ход подготовительных работ своих спецслужб и вооруженных сил, поэтому не было никакой необходимости в подробном обсуждении деталей операции. Хрущев сказал, что вместе они «окружат Берлин железным кольцом… наши войска создадут кольцо, а ваши войска будут контролировать его». Советы направили в Берлин дополнительно четыре тысячи солдат именно тогда, когда совещались Хрущев и Ульбрихт. Хрущев сказал Ульбрихту, что он направит танки на границу с Восточной Германией.
В то утро основная цель их встречи заключалась в согласовании времени. Хрущев сказал, что хочет отложить подписание мирного договора с Ульбрихтом до окончательного закрытия границы. Кроме того, он не хотел, чтобы Ульбрихт предпринимал действия против доступа в Западный Берлин. Ульбрихт, несмотря на то что все еще хотел подписать мирный договор с Москвой, согласился, что это второстепенный вопрос. Для того чтобы остановить поток беженцев и спасти страну, следовало в первую очередь закрыть границу. Ульбрихт сказал советскому лидеру, что ему понадобится всего неделя, чтобы подготовиться к закрытию движения между Восточным и Западным Берлином.
«Когда вам удобнее это сделать? – спросил Хрущев. – Сделайте это когда хотите, мы в любое время будем к этому готовы».
Ульбрихт, опасаясь утечки информации и стремясь как можно скорее решить проблему с беженцами, сказал, что хочет сделать это как можно раньше. Он предложил начать операцию в ночь с субботы на воскресенье, с 12 на 13 августа.
Хрущев, отметив, что тринадцатое считается на Западе несчастливым числом, пошутил, что «для нас и всего социалистического лагеря этот день на самом деле будет очень счастливым».
Хрущева, строителя Московского метро, очень интересовали технические детали операции.
«Как будет осуществляться контроль над улицами, где одна сторона проходит по ГДР, а другая – по ФРГ?» – поинтересовался советский лидер.
«У нас готов конкретный план, – ответил Ульбрихт. – Выходы из домов, ведущие в Западный Берлин, будут замурованы. В других местах установим заграждения из колючей проволоки. Колючую проволоку уже доставили. Это все можно сделать очень быстро».
Хрущев отклонил предложение Ульбрихта о созыве экономической конференции по вопросу оказания необходимой помощи восточногерманской экономике. Советский лидер опасался, что Запад раньше времени узнает об их планах – и это приведет к увеличению потока беженцев. Ульбрихт должен приложить все усилия, чтобы как можно лучше подготовиться к закрытию границы, сказал Хрущев.
Кроме того, Хрущев строго предостерег Ульбрихта против каких-либо акций, затрагивающих территорию Западного Берлина или пути доступа туда из Западной Германии, сказав ему: «Ни одного миллиметра дальше». Все сигналы, посылаемые Кеннеди Хрущеву, начиная с Венского саммита, обращения 25 июля и до телевизионного интервью Фулбрайта, свидетельствовали о том, что Хрущев будет в безопасности, пока все действия Советов и Восточной Германии ограничиваются территорией советского блока и не нарушают прав союзников на доступ в Берлин. Последняя беседа с послом Томпсоном убедила Хрущева, что Кеннеди и Аденауэр будут только рады закрытию границы.
Двумя днями ранее Хрущев сказал Ульбрихту:
«Если закрыть границу, то и американцы, и западные немцы будут довольны. Томпсон сказал мне, что перебежчики доставляют западным немцам большие неудобства. Так что все будут довольны. И кроме того, они почувствуют вашу власть».
Хрущев обратился к лидерам государств – членов Варшавского договора, приехавшим на совещание в Москву, с предложением одобрить закрытие секторной границы между восточногерманскими и западногерманскими территориями. «Мы предлагаем, чтобы страны Варшавского договора согласились в интересах прекращения подрывной деятельности осуществлять контроль вдоль границ ГДР, включая границы в Берлине, соответствующий тому, который существует вдоль государственных границ западных держав».
На проходившем в течение трех дней, с 3 по 5 августа, совещании Ульбрихту не удалось добиться всего, что он хотел. Его соседи по социалистическому лагерю единогласно одобрили закрытие границ. Однако союзники Ульбрихта не давали никаких экономических гарантий. Один за другим лидеры коммунистических партий – Владислав Гомулка, первый секретарь ЦК Польской объединенной рабочей партии, Антонин Новотный, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Чехословакии, и Янош Кадар, генеральный секретарь Венгерской социалистической рабочей партии, – с волнением говорили о том, какие ответные меры может предпринять Запад против всего блока, и жаловались на ограниченность собственных ресурсов. Гомулка даже хотел, чтобы Ульбрихт подумал, какую помощь он может оказать в случае западного бойкота всего блока. Его волновал вопрос, как все это отзовется на Польше, имеющей большие долги и торгующей с Западом.
Новотный предупредил Ульбрихта, что он не должен рассчитывать на него в части продуктов питания, поскольку в его стране проблемы с сельскохозяйственным производством. Он опасался, что Чехословакия, которая более активно, чем остальные страны Варшавского договора, торговала с Западом, пострадает больше, чем другие. Кадар сказал, что следовало раньше обсудить возможные экономические последствия закрытия восточногерманской границы, поскольку экономика его страны зависит от торговли с Западом, и в частности с Западной Германией.
Хрущев был неприятно удивлен выступлениями товарищей.
«Я думаю, мы должны помочь ГДР. Давайте, товарищи, осознаем это лучше, глубже и более остро… Теперь, товарищи, мы все поможем ГДР. Я не буду говорить, кто из вас поможет больше. Все должны помочь, и должны помочь больше. Давайте так посмотрим на это: если мы сейчас не обратим внимания на нужды ГДР и не принесем жертвы, они не смогут выжить; у них недостаточно внутренних сил. Что будет, если не станет ГДР?» – требовательно спросил Хрущев у сидящих перед ним товарищей. Они хотят увидеть на своих границах западногерманскую армию? Укрепляя позицию Восточной Германии, «мы укрепляем наши позиции», – сказал он, с горечью отметив отсутствие солидарности в своем блоке. Большинство присутствующих не испытывали на себе угрозы со стороны Запада и все сильнее зависели от него в экономическом отношении, а потому их не убеждали доводы Хрущева.
Когда товарищи коммунисты спросили Хрущева, почему его больше не волнует военный ответ Соединенных Штатов, он сказал, что благодаря его давлению и риторике Запад отреагировал менее решительно, чем он ожидал. Соединенные Штаты, заметил советский лидер, «оказались менее жесткими, чем мы предполагали», в отношении Берлина. Он заявил, что противник, конечно, еще «покажет себя, но мы уже сейчас можем отметить, что ожидали большее давление, но до сих пор самой сильной угрозой была речь Кеннеди».
Хрущев сказал своим союзникам, что, по его мнению, американский сенат «очень похож на наше древнее новгородское вече. Когда собирались бояре, чтобы решить какой-нибудь вопрос, они кричали, орали, за бороды друг друга таскали и таким способом решали, кто прав. Побеждала партия, которая вырвет больше волос из бород представителей другой партии. В другом виде, но такое сейчас положение и в США».
Он даже с ностальгией вспомнил время, когда государственным секретарем был Джон Фостер Даллес, который, хоть и был антикоммунистом, обеспечивал большую «стабильность» в американо-советских отношениях. Что касается Кеннеди, сказал Хрущев, он «понимает его… он слишком легковесный и для республиканцев, и для демократов». Хрущев был уверен, что его слабый и нерешительный противник не сможет ответить надлежащим образом.
Ульбрихт вернулся домой. Приближался самый важный день его жизни – его страны. Но вначале ему предстояло выдержать схватку с восточногерманским пролетариатом.
Ульбрихт сцепился с Куртом Висмахом
Кабельный завод Обершпрее, Восточный Берлин
Четверг, 10 августа 1961 года
Оставалось меньше сорока восьми часов до начала операции, когда Вальтер Ульбрихт приехал на встречу с рабочими кабельного завода Обершпрее, расположенного в южной части Восточного Берлина. В огромном помещении собрались приблизительно полторы тысячи рабочих в комбинезонах и деревянных башмаках для защиты от поражения электрическим током и попадания расплавленного металла. Для лучшего обзора некоторые взобрались на грузоподъемные краны, а некоторые устроились на кабельных катушках высотой три с половиной метра.
Ульбрихт сообщил рабочим, что только что вернулся из Москвы и «очень важно, чтобы был без задержек подписан мирный договор между Восточной Германией и нашим замечательным товарищем и союзником Союзом Советских Социалистических Республик». Он воинственно заявил, что «никто не сможет остановить социализм… Даже те, кто попал в руки работорговцев». Он сообщил, что восточногерманская экономика теряет два с половиной миллиарда марок в год из-за беженцев. «Каждый гражданин нашего государства согласится со мной, что мы должны положить этому конец».
Курт Висмах, который поначалу показался Ульбрихту просто одним из рабочих, начал постепенно закипать, поскольку за словами Ульбрихта скрывалось свойственное коммунистам лицемерие. Наполненный ложным ощущением силы, поскольку он возвышался над Ульбрихтом, сидя на кабельной катушке, Висмах стал насмешливо аплодировать после каждого заявления Ульбрихта. Казалось, ничто не может помешать его рукам хлопать, а ему кричать.
«Я скажу, даже если никто меня не поддержит: свободные выборы!» – выкрикнул он.
Ульбрихт посмотрел на рабочего и раздраженно крикнул в ответ: «Подождите немного. Мы все приведем в порядок!»
Висмах крикнул в ответ тому, кого боялись миллионы: «Хорошо, а мы посмотрим, что это будет за порядок!»
Ульбрихт прикрикнул на него, а затем оглядел всех сидящих и стоящих вокруг него, словно беря их в союзники: «Свободные выборы! Что это вы хотите свободно выбирать? Ответьте людям!»
К этому моменту Висмах уже говорил с отчаянностью человека, который зашел слишком далеко, чтобы перестроиться. «Вы хоть чуть-чуть представляете, что на самом деле думают люди?» – выкрикнул он. Он увидел, что никто не поднял руки, ни один человек не поддержал его.
Ульбрихт замахал руками и выкрикнул в ответ, что свободные выборы в 1920-х и 1930-х дали стране Гитлера и привели к Второй мировой войне. «А теперь я спрошу вас: вы хотите пойти по тому же самому пути?» – «Нет, нет», – послышались выкрики из толпы голосистых партийных лоялистов, составлявших явное меньшинство. Ульбрихт, выдвигая новые контраргументы, каждый раз обращался к толпе с просьбой поддержать его, и эта группа с каждым разом все громче выражала поддержку лидеру коммунистов. Остальные рабочие, которые, вероятно, поддерживали Висмаха, – похоже, большинство – стояли молча. Они понимали, что в противном случае их ждет наказание, с которым неизбежно столкнется их красноречивый товарищ.
«Один враждебно настроенный болтун думает, что показывает себя необыкновенно смелым! – выкрикнул Ульбрихт. – Лучше найди смелость бороться против германского милитаризма!»
Группа убежденных сторонников горячо отозвалась на слова своего лидера.
«Кто поддерживает свободные выборы – поддерживает гитлеровских генералов!» – выкрикнул побагровевший Ульбрихт.
Под аплодисменты толпы Ульбрихт выскочил из помещения.
На следующий день приверженцы партии подвергли Висмаха допросу; среди других был вопрос о том, не занимается ли он торговлей людьми и не является ли членом западных шпионских агентств. Его заставили написать объяснительную записку, в которой он извинялся за свое поведение, а также соглашался с понижением в должности и в зарплате.
Спустя несколько дней Висмах сбежал из Восточного Берлина с женой и ребенком. Он был последним, кому удалось так легко убежать на Запад.
Глава 14. Стена: установка ловушки
ГДР должна была справиться с врагом, который был очень влиятельным в экономическом отношении и потому очень привлекательным для граждан ГДР… Получающаяся в результате утечка рабочих создавала просто катастрофическую ситуацию в ГДР, которая и так страдала от нехватки рабочих рук, не говоря уже о квалифицированной рабочей силе. Если бы это продолжалось и дальше, я не могу сказать, что бы могло произойти.
Н.С. Хрущев объясняет в своих воспоминаниях, почему он принял решение дать согласие на закрытие берлинской границыПериод, в который мы вступаем, покажет, все ли мы учли и все ли приняли меры предосторожности. Теперь мы должны доказать, понимаем ли политику партии и способны ли выполнять ее приказы.
Эрих Мильке, глава восточногерманской тайной полиции, последний инструктаж перед началом операции, 12 августа 1961 годаШтаб-квартира коммунистической партии (Социалистической единой партии Германии, СЕПГ), Восточный Берлин
Среда, 9 августа 1961 года
Подобно опытному режиссеру, готовящемуся к спектаклю, о котором мечтал всю жизнь, Вальтер Ульбрихт отрабатывал каждую сцену со своими помощниками в последние решающие часы перед началом представления, назначенного на 13 августа. Его драму, под кодовым названием «Операция «Роза», предстояло сыграть всего один раз в течение одной ночи. Он должен был все правильно сделать с первого раза.
Ни одна самая мельчайшая деталь не ускользала ни от внимания Ульбрихта, ни от внимания человека, который был назначен руководить представлением, Эриха Хонеккера, члена Национального совета обороны. Сорокавосьмилетний Хонеккер обладал двумя качествами, которые говорили в его пользу: преданностью, которая не вызывала сомнений, и организаторскими способностями.
Этот человек, с зачесанными назад седеющими волосами и с улыбкой Моны Лизы, проделал длинный путь, начав его молодым, красивым коммунистическим подстрекателем, который в 1930-х годах провел около десяти лет в гитлеровских тюрьмах, преобразившимся в зрелого, импозантного политика, занимающего высокое положение. Хонеккер понимал, что с помощью этой операции он может обогнать своих конкурентов и получить больше всех шансов стать преемником Ульбрихта. Кроме того, в этом было спасение для немецкого социализма. А вот провал операции означал крах его карьеры и, вероятно, его страны.
Окончательный контрольный перечень вопросов Хонеккера был столь же длинным, сколь и подробным.
Он хотел знать, хватит ли купленной его людьми колючей проволоки, чтобы отгородить Западный Берлин; для этой цели требовалось 96 миль, или 155 километров, колючей проволоки. Для того чтобы не вызывать подозрений, сотрудники Хонеккера выбрали в качестве покупателей восточных немцев, которые, ничего не зная друг о друге и не задумываясь, с какой целью это делается, заказали по их просьбе у разных изготовителей в Великобритании и Западной Германии необходимое количество колючей проволоки.
Ни один из западных деловых партнеров не поднял тревогу. Хонеккер не нашел свидетельств того, что западным спецслужбам что-то показалось подозрительным и они приступили к расследованию. Ну, заказал кто-то товар, и что с того? Невольно на ум пришло ленинское пророчество: «Капиталисты продадут нам веревку, на которой мы их повесим». В данном случае капиталисты торговали в розницу колючей проволокой, за которую коммунисты хотели посадить свой народ. Для того чтобы избежать нежелательной реакции, люди Хонеккера сняли с проволоки ярлыки британских и западногерманских производителей и сожгли их.
Восточные немцы и их советские советники нанесли на карту каждый метр внутренней границы длиной 27 миль (43,5 километра), которая проходила через центр города, и оставшиеся 69 миль границы за пределами города. Они отметили все особенности, присущие каждому отрезку границы на всем ее протяжении.
24 июля заместителю Хонеккера, Бруно Вансирски, пятидесятишестилетнему партийному технократу и профессиональному плотнику, было вменено в обязанность осуществлять надзор за проведением работ. Для того чтобы скрыть истинную цель, отчет Вансирски носил безобидное название: «Краткий обзор ведения работ на западном внешнем кольце Берлина». Те, кто позже ознакомился с документами по строительству стены, сравнили их с нацистскими проектами строительства и эксплуатации концентрационных лагерей – они отличались такой же придирчивой тщательностью. Проект Ульбрихта был, конечно, менее жестоким, но его выполнение было не менее циничным.
За три недели до установленного срока Вансирски – начальник отдела безопасности Центрального комитета Социалистической единой партии Германии – доложил, что до сих пор не хватает необходимых материалов для выполнения примерно 60 процентов работ. Согласно составленному им перечню материалов, для решения задачи не хватало приблизительно 2100 бетонных столбов, 1100 килограммов металлических скоб, 1700 килограммов соединительной проволоки и 31,9 тонны проволочной сетки. Но самое главное, не хватало 303 тонн колючей проволоки!
За две недели, прошедшие с рапорта Вансирски, в результате бешеной деятельности были решены все вопросы с поставками. 9 августа к удовольствию Ульбрихта все было в порядке. Десятки грузовиков тайно привезли сотни бетонных столбов из Айзенхюттенштадта, промышленного города на Одере, близ границы с Польшей, и сложили в полицейских бараках в Панкове, район Берлина, и некоторых других районах.
Несколько сотен полицейских со всех концов Восточной Германии собрались на огромной территории министерства государственной безопасности в Хохеншёнхаузене на окраине Берлина. Одни собирали деревянные козлы, которые поначалу использовали в качестве уличных барьеров, и вбивали гвозди и крюки. Другие, в специальных защитных рукавицах, натягивали колючую проволоку (для этой работы потребовались тысячи пар рукавиц).
Ульбрихт тщательно продумал, где и когда должны быть задействованы воинские и полицейские подразделения. В 1:30 13 августа была сформирована живая цепь вокруг Западного Берлина, чтобы пресечь любые попытки сбежать в Западный Берлин, пока рабочие устанавливали заграждения. Для формирования живой цепи Ульбрихт использовал только пользующиеся наибольшим доверием подразделения: пограничной полиции, резервной полиции, курсантов школы полиции и военизированные «боевые группы», состоявшие из рабочих.
Для каждого небольшого участка границы были составлены подробнейшие планы действия. К примеру, командующий пограничной полицией Эрих Петер планировал развернуть цепь из девяноста семи офицеров на Фридрихштрассе, самом важном перекрестке Восточного Берлина, – один человек на один квадратный метр. Согласно его плану еще тридцать девять офицеров должны были соорудить барьеры из колючей проволоки, бетонных столбов и козел.
Солдаты регулярной армии формировали вторую линию обороны и в случае чрезвычайной ситуации должны были заполнить пробелы в первой линии. Советские войска находились в состоянии боевой готовности и должны были принять участие в операции только в случае вмешательства союзных войск или если бы стало понятно, что восточногерманские подразделения не справляются с поставленной задачей.
Заместители Ульбрихта были мелочно дотошны во всем: они вычислили, сколько потребуется боеприпасов для решения задачи, но с тем условием, чтобы не было беспорядочной стрельбы. В наиболее уязвимых пограничных точках полицейские были вооружены карабинами с заранее вставленными двумя обоймами по пять холостых патронов каждая. Они получили приказ делать предупредительные выстрелы в воздух холостыми патронами, чтобы призвать в случае неповиновения жителей Восточного и Западного Берлина к порядку. Если же с помощью предупредительных выстрелов не удастся успокоить толпу, то у каждого полицейского было по три запасных обоймы с боевыми патронами. Стрелять боевыми патронами они могли только по команде офицеров.
Вторую линию обороны формировали солдаты Национальной народной армии ГДР, вооруженные автоматами и ограниченным количеством боевых патронов. Для того чтобы избежать инцидентов, были приняты меры предупреждения случайностей: магазины с боевыми патронами находились в подсумке на поясном ремне. Ульбрихт принял решение, что с самого начала полностью вооружены будут только пользующиеся полным доверием подразделения: 1-я моторизованная дивизия, несколько отрядов рабочей милиции и два охранных подразделения – одно армейское, одно, входившее в состав Штази, министерства государственной безопасности ГДР.
В 1:00 в Восточном Берлине погасли все уличные фонари, и у полицейских и воинских подразделений было тридцать минут, чтобы в городе, освещенном только лунным светом, организовать вдоль границы живую цепь. Затем у них было еще сто восемьдесят минут на то, чтобы установить по всему городу заградительные барьеры и полностью перекрыть шестьдесят восемь из восьмидесяти одного перекрестка к Западному Берлину. Для осуществления восточногерманской полицией контрольно-пропускного режима оставили всего тринадцать пограничных пунктов.
Точно в 1:30 восточногерманские власти остановили весь общественный транспорт. На станции Фридрихштрассе, главном переходном пункте между Востоком и Западом, пассажирам поездов, прибывших из Западного Берлина, запретили выходить из вагонов. На ключевых переездах группы рабочих приступили к демонтажу железнодорожного полотна. В это же время часть подразделений приступила к установке заграждений из колючей проволоки, и для пресечения беспорядков в помощь сотрудникам станций было направлено восемьсот сотрудников транспортной полиции.
Согласно плану операция должна была закончиться в шесть утра.
13 августа в начале второго ночи по радио было передано официальное заявление, услышанное не только во всех уголках Восточной Германии, но и во всем мире. В нем Ульбрихт возлагал ответственность за свои действия на западногерманское правительство, которое вынашивает «планы гражданской войны», которые воплотят в жизнь «охваченные местью и воинственно настроенные силы». В заявлении говорилось, что закрытие границы предпринято с «единственной целью» – защитить граждан Восточной Германии от «вражеской деятельности реваншистских и милитаристских сил Западной Германии».
С этого момента восточным немцам разрешалось ходить в Западный Берлин только по специальным пропускам, которые выдавались в министерстве внутренних дел. Спустя десять дней жителям Западного Берлина разрешили посещать Восточный Берлин.
Ульбрихт не упустил ни одной детали. Те, кто хорошо знал Ульбрихта, редко видели его таким спокойным и довольным.
Советское посольство, Восточный Берлин
Среда полдень, 9 августа 1961 года
Ульбрихт бесстрастно рассказывал послу Первухину о последних приготовлениях. Товарищ Ульбрихт, с молодости обладавший организаторскими способностями, был в своей стихии. Он говорил, не пользуясь записями, поскольку обладал феноменальной памятью. Несмотря на достаточно большую активность, по его мнению, западные спецслужбы пока ничего не заподозрили и не планировали контрмер. Первухин должен сообщить Хрущеву, сказал Ульбрихт, что операция осуществляется в соответствии с запланированным графиком.
Хрущев был вынужден констатировать, что массовое бегство из Восточной Германии достигло чудовищных размеров: десять тысяч беженцев в неделю, и бывали дни, когда число беженцев достигало двух тысяч человек. Позже советский лидер вспоминал, как он пришел к решению дать согласие на закрытие границы. «ГДР должна была справиться с врагом, который был очень влиятельным в экономическом отношении и потому очень привлекательным для граждан ГДР… Получающаяся в результате утечка рабочих создавала просто катастрофическую ситуацию в ГДР, которая и так страдала от нехватки рабочих рук, не говоря уже о квалифицированной рабочей силе. Если бы это продолжалось и дальше, я не могу сказать, что бы могло произойти».
Хрущев был вынужден выбирать между действием, которое свидетельствовало не в пользу коммунизма, и отказом действовать, что могло привести к утрате советского контроля над Восточной Европой. Он потратил много времени, пытаясь найти выход. Что надо сделать, размышлял советский лидер, чтобы остановить массовое бегство молодых немцев в Западную Германию? Какие следует создать условия, которые позволят государству остановить непрекращающийся поток беженцев?
Он понимал, что критики, «особенно в буржуазном обществе», скажут, что Советский Союз удерживает восточногерманских граждан против их желания. Люди будут говорить, что «врата социалистического рая охраняются вооруженными войсками». После долгих раздумий Хрущев пришел к выводу, что закрытие границы «необходимая, но временная мера». Однако советский лидер был уверен, что этой проблемы вполне могло не быть, если бы Ульбрихт активнее выявлял «духовный и материальный потенциал, накопленный диктатурой пролетариата».
Но это утопия, а Хрущев имел дело с реальным миром. Он понимал, что Восточная Германия, наряду с другими восточноевропейскими сателлитами Советского Союза, должна «когда-нибудь достигнуть уровня духовного и материального развития, при котором будет возможно соперничать с Западом». Он был вынужден честно сказать себе: нет способа достаточно быстро поднять восточногерманскую экономику, остановить поток беженцев и предотвратить крах Восточной Германии перед лицом такого подавляющего материального превосходства Западной Германии.
Удержание – вот единственный выход из создавшегося положения.
Восточный Берлин
Пятница, 11 августа 1961 года
Меньше чем за тридцать шесть часов до начала операции советский маршал, герой войны Иван Конев впервые встретился с Ульбрихтом. Для обеспечения дисциплины и успеха операции Хрущев назначил Конева главнокомандующим группой советских войск в Германии, а генерала Ивана Якубовского, который занимал этот пост, сделал первым заместителем Конева [61].
Со стороны Хрущева это был символичный жест. Один из выдающихся людей в советской истории вновь возвращался в Берлин, чтобы дать ответный бой.
В свои шестьдесят три года Конев был высоким, энергичным мужчиной с гладко выбритой головой и голубыми насмешливыми глазами. Во время Второй мировой войны его войска, освободив Восточную Европу, ворвались в столицу Германии с юга и, вместе с солдатами маршала Жукова, одержали победу над нацистами в кровавой битве за Берлин в мае 1945 года. За проявленный героизм он был награжден шестью орденами Ленина, ему дважды присваивалось звание Героя Советского Союза, и он был первым главнокомандующим объединенными вооруженными силами стран Варшавского договора.
Он, как самый подходящий для выполнения такого рода задач, руководил подавлением восстания в Будапеште в 1956 году; в результате погибло две с половиной тысячи венгерских граждан и семьсот советских солдат. Приблизительно двести тысяч венгров сбежали из страны. Хрущев помнил о том, как Конев во время войны обходился с немцами, и понимал, что маршал не станет отказываться от самых кровавых решений.
Ближе к концу Второй мировой войны Конев преследовал немецкую дивизию, отступившую в село Шендеровка. Окружив село, чтобы не дать немецким солдатам, нашедшим там убежище в надежде переждать пургу и отдохнуть, ускользнуть от преследования, Конев сбросил на Шендеровку зажигательные бомбы. Его танки Т-34 носились взад и вперед по равнине и сотнями давили отступающих из Шендеровки немцев. Рассказывали, что казацкие кавалеристы рубили последних оставшихся в живых саблями, даже отрубая поднятые руки тех, кто сдавался. Солдаты Конева убили приблизительно двадцать тысяч немцев [62].
Хрущев рисковал, отправляя такого непримиримого командира в Восточную Германию всего за несколько дней до якобы секретной операции. Накануне генерал Якубовский пригласил офицеров связи, представителей трех западных союзников, в Берлин на встречу со своим преемником.
«Господа, моя фамилия Конев, – сказал генерал сиплым голосом. – Вы, вероятно, слышали обо мне».
Конев с удовольствием отметил удивление, появившееся на лицах западных союзников, после того, как переводчики перевели им его слова. «Вы аккредитованы при главнокомандующем группой советских войск в Германии, – продолжал Конев. – Ну а теперь я главнокомандующий, значит, с этого момента вы прикомандированы ко мне». Он попросил, чтобы они сообщили своим начальникам о его назначении и о том, что его товарищ, генерал Якубовский, будет его первым заместителем.
Конев спросил, есть ли у них вопросы. После небольшой паузы американский и британский офицеры передали поздравление с назначением от лица своих начальников. А французский офицер сказал, что не может этого сделать, поскольку его начальник не знает ни о появлении Конева, ни о его назначении на пост главнокомандующего.
«Как солдат солдату, – сказал Конев, улыбнувшись французскому офицеру, – позвольте сказать вам то, что вы можете передать вашему генералу. Я постоянно напоминаю своим офицерам, что командир никогда не должен быть застигнут врасплох».
Шутка была удачной, учитывая, что должно было произойти дальше.
Конев не получил особых распоряжений относительно того, как действовать в том случае, если западные державы будут реагировать на закрытие границы более агрессивно, чем предполагалось. Хрущев доверял своему безжалостному командующему, считая, что он примет правильное решение. Конев, действуя как непосредственный начальник Ульбрихта, напомнил восточногерманскому лидеру, что для успеха операции необходимо выполнение двух условий. Закрывая границу, сказал он, восточногерманские подразделения ни в коем случае не должны лишать жителей Западного Берлина и западных союзников возможности перемещаться в Западную Германию и из нее по воздуху, шоссейным и железным дорогам.
Во-вторых, продолжил Конев, операцию следует провести очень быстро, со скоростью ветра. Хрущев распланировал все таким образом, чтобы «установление пограничного контроля в ГДР не дало Западу права решить наш спор с помощью войны». Для этого, считал Конев, крайне важна скорость проведения операции, чтобы поставить всех перед свершившимся фактом, обеспечить преданность восточногерманских сил и отговорить отчаянных американских командиров от импровизаций. Кроме того, быстро выполненная операция покажет Западу, что коммунистические войска закрепились на местности и уже ничего нельзя изменить.
Народная палата, Восточный Берлин
10:00, пятница, 11 августа 1961 года
Двадцатишестилетний Адам Келлетт-Лонг из агентства Рейтер был единственным новостным корреспондентом, базировавшимся в коммунистическом Восточном Берлине, и это его очень устраивало. Стая репортеров билась за мельчайшую информацию, а у него в соответствии с договором между восточногерманским правительством и информационным агентством были аккредитация и офис в Восточном Берлине. Ульбрихт называл Келлетт-Лонга «моя маленькая тень», доброжелательно относясь к его частому присутствию рядом с собой.
Однако раздавшийся в то утро телефонный звонок из восточногерманского пресс-центра удивил молодого репортера: его убедительно просили прибыть в пятницу 11 августа в 10:00 на Луизенштрассе, чтобы сделать репортаж о чрезвычайном заседании Народной палаты. Британский репортер обычно пропускал скучные заседания Народной палаты, поскольку было маловероятно, что редакторы напечатают отчеты об этих заседаниях. Он понимал, что должна быть причина, по которой восточногерманские власти так настаивали на его присутствии.
В тот день совет принял то, что Келлетт-Лонг назвал «загадочной резолюцией», рассказав, что участники одобрили любые меры, которые восточногерманское правительство пожелает предпринять в отношении «реваншистской» ситуации в Берлине.
Покинув зал заседаний, Келлетт-Лонг пристал с вопросами к своему самому надежному источнику, Хорсту Зиндерману, заведующему отделом пропаганды ЦК коммунистической партии. «Что все это значит?» – спросил у него Келлетт-Лонг.
Зиндерман был менее разговорчив, чем обычно. Он молча оглядел молодого британца через толстые стекла очков, поправил пряди темных волос на лысеющей голове, а затем, взвешивая каждое слово, сказал: «Если бы я был на вашем месте и планировал уехать из Берлина на выходные, я бы не стал этого делать».
А затем восточный немец затерялся в толпе.
Позже Келлетт-Лонг вспоминал: «Было совершенно ясно, что в выходные в коммунистической стране что-то должно было произойти».
Британский репортер проверил новостные сообщения, но не нашел никаких подсказок. В то утро Sender Freies Berlin («Свободное радио Берлина»), радиостанция в Западном Берлине, финансируемая Соединенными Штатами, сообщила о небывалом количестве восточных немцев, прибывших в лагерь Мариенфельде – лагерь для приема беженцев из Восточной Германии. Келлетт-Лонг со смехом сказал жене, что, по его подсчетам, Восточная Германия полностью опустеет к 1980 году.
В тот день официальная радиостанция Восточного Берлина Deutschalandsender ничего не сообщила о беженцах – и у Келлетт-Лонга больше не появилось ни единой подсказки. Сенсацией оставалось сообщение о полете второго человека в космос, советского космонавта Германа Титова, который провел в космосе двадцать пять часов, сделав семнадцать оборотов вокруг Земли, и благополучно вернулся на Землю. В сообщении говорилось о «беспрецедентном в истории человечества» достижении и подчеркивалось, что это событие в очередной раз доказало превосходство социалистической системы, что так упорно опровергали сообщения о возросшем потоке беженцев.
Упорно пытаясь понять, что имел в виду Зиндерман, британский репортер съездил на Восточный вокзал, который использовался преимущественно для международного сообщения, куда он часто приезжал для наблюдения за потоком беженцев. Ему показалось, что в этот день людей на вокзале было больше, чем обычно, но что еще больше удивило Келлетт-Лонга, так это большое количество полицейских в форме и в штатском.
Полицейские действовали весьма энергично, вытаскивая, скорее всего, наугад из толпы десятки людей; одних они арестовывали, а других отпускали. Британец сделал короткую запись в блокноте: «Крупная полицейская операция». Однако Келлетт-Лонгу показалось, что восточногерманские власти проигрывают борьбу, пытаясь руками удержать море. Он видел, как они напряжены.
Келлетт-Лонг вернулся в офис и написал статью, которая вызвала отклик в редакциях по всему миру. «В эти солнечные выходные дни Берлин затаил дыхание в ожидании решительных мер, с помощью которых будет остановлен поток беженцев в Западный Берлин», – говорилось в статье. Основываясь на намеке Зиндермана, он сообщил, что «в скором времени» последует реакция властей.
Келлетт-Лонг был уверен, что пессимистический тон его довольно дерзкой статьи сильно не понравится начальникам. В своей статье Келлетт-Лонг перечислил несколько возможных вариантов будущих событий. Вот что он сообщил своим читателям: восточногерманские власти могут ужесточить контроль над пассажирами. Они могут ужесточить систему наказаний в отношении тех, кто пойман при попытке к бегству. А что, если восточных немцев отрежут от мира?
Такого варианта Келлетт-Лонг не мог представить.
Штаб-квартира Штази, Норманненштрассе, Восточный Берлин
Вторая половина пятницы, 11 августа 1961 года
Во время первого инструктажа заместителей относительно предстоящей работы в выходные дни начальник Штази Эрих Мильке присвоил историческому моменту кодовое название. «Эта операция будет носить название «Роза», – объявил Мильке. Он не объяснил, почему было выбрано такое название, но высказывалось предположение, что десятки тысяч шипов колючей проволоки вызывали ассоциацию с этим красивым цветком.
Мильке источал уверенность в себе. Хотя его рост был всего сто шестьдесят пять сантиметров – такого же роста были Ульбрихт и Хонеккер, – он был более крепкого телосложения, более спортивный и выглядел солиднее, чем они. У него всегда были мешки под темными глазами и легкая щетина.
В 1931 году Мильке, которому на тот момент было двадцать четыре года, начал свою коммунистическую карьеру с убийства двоих берлинских полицейских во время коммунистического митинга перед входом в кинотеатр «Вавилон». После убийства в местном пабе Мильке с гордостью заявил товарищам: «Сегодня мы отмечаем поступок, который я совершил!» Партийные товарищи тайно вывезли Мильке из Германии, где он был признан виновным в совершении преступления. Затем Мильке перебрался в Москву, где проходил учебу и подготовку в качестве советского офицера разведки.
С 1957 года Мильке возглавлял министерство государственной безопасности, но приближалось время решающей проверки его сложного аппарата, состоявшего из восьмидесяти пяти тысяч штатных сотрудников и ста семидесяти тысяч осведомителей. Большая часть его высокопоставленных офицеров, собравшихся в столовой в штаб-квартире тайной полиции, до этого момента ничего не знали о предстоящей операции.
«Сегодня мы начинаем новую главу в нашей чекистской работе, – сказал он своим сотрудникам; он часто ссылался на ЧК, «карающий меч» большевистской революции. – Эта новая глава нуждается в мобилизации каждого члена сил государственной безопасности. Период, в который мы вступаем, покажет, все ли понимаем и занимаем ли твердую позицию. Теперь мы должны доказать, что понимаем политику партии и способны выполнять ее приказы».
Мильке поддерживал форму, почти не употреблял спиртное, не курил, но у него было три слабости: страсть к прусской маршевой музыке, к охоте, которую он устраивал в заповедниках для высших коммунистических чиновников, и футболу – его любимой командой была команда спортивного общества «Динамо», которая регулярно выигрывала чемпионаты благодаря его махинациям. Однако то, что он намеревался делать сейчас, ни шло ни в какое сравнение с игрой.
Он объяснил своим офицерам, что работа, которую им предстоит выполнить, «продемонстрирует силу нашей республики… Главное, что следует помнить: быть внимательными, предельно собранными, активными и ликвидировать любые проявления недовольства. Нельзя позволить врагу активизироваться; не позволять врагам скапливаться в одном месте».
Мильке издал распоряжение относительно предстоящих выходных, начиная от того, как контролировать частные предприятия, до точной оценки «вражеских сил» на уровне каждого участка. Он хотел, чтобы тайная полиция обеспечила боевую готовность и верность политическим идеалам путем по возможности тесного контакта с офицерами. «Пресекать любые враждебные действия. Врагов арестовывать на месте. Наша цель состоит в том, чтобы пресекать все негативные явления. Вражеские силы должны быть немедленно арестованы… если они начнут проявлять активность».
Мильке принял на себя руководство после того, как в июне 1953 года его наставник Вильгельм Цайссер не смог подавить «рабочее восстание». Во многих случаях к восставшим рабочим присоединялись солдаты и полицейские. Волна забастовок прокатилась по всей стране; порядок был восстановлен с помощью советских танков и солдат.
Мильке был настроен устранять подобные проблемы, не дожидаясь критической ситуации и в корне пресекая любые проявления неповиновения.
Восточный и Западный Берлин
Суббота, 12 августа 1961 года
Для большинства берлинцев этот день ничем не отличался от других летних выходных дней.
Погода стояла хорошая. В этот день воздух прогрелся до 75 градусов (24 градуса по Цельсию), и время от времени находившие на солнце облака давали возможность отдохнуть от горячих августовских лучей. Всю прошлую неделю шли дожди, и берлинцы, обрадовавшись сухой и теплой погоде, сидели за столиками уличных кафе, гуляли в парках и загорали и купались, расположившись на берегах озер.
Один район на границе Западного и Восточного Берлина был закрыт для движения, но это было сделано из-за проводимой ежегодно детской ярмарки в Кройцберге, на Циммерштрассе. Узкая улица была украшена флагами и транспарантами, и пришедшие из всех секторов Берлина дети смеялись, играли и просили родителей купить мороженое и пирожные.
Большинство офицеров западных союзников проводили этот день с семьями. Некоторые ходили под парусом по озеру Ванзее и реке Хафель. Генерал-майор Альберт Уотсон II, комендант Берлина, играл в гольф в клубе, членство в котором было частью оккупационных прав.
У туристической компании «Северин + Кюн» выдался небывалый день. Туристические автобусы компании привозили туристов в эпицентр холодной войны и даже делали остановки в советском секторе. Туристам показывали, какие общественные здания нельзя фотографировать, но объясняли, что они могут сколько угодно снимать советский мемориал в Трептов-парке, гигантскую фигуру советского солдата, стоящего на обломках свастики; в одной руке солдат держит опущенный меч, а другой поддерживает спасенную им немецкую девочку.
В этот день в западноберлинских газетах была опубликована огромная статья о небывалом наплыве беженцев. В лагере Мариенфельде из громкоговорителей монотонным гнусавым голосом сообщались номера стоявших в очереди на регистрацию – «семьсот шестьдесят пятый, семьсот шестьдесят шестой, семьсот шестьдесят седьмой…»; к концу дня беженцев насчитывалось более двух тысяч.
Церковные служители, члены городских клубов и другие добровольцы, включая жен солдат союзнических войск, собрались, чтобы помочь накормить голодных беженцев и успокоить плачущих детей. Лагерь не мог вместить всех вновь прибывших, и людей устраивали на ночлег в классных комнатах, больницах и церквях. Генрих Альбертц, помощник бургомистра Брандта, позвонил в американскую миссию Джорджу Мюллеру, помощнику политического советника, с просьбой помочь с продуктами, поскольку в Мариенфельде закончились все продукты. «Так дальше продолжаться не может», – сказал он.
Мюллер выделил для этой цели несколько тысяч пайков из гарнизонных запасов. Их должно было хватить всего на несколько дней, но Альбертц был рад и этому.
С 1953 года Западный Берлин еще ни разу не наблюдал столь панического бегства. Переполнены были двадцать пять трехэтажных многоквартирных домов в Мариенфельде и двадцать девять временных лагерей, наскоро сооруженных для приема потока беженцев. Тысячи новых беженцев переправлялись из Западного Берлина в другие части Западной Германии, туда, где было много рабочих мест; ежедневно из Западного Берлина отправлялся двадцать один чартерный рейс.
Но и этого было недостаточно, чтобы справиться с человеческим потоком. Люди, проверявшие документы, практически перестали пытаться выделить настоящих беженцев из людского потока, в котором, конечно, были десятки восточногерманских шпионов, которых руководитель внешней разведки ГДР Маркус Вольф внедрял на Западе.
Когда на Берлин опустились сумерки, фейерверки, запускаемые на детском празднике, осветили небо. Пары, танцевавшие на плоской крыше нового берлинского отеля «Хилтон», перестали танцевать, с восторгом наблюдая за красочным шоу в небе. Все билеты в кинотеатры Западного Берлина были раскуплены, и больше половины зрителей составляли жители Восточного Берлина. В этом не было ничего удивительного: за марку двадцать пять пфеннигов они могли посмотреть такие имевшие большой успех фильмы, как «Неприкаянные» с Кларком Гейблом и Мэрилин Монро в Atelier аm Zoo; «Бен Гур» с Чарлтоном Хестоном и «Старик и море» со Спенсером Трейси в Delphi Filmpalast. Они могли посмотреть «По ком звонит колокол» с Гэри Купером и Ингрид Бергман в Studio на Курфюрстендамм или «Третий человек» с Орсоном Уэллсом в Ufa Pavillion.
В Западном Берлине шедший на сцене новый мюзикл Леонарда Бернстайна «Вестсайдская история» собирал аншлаг. В Восточном Берлине тоже были площадки с аттракционами. Сотни жителей Западного Берлина каждый вечер приходили в знаменитый «Берлинер ансамбль» [63] на новые спектакли Бертольта Брехта и в политическое кабаре «Дистель» [64].
А некоторые приезжали ради дешевых напитков в такие места, как расположенный в северо-восточном районе Панков бар «Риальто», работавший круглосуточно.
В тот вечер советские солдаты оставались в казармах. А вот британские, французские и американские солдаты гуляли по городу, наслаждаясь повышенным вниманием со стороны берлинских девушек – немецкие мужчины не могли тратить на девушек столько денег, сколько иностранные солдаты. Солдаты 1-го валлийского полка собрались в танцевальном зале, расположенном в британском секторе. У французов был свой танцевальный зал в солдатском клубе. Американские солдаты разошлись по своим клубам и любимым пабам – и, как обычно, по субботам они гуляли и пили всю ночь.
Нюрнберг, Западная Германия
Субботний вечер, 12 августа 1961 года
Кампания берлинского бургомистра Вилли Брандта по выборам канцлера вступила в завершающую фазу в Баварии, в Нюрнберге, расположенном примерно в полутора сотнях километров к северу от Мюнхена. Выступая на рыночной площади перед 60 тысячами избирателей, Брандт подверг острой критике своего соперника Аденауэра за отказ участвовать в публичных дебатах наподобие дебатов Кеннеди и Никсона.
Сорокасемилетний бургомистр задал толпе риторический вопрос, на который тут же дал ответ. «Почему каждый день в Западный Берлин приезжает так много беженцев? – взволнованно спросил он. – Исключительно потому, что Советский Союз готовит удар против нашего народа, серьезность которого понимают очень немногие». Он сказал, что восточные немцы боятся, что железный занавес опустится и они окажутся в гигантской тюрьме. «Они безумно боятся, что будут забыты и принесены в жертву на алтаре безразличия и упущенных возможностей».
Вилли Брандт, столь же пророческий, сколь поэтичный, выпустил еще одну стрелу в своего соперника Аденауэра, заявив, что «сегодня мы пребываем в самом серьезном кризисе за всю нашу послевоенную историю, но канцлер преуменьшает проблему…».
Он призвал всех немцев с обеих сторон принять участие в референдуме относительно своего будущего, будучи уверен, что они выберут демократический, западный курс. Если восточные немцы не смогут участвовать в референдуме, то проголосовать должны западные немцы и жители Западного Берлина. «У нас тоже есть право на самоопределение, и не потому, что мы лучше других, а потому, что мы не хуже других народов», – заявил Вилли Брандт.
Под громкие аплодисменты толпы обессиленный Вилли Брандт сел в поезд, состоявший из двух вагонов, в котором он путешествовал от одного города к другому. Следующая остановка была в Киле на побережье Северного моря [65].
Когда Брандт выступал в Нюрнберге, Аденауэр проводил кампанию ближе к Бонну, в Любеке. В отличие от Брандта речь Аденауэра была более пространной. В числе прочего он попросил восточных немцев прекратить паническое бегство на Запад, оставаться дома и помогать готовить Восточную Германию к объединению. «Наш долг – сказать нашим немецким братьям и нашим немецким сестрам с другой стороны границы: прекратите паниковать», – заявил Аденауэр, сделав акцент на слове «долг». В один прекрасный день немцы преодолеют разделение, сказал он, и вновь станут едины.
Гросс-Дольнзее, Восточная Германия
17:00, суббота, 12 августа 1961 года
Гостям, присутствовавшим на приеме, устроенном на открытом воздухе в Гросс-Дольнзее, приблизительно в двадцати пяти милях от Берлина, Вальтер Ульбрихт показался непривычно расслабленным. Гостевой дом правительства ГДР, известный как «Дом среди берез», когда-то был охотничьим домиком командующего люфтваффе Германа Геринга. Гости Ульбрихта знали об этом, но не показывали виду.
Приглашая гостей, Ульбрихт преследовал две цели. Во-первых, он изолировал правительственных чиновников. Во-вторых, это был отвлекающий маневр. Любая западная спецслужба, следившая за его передвижениями, доложила бы, что восточногерманский лидер устраивает вечеринку в загородном доме.
Его гости строили предположения относительно того, зачем Ульбрихт устроил этот прием. Некоторые отметили большее, чем обычно, количество солдат и военных транспортных средств в лесу, окружавшем загородный дом. Однако никто внешне не выказал удивления – ни один из них никогда бы не занял то положение, которое занимал, если бы задавал слишком много вопросов.
От безжалостных лучей августовского солнца гости прятались в тени берез на берегу озера. Те, кто остался в доме, смотрели советскую комедию «Полосатый рейс», получившую в Германии название «Спасайся, кто может!», о беспорядке, воцарившемся на советском грузовом судне, перевозившем львов и тигров.
Только несколько гостей знали, что в четыре часа дня Ульбрихт подписал приказ, согласно которому Хонеккер мог приступать к реализации операции «Роза». В тот вечер перед ним находились главные участники операции: члены политбюро Вилли Штоф и Пауль Вернер; министр национальной обороны Хайнц Гофман; министр государственной безопасности Эрих Мильке; министр внутренних дел Карл Марон; министр транспорта Эрвин Крамер; заместитель министра внутренних дел Фриц Эйкемайер и начальник народной полиции Хорст Энде.
Хонеккер сообщил высокопоставленным чиновникам о задачах, стоящих перед ними в этот вечер, и никто не задал ни одного вопроса и не высказал ни единого возражения. Затем он вручил каждому письменные инструкции, подписав их, как все приказы, которые он будет подписывать в течение этого вечера, «с социалистическим приветом, Э. Хонеккер».
Хайяннис-Порт, Массачусетс
Суббота, полдень, 12 августа 1961 года (в Берлине 18:00)
На Кей-Коде стояла девяностоградусная жара (порядка 32 градусов по Цельсию), и президент Кеннеди, очевидно не подозревавший, что происходит в Берлине, отправился в полдень на морскую прогулку. Он потратил субботнее утро на чтение отчетов, составленных по итогам совещания по подготовке к возможному Берлинскому кризису, с государственным секретарем Раском и министром обороны Макнамарой.
Для беспокойства были причины. На митинге советско-румынской дружбы, состоявшемся накануне, Хрущев произнес речь, которая вызвала сильное беспокойство в американском посольстве в Москве. Хрущев открыто угрожал «полным уничтожением» членам НАТО, Греции, Италии и Западной Германии. В то же время советский лидер решительнее, чем прежде, заявлял о готовности обеспечить доступ в Западный Берлин и гарантировал невмешательство во внутренние дела города.
Оба этих заявления могли рассматриваться как послание Кеннеди – «кнут и пряник». Государственный секретарь Раск направил телеграмму, выдержанную в резких тонах, американскому послу в Германии Доулингу, которая начиналась со слов: «Ситуация в Восточной Германии вызывает у нас все большую озабоченность». Он предупредил, что «сейчас крайне нежелателен такой взрыв, как в 1953 году».
Раск опасался, что восстание, в ответ на угрозу «закрытия аварийного люка», начнется раньше, чем «вступят в силу те военные и политические мероприятия по берлинской проблеме, подготовка к которым сейчас идет полным ходом». Он сказал, что «особенно нежелательно, если взрыв в Восточной Германии будет базироваться на ожидании неотложной военной помощи со стороны Запада».
Раск потребовал, чтобы Доулинг сообщил, что западногерманское правительство думает относительно «возможности раннего взрыва», «какие действия собирается предпринять, чтобы не допустить его, и какие действия, по его [правительства Западной Германии] мнению, требуются со стороны Соединенных Штатов и других союзников». Раск напомнил Доулингу, чтобы он сказал западным немцам, «что в рамках проводимой политики союзники не должны предпринимать никаких действий, которые бы привели к обострению ситуации».
Несмотря на озабоченность в связи с надвигающейся проблемой, в полдень Кеннеди отложил бумаги и отправился на морскую прогулку на катере с женой, трехлетней Кэролайн и давним другом Лемом Биллингсом, сотрудником нью-йоркского рекламного агентства. После того как лодки береговой охраны и полиции очистили плавательную зону для первой семьи Соединенных Штатов Америки, президент бросил якорь в бухте Котуит. Джеки в бело-голубом купальнике, прятавшаяся от горячих солнечных лучей под зонтом от солнца, сразу закрыла зонт и прыгнула в воду.
Последний доклад о действиях Хрущева не вызвал особого интереса у президента. В выходные дни Хрущев отправился в Крым, где готовился к октябрьскому съезду своей партии, и сообщалось, что он планировал вернуться в Москву не раньше начала сентября. Куда больше эмоций вызывали игры бейсбольной команды «Нью-Йорк янкиз». 1961 год был экстраординарным для этого клуба. Микки Мантл только что сделал сорок четвертый хоум-ран, а Роджер Марис – сорок второй [66].
После возвращения из четырехчасовой морской прогулки Кеннеди какое-то время оставались на своем пляже и купались вместе с Кэролайн, на которой был оранжевый спасательный жилет. «Лос-Анджелес таймс» [67] сообщила, что хотя «президент плавал спокойно, не делал никаких энергичных движений… он не выказал никаких признаков недавно перенесенной болезни спины, когда проворно поднимался по трапу на корму «Мэрлин».
В то время как в Восточной Германии солдаты тайно загружали в грузовики колючую проволоку, столбы и козлы, Кеннеди вел свой белый «гольф» в направлении деревни Нантакет, где купил Кэролайн мороженое в местной кондитерской. Джеки в своей синей блузке и красных шортах, казалось, сошла прямо со страниц журнала мод.
Восточный Берлин
19:00, суббота, 12 августа 1961 года
Корреспондент агентства Рейтер Келлетт-Лонг наделал столько шума своей пятничной статьей, в которой предсказал предстоящие события в Берлине, что его редактор новостей Дэвид Кэмпбелл в тот же день вылетел в Берлин, чтобы посмотреть, как будут развиваться события.
Наступил вечер, а эти двое все еще не могли найти доказательств, подтверждающих сенсационное сообщение Келлетта-Лонга. «Из-за тебя мы оказались в неприятном положении. Лучше бы уж что-нибудь случилось», – сказал Кэмпбелл своему молодому репортеру.
Перечитывая свою статью, Келлетт-Лонг задавался вопросом: не слишком ли он все преувеличил? Он и Кэмпбелл ездили на автомобиле по Восточному Берлину, тщетно пытаясь отыскать намек на предсказанный репортером кризис. Все, что им удалось увидеть, так это толпы довольных людей, отдыхающих в парках и сидящих в кафе.
Вероятно, что-то произойдет этим вечером, но позже, сказал репортер своему редактору.
Штаб Национальной народной армии, Штраусберг, Восточная Германия
20:00, суббота, 12 августа 1961 года
Хайнц Гофман, министр национальный обороны ГДР и генерал армии, с надменным видом стоял перед своими офицерами. В свои пятьдесят лет этот неестественно прямой в безукоризненно сидящем мундире, на котором медали располагались в восемь рядов, с зачесанными назад волнистыми с проседью волосами человек был похож на немецких генералов, какими их изображают в фильмах о Второй мировой войне. Его можно было даже назвать слишком красивым.
В довоенной Германии он, как и большинство восточногерманских руководителей, был неугомонным молодым коммунистом. Участвовал в антинацистских демонстрациях и, под угрозой ареста, бежал из страны. В 1937–1938 годах воевал под псевдонимом Хайнц Рот в Испании в составе интернациональной бригады, был серьезно ранен. Проведя два года в лагере для интернированных, он приехал в Советский Союз, где закончил специальные курсы по подготовке к будущей работе. В 1949 году взял на себя ответственность за создание восточногерманских вооруженных сил, которые теперь он собирался развернуть против своего народа.
Рядом с ним стоял его самый необходимый офицер, этакая «рабочая лошадка», Оттомар Пех, человек, воевавший в рядах вермахта и взятый в плен русскими на Восточном фронте. Его работа состояла в обучении элитных воинских подразделений и осуществлении координации между тайной полицией и вооруженными силами, что было крайне важно этой ночью.
Перед ними выстроились армейские командиры и старшие офицеры пограничной полиции. Дело происходило в штабе Национальной народной армии, в Штраусберге, примерно в тридцати километрах к востоку от Берлина. Они плотно поужинали; стол ломился от деликатесов – разные сорта колбас, ветчина, телятина, икра, копченый лосось, – явно недоступных большинству восточных немцев. На столе было спиртное, но офицеры в основном пили кофе, поскольку, по слухам, ночью они примут участие в секретной операции.
Гофман сообщил офицерам, что им предстоит, после того, как они посмотрели фильм, в котором прославлялась военная мощь социалистических сил, фильм, который должен был укрепить моральный дух и придать решимости. Ровно в 20:00 Гофман вручил офицерам запечатанные конверты с первым приказом. Затем были проинформированы младшие по званию офицеры, по убывающей, от высших к низшим, многие по телефону. В течение субботы тысячи солдат и полицейских находились в казармах и на учебных полигонах.
В 22:00 Хонеккер был уверен, что его аппарат делает все точно по плану и готов к полной мобилизации. В течение ночи он получал донесения от командного состава, окружных комитетов партии и ведомств. Его щупальца протянулись повсюду. Позже Хонеккер говорил, что операция, которую он начал в ночь с субботы на воскресенье, заставила мир «навострить уши».
Незначительная информация, просочившаяся на Запад, не вызвала никакой реакции. Председатель Свободной демократической партии Западной Германии Эрих Менде связался с министром Аденауэра, отвечавшим за innerdeutsche Angelegenheiten, внутренние дела Германии, Эрнстом Леммером после того, как получил информацию о некоторых «признаках», указывающих на то, что Ульбрихт планирует в скором времени принять Sperrmassnahmen, меры по блокированию центра Берлина. Информация показалась Менде настолько убедительной, что он пришел к Леммеру, чтобы обсудить нависшую угрозу. Внимательно изучив карту города, они пришли к выводу, что запереть границу не представляется возможным.
«Это невозможно», – заканчивая разговор, заявил Менде.
Однако ровно в полночь Хонеккер позвонил в штаб армии и отдал приказ приступить к выполнению «невозможного».
«Вам известно задание! – сказал он. – Вперед!»
Гофман немедленно привел в движение свои подразделения: приблизительно 3150 солдат, 100 танков и 120 бронетранспортеров 8-й моторизованной артиллерийской дивизии двинулись из Шверина к Берлину и расположились в районе Фридрихсфельде в Восточном Берлине. Еще 4200 солдат, 140 танков и 200 боевых машин пехоты 1-й моторизованной дивизии по приказу Гофмана двинулись из Потсдама. Они формировали второе кольцо обороны. «Живую цепь» – пограничную линию – составляли 10 тысяч человек из подразделений восточногерманской народной полиции и боевых групп рабочего класса.
В общей сложности в операции были задействованы 8200 сотрудников народной полиции, 3700 сотрудников транспортной полиции, 12 тысяч рабочих и 4500 сотрудников государственной безопасности. В боевой готовности на тот случай, если закрытие границы приведет к чему-то вроде национального восстания 1953 года, находились 40 тысяч восточногерманских солдат. Солдаты из Саксонии, считавшиеся особенно надежными, пополнили ряды десятитысячной Народной армии, размещенной в Берлине.
Ночь была прохладная и ясная – идеальная для выполнения задачи. По всей видимости, мать-природа была коммунисткой.
Гросс-Дольнзее, Восточная Германия
22:00, суббота, 12 августа 1961 года
Ульбрихт посмотрел на часы. «Мы должны провести небольшое совещание», – сказал Ульбрихт своим гостям.
Было ровно 22:00, пришло время собрать гостей в одной комнате, чтобы сделать объявление. Они устали, объелись и были готовы разъехаться по домам, проведя более шести часов на воздухе в компании Ульбрихта. Многие были навеселе. Но все покорно пошли в комнату.
Ульбрихт сообщил им, что через три часа будет закрыта секторная граница между Восточным и Западным Берлином. В заранее напечатанном приказе, который должны были одобрить министры, он уполномочил восточногерманские силы безопасности установить «надлежащий контроль на открытой границе между социалистической и капиталистической Европой».
«Все согласны?» – спросил Ульбрихт. И гости молча кивнули.
Он сообщил гостям, что в целях обеспечения полной безопасности они, как и его домашние, не смогут покинуть Дольнзее до тех пор, пока операция не войдет в полную силу. Еды и выпивки много, заявил Ульбрихт, так что можно продолжать вечеринку.
Никто не возразил. Тремя днями ранее Ульбрихт сказал послу Первухину: «Мы вместе посидим за столом, выпьем. Я поделюсь с ними решением закрыть границу и ни минуты не сомневаюсь, что они одобрят это решение. Но самое главное, я не позволю им уехать, пока мы не закончим операцию».
«Береженого Бог бережет», – сказал он.
Офис агентства Рейтер, Восточный Берлин
22:00, суббота, 12 августа 1961 года
Келлетт-Лонга намного больше волновала собственная карьера, нежели судьба Берлина.
Прошло десять часов, а он так и не нашел фактов, подтверждающих сказанное им в пятничной статье. Он вернулся на Восточный вокзал в поисках какой-нибудь необычной активности и для того, чтобы найти продавца, который регулярно обеспечивал его свежим номером «Нойес Дойчланд» – газеты коммунистической партии, сообщавшей все важные новости.
Он с жадностью накинулся на газету и, читая обычные статьи, в которых «ничто не указывало на то, что должно что-то произойти», почувствовал, что силы покидают его.
Лондонские редакторы под нажимом подписчиков требовали, чтобы Келлетт-Лонг либо написал продолжение, либо опровержение. «Я не могу просто спрятать голову в песок», – сказал себе репортер, приступая к статье.
«Вопреки ожиданиям…» – напечатал он.
«Что – вопреки ожиданиям?» – задал он сам себе вопрос.
«Я же профессионал, а веду себя как любитель», – пробормотал он, в сердцах смял лист бумаги и бросил в корзину. Он нервничал и курил одну сигарету за другой.
Рёнтгенталь, Восточная Германия
Первые минуты воскресенья, 13 августа 1961 года
Завывания сирены вырвали из дремоты унтер-офицера Руди Турова. Он включил свет и посмотрел на часы. Была одна минута первого, начался следующий день – воскресенье. Вероятно, очередная учебная тревога, чертыхнулся он. В последнее время они что-то участились. Тем не менее стройный, белокурый, двадцатичетырехлетний командир четвертого взвода 1-й бригады пограничной полиции Восточной Германии понимал, что он обязан серьезно относиться к каждому сигналу тревоги [68].
Накануне Туров уже заметил повышенную активность военных и заподозрил, что затевается нечто большее, чем учения. Весь день советские танки Т-34 и Т-54 с грохотом проезжали мимо его поста в Рёнтгентале, в сорока километрах к северу от Берлина, и он видел несколько составов с немецкими солдатами, направлявшихся в Восточный Берлин.
Шесть лет назад Туров добровольно вступил в ряды пограничной охраны, привлеченный хорошей зарплатой и возможностью приобретать дефицитные товары народного потребления. За эти годы он заслужил множество наград и считался лучшим снайпером бригады.
Он быстро оделся, забежал в соседнее помещение, чтобы разбудить своих солдат. Когда он стаскивал с них одеяла, они проклинали его на все лады. Наконец все собрались на учебном плацу. Командир роты Виц объявил, что этой ночью они примут меры, на которые их спровоцировал враг.
Слишком долго, сказал Виц, правительство терпело утечку рабочей силы на Запад. Давно пора поставить на место, добавил он, торговцев людьми из Западного Берлина, которые охотились за гражданами ГДР. Он сообщил, что этой ночью они нанесут удар по восьмидесяти трем шпионским и террористическим центрам Западного Берлина, которые нанесли значительный вред ГДР.
Виц, заявив, что получил информацию всего час назад, аккуратно вскрыл большой коричневый конверт с пометкой «совершенно секретно». Все, в том числе Туров, напряженно слушали, как Виц в течение пяти минут читал вводную часть, пока наконец не перешел к сути:
«Для предотвращения вражеских действий реваншистских и милитаристских сил Западной Германии и Западного Берлина устанавливается контроль на границах Германской Демократической Республики, включая границу западного сектора Большого Берлина…»
Берлин должен быть разделен на две части, и солдаты Турова будут помогать устанавливать эту границу. Туров услышал, как такой же, как он, унтер-офицер, преданный коммунист, прошептал: «Союзники будут просто стоять в стороне и позволят это сделать?»
Или они в состоянии войны?
Офис агентства Рейтер, Восточный Берлин
1:00, воскресенье, 13 августа 1961 года
Незадолго до часа ночи Адам Келлетт-Лонг увидел, как из телетайпа, установленного в его офисе, поползла лента с ежедневными ночными новостями. Он решил, что «с него хватит» и утром он займется поисками новой работы.
И тут зазвонил телефон. Голос, который он не узнал, посоветовал ему не ложиться спать этой ночью; человек говорил по-немецки. В 1:11 его телетайп опять ожил. Келлетт-Лонг читал заявление государств Варшавского договора, состоявшее из десяти тысяч слов, и злился, что лента ползет слишком медленно. В заявлении говорилось о том, как «обманутые люди», а именно беженцы, принимаются на работу как шпионы и саботажники. В ответ государства – члены Варшавского договора заявляли, что «вокруг всей территории Западного Берлина будут установлены надежная охрана и эффективный контроль». Натовские союзники могут быть уверены, говорилось в заявлении, что они, как и прежде, будут иметь доступ в Западный Берлин.
Дочитав заявление, Келлетт-Лонг сел в машину и помчался к границе, чтобы посмотреть, что там происходит. Проезжая по Шёнхаузер-аллее [69], он заметил только одинокую пару, обнимающуюся у дверей дома, на пустынной улице.
Он повернул на Унтер-ден-Линден [70] и двинулся к Бранденбургским воротам.
Там его машину остановил полицейский.
«Боюсь, дальше вы не проедете, – спокойно сказал он. – Граница закрыта».
Келлетт-Лонг развернулся и поехал по Унтер-ден-Линден обратно в офис, писать статью, но был остановлен полицейским у Маркс-Энгельс-плац, чтобы он не мешал движению колонны машин, в которых сидели одетые в форму полицейские и солдаты. Казалось, колонне нет конца.
Вернувшись в офис, Келлетт-Лонг быстро написал сообщение, которое обошло новостные агентства по всему миру. Писалось легко, слова сами ложились на бумагу: «Сегодня была закрыта граница Восток – Запад… Сегодня я стал первым человеком, который ехал на автомобиле по Восточному Берлину через полицейские кордоны, поскольку вскоре после полуночи был установлен пограничный контроль.
…Бранденбургские ворота, главный перекресток между двумя половинами города, был окружен восточногерманскими полицейскими, некоторые были вооружены автоматами, и членами военизированных «боевых групп рабочих».
Затем Келлетт-Лонг включил радио Восточной Германии. Дикторы читали одно за другим заявления, в которых говорилось о введении ограничений на передвижение и как они будут претворяться в жизнь. Он быстро, насколько возможно, начал печатать новую статью. Британского репортера удивило, что между сообщениями по радио передавали современные джазовые композиции, благотворно действующие на нервную систему.
«И это все, что они способны делать, – подумал он. – Только и умеют, что зачитывать сообщения и передавать хорошую музыку».
Французский сектор, Западный Берлин
1:50, воскресенье, 13 августа 1961 года
Спустя двадцать минут после начала операции в Западном Берлине полицейский Ганс Петерс увидел яркие фары полудюжины восточногерманских армейских грузовиков, движущихся по дороге, которую он патрулировал. Штрелицерштрассе была одной из ста девяноста трех улиц, пересекавших открытые участки секторной границы между двумя Берлинами.
Грузовики остановились, из них стали выпрыгивать солдаты и рассыпаться по обеим сторонам улицы. У каждого в руках были длинные предметы, которые Петерс принял за автоматы. Петерс, ветеран армии Третьего рейха, воевавший на Восточном фронте, вытянул из кобуры свой револьвер «смит-вессон». Он понимал, передергивая затвор, чтобы дослать патрон в патронник, что это не спасет его от такого количества вооруженных солдат. Петерс укрылся в дверном проеме и оттуда стал вести наблюдение за событиями, которые в ту ночь повторились в десятках других мест.
Две команды, каждая по шесть солдат, растянулись, легли, опершись локтями о тротуар, лицом на запад и установили автоматы на станки-треноги. Они не выказывали намерения вторгнуться на Запад, а просто сформировали линию, чтобы удержать невидимого противника. За их спиной две другие команды вытащили из грузовиков рулоны колючей проволоки и деревянные козлы. Перегородили улицу козлами и, разворачивая рулоны, натянули колючую проволоку на козлы.
Петерс находился во французском секторе, но французские солдаты спокойно спали. Этот западноберлинский полицейский в полном одиночестве наблюдал за безупречно выполняемой операцией. Он видел, что враг перекрыл улицу настолько тихо и быстро, что ни один из жителей Штрелицерштрассе даже не выглянул в окно.
Установив границу, солдаты повернули оружие на восток, готовясь сдерживать своих сограждан. Петерс предупредил свое начальство о том, чему стал свидетелем.
Американская миссия, Западный Берлин
2:00, воскресенье, 13 августа 1961 года
Получив первые сообщения о закрытии границы в районе двух часов ночи, Алан Лайтнер, высший гражданский чиновник американской миссии в Западном Берлине, решил не будить своих начальников. Вашингтон имел привычку слишком остро реагировать на любые известия, и Лайтнер решил сначала все подробно выяснить и только потом докладывать в Вашингтон. Кроме того, был выходной день, и его боссы были бы недовольны больше чем обычно, если бы он разбудил их, а потом бы выяснилось, что в этом не было никакой срочности.
Высшие чиновники американской, британской и французской союзнических миссий в Западном Берлине стали перезваниваться, чтобы понять, в чем дело. «Похоже, что-то происходит в Восточном Берлине», – сказал Лайтнер дипломатическому чиновнику Уильяму Ричарду Смайзеру, работавшему в восточном отделе. Лайтнер хотел, чтобы Смайзер проверил, что происходит в Восточном Берлине. Только в 2:30 утра в предрассветных сумерках Смайзер вместе с коллегой Франком Тринка выехал на своем «Мерседесе-190SL» из миссии и доехал до Потсдамской площади [71], где сотрудники народной полиции и члены рабочих групп разворачивали первые рулоны колючей проволоки.
Когда они сказали американцам, что проход закрыт, Смайзер возмутился: «Мы – чиновники американской военной миссии. Вы не имеете права останавливать нас».
Это была первая проверка того, станут ли Советы и их восточногерманские клиенты лишать союзников права свободного прохода в Берлин, потенциальный спусковой крючок для американского военного ответа. Переговорив с начальством, полицейские освободили проезд, чтобы дипломаты могли ехать дальше. В ту ночь полицейские не пропустили ни одного восточного немца, но им был дан четкий приказ не препятствовать передвижению союзнических чиновников. Хрущев претворял в жизнь обещания, данные Кеннеди.
В течение часа Смайзер с Тринка катались по Восточному Берлину, наблюдая лихорадочную деятельность полицейских и отчаяние отдельных горожан. Вдоль всей границы полицейские устанавливали бетонные столбы и натягивали колючую проволоку, перегораживая улицы, идущие с востока на запад. На вокзале Фридрихштрассе, важном пересадочном узле Восточного Берлина, вооруженные полицейские блокировали слабоосвещенные платформы; измученные потенциальные пассажиры сидели на чемоданах и узлах, многие плакали. Вглядываясь в их лица, Смайзер мог представить, о чем они думают: «Боже, почему мы не уехали на день раньше?»
В эту ночь разлучали детей и родителей, влюбленных и друзей. Одному из солдат Руди Турова было настолько стыдно, что он помешал людям жить, как прежде, что в то утро он, перепрыгнув через колючую проволоку, сбежал на свободу.
Смайзер и Тринка, возвращаясь в Западный Берлин через Бранденбургские ворота, были опять остановлены восточногерманским полицейским, который отпустил их только после того, как переговорил с представителем коммунистической партии Восточной Германии, который контролировал работу на этом участке.
Дипломатам удалось узнать совсем немного, и в американской миссии было принято решение, что до тех пор, пока у них не будет полной картины того, как разворачивается кризис, не стоит отправлять доклад в Вашингтон. Команда Лайтнера пришла к выводу, что у них нет ни возможности, ни людских ресурсов, чтобы полностью разобраться в происходящем, а опираться только на сообщения новостных агентств они не считали возможным. В любом случае им бы понадобилось пять-шесть часов, чтобы отправить официальную телеграмму из Берлина в американское посольство в Бонн, а оттуда в Вашингтон. Кроме того, закрытие границы лишило их возможности связаться с людьми, обычно поставлявшими им информацию, чтобы получить объективные доказательства того, что происходит в Восточном Берлине.
Лайтнера особенно интересовало, видели или нет Смайзер и Тринка, чтобы советские солдаты принимали непосредственное участие в операции.
С одной стороны, закрытие границы не представляло особой военной угрозы для США, поскольку не наблюдалось сосредоточения советских войск в Берлине. С другой стороны, восточногерманский режим нарушил существующее соглашение с четырьмя державами, запрещавшее присутствие восточногерманских войск в Восточном Берлине, не говоря уже об использовании их для оккупации города и закрытия границы.
В 11:00 по берлинскому времени Лайтнер отправил Раску первую телеграмму с полным отчетом; до этого он несколько раз отправлял отрывочную информацию, используя так называемые критические каналы, через которые не позволялось отправлять секретную информацию. В телеграмме говорилось: «Рано утром 13 августа восточногерманский режим предпринял жесткие меры, в результате которых закрыт вход в Западный Берлин для жителей советской зоны и Восточного Берлина». Он сообщил, что эти действия предприняты «очевидно, в связи с увеличившимся потоком беженцев, что привело к экономическим потерям ГДР и утрате престижа социалистического лагеря».
Больше до 22:00 Лайтнер не отправлял телеграмм, пока не составил полной картины того, что произошло в Восточном Берлине в течение прошедших двадцати четырех часов. Он сделал упор на масштабном военном развертывании, включая значительную поддержку Советов, которая «предназначалась для того, чтобы с самого начала запугать народ и тем самым пресечь в корне любое сопротивление, показав, что акты гражданского неповиновения будут жестоко подавляться».
Лайтнер сделал вывод, что мобилизация советских сил в Восточной Германии доказывает, что Москва сомневается в надежности вооруженных сил Вальтера Ульбрихта. Он также отметил, что восточногерманские власти позволяют западным военным и гражданским лицам свободно входить в Восточный Берлин и выходить из него. Лайтнер сообщил, что еще восемьсот беженцев были зарегистрированы в Западном Берлине между 10:00 и 16:00 в первый день закрытия границы, которые перешли то ли 12 августа, то ли «сегодня по каналам и полям».
Рядом с Потсдамской площадью
9:00, воскресенье, 13 августа 1961 года
В течение утра замешательство и растерянность жителей Западного Берлина переросли в ярость. Западноберлинский полицейский двадцатилетний Клаус Детлеф Брунцель, прибывший для несения службы на Потсдамскую площадь, увидел, как кардинально изменился мир всего за несколько часов.
Прошлым вечером у него было обычное дежурство. Он конфисковал контрабанду, болтал с проститутками, слонявшимися по пустой, выровненной войной площади, которая до этого дня была для них замечательным местом с точки зрения привлечения клиентов с обеих сторон города. Теперь на площади были только восточногерманские полицейские из пограничной полиции, которые устанавливали бетонные столбы и натягивали колючую проволоку. Брунцелю было всего четыре года, когда закончилась Вторая мировая война, но он боялся, что начнется новая война, поскольку видел, что из восточногерманских танков наблюдают, как он прогуливается взад-вперед по площади.
К концу дня толпа разъяренных жителей Западного Берлина собралась на границе. Люди бросали камни в восточногерманских полицейских, называя их свиньями и нацистами. Брунцель спрятался, чтобы в него случайно не попал камень, «брошенный своими же согражданами».
В скором времени ярость жителей Западного Берлина обернулась против отсутствующих американских солдат, защитников, которые, по их мнению, должны были отстаивать их свободу. Американцы только говорили о своих обязательствах по защите свободы Берлина, но ничего не делали, чтобы защитить эту свободу.
Штаб-квартира оккупационных войск США, Клей-аллее, Западный Берлин
Субботнее утро, 13 августа 1961 года
Генерал Альберт Уотсон, американский комендант Берлина, чувствовал себя связанным по рукам и ногам отчетами, приказами и распоряжениями. В то же время он сомневался относительно правильности своей оценки ситуации, поскольку всего три месяца находился в Берлине.
Считая Берлин достаточно спокойным городом, он даже перевез сюда тещу. Он сравнивал роль разделенного города в американо-советских отношениях с «островком спокойствия в центре циклона». Время, проведенное в Берлине, он в основном тратил на изучение немецкого языка, понижения гандикапа в гольфе и игру в теннис с женой.
Представляя пятидесятидвухлетнего командующего, берлинская пресса сообщала о его увлечении верховой ездой, бриджем, о любви к оперетте и чтению детективов. Уотсон понимал, что противник в численном отношении настолько превосходит силы, находящиеся под его командованием, что он не сможет защитить Западный Берлин в случае нападения советских войск. Но даже если бы у него были войска, он не имел права использовать их по собственному разумению.
Все упиралось в бюрократическую систему, и Уотсон, как никто другой, испытал это на себе. У него был один прямой канал связи с американским послом Уолтером Доулингом, который находился в четырехстах восьмидесяти километрах от него в Бонне. Второй канал связи был с генералом Брюсом Кларком, командующим силами США в Европе, чей штаб находился в Гейдельберге. И наконец, третий канал связи с командующим войсками НАТО в Европе генералом Лорисом Норстедом в Париже. Уотсон получал приказы одновременно из трех мест, и они редко согласовывались между собой.
Случалось, как это было в ночь с 12 на 13 августа и утром 13 августа, что все три канала не проявляли признаков жизни. В такие моменты Уотсон считал, что лучше не предпринимать никаких действий и надеяться на лучшее. В течение многих недель в распоряжениях, которые он получал из Пентагона, чаще, чем прежде, звучали предупреждения не реагировать на провокационные действия восточных немцев и Советов, не позволять втягивать себя в военные действия, которые могут перерасти в серьезный конфликт. У него создалось впечатление, что в Вашингтоне было известно о приближающихся событиях. Таким образом, в первые часы 13 августа Уотсон не стал предпринимать никаких действий и просто наблюдал за ходом операции.
Восточные немцы ни в одном месте не пересекли границы его зоны. Они не затронули ни одну из зон союзников. Несмотря на активную деятельность вокруг Берлина, сообщили ему разведчики, внутри города активности со стороны Советов не наблюдается. Уотсон решил, что в таком случае нет смысла будить генерала Кларка и генерала Норстеда. Уотсон не стал связываться и с послом Доулингом в Бонне.
Рано утром Уотсон отправил вертолет, чтобы контролировать ситуацию в Восточном Берлине, но решил не посылать американские войска к недавно укрепленной границе. Демонстрация военной силы, вероятно, пришлась бы по вкусу жителям Западного Берлина, которые сочли бы ее проявлением решимости американцев выполнять свои обязательства, но начальники Уотсона назвали бы ее безрассудной провокацией.
Уотсон считал, что поступает правильно, до тех пор, пока в 7:30 в его оперативный центр, находившийся в подвале штаба оккупационных войск США на Клей-аллее, не пришло сообщение от полковника Эрнста фон Павеля. Он сообщил, что четыре советских дивизии, расположенные на территории Восточной Германии, подошли к Берлину и окружили его.
Сорокашестилетний «фон» был ключевой фигурой, в американской военной миссии связи при командующем западной группой советских войск со штабом в Потсдаме. Хотя приставка «фон» наводила на мысль о благородном германском происхождении, «фон» был родом из округа Ларами, штат Вайоминг. У Уотсона он завоевал репутацию человека, способного разбираться в проблемах.
Всего четырьмя днями ранее на заседании наблюдательного комитета «фон» предсказал, что Ульбрихт собирается возводить стену. Комитет был секретной межведомственной разведывательной группой, задача которой заключалась в том, чтобы при первых признаках враждебных военных действий поднять тревогу. Тогда никто не обратил внимания на слова «фона», зато теперь командующий отдал ему должное. Полковник Тома Маккорд, начальник 513-й разведывательной группы в Берлине, изучил ряд фотографий и рапортов о большом количестве строительных материалов, в том числе бетонных блоков и колючей проволоки, складированных у городской разделительной линии. Но материалы были во многих местах, заказывались многими людьми в разных источниках, а потому его людям было трудно понять, что все это означает.
«Том, вы думаете, они планируют построить стену?» – спросил во время совещания полковник Дэвид Гудвин, начальник разведки в штабе генерала Уотсона. Маккорд ответил, что у него информация из трех источников. Один «надежный», но непроверенный источник говорит, что будет стена, причем «в скором времени». Но два других источника, считающиеся более надежными, сообщили, что ни о какой стене не идет речи.
Все взоры устремились на фон Павеля. Он напомнил присутствующим, что во время Второй мировой войны немцы построили стену в Варшаве, окружив еврейское гетто; в тот момент это сравнение показалось более чем странным. «Если вы считаете, что стена наименее вероятная возможность, то я уверен, что именно так и будет», – сказал он. Проблема заключалась в том, что в тот момент у фон Павеля не было веских доказательств в пользу своего мнения.
Заместитель начальника резидентуры ЦРУ Джон Диммер не согласился с мнением фон Павеля. Для Ульбрихта возведение стены будет «политическим самоубийством», сказал он. Его выступление оказало влияние на собравшихся, которые пришли к выводу, что стена наименее вероятная из всех возможностей, которые они обсуждали.
Информация, которую утром 13 августа сообщил фон Павель, не оставила сомнений относительно происходящего. Один из его людей, прятавшийся под мостом в Восточной Германии с 4:00 до 6:00, видел, как советская дивизия с грохотом двигалась по автостраде. Сам фон Павель насчитал сто танков, пока пробивался в Потсдам. Он сообщил Уотсону:
«Советские 19-я моторизованная пехотная дивизия, 10-я танковая дивизия и, возможно, 6-я моторизованная пехотная дивизия выехали рано утром и заняли позицию вокруг Берлина. Подразделения 1-й восточногерманской моторизованной пехотной дивизии выдвинулись из Потсдама. Советские подразделения развернулись и сошли с автострады, установив небольшие заставы и контрольно-пропускные пункты – три-четыре танка, бронеавтомобиль и несколько солдат. Заставы расположены на расстоянии 3–4 километров друг от друга и, похоже, полностью окружают Берлин».
Это была продуманная и отлично организованная операция, о которой американская военная разведка ранее ничего не сообщала. Из доклада фон Павеля Уотсон сделал единственный вывод: советские войска собираются атаковать такими значительными силами, что уничтожат его жалкую армию, если она посмеет ответить на удар.
В 10:00 три западных коменданта – французский, британский и американский – и их сотрудники встретились в союзническом штабе на Корренплац, район Далем, на территории американского сектора. Все были захвачены врасплох – ни у кого не было подходящих предложений относительно того, что следует предпринять в данной ситуации. Уотсон председательствовал на совещании, поскольку была его очередь. Несмотря на то что он относительно недавно приехал в Берлин, зато он умел считать. Его двадцати семи танков, менее одного на каждые полтора километра внутренней границы Западный Берлин – Восточный Берлин, и шести 105-миллиметровых гаубиц было явно недостаточно для того, чтобы сражаться с советской армией и восточногерманскими силами.
Офис агентства Рейтер, Восточный Берлин
Воскресенье, раннее утро, 13 августа 1961 года
Мэри Келлетт-Лонг наблюдала из окна за разгневанной толпой, которая с каждым часом становилась все больше. Раньше Мэри никогда не задумывалась, насколько близко от их офиса на Шёнхаузер-аллее находится берлинская граница, всего в четырехстах метрах, по той простой причине, что граница не была явно выраженной.
Большая часть толпы состояла из молодых жителей Восточного Берлина, которые пришли в ярость, увидев, что их лишили связи с Западом. Муж Мэри, Адам, вышел на улицу и смешался с толпой. Эти молодые люди, подумал он, похожи на рассерженных футбольных фанатов после поражения любимой команды, которые ищут, на ком бы выместить гнев. Полиция и боевые группы рабочих оттеснили протестующих, которые слишком близко подошли к границе.
Услышав крики, Мэри испугалась, что полицейские начали стрелять в граждан, среди которых был ее муж. Но оказалось, что полицейские бросили в протестующих канистры со слезоточивым газом и люди с криками кинулись в разные стороны.
Насколько другими были отношения с полицейскими совсем недавно, подумал Адам. Незадолго до 13 августа Vopo [72] остановил его машину, когда Адам возвращался из похода по магазинам Западного Берлина.
Когда полицейский стал обыскивать багажник, Адам вытащил из сумки банку с печеными бобами и бросил ее в воздух с криком: «Ложись, бомба!» Полицейский упал на землю, а его товарищи потянулись за оружием. Поняв, что нет никакой бомбы, полицейский встал, отряхнулся и, рассмеявшись, разрешил Адаму ехать дальше. Понятно, что время розыгрышей закончилось.
Подобно немногим спорадическим протестам, прокатившимся в тот день в Восточной Германии, этой демонстрации не хватало массовости, размаха и решимости, чтобы оспорить победу Ульбрихта. Восточногерманский лидер, в отличие от 1953 года, уверенно руководил операцией, был хорошо подготовлен и пользовался военной и политической поддержкой со стороны Советов. Благодаря эффекту неожиданности и с помощью тысяч полицейских и солдат, занявших стратегические позиции по всему городу, он подавил все организованные протестные выступления.
В нескольких тактически важных местах заместители Ульбрихта с помощью брандспойтов сдерживали особо буйных жителей Западного Берлина. Ульбрихт знал, что может как угодно обращаться с жителями Восточного и Западного Берлина, пока союзные войска остаются в Западном Берлине. Хрущевский страховой полис – советские танки, застывшие в ожидании за пределами Берлина, – не понадобится.
Маршал Конев выиграл вторую битву за Берлин, на этот раз без кровопролития.
В соответствии с соглашениями четырех союзных держав Кеннеди имел полное право отдать приказ снести барьеры, установленные в то утро восточногерманскими подразделениями, которые не имели права действовать в Берлине. 7 июля 1945 года американский, советский, британский и французский военные губернаторы договорились, что будут обеспечивать беспрепятственное движение в Берлине. Это было отражено и в соглашении четырех держав, принятом после снятия берлинской блокады.
Однако еще до 13 августа Кеннеди ясно дал понять, используя несколько каналов, что не станет реагировать, если Хрущев и восточные немцы будут действовать в пределах своей территории. Кроме того, Конев открытым текстом предупредил о цене вмешательства своей массовой военной мобилизацией. Мало того, советские войска окружили Берлин таким образом, что союзники этого не заметили, и Хрущев пошел еще дальше, приведя в полную боевую готовность ракетные войска в Восточной Европе.
Тем не менее в ночь с 12 на 13 августа Конев испытывал сильное напряжение. Если придется вступать в бой, сохранят ли преданность восточногерманские войска и полиция, несмотря на подготовку, идеологическую обработку и неусыпный надзор. Сотни уже сбежали из армии и полиции, и у многих были родственники на Западе.
Конев был уверен, что восточногерманские солдаты, рабочие и полицейские должным образом установят пограничные барьеры, но он сомневался в том, как они поведут себя, если союзнические войска выдвинутся, чтобы разобрать баррикады и восстановить свободное движение.
К его облегчению, этого не произошло. Кеннеди не стал рисковать.
Западный Берлин
Воскресное утро, 13 августа 1961 года
Роберт Х. Лохнер, директор радиостанции РИАС, первым услышал сообщение о закрытии границы, поскольку засиделся допоздна, занимаясь подготовкой серии встреч для своего босса, легендарного американского тележурналиста Эдварда Р. Марроу. Глава Информационного агентства США Марроу прибыл из Вашингтона в рамках инспекционной поездки.
Лохнер отложил работу в сторону и распорядился срочно внести изменения в программу передач: рок-н-ролл, который обычно звучал в эфире по выходным дням, заменить более серьезной музыкой и каждые четверть часа передавать сводку новостей. Лохнер понимал, что от РИАС будут ожидать, что она обеспечит жителям Восточного Берлина связь с миром в критический момент, как она это сделала 17 июня 1953 года.
Затем Лохнер сел в машину и поехал в Восточный Берлин. В ту ночь он трижды проехал по советской зоне, ведя скрытую магнитофонную запись абсолютно всех разговоров. Позже он рассказал истории разделенных семей и несчастных влюбленных, использовав в передаче, для придания драматизма, их взволнованные голоса. Лохнер никогда прежде не видел столько несчастных людей, как в то утро на станциях Восточного Берлина, которые не слышали ночных сообщений по радио о закрытии берлинской границы или не поверили им.
В 10:00 Лохнер шел по огромному залу ожидания вокзала Фридрихштрассе, заполненному тысячами людей, на лицах которых было написано отчаяние, картонными коробками и чемоданами. Люди сидели на своих вещах, не зная, что делать.
На лестнице, ведущей на городскую электричку стояли сотрудники транспортной полиции в черной форме, блокируя доступ к поездам. Они напомнили Лохнеру гитлеровских эсэсовцев цветом формы и каменным выражением, застывшим на молодых лицах.
Старая женщина подошла к одному из полицейских, стоявшему на три ступеньки выше ее, и спросила, когда будет следующий поезд в Западный Берлин. Лохнер никогда не забудет издевательский тон этого молодого офицера.
«Все, приехали, – насмешливо сказал он. – Вы все попали в мышеловку».
На следующий день Лохнер показывал новый Восточный Берлин Марроу, который подозревал, что его друг Кеннеди не понимает всей серьезности ситуации, порожденной президентским бездействием. В тот же вечер Марроу отправил президенту телеграмму, сообщив, что президент оказался перед лицом политической и дипломатической катастрофы. Марроу предсказал кризис доверия, который подорвет авторитет США далеко за пределами Берлина. «Вы рискуете разрушить здесь преходящее чувство под названием надежда», – написал Марроу Кеннеди.
Штаб-квартира полиции, Восточный Берлин
6:00, воскресенье, 13 августа 1961 года
Эрих Хонеккер всю ночь пребывал в состоянии крайнего возбуждения, проезжая на машине вдоль границы и радуясь почти совершенному проведению в жизнь собственного плана.
Он не упускал из виду ни одной детали. Он видел, что полиция перекрыла канализационные коллекторы. Водные пути, которые было труднее закрыть, чем улицы, патрулировали катера и лодки. Дополнительных войск, прибывших по его приказу на Фридрихштрассе, было вполне достаточно, чтобы справляться с воскресным потоком пассажиров.
Хонеккер похвалил каждого командира, встреченного им в течение этой ночи. В 4:00, довольный, что удалось без помех преодолеть самую критическую фазу, он вернулся в кабинет. В 6:00 все командиры сообщили, что они выполнили поставленную задачу точно в соответствии с приказом.
Было сделано много, и впереди еще предстояла большая работа, но Хонеккер не испытывал полного удовлетворения. Несколько сотен жителей Восточного Берлина сбежали за границу через поля, пока еще не укрепленные, и вплавь, по каналам. Некоторые жители Восточного Берлина остались на Западе просто потому, что уехали туда на выходные. В самом начале несколько жителей Западного Берлина вывезли своих жен, мужей и друзей в багажниках и под сиденьями своих автомобилей. Несколько изобретательных жителей Восточного Берлина поставили на свои машины номерные знаки, снятые с машин друзей из Западного Берлина, и уехали на Запад.
С полудня субботы до 16:00 понедельника лагерь Мариенфельде принял рекордное число беженцев – 6904 человека; за всю историю Восточной Германии ни в один выходной день не было такого количества беженцев. Правда, власти Западного Берлина выяснили, что из них только полторы тысячи человек пересекли границу после того, как она была закрыта коммунистами. Сравнительно небольшое количество, учитывая тот факт, что был положен конец массовому бегству из страны.
Хонеккер, доложив Ульбрихту по телефону об окончании операции, сказал своим сотрудникам: «Теперь мы все можем идти домой».
Позже Хрущев вспоминал: «С установлением пограничного контроля восстановились порядок и дисциплина в Восточной Германии, а немцы всегда ценили порядок».
Глава 15. Стена: дни отчаяния
Зачем Хрущев стал возводить стену, если на самом деле собирался захватить Западный Берлин? <…> Это его выход из затруднительного положения. Не очень хорошее решение, но стена, черт возьми, лучше, чем война.
Президент Джон Ф. Кеннеди, 13 августа 1961 годаРусские… уверены, что, если они могут сломить нашу волю в Берлине, мы уже никогда не будем ни на что способны и они выиграют поединок в 1961 году.
Генеральный прокурор США Роберт Кеннеди, 30 августа 1961 годаГавань Гумбольдта, Восточный Берлин
Четверг, 24 августа 1961 года
Спустя одиннадцать дней после того, как коммунисты закрыли границу, Гюнтер Литфин, двадцатичетырехлетний портной, до этого момента совершавший самые смелые действия с помощью нитки и иголки, набравшись смелости, решил сбежать из Восточного Берлина.
До 13 августа Литфин получал максимальную выгоду из жизни в разделенном городе, как один из пятидесяти тысяч Grenzgönger («человек, регулярно переходящий через границу»). Днем он работал в Западном Берлине, получая за работу западные марки, которые обменивал на черном рынке на восточногерманские деньги, Остмарк, по курсу один к пяти. Он работал в ателье, расположенном у станции «Зоологический сад» [73], и у него шили многие представители шоу-бизнеса: Хайнц Рюман, Ильзе Вернер, Грета Вайзер [74].
Актрисам очень нравилась его живость, темные глаза и темные вьющиеся волосы. По окончании работы Гюнтер возвращался в Восточный Берлин в свою уютную съемную квартиру в районе Вайсензее.
За одну ночь чудесная жизнь Литфина превратилась в кошмар. Граница закрылась, он теперь не мог ездить в Западный Берлин, то есть разом лишился работы и общественного положения. Но что еще хуже, Литфина собирались направить на швейную фабрику, где была отупляющая работа, длинный рабочий день и мизерная зарплата.
Литфин проклинал себя за то, что не переехал в Западный Берлин, когда у него была такая возможность. За несколько дней до закрытия границы он даже арендовал квартиру-студию в районе Шарлоттенбург на Суарецштрассе в Западном Берлине. Они с братом понемножку перевозили свои вещи на двух автомобилях, чтобы не вызывать подозрения у полицейских. Они уже вывезли самую ценную вещь Гюнтера, современную швейную машинку, предварительно разобрав ее и переправляя по частям.
Но самое ужасное заключалось в том, что, в то время, когда разделяли город, Гюнтер Литфин с братом Юргеном были на вечеринке по поводу новоселья в Западном Берлине. Они не заметили ничего необычного, когда в полночь возвращались на городской электричке в Восточный Берлин.
В 10:00, услышав плохие новости по радио, Юрген разбудил брата: «Границу закрыли, в Западный Берлин больше не попасть». Братья стали вспоминать, как все было в прошлый раз, когда Ульбрихт закрыл границу Берлина. 17 июня 1953 года после того, как вспыхнувшее в Берлине восстание было подавлено советскими танками, в городе объявили чрезвычайное положение. Несколько дней спустя жизнь вернулась в нормальное русло, значит, решили братья, и в этот раз, скорее всего, повторится та же история. Даже в 1948 году граница оставалась открытой. Сначала Литфины отказались от мысли, что американцы согласятся с закрытием границы. У братьев были сомнения относительно британцев и французов, но американцы, по их мнению, должны были добиться открытия границы.
Братья сели на велосипеды и поехали на разведку. Они остановились там, где Гюнтер обычно пересекал границу, на станции электрички Борнхольмерштрассе. На тротуаре полицейские установили заграждения из колючей проволоки. Гюнтер, вздохнув, сказал брату: «Я не могу поверить, что это останется».
Но с каждым днем братья все более убеждались, что американцы не собираются их спасать. Коммунисты начали заменять временные барьеры из козел и колючей проволоки на стену из готовых бетонных блоков, высотой четыре метра. Ульбрихт в спешном порядке закрывал все спасательные люки. Гюнтер решил рискнуть и сбежать до того, как станет слишком поздно.
Он внимательно слушал радио РИАС, которое сообщало о многих случаях удачных побегов восточных немцев после 13 августа. Приблизительно сто пятьдесят восточных немцев переплыли к свободе через канал Тельтов, многие с детьми. Был случай, когда группа из десяти подростков переплыла в Западный Берлин. Один смельчак на «фольксвагене» прорвал колючую проволоку и благополучно въехал во французский сектор. Другой отчаянный житель Восточного Берлина разоружил пограничника, вырвав из его рук автомат, чтобы он не смог выстрелить, и сбежал за границу с оружием.
Находясь под впечатлением этих историй, Литфин, несмотря на больное сердце, решил действовать. В четверг, 24 августа, в четыре часа дня, Гюнтер прошел через станцию, находившуюся между Фридрихштрассе на востоке и вокзал Лертер на западе. Гюнтер, в светло-коричневом пиджаке и черных брюках, прыгнул в теплые воды Шпрее в гавани Гумбольдта. Он был средним пловцом, но считал, что ему не составит труда преодолеть тридцать или около того метров до свободы.
Стоявшие на железнодорожном мосту полицейские из транспортной полиции пять раз крикнули, приказывая Гюнтеру остановиться. Но портной только поплыл еще энергичнее. Офицер сделал два предупредительных выстрела. Лифтин продолжал плыть. Тогда офицер открыл огонь на поражение. Первые пули настигли портного, когда ему оставалось всего десять метров до берега.
К первому полицейскому присоединились еще трое, и раненый Гюнтер нырнул, пытаясь уберечься от пуль. Когда он вынырнул и поднял вверх руки, показывая, что сдается, полицейские рассмеялись. Раздался выстрел, пуля попала Гюнтеру в шею, и он камнем пошел на дно.
Гюнтер Литфин был первым человеком, застреленным при попытке бегства из Восточного Берлина, первой жертвой неудачного времени. Он, скорее всего, не знал, что в то утро полиция получила приказ стрелять на поражение, чтобы остановить всех тех, кто пытается совершить преступление – «сбежать из республики». Сделай он это днем раньше, был бы в Западном Берлине. Вместо этого восточногерманские полицейские на двух пожарных катерах более двух часов обшаривали Шпрее, пока армейские водолазы не вытащили из воды тело Гюнтера.
На следующий день восемь сотрудников тайной полиции ворвались в квартиру матери Гюнтера, которая оплакивала смерть сына. Они вырвали дверцу и разобрали духовку. Они вспороли матрасы и вывалили белье и одежду из шкафов. Офицер объяснил рыдающей женщине: «Вашего сына застрелили. Он был преступником».
Власти, стремясь наказать родственников Гюнтера, не вызвали мать и брата на опознание и не позволили увидеть тело перед похоронами. В солнечный день в среду 30 августа родственники опустили Гюнтера в могилу в закрытом гробу на кладбище в Вайсензее [75].
Юрген провел пальцами по надписи, сделанной золотом на черной полированной гранитной надгробной плите: «Наш незабвенный Гюнтер».
Сотни берлинцев собрались у могилы Гюнтера: школьные друзья, члены семьи и десятки людей, никогда не знавших Гюнтера, пришли на кладбище, бросая вызов властям самим своим присутствием.
Несмотря на огромное количество наблюдателей, Юрген не мог позволить брату исчезнуть, не убедившись, что это действительно он. Он спрыгнул в могилу и поддел ломом крышку гроба. Несмотря на почерневшую кожу и обмотанные бинтами подбородок и шею, у Юргена не возникло и тени сомнения, что это его брат.
Он поискал глазами мать и кивком дал понять, что это ее сын.
События 13 августа потрясли Берлин, и он никак не мог прийти в себя. Город прошел все стадии: опровержение, недоверие, гнев, огорчение, депрессия и, наконец, смирение. Реакция берлинцев зависела от того, где они находились, на востоке или на западе.
Жители Западного Берлина, сначала обрушившие свой гнев на коммунистов, теперь выражали яростное негодование бездействием американского правительства. Все разговоры в городе сводились к тому, почему 13 августа американцы не послали ни одного взвода, чтобы продемонстрировать солидарность, и не ввели ни одной санкции, чтобы наказать восточных немцев и Советы за их действия.
В отличие от жителей Западного Берлина жители Восточного Берлина испытывали ненависть к самим себе за то, что упустили возможность убежать на Запад, и отвращение к циничным коммунистическим лидерам, заключившим их в тюрьму. Вездесущие агенты Штази успешно справлялись с поставленной задачей. На всех предприятиях, в учебных заведениях и жилых домах сотрудники Мильке вели неусыпное наблюдение за теми, кто мог поднять восстание.
На границе, Бернауэрштрассе, Восточный Берлин
Вторник, полдень, 15 августа 1961 года
Прошло чуть больше двух дней с закрытия границы, когда на Бернауэрштрассе восточногерманские рабочие приступили к строительству стены. Огромные подъемные краны поднимали со стоявших рядом грузовиков и опускали на землю одинаковые бетонные плиты, размером 1,25 квадратного метра и толщиной 20 сантиметров. Ульбрихт, довольный тем, что США и их союзники не предпринимают никаких действий, и едва ли предпримут, сделал следующий шаг. Он отдал приказ приступить к замене временных пограничных барьеров в нескольких стратегически важных местах на что-то более внушительное.
Корреспондент Си-би-эс Даниэль Шорр помчался на Бернауэрштрассе. «Мы увидели бетонные плиты, которые устанавливали так, словно строили стену», – высказал он мнение в порядке рабочей гипотезы, став одним из первых, кто произнес слово «стена» для описания того, что в конечном счете разделит жителей Берлина. Он сравнил эту стену с той, которую немцы построили в Варшаве, чтобы изолировать евреев.
Шорр попытался объяснить американским слушателям, почему американские войска равнодушно наблюдают, как коммунисты превращают фигуральный железный занавес в реальную стену из бетона. «Мы, возможно, были готовы вступить в войну, чтобы защитить свое право оставаться в Берлине, но можем ли мы вступить в войну, чтобы защитить право восточных немцев выходить из собственной страны?» Строительные бригады приступили к строительству и на Потсдамской площади, на которой были установлены большие прожекторы, позволявшие работать круглосуточно. Однако именно Бернауэрштрассе станет центром и символом намерений Ульбрихта сделать границу Берлина постоянной и непроницаемой.
Благодаря довоенному планированию Бернауэрштрассе повезло оказаться на разделительной линии между восточногерманским районом Митте, входившим в советский сектор, и западногерманским округом Веддинг, входившим во французский сектор. До 1938 года граница между районами проходила посередине мощенной булыжником длиной в километр Бернауэрштрассе, но в 1938 году недовольство выразили уборщики улиц Веддинга. Власти Третьего рейха, желая упростить им работу, расширили территорию Веддинга, передвинув границу к домам на противоположной стороне улицы. Теперь уборщики выполняли свою работу на всей улице – на проезжей части и на тротуарах по обеим сторонам.
В результате раздела Берлина в период холодной войны проезжая часть, тротуары по обе стороны и жилые дома на северной стороне Бернауэрштрассе оказались в Западном Берлине, а дома на южной стороне – в Восточном Берлине. В первые два дня после закрытия границы жители Восточного Берлина могли сбежать на Запад – в зависимости от расположения квартиры в доме – или выйдя из двери парадной, или спустившись по веревке из окна.
Подобно многим солдатам, направленным в Восточный Берлин для участия в операции «Роза», девятнадцатилетний Ганс Конрад Шуман родился в деревне в Саксонии; его отец занимался разведением овец в Лойтевице. Власти по опыту знали, что в силу своего происхождения молодой Шуман мало интересуется политикой. Однако 15 августа Шуман, патрулировавший восточногерманскую сторону границы, проходившую по Бернауэрштрассе, не сумел заметить угрозы своей социалистической родине, которую, следуя инструкции, должен был устранить. Вместо этого он увидел справедливо рассерженных, невооруженных людей, грозящих кулаками и обзывающих его свиньей, предателем и, самое обидное – учитывая прошлое Германии, – охранником концентрационного лагеря.
Шуман был в смятении. Он больше сочувствовал простым людям, чем солдатам, разгоняющим их с помощью брандспойтов и дымовых шашек. Вот тогда он задумался о собственном побеге. Строительные бригады работали в быстром темпе, и Шуман подумал, что всего через несколько дней на Бернауэрштрассе вместо заграждений из колючей проволоки появится бетонная стена. За несколько недель весь Восточный Берлин будет окружен бетонной стеной, и он упустит свой шанс – лишится возможности убежать на Запад.
Шуман, мысленно представив свой побег, примял ногой колючую проволоку, делая вид, что проверяет заграждение.
«Что ты делаешь?» – спросил один из солдат.
Шуман, хотя его сердце отчаянно колотилось, спокойно ответил: «Проволока уже проржавела». Молодой фотограф Петер Ляйбинг наблюдал за действиями Шумана со стороны Западного Берлина. Ляйбинга, сотрудника гамбургского фотоагентства «Конти-пресс», отправили в командировку за двести пятьдесят километров в Берлин, чтобы он запечатлел ход исторических событий. Он сфотографировал восточногерманских солдат, размахивающих автоматами, кричащих женщин, злые и печальные лица; все снимки были сделаны через колючую проволоку. Когда Ляйбинг оказался в эпицентре этой драмы, на Бернауэрштрассе, то увидел многочисленную толпу жителей Западного Берлина, наблюдавших за строительством стены. Стоя на углу Руппинерштрассе в Западном Берлине, Ляйбинг навел фокус на Конрада Шумана, который стоял напротив него, в Восточном Берлине, и нервно курил. Несколько человек, стоявших в толпе, рассказали Ляйбингу, что, наблюдая за Шуманом, видели, как он несколько раз подходил к колючей проволоке и каждый раз приминал ее ногой к земле.
«Чем больше вокруг людей, – подумал Шуман, – тем больше вероятность того, что мне удастся сбежать, и едва ли товарищи станут стрелять, когда я перепрыгну через заграждение». Шуман крикнул молодому жителю Западного Берлина, который близко подошел к заграждению, чтобы он отошел назад, а затем шепотом заметив ему: «Я собираюсь прыгнуть».
Молодой человек бросился бежать, и в скором времени к границе со стороны Западного Берлина подъехал полицейский автомобиль, остановившийся вблизи границы, но так, чтобы не привлекать внимания восточногерманских солдат. Ляйбинг сфокусировал свою камеру на проволочном заграждении в том месте, куда несколько раз подходил Шуман. Чем дольше Ляйбинг ждал, тем больше ему казалось, что Шуман утратил мужество и не решится прыгнуть.
Примерно в 16:00 Шуман увидел, что двое его товарищей завернули за угол и скрылись из глаз. Он выбросил сигарету, бросился вперед, подпрыгнул, наступил правой ногой на колючую проволоку, придавив ее к земле. Он подпрыгнул, разведя в сторону руки, и ликующей толпе на миг показалось, что у него выросли крылья. Словно чемпион в беге с барьерами, он приземлился на левую ногу, подбежал к полицейскому автомобилю и нырнул в заранее открытую для него дверь.
Имевший опыт съемки конных скачек в Гамбурге, Ляйбинг смог среагировать на стремительное движение и сфотографировал солдата в тот момент, когда он взлетел над колючей проволокой. Он сделал всего одну фотографию, но она стала культовой.
«Добро пожаловать на Запад, молодой человек», – сказал западногерманский полицейский дрожащему от пережитого волнения Шуману, и тот упал в обморок [76].
Дверь закрылась, и машина уехала. Это была всего лишь маленькая победа.
Ульбрихт настолько поверил в то, что Кеннеди не будет вмешиваться, что 22 августа распорядился продолжить строительство стены по всему городу. Хотя история зафиксировала 13 августа как дату рождения Берлинской стены, на самом деле стена появлялась постепенно, по мере того как крепла уверенность коммунистов в том, что они не столкнутся с сопротивлением.
Шёнебергская ратуша, здание муниципалитета Западного Берлина
16:00, среда, 16 августа 1961 года
Никогда еще Вилли Брандт так не волновался перед выступлением.
Стоя перед Шёнебергской ратушей и глядя сверху на двести пятьдесят тысяч разгневанных жителей Западного Берлина, он понимал, как трудно будет найти правильный тон. Он должен направить гнев толпы, но так, чтобы народ не бросился штурмовать границу, а только обличал коммунистический режим.
Он понимал, что этот момент может стать решающим для его кампании. Всего через месяц состоятся выборы, и Брандт хотел показать немцам, что он способен намного эффективнее защищать их интересы, чем стареющий канцлер Аденауэр, который вместе со своими американскими друзьями не делает ничего, чтобы открыть границу. Аденауэр отклонил приглашение Брандта выступить на митинге и с 13 августа не появлялся в Берлине.
Аденауэр не поддавался давлению со стороны партии и общественности, отказываясь приехать в город, поскольку, как он объяснил, его появление может вызвать политические волнения и ложные надежды. Но молчание только подчеркивало его бессилие. Помимо прочего, Аденауэр не хотел давать повод Советам распространяться о своих успехах и угрожать Западному Берлину и его свободе.
Итак, Брандт готовился к выступлению, а в это время Аденауэр встречался в Западной Германии с советским послом Андреем Смирновым. Аденауэр согласился подписать коммюнике, подготовленное Советами: «Правительство Федеративной Республики не предпримет шагов, которые могли бы ухудшить отношения с Советским Союзом и осложнить международное положение».
Это было похоже на умиротворение.
Через сорок восемь часов после закрытия границы Аденауэр, отказавшись от первоначальных угроз, объявил, что не будет прерывать торговые связи с Восточной Германией. Даже его воинствующий министр обороны Франц Йозеф Штраус призвал сохранять спокойствие. «Если начнется стрельба, – сказал он, обращаясь к народу, – то неизвестно, чем она закончится».
Британский премьер-министр Макмиллан, союзник, отказывавшийся провоцировать русского медведя, похвалил Аденауэра за то, как он отреагировал на строительство стены. Казалось, Аденауэр, который раньше испытывал сомнения относительно президентства Кеннеди, одобрил занятую президентом позицию в отношении стены.
Однако реакция Аденауэра говорила скорее о том, что он смирился. Оправдались его худшие предположения относительно нерешительности Кеннеди. Генрих Кроне, председатель партийной фракции Аденауэра в бундестаге, написал в своем дневнике: «Это был час нашего самого большого разочарования». Строительство стены лишило Аденауэра последней уверенности в том, что он является членом «сильнейшего альянса в мире», способного обеспечить полную безопасность.
Аденауэр проявил дальновидность. Его Западная Германия осталась невредимой и входила в НАТО. Не было никакого смысла отрицать тот факт, что Восточный Берлин попал в руки коммунистов. Сейчас для него не было ничего важнее, чем одержать победу на выборах 17 сентября и не допустить, чтобы страной управляли социалисты.
Смирнов, в обычной советской манере, уговаривал канцлера и угрожал ему.
Он говорил о том, насколько конструктивно Москва работает с Аденауэром, одновременно напомнив канцлеру о роли Германии в двух последних мировых войнах и о том, что сейчас она предпринимает, по его словам, воинственные действия и наращивает вооружение.
Во время встречи с советским послом Аденауэр не стал осуждать Советы и Хрущева. Наоборот, он похвалил ум и дальновидность Хрущева, тепло вспомнил последнюю встречу с советским лидером, выразил «настоятельное желание» дружить с Советским Союзом и сказал, что нацелен на победу на выборах 17 сентября.
Он упомянул о Берлине всего один раз, в связи с выборами. «Здесь мы имеем дело с ухудшающейся, очень неприятной ситуацией, которую необходимо решать извне, – сказал Аденауэр Смирнову. – Я был бы весьма благодарен, если бы советское правительство сумело исправить ситуацию мирным путем». Аденауэр заявил, что волнуется и «откровенно боится», что события в Берлине и советской зоне «при определенных условиях могут привести к кровопролитию». «Я буду признателен, если советское правительство не допустит, чтобы такое произошло».
Если в отношении Советов Аденауэр был сама сдержанность, то совсем иначе он вел себя по отношению к политическому противнику, Вилли Брандту. Аденауэр понимал, что закрытие границы осложнит его отношения с избирателями. Кроме того, он понимал, что огромное большинство задается вопросом, не слишком ли он стар и достаточно ли крепок, чтобы руководить страной, что Брандт со своими социал-демократами будет придерживаться более приемлемой политики. Он надеялся, что избиратели сравнят все это с тем, что ему удалось сделать в рамках западного альянса – достигнуть стабильности в Западной Германии и процветающей экономики.
Прошло меньше сорока восьми часов после закрытия коммунистами границы, и Аденауэр, вместо того чтобы мчаться в Берлин, провел кампанию в баварском городе Регенсбурге. В своей речи канцлер заявил, что не хочет обострять ситуацию, играя «на публику». Вместо того чтобы подвергнуть нападкам коммунистов, он нанес удар по самолюбию Брандта, впервые публично упомянув о его незаконном рождении. «Никто никогда не привлекал большего внимания политических противников, чем герр Брандт, настоящая фамилия которого Фрам», – сказал Аденауэр, ссылаясь на девичью фамилию его матери-одиночки – фамилию, от которой Брандт отказался, находясь в эмиграции.
29 августа, выступая с предвыборной речью в Хагене, Вестфалия, Аденауэр заявил, что Хрущев закрыл берлинскую границу, чтобы помочь социалисту Брандту на приближающихся выборах. Немецкая пресса подвергла критике Аденауэра за столь злобные нападки на Брандта, зато среди избирателей Аденауэр посеял серьезные сомнения в отношении своего соперника.
Брандт, который до этого времени вел себя сдержанно, не замедлил ответить: «Старик уже плохо соображает». Он посоветовал Аденауэру подумать о «мирной старости». Брандт решил, что для него будет выгоднее всего объявить об отказе от предвыборной кампании. «Единственное, что имеет для меня значение, – это борьба за Берлин», – заявил он, объявив, что сведет предвыборную кампанию до одного дня в неделю и сосредоточится на «судьбе Германии».
Брандт понимал, что наиважнейшим показателем для избирателей является то, как строятся его отношения с американцами. В день выступления Брандта самая читаемая газета Западной Германии «Бильдцайтунг», с тиражом 3,7 миллиона экземпляров, вышла под заголовком, занимавшим всю верхнюю часть первой полосы: Восток действует – а Запад? Запад ничего не делает.
Под статьей редакторы поместили большие фотографии трех лидеров союзников с язвительными подписями: «Президент Кеннеди хранит молчание»; «Макмиллан идет на охоту»; «Аденауэр оскорбляет Брандта».
В передовой статье говорилось:
«Мы вступили в западный альянс, поскольку верили, что это будет наилучшим решением как для Германии, так и для Запада. Большинство немцев, подавляющее большинство, по-прежнему убеждены в этом. Но это мнение изменится, если некоторые из партнеров в момент, когда дело Германии находится в большой опасности, равнодушно заявляют: «Права союзников не были затронуты».
Дело Германии в огромной опасности. Прошло уже три дня, и до сих пор ничего не сделано, кроме протестов союзных комендантов Берлина, изложенных на бумаге.
Мы разочарованы!»
Более сдержанная берлинская газета «Тагешпигель» уловила дух времени, поместив огромную, разделенную на четыре части карикатуру, которая пользовалась огромной популярностью.
В каждой части главным героем был стареющий лысый американец в темном костюме, галстуке-бабочке, с указующим перстом. На нем был ярлык с надписью: «Запад».
На первой картинке Запад содрогался от ударов, которые Сталин наносил палкой по его голове. Он только говорил: «[Ударь меня] еще раз, и я возьму большую палку». На второй картинке Запад с двумя шишками, одна – от ударов Сталина, а на второй надпись: «Венгрия». На третьей картинке крошечный Ульбрихт, который бьет Запад палкой с надписью: «Закрытие внутригородской границы». На четвертой, последней, картинке оскорбленный, избитый Запад и надпись: «Und so weiter» – «И так далее и тому подобное».
Утерев пот со лба, Брандт сказал стоявшим перед ним двумстам пятидесяти тысячам берлинцев, что закрытием границы Советы «дали своей комнатной собачке Ульбрихту небольшую дополнительную цепь». Почувствовав настроение толпы, Брандт сказал: «Мы не можем помочь нашим согражданам в секторе и нашим соотечественникам в зоне нести это бремя, и для нас это горькая пилюля! Мы можем только помочь им тем, что покажем, что поднимаемся, чтобы встать вместе с ними в этот час отчаяния!»
Толпа вздохнула с облегчением – Брандт наконец выразил их тревогу.
Брандт провел параллель между диктатурой Ульбрихта и Третьим рейхом. Он назвал закрытие границы «новым вариантом оккупации Рейнланда Гитлером. Только сегодня этого человека зовут Ульбрихт». Ему приходилось перекрикивать оглушительные аплодисменты, а это было непросто, поскольку он совсем охрип из-за постоянных предвыборных выступлений и непрерывного курения.
Брандт сделал паузу перед той частью речи, в которой он обращался к Соединенным Штатам и Кеннеди. К недовольству многих, он начал с того, что сказал несколько слов в поддержку американцев. «Без них танки будут неуклонно продвигаться вперед», – заявил Брандт.
Люди только собрались аплодировать, как он выразил их собственное разочарование Кеннеди.
«Берлин ожидает большего, чем просто слова, – заметил Брандт. – Он ожидает политической акции». Толпа взорвалась аплодисментами, когда он сказал, что сообщил в письме президенту Кеннеди свое мнение. «Я со всей прямотой изложил ему нашу точку зрения», – закончил он под одобрительный рев толпы.
Овальный кабинет, Белый дом, Вашингтон, округ Колумбия
Утро среды, 16 августа 1961 года
Президент Кеннеди был разгневан.
Он счел письмо бургомистра Брандта, полученное с утренней почтой, оскорбительным и дерзким. Даже с учетом берлинской ситуации Брандт перешел все границы, используя выражения, которые ни один мэр города не имел права использовать в переписке с президентом страны. С каждой прочитанной строкой в Кеннеди крепла уверенность, что это письмо прежде всего было нужно Брандту для его предвыборной кампании.
Брандт назвал закрытие границы вторжением, «самым серьезным в послевоенной истории города, начиная с блокады». Он открыто упрекал правительство Кеннеди: «В то время как в прошлом коменданты союзников выступали даже против парадов так называемой Национальной народной армии в Восточном Берлине, на этот раз, после военной оккупации восточного сектора Народной армией, они ограничились запоздалыми и не слишком энергичными шагами». Он обвинял союзников в том, что тем самым они поддержали «незаконный суверенитет правительства Восточного Берлина».
«У нас теперь есть государство искусного вымогательства», – возмущался Брандт.
Он сказал Кеннеди, что хотя это не ослабило желания жителей Западного Берлина бороться, «но вызвало определенные сомнения относительно решимости трех держав и их способности оказать сопротивление».
Он согласился с Кеннеди в том, что существующие четырехсторонние гарантии относятся только к Западному Берлину и его жителям, присутствию там войск и доступу в город. «Однако, – подчеркнул он, – Берлин – это кровоточащая рана немецкого народа, которую бередят колючей проволокой и коваными сапогами». Брандт предупредил Кеннеди, что Берлин может превратиться в «гетто» и утратить «свое предназначение как пристанище свободы и символ надежды на объединение». Больше того, сказал он, «вместо бегства в Берлин мы можем столкнуться с бегством из Берлина», поскольку жители утратили уверенность в том, что у города есть будущее.
Далее в письме Брандт изложил ряд предложений, опять игнорируя тот факт, что он всего лишь бургомистр города и, вообще, в этом случае предполагается двусторонний обмен мнениями, но на уровне канцлера и президента, а не бургомистра и президента. Брандт хотел, чтобы Кеннеди внес берлинский вопрос на рассмотрение в НАТО, поскольку Советский Союз «нарушил Декларацию прав человека самым возмутительным образом». И наконец, он призывал Кеннеди значительно увеличить американский гарнизон в Берлине.
Брандт закончил письмо следующими словами: «Я считаю ситуацию достаточно серьезной, господин президент, поэтому написал Вам со всей откровенностью, как это возможно только между друзьями, которые полностью доверяют друг другу». И подписал письмо: «Ваш Вилли Брандт».
Кеннеди кипел от злости. Письмо было начинено политическим динамитом. Брандт насыпал соль на открытую рану Кеннеди, уже уязвленного обвинениями в том, что проявил слабость на Кубе, в Лаосе и Вене. Наибольшее раздражение вызвали у Кеннеди последние строки письма, в которых Брандт упомянул о дружбе и доверии к президенту.
«Доверие? – презрительно фыркнул президент, размахивая письмом. – Я вообще не доверяю этому человеку. Он ведет кампанию против старика Аденауэра и хочет опозорить меня. С какой стати он называет меня своим другом?»
Государственный департамент и Белый дом были вне себя от злости, что Брандт обнародовал содержание письма во время выступления, то есть до получения письма Кеннеди, преследуя цели предвыборной кампании. Администрация представила дело таким образом, что американская пресса разразилась потоком негативных комментариев. «Нью-Йорк дейли ньюс» назвала письмо Брандта «грубым и самонадеянным». Комментатор газеты «Вашингтон ивнинг стар» Уильям С. Уайт осудил «обычного мэра», который «пытается определять внешнюю политику не только своей страны, но и всего Запада, адресуя личные сообщения президенту Соединенных Штатов… демагогам ничего не стоит собрать возбужденную толпу, как это делает господин Брандт, чтобы облить презрением Запад за бездействие». Возможно, позже письмо Брандта подтолкнуло бы Кеннеди на более активные действия по защите Берлина, но в данный момент самой решительной оказалась журналистка Маргарет Хиггинс, которой президент показал письмо, сидя в кресле-качалке в Овальном кабинете. Известная американская журналистка, освещавшая события Второй мировой войны и корейской войны, была близким другом президента. «Скажу откровенно, господин президент, в Берлине растет подозрение, что вы собираетесь предать западных берлинцев».
Кеннеди пришлось согласиться, что ему следует быстро принять какие-то меры, чтобы убедить жителей Берлина, американцев и советское правительство, что он по-прежнему готов противостоять Кремлю. Спустя два дня после получения письма Кеннеди ответил бургомистру, что планирует направить в Берлин вице-президента Джонсона и генерала Люсиуса Клея, «отца» берлинского воздушного моста 1948 года и друга Маргарет Хиггинс.
Кеннеди послушался совета Брандта относительно усиления американского гарнизона в Берлине, но в письме ясно дал понять, что он сам пришел к этому решению и бургомистр тут ни при чем. «При внимательном рассмотрении, – написал президент Брандту, – я решил, что наилучшим ответом будет значительное усиление западных гарнизонов».
По его мнению, было важно не увеличение численности войск, а тот факт, что усиление гарнизонов будет рассматриваться как ответ Соединенных Штатов на требование Москвы о выводе всех союзнических войск из Берлина. «Мы считаем, что даже незначительное усиление подчеркнет наш отказ выполнять это требование», – заявил Кеннеди.
Однако остальные предложения Брандта Кеннеди отклонил. Он отказался обращаться в Организацию Объединенных Наций, считая, что «едва ли это принесет какую-то пользу». «По вашим словам, никакие шаги не могут существенно изменить текущую ситуацию. Это звучит как признание несостоятельности и политической слабости, и это грубое закрытие границы, очевидно, символизирует решение Советов, которое может изменить только война. Ни Вы, ни я, ни один из союзников даже не думают о том, чтобы ради этого развязывать войну».
По мнению Кеннеди, действия Советов были «слишком серьезными для неадекватного ответа». Любое действие, следуя его логике, кроме войны, было неадекватным, вот почему до настоящего времени он отклонял все предложения, включая «большинство предложений, указанных в Вашем письме».
Кеннеди пошел на уступку, которая ему ничего не стоила, поддержав предложение Брандта относительно «плебисцита, демонстрирующего продолжающуюся уверенность Западного Берлина, что его судьба – свобода», свобода, которую олицетворяет западный мир.
Кеннеди не нравилось, что Брандт втягивает его в свою грязную немецкую политику. С другой стороны, у него были свои внутренние политические причины для демонстрации силы. Если кто-то и понимал, как сильно переплелись внутренняя и внешняя политика Америки, то это был Кеннеди.
Брандт испытал разочарование, получив ответ американского президента – «он бросил нас в самое пекло». Американские журналисты писали с уверенностью хорошо осведомленных людей, что закрытие границы потрясло и подействовало угнетающе на Кеннеди. Но это было абсолютно не так.
Находясь среди самых близких и доверенных людей, Кеннеди не скрывал своего облегчения. Он считал, что закрытие границы – потенциально положительный поворотный момент, который может помочь положить конец Берлинскому кризису, нависшему над ним, как ядерный дамоклов меч. Хрущев не тронул Западный Берлин, и, по его мнению, это показывало границы хрущевских честолюбивых замыслов – и осторожность, с которой он собирался их осуществлять.
«Зачем Хрущев стал возводить стену, если на самом деле собирался захватить Западный Берлин? Не было никакой необходимости в стене, если он планировал оккупировать весь город. Это его выход из затруднительного положения. Не очень хорошее решение, но стена, черт возьми, лучше, чем война», – сказал Кеннеди своему другу и помощнику Кенни О’Доннеллу.
Благодаря действиям коммунистов Кеннеди заработал очки у международной общественности. Коммунисты были вынуждены построить барьер, чтобы изолировать свой народ. Ничто не заслуживало большего осуждения, чем эти действия. Нельзя было найти лучшего аргумента в пользу свободного мира, хотя бы и ценой свободы жителей Восточного Берлина и даже жителей всей Восточной Европы.
Как прагматик, Кеннеди думал о себе, а жители Восточной Европы в любом случае не могли рассчитывать на освобождение.
Кеннеди не слишком сочувствовал восточным немцам; он сказал журналисту Джеймсу Скотти Рестону, что Соединенные Штаты предоставили им достаточное количество времени, чтобы они могли сбежать из своей тюрьмы, ведь граница была открыта с момента создания советской зоны по окончании Второй мировой войны до 13 августа 1961 года.
В первые дни после закрытия границы западногерманскому послу Вильгельму Греве и канцлеру Конраду Аденауэру стало известно высказывание Кеннеди: «В конце концов, у восточных немцев было больше пятнадцати лет, чтобы понять, хотят они остаться в Восточной Германии или уйти на Запад». Греве опасался, что это черствое замечание еще больше отравит и без того отравленную атмосферу.
Позже Греве так отозвался о Кеннеди: «У меня было чувство, что иногда он не был полностью уверен в том, стоит ли как-то реагировать и следует ли предпринимать какие-то действия, чтобы помешать строительству стены». Кеннеди показал свою неуверенность в этом вопросе, когда спросил Греве: «Ну, как вам кажется, мы должны были как-то иначе повести себя в этой ситуации?» С каждым днем этот вопрос все больше занимал президента, тем более что с закрытием границы отношения с Хрущевым не стали проще.
Кремль, Москва
Середина августа 1961 года
Хрущев поздравил себя с тем, что перехитрил американцев, британцев и французов и обошелся без военного конфликта, политической реакции и даже без самых незначительных экономических санкций.
Его сын Сергей заметил, что отец впервые после 13 августа вздохнул с облегчением и затем в течение долгого времени радовался, вспоминая свой успех. Если бы Хрущев бездействовал, поток беженцев обескровил Берлин и советский блок ждало быстрое разрушение под влиянием внутренних факторов. Подстрекаемые Мао противники Хрущева принесли бы его голову на блюде на съезд партии.
Позже Хрущев говорил, что «война могла вспыхнуть», если бы он просчитался. Он отлично разбирался в знаках Кеннеди, которые служили дорожными указателями для его действий. Единственное, что интересовало Кеннеди, – это сохранение статуса Западного Берлина и доступа к городу. Советский лидер был уверен, что Кеннеди не предпримет никаких действий, чтобы освободить восточных немцев, и не вступит в борьбу, что бы Советский Союз ни делал в своей зоне.
Хрущев, вероятно, считал, что достиг даже большего, чем ожидал в случае подписания мирного договора, поскольку Кеннеди наверняка вынудил бы его признать необходимость объединения Германии путем свободных выборов. Теперь у него были все основания надеяться, что решимость Запада в отношении принятых обязательств будет постепенно ослабевать, как и моральный дух жителей Западного Берлина, которые, усомнившись в том, что союзники будут защищать их свободы и связь с Западной Германией, начнут потихоньку покидать город.
У Хрущева не было и тени сомнения относительно того, что венские переговоры «символизировали поражение» Кеннеди. Кремль решил действовать и «не было ничего, что бы ни предпринималось – за исключением военных действий, – что могло остановить нас. Кеннеди был достаточно умен, чтобы понять, что военное столкновение бессмысленно. Мы начали предпринимать определенные односторонние шаги, и у Соединенных Штатов и их западных союзников нет иного выбора, как проглотить эту горькую пилюлю».
Хрущев, намекая на национальный советский спорт, вел себя и говорил как гроссмейстер. Когда США усилили военное давление в Берлине, он выдвинул Конева. «Говоря шахматным языком, – сказал Хрущев, – американцы пошли пешкой, а мы, защищая нашу позицию, сделали ход конем». Хрущев был страшно доволен собой, наслаждаясь игрой слов: конь и Конев. Под пешкой подразумевался Клей, которого Кеннеди решил направить в Берлин.
Он объяснил Кеннеди, сказал Хрущев, что «если вы настаиваете на том, что будете держать щит войны и препятствовать нам в наших намерениях, то мы готовы встретить вас на ваших же условиях».
В Вене, вспоминал Хрущев, президент утверждал, что согласно Потсдамскому соглашению есть только одна Германия. Однако теперь он признал де-факто существование двух Германий.
Но Хрущев на этом не остановился. В августе, поощренный бездействием Кеннеди, советский лидер укрепил восточногерманские позиции и предпринял другие действия для укрепления собственных позиций перед съездом партии. 16 августа Хрущев приступил к серии испытаний опытных мощных ядерных зарядов и проведению учений, в которых принимали участие три рода войск – военно-морской флот, ракетные войска стратегического назначения и сухопутные войска. А чтобы правительство Кеннеди не упустило этот момент, впервые с 1936 года Советы пригласили западных военных атташе присутствовать на учениях сухопутных войск.
Советский сопровождающий объяснил атташе, что ракеты снабжены ядерными боеголовками. Советы даже смоделировали ядерное облако над гипотетическим вражеским расположением в поселке Кубинка, западнее Москвы.
А 30 августа Хрущев объявил о прекращении трехлетнего моратория на испытания ядерного оружия, и уже через два дня Советский Союз возобновил испытания в атмосфере, и взрывы в Семипалатинске были услышаны во всем мире.
«Черт побери, опять началось», – простонал еще не пришедший в себя после дневного сна президент Кеннеди, когда ему сообщили об этом.
30 августа президент встретился с военными советниками, чтобы обсудить возможный ответ. Бобби, брат президента, пребывал в мрачном настроении. Он считал, что «русские уверены, что, если они могут сломить нашу волю в Берлине, мы уже никогда не будем ни на что способны и они выиграют поединок в 1961 году… Русские, очевидно, планируют запугать и подчинить себе мир».
Бобби напомнил слова Чипа Болена, сказанные им в начале 1961 года: «В этом году русские ближе всего подойдут к ядерной войне». После совещания, когда президент Кеннеди спросил брата, о чем он думает, Бобби ответил: «Хочу сбежать».
«Сбежать?» – растерянно переспросил президент.
«Сбежать с планеты», – ответил Бобби.
Бобби пошутил, что его советник Пол Корбин высказал предположение, будто на выборах 1964 года они с братом будут соперниками, но он этого не хочет.
Западный Берлин
Выходные дни, 18–20 августа 1961 года
Уже не в первый раз вице-президент был недоволен заданием, полученным от президента. Кеннеди хотел, чтобы он вместе с генералом Люсиусом Клеем отправился в Берлин для укрепления морального духа жителей города. Прошло всего пять дней с закрытия границы, и Джонсон моментально понял, что то, чего, по сути, не хватает миссии, с лихвой восполняется опасностью.
Всего несколькими месяцами ранее после провала операции в заливе Свиней Кеннеди попросил Джонсона принять на своем ранчо LBJ, «Линдон Бэйнс Джонсон», западногерманского канцлера Конрада Аденауэра. Теперь, когда 17 августа Кеннеди позвонил и обратился с просьбой отправиться в Берлин, Джонсон спросил: «Это необходимо?»
«Да, необходимо», – тоном, не вызывающим сомнений, твердо сказал Кеннеди. Сам президент не должен был мчаться в Берлин сразу по получении письма от Брандта, это было бы неправильно. Он должен был оповестить мир, что Соединенные Штаты не намерены оставлять Западный Берлин, и в то же время не хотел вызывать ответную реакцию со стороны Советов. Кеннеди не мог публично выразить свои истинные чувства, то облегчение, которое он испытал, узнав, что коммунисты закрыли границу, и не хотел излишне громко возмущаться произволом Советов.
Джонсон особенно энергично стал отказываться от этой миссии, когда узнал, что должен принимать парад полутора тысяч американских пехотинцев в полном вооружении и с боевой техникой, направленных дополнительно в Западный Берлин для усиления находившихся там двенадцати тысяч союзнических солдат. Джонсон понимал, что столь незначительные дополнительные силы не могут оказать решающего значения для защиты жителей Западного Берлина, но само их появление чревато риском.
«Почему именно я? – спросил Джонсон у помощника Кеннеди Кенни О’Доннелла. – Начнутся боевые действия, и я окажусь в самом центре борьбы».
После уговоров вице-президент согласился отправиться в Берлин вместе с Клеем, который более спокойно отреагировал на просьбу президента.
Во время ночного полета на лайнере «Боинг-707» Клей надоедал Джонсону своими рассказами о подвигах, совершенных им в Берлине в 1948 году. Это по его инициативе был организован «воздушный мост», сказал он Джонсону. Это он, единолично начав операцию, вовлек в нее президента Трумэна. Клей объяснил Джонсону, исходя из собственного опыта, что единственный способ иметь дело с русскими, – это противостоять им.
«Я бы взорвал стену, если бы был президентом», – сказал Клей Джонсону. По его мнению, корейской войны вполне можно было избежать, если бы Соединенные Штаты показали Советам, что готовы действовать еще более решительно, чем в Берлине, когда Трумэн отказался от предложения Клея направить по автостраде танковую колонну, чтобы продемонстрировать решимость США выполнять свои обязательства.
Ничто не могло лучше показать, с каким нетерпением ждали жители Западного Берлина подтверждения того, что Соединенные Штаты полны решимости защищать их, чем встреча, устроенная Джонсону и Клею в аэропорту Темпельхоф, сыгравшем свою роль во время блокады Западного Берлина [77].
Кем были эти двое? Вице-президентом, практически не имевшим влияния, и отставным генералом, но оркестр полиции сыграл «Знамя, усыпанное звездами» [78], был произведен салют из орудий семи американских танков, и сто тысяч жителей Западного Берлина радостными криками выражали свой восторг.
В Белом доме был составлен текст речи, которую должен был в Берлине произнести Джонсон. «Разделенные, вы не приходили в смятение. Вы не падали духом перед лицом угроз. Сегодня, в очередной критический момент, ваше мужество дает надежду всем, кто мечтает о свободе».
Выступая в тот же день в сенате Западного Берлина, Джонсон сказал: «Мы, американцы, обещали способствовать выживанию и творческому будущему этого города и поддерживать свое обязательство, как наши предки при образовании Соединенных Штатов, «своей жизнью, своим состоянием и своей незапятнанной честью». Это заключительные слова нашей Декларации независимости».
Его слова наэлектризовали город, постепенно терявший силы с 13 августа. Трехсоттысячная толпа, собравшаяся на площади перед зданием муниципалитета, состояла из тех же жителей Западного Берлина, которые всего три дня назад стояли здесь, подавленные и сердитые, слушая Брандта. Теперь многие плакали от радости. Даже Клей не мог сдержать слез.
Джонсон, из путешественника поневоле ставший энергичным участником кампании, проезжая по городу в автомобиле, часто поднимался с места, отвечая на приветствия восторженной толпы. Шедший время от времени дождь не мог испортить настроение ему и десяткам тысяч жителей Западного Берлина. Это напомнило корреспонденту «Нью-Йорк таймс» Сидни Грасону атмосферу ликования, царившую во время освобождения Парижа в конце Второй мировой войны.
«Город напоминал боксера, который парировал сильный удар в конце раунда и собирал силы для следующего раунда, – написал Грасон. – Вице-президент не сказал ничего нового. Но это, казалось, не имело значения. Жителям Западного Берлина хотелось, чтобы в их городе в это время были сказаны эти слова, и, прежде всего, его присутствие было для них материальным выражением связи с миром, и это придавало им силы».
Джонсон вызвал рев толпы, когда сказал, что для усиления западноберлинского гарнизона прибыли подразделения американских солдат, которые уже движутся по автостраде.
Хотя американский контингент был малочисленным, Кеннеди сказал специальному помощнику Теду Соренсену, что он рассматривает его как «нашего заложника» решимости США выполнять свои обязательства по защите Западного Берлина.
Кеннеди отложил обычную поездку на выходные в Хайяннис-Порт. В течение ночи он каждые двадцать минут получал сообщения о движении войск к Берлину. Пентагон заранее предусмотрел каждую деталь предстоящей операции, вплоть до остановок на отдых, поскольку грузовики с солдатами двигались в Берлин по автостраде, проходящей по территории Восточной Германии.
Военные советники Кеннеди, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Лайман Лемницер и военный советник президента Максвелл Тейлор, выступали против отправки подкрепления. Британский премьер-министр Макмиллан счел этот жест политической провокацией и военной «ерундой». Генералу Брюсу К. Кларку, шестидесятилетнему командующему силами США в Европе, который помог добиться перелома в «Битве за Выступ» в пользу Америки, тоже не понравилось это решение.
Командовал операцией по переброске войскового контингента полковник Гловер С. Джонс-младший, гордый техасец, бывший начальник Виргинского военного института и боевой командир во время Второй мировой войны, награжденный орденами. Высокий, светловолосый, говорящий по-немецки, склонный к театральности, Джонс понимал, что его миссия не имеет никакой военной ценности и сопряжена со значительным риском. Кеннеди выбрал именно его, потому что слышал, что этот человек не утратит самообладания, командуя малочисленной боевой группой, и проведет ее по враждебной территории, окруженной по крайней мере четвертью миллиона советских солдат.
Ни один из начальников, уделявших такое пристальное внимание каждой мелочи, не сказал Джонсу, что он должен будет делать, если в него начнут стрелять. Не получив на этот счет никаких указаний, Джонс сам принял решение погрузить в машины ящики с боеприпасами. По привычке Джонс взял свой устаревший пистолет «кольт». Он прекрасно понимал, что, если бы пришлось вступить в бой, «от нас бы ничего не осталось». Двигаясь по автостраде, они были подобны овцам, идущим на заклание.
В то время как Джонс решал, как без потерь добраться в Берлин, Джонсон решал вопрос с обувью. Джонсон обратил внимание на мягкие кожаные туфли Брандта, когда они ехали по Берлину в открытом кабриолете «мерседес» и, стоя, приветствовали толпы людей, высыпавших на улицы, и поставил перед бургомистром задачу: «Вы просили нас действовать, а не говорить. Мне бы тоже хотелось посмотреть, как вы умеете действовать».
Джонсон указал на туфли Брандта. «Где вы достали такие туфли?» – спросил он. «Я могу достать такие же для вас здесь, в Берлине», – ответил Брандт, решив, что защита Берлина стоит пары туфель для американского вице-президента.
В субботу, 19 августа, вскоре после полудня, генерал Брюс Кларк, находившийся в Гейдельберге, получил сообщение из американского посольства в Бонне, что вице-президент Джонсон в воскресенье в 14:00 отправится из Берлина домой вне зависимости от того, прибудет или нет войсковой контингент в Берлин. Разгневанный Кларк передал в Вашингтон, что Джонс и его солдаты подвергнутся еще большей опасности, если Джонсон не останется в городе, чтобы их встретить. В субботу в 19:00 помощник президента по вопросам национальной безопасности Мак-Джордж Банди позвонил Кларку: «Генерал, я понимаю, что вы устраиваете разнос всем, кто попадает в поле зрения, поскольку вам не нравится, что вице-президент уедет до прибытия наших солдат».
«Это еще мягко сказано, господин Банди, – ответил Кларк. – Солдаты полностью выложатся, чтобы по прибытии туда быть встреченными вице-президентом». Кларк не мог представить, что за важные дела были у Джонсона в Вашингтоне, ради которых он мог уехать, не встретив «войска, за которыми наблюдал весь мир». Кларк не знал о беспокойстве Джонсона, связанном с появлением в Берлине воинского контингента.
«Когда они прибудут в Берлин?» – спросил Банди. «Если бы я мог точно указать время, у нас не было бы кризиса, не так ли? Кто может знать, где их остановят и остановят ли?» – в сердцах ответил генерал. «Я подумаю, что можно сделать», – сказал Банди Кларку.
В воскресенье, 20 августа, в 12:30 – в Белом доме было 6:30 – спустя всего неделю после закрытия границы первые шестьдесят грузовиков с американскими солдатами прибыли в Берлин без происшествий, не считая трехчасовой задержки на контрольно-пропускном пункте, пока советские солдаты по головам пересчитывали американских солдат, входивших в Берлин. Хрущев сдержал свое обещание не закрывать доступ союзникам в город.
Жители Западного Берлина приветствовали солдат Джонса, словно гладиаторов, одержавших победу: тысячи людей ждали их прибытия на улицах и мостах. Несколько сотен берлинцев стояли с вице-президентом Джонсоном, который решил отложить свой отъезд, у контрольно-пропускного пункта «Драйлинген», на въезде с автострады в Западный Берлин. Усталые солдаты в грязной форме на грязных грузовиках были удивлены и смущены встречей, оказанной им берлинцами, которые буквально засыпали их цветами.
Полковник Джонс никогда не видел ничего подобного, «разве что во время освобождения Франции». Эти солдаты, четыре дня без отдыха находившиеся в пути, были единственной полностью вооруженной боевой группой, которая могла за такое короткое время добраться до Берлина. Пока они ехали по Берлину под приветственные крики и аплодисменты, многие заснули от усталости.
Советы ответили молчанием. Кремль не придал значения подкреплению как «не имеющему никакого военного значения» и заявил, что просто еще больше людей попало «в западногерманскую мышеловку». В опубликованной в «Правде» статье, подписанной «наблюдатель», говорилось, что эта «провокация, которая не может быть оставлена без внимания».
Среди служивших в Берлине солдат, смотревших это представление, был лейтенант военной полиции Вернон Пайк. Подобно большинству солдат, служивших в Берлине, он считал, что Кеннеди и Джонсон должны были просто разрушить стену, а не дожидаться, пока ее построят, и предпринимать какие-то действия против Советов, вместо того чтобы хныкать, сидя дома.
«А Джонсон, зачем он приехал? Все, что ему хотелось, – это увидеть толпу», – сказал Пайк.
Что касается прибывшего подкрепления, то Пайк считал их «ненадежной отвратительной компанией», непригодной для участия в сражении, но ведущей себя высокомерно по отношению к солдатам, давно служившим в Берлине. Когда вновь прибывшие разместились в казармах Рузвельта, они неправильно повели себя со старослужащими, заявив, что их прислали, чтобы они помогли тем, кто не сумел помешать закрытию границы.
«Нам было обидно это слушать, – сказал Пайк, – поскольку они прибыли в Берлин всего на девяносто дней, а потом их должны были сменить. Мы не нуждались в спасении и помощи, и мы понимали, что они здесь по символическим причинам». Хуже было то, что солдаты Джонса «пьянствовали, дебоширили, ввязывались в драки, оказывали сопротивление при аресте».
Однако берлинцев интересовало только то, что Америка наконец показала истинные намерения. Редко можно увидеть, чтобы так шумно радовались такой незначительной помощи. Пайк считал, что сколь сильна была мера отчаяния, столь же сильна была радость по поводу незначительной помощи.
Во время пребывания в Германии Джонсон не посещал Восточный Берлин, чтобы не раздражать Москву и не возбуждать толпу. В отличие от него Клей совершил поездку по советской части города и, вернувшись, рассказал, что Восточный Берлин представляет собой «вооруженный лагерь», население которого выглядит «полностью подавленным».
В этот исторический момент Джонсон не упускал из виду другую цель своей миссии: посещение магазинов.
В воскресенье в 5:30 утра Лусиан Эйхлер разбудил камердинера Джонсона и попросил сказать, какой размер обуви у вице-президента, чтобы Брандт мог прислать понравившиеся ему туфли. У Джонсона были ноги разного размера, поэтому он носил только сшитую на заказ обувь. Из обувного магазина Ляйзера прислали двадцать пар обуви, и Джонсон выбрал две пары, отвечавшие всем требованиям.
В воскресенье в полдень известный берлинский производитель фарфора Королевская фарфоровая мануфактура открыла выставочный зал по просьбе Джонсона, который накануне на обеде, данном Вилли Брандтом, восхищался фарфором. Вице-президент сказал бургомистру, что хотел бы такой сервиз для своей новой резиденции в Вашингтоне, на территории военно-морской обсерватории на Массачусетс-авеню.
Вице-президенту показывали один сервиз за другим, но он никак не мог выбрать, объясняя, что они слишком дорогие для него. Он спросил, нет ли у них каких-нибудь «подержанных» сервизов. Эйхлер не знал, куда деваться от стыда, но помощник бургомистра Франц Амрен спас положение, объявив: «Сенат и народ Берлина хотят подарить вам сервиз».
«О, хорошо, в таком случае…» – сказал вице-президент и выбрал самый изысканный сервиз из тридцати шести предметов.
Берлин произвел на него сильное впечатление. В докладе Кеннеди под грифом «секретно» он написал:
«Я вернулся из Германии с новым чувством гордости за Америку, но с беспрецедентным пониманием ответственности, лежащей на нашей стране. Мир так много ожидает от нас, и мы должны соответствовать требованиям, даже когда рассчитываем на помощь наших союзников. Если мы потерпим неудачу или проявим нерешительность или бездействие, все потеряно, и у свободы, возможно, никогда не будет второго шанса».
С фарфоровым сервизом из тридцати шести предметов, с двумя парами обуви, благополучно встретив полторы тысячи солдат, прибывших в Берлин, Джонсон вернулся домой.
Восточный Берлин
Вторник, 22 августа 1961 года
Ульбрихт был слишком занят закреплением своей победы, чтобы поздравлять самого себя.
Его намерение изменить статус Берлина, на что в начале 1961 года не было ни одобрения Советов, ни возможностей для выполнения, удалось воплотить в жизнь более успешно, чем он, возможно, надеялся. Он мастерски провел операцию и теперь надеялся развить свое преимущество.
22 августа Ульбрихт публично объявил о создании нейтральной зоны, по сто метров с каждой стороны Берлинской стены. Восточногерманские власти, не получив одобрения Советов, объявили, что будут стрелять в жителей Западного Берлина, которые зайдут в буферную зону, которая вскоре получила название «мертвая зона».
На следующий день раздувшийся от самонадеянности Ульбрихт, не реагируя на возражения советского посла Первухина, сократил количество пропускных пунктов, которыми могли пользоваться жители Западного Берлина, с семи до одного, пограничного контрольно-пропускного пункта «Чекпойнт Чарли» на Фридрихштрассе.
Спустя два дня Первухин и Конев вызвали Ульбрихта, чтобы сделать ему выговор за самостоятельно принятые решения. Советское правительство, сказал Первухин, не может согласиться с созданием нейтральной зоны, захватывающей территорию Западного Берлина, поскольку это «может привести к столкновению между полицией ГДР и силами западных держав».
Ульбрихт аннулировал этот приказ и объяснил советским коллегам, что у него не было намерения вмешиваться в дела Западного Берлина. Он мог позволить себе пойти на компромисс, поскольку выиграл больше прав по Берлину, чем мог вообразить в начале года. Тем не менее он отказался отменить решение относительно уменьшения количества контрольно-пропускных пунктов с семи до одного.
Как это часто случалось в 1961 году, Советы уступили Ульбрихту.
Аэропорт Темпельхоф, Западный Берлин
Среда, 23 августа 1961 года
Канцлер Аденауэр наконец появился в Берлине, но только спустя десять дней после закрытия коммунистами берлинской границы и после того, как вице-президент Джонсон и генерал Клей благополучно покинули город. Всего несколько сотен человек приветствовали Аденауэра, когда его самолет приземлился в аэропорту Темпельхоф, и, возможно, еще две тысячи человек встречали его, когда он приехал в лагерь для беженцев Мариенфельде.
Многие жители Западного Берлина демонстративно отворачивались, когда он проезжал по городу. Некоторые держали в руках плакаты с критикой его поведения в период кризиса. Один из наиболее распространенных плакатов – «Ты приехал слишком поздно». Все свидетельствовало о том, что избиратели накажут его за слабость, проявленную при закрытии границы.
Когда он, осматривая стену, останавливался в нескольких местах, в одном месте с восточной стороны из громкоговорителей неслись в его адрес нелицеприятные слова, его сравнивали с Адольфом Гитлером. Однако в другом месте восточные немцы старшего возраста плакали и приветствовали его, размахивая белыми носовыми платками.
Аденауэр посетил «короля» западногерманских СМИ Акселя Шпрингера, штаб-квартира которого располагалась рядом с берлинской границей и чья газета «Бильдцайтунг», самая массовая, была наиболее критически настроена к Аденауэру и позволяла себе резкие высказывания в отношении американской беспомощности при закрытии границы. «Я не понимаю вас, герр Шпрингер, – сказал канцлер. – В Берлине ничего не изменилось», за исключением СМИ, которые будоражат народ.
Он предупредил Шпрингера, что чушь, которую пишут в его газете, может поспособствовать восстановлению национал-социализма.
Шпрингер в гневе вылетел из комнаты.
Бернауэрштрассе, Восточный Берлин
Среда, 4 октября 1961 года
Берлинцы удивительно быстро привыкали к своей послестенной действительности. Поток беженцев был практически остановлен, во-первых, потому, что попытки побега были связаны с огромным риском, и, во-вторых, из-за еще большего ужесточения пограничного контроля. Все больше жителей Западного Берлина, опасаясь, как бы русские не придумали что-нибудь еще, покидали город и разъезжались по Западной Германии.
На Бернауэрштрассе с западной стороны границы постоянно приезжали туристические автобусы и слонялись десятки жителей Западного Берлина, наблюдая за всеми изменениями, происходившими с улицей после 13 августа: закрытие границы, насильственное переселение постоянных жителей Бернауэрштрассе, закладывание кирпичом оконных и дверных проемов, строительство Берлинской стены.
Западноберлинские полицейские, среди которых был Ганс Иоахим Лацай, натянули веревку между деревьями, за которую запрещалось заходить посетителям Бернауэрштрассе. Но через несколько дней люди пришли в такое негодование, что их уже было трудно сдерживать. Лацай испытывал невыносимое чувство вины, когда полицейским приходилось использовать брандспойты, чтобы сильными струями воды оттеснять толпы западных берлинцев. Но еще невыносимее было стоять в стороне и наблюдать, как восточногерманская полиция арестовывала и увозила тех, кто пытался сбежать. Получив приказ оставаться на месте и не вмешиваться, он испытывал «чувство беспомощности, наблюдая за творившейся несправедливостью».
Но самым ужасным в эти дни отчаяния были трагические смертельные случаи. Первый случай на Бернауэрштрассе, свидетелем которого был Лацай, произошел 21 августа с Идой Зикман, за день до ее пятьдесят девятого дня рождения. Лацай как раз свернул на улицу, когда увидел, как из окна одного из домов упал на тротуар какой-то темный предмет. Зикман бросила из окна своей квартиры, расположенной на третьем этаже, перину, чтобы смягчить удар при падении.
Это не помогло. Она разбилась насмерть.
После этого случая западноберлинские полицейские обзавелись прочными сетями, наподобие тех, что используют пожарные, чтобы ловить прыгунов. Однако потенциальные беженцы должны были прыгать точно в расставленные сети, поскольку шестнадцать полицейских, державших сеть, не могли быстро менять местоположение.
Около восьми вечера 4 октября с крыши четырехэтажного жилого дома собрался прыгать двадцатидвухлетний студент Бернд Люнзер, и Лацай крикнул ему, чтобы он прыгал точно в растянутую сеть.
Сначала Люнзер и два его друга собирались спуститься с крыши в Западный Берлин по бельевой веревке. Пока они собирались с духом, собравшиеся внизу жители Западного Берлина, причем их становилось все больше, криками подбадривали молодых людей. Их крики привлекли внимание восточногерманских полицейских.
Герхард Петерс, девятнадцатилетний полицейский из подразделения пограничной полиции, через слуховое окно вылез на крышу. Люнзер отломал куски черепицы и стал бросать их в Петерса, к которому вскоре присоединились еще трое полицейских. После недолгой беготни по крыше полицейским удалось схватить двоих друзей Люнзера.
Когда один из восточногерманских полицейских выстрелил в потенциальных беглецов, западногерманские офицеры вытащили свои пистолеты и устроили перестрелку с восточногерманскими полицейскими; в общей сложности было сделано двадцать восемь выстрелов. Согласно приказу применять оружие можно было только для защиты, и позже западногерманские полицейские утверждали, что восточногерманские полицейские первыми открыли стрельбу.
Когда пуля западногерманского полицейского попала в ногу восточногерманского офицера полиции, Люнзер воспользовался этим, вырвался из рук раненого офицера и побежал. Несколько человек, стоявших внизу, крикнули, чтобы он сбросил раненого полицейского с крыши. Некоторые, в том числе Лацай, кричали, чтобы он прыгал в растянутую страховочную сетку. Когда студент наконец решился и прыгнул, то зацепился ногой за водосточную трубу и упал вниз головой на тротуар примерно в трех метрах от страховочной сетки.
Люнзер разбился насмерть.
Позже Лацай ругал себя за ту роль, которую сыграл в этом происшествии: «Я уговорил его прыгнуть, и он нашел свою смерть».
На следующий день восточногерманские власти прислали букет роз полицейскому Петерсу. Министр внутренних дел ГДР Карл Марон наградил его за достойное выполнение обязанностей во время дежурства. Западногерманская газета «Берлинер цайтунг» [79] ответила на это язвительным заголовком: «Награда за убийство».
Регина Хильдебрандт, жившая по соседству с Бернауэрштрассе, 44, до того дня, когда погиб Люнзер, видела много неудачных и успешных попыток побега.
Она написала в своем дневнике, как выкурила сигарету, достав ее из пачки, лежавшей в корзине, которую она втянула в окно с помощью веревки, привязанной к ручке корзины. Это был подарок от друзей из Западного Берлина. В корзине, помимо сигарет, были апельсины, бананы и кое-какие продукты: «некое соболезнование по поводу разрушенной жизни».
«Только что подъехали два больших западногерманских туристических автобуса, – написала она. – Да, мы стали берлинской достопримечательностью номер один. О, как бы мы были рады, если бы на нас не обращали внимания! С какой радостью мы бы повернули в обратную сторону колесо времени и вернули бы все так, как было раньше. О нет! Еще один автобус. Мы живем в страшное время. Мы утратили смысл жизни. Больше никто не радуется работе и жизни. Всех охватило чувство покорности. Они сделают с нами что захотят, и мы не сможем ничего сделать, чтобы остановить их».
«Склоните головы, друзья, мы все стали овцами. Еще два автобуса. Множество глаз разглядывают нас, в то время как мы сидим, держа сжатые в кулаки руки в карманах».
В те дни в Берлине были еще герои, но их попытки столь же часто заканчивались неудачей, как удавались.
Эберхард Болле Ландс в тюрьме
Эберхард Болле настолько сосредоточился на потенциальной опасности, с которой столкнулся, что только мельком проглядел первые полосы в газетном киоске на западноберлинской станции Зоологический сад. Сообщалось о прибытии вице-президента Джонсона, генерала Клея и американского войскового контингента. Но Болле был занят своими проблемами: студент, изучавший философию, собирался рискнуть, как еще никогда не рисковал в своей жизни.
Прежде чем застегнуть свою легкую синюю куртку, Болле еще раз проверил, лежат ли во внутреннем кармане два удостоверения личности. День был не слишком жаркий, но Болле так вспотел, словно стояла удушающая жара. Мать обожала его обезоруживающую улыбку, но в последнее время на лице Болле застыло хмурое выражение.
Одно из двух удостоверений личности, лежащих во внутреннем кармане, было его собственное, и он покажет его, если спросят, когда войдет в Восточный Берлин. По правилам после закрытия границы шестью днями ранее жители Западного Берлина все еще могли свободно проходить в советскую зону по удостоверению личности. Второе удостоверение нужно было Болле для того, чтобы вывести на Запад своего друга и сокурсника по Свободному университету [80] Винфрида Кестнера, который, как и он, увлекался американским джазом.
В то лето многие берлинские студенты без конца слушали последний хит Рики Нельсона «Хелло, Мэри Лу» [81].
Хотя Свободный университет находился в Западном Берлине, примерно треть общего числа студентов, порядка пяти тысяч человек, до 13 августа были жителями Восточного Берлина. Закрытая ночью граница положила конец их образованию. Кестнера постигло особое разочарование: весь прошлый год он изучал историю, а теперь его не примут в учебное заведение в Восточном Берлине, поскольку его семья считалась политически неблагонадежной. Итак, Болле нес ему удостоверение личности друга, живущего в Западном Берлине, который был похож на Кестнера. Их план был чрезвычайно прост: по этому удостоверению, предъявив его пограничной полиции, Кестнер должен был выйти из Восточного Берлина.
Болле был аполитичным, консервативным студентом, старался не рисковать и на следующий день после закрытия границы отказался помочь сбежать на Запад одному из своих сокурсников. Почему же он вдруг так изменился? Выступление Вилли Брандта 16 августа перед зданием муниципалитета произвело на него такое впечатление, что он записал слова бургомистра – призыв к действию – в своем дневнике. «Теперь мы должны стоять прямо, чтобы враг не радовался, видя, как наши соотечественники впали в отчаяние. Мы должны показать, что достойны идеалов, которые символизирует Колокол Свободы [82], висящий над нашими головами», – сказал бургомистр.
Спустя два дня мать Кестнера, заливаясь слезами, попросила Болле помочь ее сыну. Ходят слухи, сказала она, что пограничный контроль будет постепенно ужесточаться, и те, кто хочет уехать на Запад, должны срочно уезжать, иначе будет поздно. Они с мужем, конечно, не хотят расставаться с сыном, добавила несчастная женщина, но они должны в первую очередь думать о том, чтобы ему было лучше, чтобы он мог осуществить свою мечту стать преподавателем истории, чего ему никогда не удастся на Востоке.
Болле предложил другу переплыть через один из каналов, но Кестнер объяснил, что это исключается, поскольку он слишком плохо плавает. Кестнер уговорил Болле, что самый безопасный способ сбежать из Восточного Берлина – воспользоваться удостоверением личности жителя Западного Берлина. Он дал Болле свою фотографию и координаты католического священника, который, по слухам, делал такие документы.
Священник отказался делать поддельный документ, и Болле обратился к другу, который был похож на Кестнера. Тот без раздумий отдал свое удостоверение, но отказался идти в Восточный Берлин, поскольку боялся, что без удостоверения не сможет вернуться обратно. Болле заявил, что сам отнесет Кестнеру удостоверение личности. «Они не вешают тех, кого не могут поймать», – уверенно сказал Болле. На самом деле он не был так уж в этом уверен.
Вечером, накануне опасного предприятия, Болле спросил мать, помогла бы она кому-нибудь, окажись в его положении. Только если бы это был член семьи или близкий друг, ответила мать. Отец гордился благими намерениями сына, но опасался, что у него ничего не получится – он знал, что его мальчик Эберхард легко впадает в панику.
«Обязательно поужинай, – сказал отец. – Кто знает, когда тебе удастся поесть». Болле с трудом запихнул в себя что-то, не понимая, что ест, и не чувствуя вкуса еды, после чего отец спросил его, что он будет отвечать, если восточногерманский полицейский найдет у него второе удостоверение личности. Его ответы показались отцу неубедительными, но они понадеялись, что никто не будет его обыскивать.
Болле сошел с пригородного поезда на вокзале Фридрихштрассе, где выходили все пассажиры, следовавшие в Восточный Берлин. Болле, дрожащий от страха, вздохнул с облегчением, когда пограничник показал рукой, что можно пройти. Он почти спустился с лестницы, когда к нему неожиданно подошел пограничник и крепко взял за руку.
Спустя несколько лет после выпавших на его долю испытаний – допроса, суда, осуждения и заключения – Болле все еще задавался вопросом: почему пограничники выделили именно его из толпы? Как ни печально, но он знал ответ.
Его выдал страх.
В Берлин должен был прибыть отставной генерал, чтобы помочь вернуть мужество жителям Западного Берлина.
Глава 16. Возвращение героя домой
Мы потеряли Чехословакию. Мы потеряли Финляндию. Норвегия под угрозой. Когда Берлин падет, следующей будет Западная Германия… Если мы намереваемся… уберечь Европу от коммунизма, мы не должны сходить с места… Если Америка этого не понимает, если еще не знает, что жребий брошен, то коммунизм будет не остановить. Я полагаю, что мы должны стоять намертво, как того требует демократическое будущее.
Генерал Люсиус Клей, объясняя вышестоящим начальникам, почему Соединенные Штаты должны оставаться в Берлине, 10 апреля 1948 годаПочему никто не хочет написать книгу о правительстве, которое не проявило себя ничем, кроме череды бедствий?
Президент Кеннеди – журналисту Эли Абелю в ответ на просьбу написать книгу о его президентстве, 22 сентября 1961 годаАэропорт Темпельхоф, Западный Берлин
Вторник, 19 сентября 1961 года
Триумфальное возвращение генерала Люсиуса Д. Клея пришлось на жаркий и солнечный сентябрьский день – нехарактерная погода для этого времени года.
Бесчисленные берлинские уличные кафе, которые обычно уже закрывали в это время, опять заполнили своими столиками тротуары. Берлинский зоопарк сообщил о рекордном количестве посетителей. Парусные лодки, подгоняемые слабым ветерком, скользили по озеру Ванзее, вдоль реки Хафель и по Грибницкому каналу. Военные годы, разделение города и теперь стена только усилили желание берлинцев наслаждаться каждым счастливым моментом.
Но, вообще-то говоря, приподнятое настроение Западного Берлина объяснялось скорее появлением генерала Клея, а не хорошей погодой. Жители сочли решение президента Кеннеди назначить Клея своим «личным представителем» в их городе убедительным доказательством того, что Америка по-прежнему полна решимости защищать свободу Западного Берлина. Берлинцы сделали вывод, что такой человек, как Клей, никогда бы не согласился на эту работу, если бы не был уверен, что Кеннеди действительно готов противостоять Советам.
В 1948 году Клей, военный губернатор американской зоны в Германии, стал немецким народным героем за организацию и осуществление, вместе с британцами, воздушного моста, который спас жителей Западного Берлина от выбора между голодной смертью и властью коммунистов. Его трехсотдвадцатичетырехдневная операция имела особое значение еще и потому, что прошло всего три года с тех пор, как Соединенные Штаты и их союзники одержали победу над нацистской Германией. В то время еще не было полной уверенности в том, станут ли американцы рисковать своими жизнями и богатством ради безопасности в Европе, не говоря уже о половине бывшей гитлеровской столицы, незащищенном острове, окруженном со всех сторон коммунистической территорией.
Берлинцы до сих пор с удовольствием вспоминали «конфетные бомбардировщики» Клея. В истории крайне редки случаи такого опасного и успешного предприятия по оказанию гуманитарной помощи побежденному противнику. Отцы города назвали один из самых широких и длинных городских бульваров именем человека, совершившего этот подвиг, – Клей-аллее в районе Далем.
Уверенность Клея в необходимости защищать свободу Западного Берлина основывалась на убеждении, о чем он сообщил вышестоящим начальникам, что для поддержания репутации Америки нет более важного места на планете. «Мы потеряли Чехословакию. Мы потеряли Финляндию. Норвегия под угрозой. Когда Берлин падет, следующей будет Западная Германия… Если мы намереваемся… уберечь Европу от коммунизма, мы не должны сходить с места… Если Америка этого не понимает, если еще не знает, что жребий брошен, то коммунизм будет не остановить. Я полагаю, что мы должны стоять намертво, как того требует демократическое будущее».
Во всем этом был только один изъян: побуждения Клея согласиться занять новую должность были более благородными, чем причины, по которым Кеннеди предложил ему эту должность.
Для Клея это был шанс вернуться на основное поле боя холодной войны в очередной исторический момент, когда его действия опять могли стать решающими. Для Кеннеди отправка Клея в Берлин больше имела отношение к внутренней политике и поддержанию репутации.
Назначение Клея могло помочь в нейтрализации консервативных критиков Кеннеди, поскольку отставной генерал был не только героем Берлина, но и американцем и республиканцем. Клей сыграл важную роль в том, что Эйзенхауэр согласился баллотироваться на пост президента, а затем принимал активное участие в его избирательной кампании. Кроме того, удержание Клея «под боком» минимизировало опасность язвительной критики с его стороны в адрес президента.
Нерешительность Кеннеди в отношении того, сколько власти он может дать Клею в Берлине, подчеркнула его двойственное отношение к тому, как лучше всего противостоять Хрущеву. Хотя Кеннеди сделал Клея единственным американцем в Берлине, имевшим прямую линию связи с президентом, он, однако, не был наделен никакими реальными полномочиями.
Кеннеди даже написал Клею письмо с инструкциями, существенно сузив широкие полномочия, которые первоначально предоставил генералу, чтобы он «целиком и полностью отвечал за все решения по Берлину». Президент принес Клею извинения за внесенные изменения: «Я сожалею относительно этого письма, мне не нравятся внесенные изменения, я был за первоначальный вариант, но это мнение Государственного департамента».
Клею ничего не оставалось, как согласиться, поскольку он уже ушел с хорошо оплачиваемой работы в качестве главы «Континентал Кэнкомпани» (компания по производству металлических контейнеров). Этот преданный солдат ответил президенту: «Поскольку ситуация в Берлине будет только осложняться, не имеет значения, каким образом действовать… если для вас проще так, как вы написали в письме, то меня это устраивает». Они договорились, что Клей будет звонить президенту по всем важным вопросам.
Кеннеди опять старался устроиться с возможным комфортом в преддверии ухудшения и без того тяжелой ситуации. Он все больше боялся, что Хрущев может загнать его в такое положение, при котором он будет вынужден защищать Берлин с помощью ядерного оружия, но ни при каких обстоятельствах и ни в каком случае он не был готов развязать ядерную войну. Кеннеди не имел понятия, какую роль будет играть Клей в процессе принятия решений.
Трудное положение, в котором находился Кеннеди, никак не отразилось на его популярности. Согласно опросу общественного мнения, проведенному институтом Гэллапа [83], большинство американцев считали, что серия неудач в 1961 году не связана с плохим президентским руководством.
Рейтинг Кеннеди после предпринятой им неудачной попытки вторжения на Кубу в заливе Свиней достиг рекордной отметки в 83 процента. Только у Франклина Рузвельта после Перл-Харбора и у Гарри Трумэна после смерти Рузвельта были сопоставимые с Кеннеди показатели популярности.
Кеннеди, живо интересовавшийся результатами опроса общественного мнения, выяснил, что 64 процента американцев одобрят американское военное вмешательство в том случае, если Советы или восточные немцы блокируют доступ в Западный Берлин, и всего 19 процентов опрошенных против военного вмешательства. Более 60 процентов американцев считали, что начнется война, если Советы решат управлять Берлином.
С таким агрессивно настроенным электоратом выбор Клея добавил Кеннеди популярности. Что уж говорить о берлинцах, которые радовались Клею, словно гладиатору, вернувшемуся домой. С предангарной бетонированной площадки аэропорта Темпельхоф, связанного с его героическими делами в 1948 году, американские танки приветствовали Клея девятнадцатью залпами орудий. Западноберлинская элита собралась для встречи генерала в ангаре под огромным американским флагом, по обеим сторонам которого находились флаги Берлина. В отличие от Кеннеди Клей обращался ко всем жителям Берлина, а не только к западным берлинцам. Он сказал о «нашей решимости защищать свободу Берлина и его жителей… Я прибыл сюда с верой в наше дело и в мужество и стойкость берлинцев».
Зализывая раны после поражения на выборах, состоявшихся двумя днями ранее, бургомистр Западного Берлина Вилли Брандт встретил Клея во Франкфурте и эскортировал его в Берлин. Брандт был глубоко разочарован, потерпев поражение от канцлера Аденауэра, который в период предвыборной кампании запятнал его репутацию. Правда, Брандт тоже не остался в долгу. У его избирателей вызывали серьезную озабоченность преклонный возраст Аденауэра и его равнодушная реакция на закрытие берлинской границы. Христианские демократы Аденауэра остались самой многочисленной политической партией в стране, но сам канцлер утратил абсолютное большинство и ради своего политического выживания пошел на сделку с новыми партнерами по коалиции, свободными демократами.
Христианские демократы и их баварские партнеры потеряли 5 процентов голосов по сравнению с предыдущими выборами, получив в общей сложности 45,3 процента. Социал-демократы Брандта набрали на 4,5 процента больше, получив в общей сложности 36,2 процента голосов. Свободные демократы со своими 12,8 процента заняли третье место на политической арене Германии. Закрытие берлинской границы перестроило политику Германии, и Аденауэр уже не смог полностью возвратить утраченные позиции [84].
Брандт обратился к жителям Берлина с просьбой оказать Клею радушный прием, но их и не требовалось уговаривать. Сотни тысяч берлинцев стояли в два-три ряда вдоль всего десятимильного пути следования автомобиля, на котором ехал Клей. Дети, сидя на плечах отцов – свидетелей воздушного моста, размахивали маленькими американскими флажками. Многие бросали букеты цветов. Вскоре не только сидевший в машине Клей утопал в цветах, но и за машиной тянулся шлейф из цветов.
Согласно должностной инструкции Клей должен был «сообщать, рекомендовать и советовать». Однако с самого начала он стремился расширить свои полномочия и действовать как военный губернатор. Это привело к острым разногласиям с людьми, которые были категорически против его назначения, теми, которые опасались утратить власть в связи с появлением Клея. Это генерал Лорис Норстед, верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО (штаб в Париже); генерал Брюс Кларк, командующий силами США в Европе (штаб в Гейдельберге); Уолтер Доулинг, американский посол в Германии, в Бонне.
Клей возвестил, что его задача – в том, чтобы «продемонстрировать силу и решимость Соединенных Штатов» и заставить Советы признать ответственность каждого за свой сектор. Он собирался ясно дать понять, что четыре державы продолжают управлять Берлином, а не Восточной Германией, которую он считал марионеточным государством, какой она и была. Клей был в ужасе от того, что Соединенные Штаты и их союзники за прошедшие годы утратили многие права в Берлине, и был решительно настроен изменить эту тенденцию силой собственной воли.
Мартин Хилленбранд, сотрудник Государственного департамента, опасался, что Клей не понимает, насколько меньшую свободу для маневра он будет иметь в Берлине теперь, когда США утратили ядерную монополию. Однако только капитулянт мог думать, что Клей откажется от своих намерений. В 1948 году Клей организовал воздушный мост по собственной инициативе после того, как президент Трумэн отказался от первоначального плана направить войска для взятия штурмом автострады, чтобы вновь открыть доступ в Берлин. Благодаря разработанной Клеем системе в аэропорту Темпельхоф каждые три минуты приземлялись самолеты – новые С-54 и побитые войной С-47 – с продовольствием, углем, бензином, медикаментами и другими необходимыми городу предметами.
Неожиданный начальный успех Клея убедил президента Трумэна поддержать продолжение операции, несмотря на протесты со стороны чиновников Пентагона и Государственного департамента, которые были недовольны тем, что Клей может спровоцировать новую войну всего через три года после окончания Второй мировой войны. Так называемые военные эксперты заявили Клею, что воздушным путем не удастся оказать помощь двухмиллионному населению Берлина, поскольку потребуется ежедневно доставлять порядка четырех тысяч тонн груза. Это более чем в десять раз превышало размеры нацистского воздушного моста, организованного для снабжения попавшей в окружение под Сталинградом 6-й армии, операции, которая в конечном счете потерпела неудачу.
Клей бросил вызов противникам и победил. Наступал решающий момент в его жизни, и с той минуты, как он приземлится в Берлине в сентябре 1961 года, он будет информировать президента о каждом принятом решении.
Западный Берлин
Середина сентября 1961 года
Спустя месяц после закрытия границы строительные бригады стали заменять временные барьеры более труднопреодолимыми Todesstreifen – полосами смерти. Восточногерманские власти ежедневно отправляли так называемых добровольцев помогать рыть траншеи и очищать от деревьев и кустарников широкую нейтральную зону вдоль быстрорастущей стены.
Восточногерманская газета «Зонтаг» хвастливо сообщила, что на строительстве трудятся ученые, филологи, историки, врачи, режиссеры, журналисты, розничные торговцы. «Все заняты на строительстве стены», – с гордостью сообщалось в газете. Жители закладывали фундамент собственной тюрьмы. Каждую неделю несколько человек из числа этих «добровольцев», пользуясь тем, что находились рядом со стеной, предпринимали попытку сбежать. Самые яркие истории превратились в легенду.
Студент Института сельскохозяйственного машиностроения Альбрехт Петер Рос (ему было двадцать один год) начал готовить побег, работая в строительной бригаде у Бранденбургских ворот. Две его сестры уже жили в Западной Германии, и он хотел уехать к ним, а не строить стену, которая сделает это невозможным. Когда рабочие ушли на обед, Рос подошел к полицейскому, надзиравшему за работой, с просьбой разрешить ему отлучиться.
«Только ненадолго», – равнодушно ответил охранник.
Рос отошел к растущим неподалеку деревьям и сразу наткнулся на двух студентов, скрывавшихся за деревьями, – они тоже надеялись совершить побег. Втроем они рванули в западном направлении, Рос бежал первым. Он перебрался через канаву, пролез под ограждением, но зацепился за колючую проволоку. С помощью подбежавших студентов он отцепился и преодолел препятствие, а потом помог им перебраться. Эти трое, в порванной одежде, с многочисленными порезами, из которых текла кровь, с бешеной скоростью зигзагами бежали на Запад, боясь, что подошедшие сзади охранники откроют стрельбу.
Западноберлинский полицейский встретил их на свободной земле с бутылкой вина и бананами, которые Рос никогда до этого не то что не ел, но даже не видел.
Западноберлинские газеты ежедневно печатали на видном месте под кричащим заголовком подобные душераздирающие истории побегов. В газете, например, был напечатан рассказ о том, как двадцатичетырехлетний водитель на машине скорой помощи под пулеметным обстрелом прорвался через колючую проволоку на Принценштрассе. На фотографии улыбающийся водитель стоял рядом со своей пробитой пулями машиной. Рассказывалось о трех жителях Восточного Берлина, которые на шестисполовинойтонном грузовике попытались прорваться через ограждения на Бушештрассе, но пробили колеса, наехав на колючую проволоку. Остаток пути к свободе они преодолели бегом, уворачиваясь от выстрелов восточноберлинских полицейских. Западноберлинский полицейский с торжествующим видом перебросил их ключи через заграждение сотрудникам народной полиции.
Воскресенье для берлинцев было тем днем, когда вместе собирались члены семьи и друзья, но с закрытием границы берлинцы лишились этой возможности. Телефонная связь была прервана, и жители Западного и Восточного Берлина общались, стоя по обе стороны границы, на перронах и лестницах, многие с новорожденными на руках, чтобы показать их бабушкам и дедушкам, некоторые с плакатами, на которых большими жирными буквами были написаны любовные записки.
То, что казалось странным, быстро стало привычным. Западногерманские невесты и женихи в свадебных нарядах подходили как можно ближе к стене, чтобы их родственники с Востока могли поздравить их, помахав руками. В определенные дни к стене подходили дети, чтобы посмотреть на родителей и бабушек с дедушками, стоявших с другой стороны границы.
Восточногерманская полиция, уставшая от разъяренных жителей Западного Берлина, разгоняла их с помощью брандспойтов и слезоточивого газа у пограничных пунктов в районах Нойкёльн, Кройцберг и Целендорф.
Туристические автобусы знакомили жителей и гостей города с новейшими достопримечательностями: заложенная кирпичами церковь, заблокированный вход на кладбище, печальные люди за колючей проволокой – странные животные в сюрреалистическом зоопарке. Гид в одном из автобусов с туристами из Нидерландов сказал, что несколько человек из Восточного Берлина ночью совершат побег – еще один аспект нового образа жизни берлинцев.
Анклав Штайнштюккен, Западный Берлин
Четверг, 21 сентября 1961 года
Генерал Клей сразу начал действовать, чтобы восточные немцы и Советы узнали о его появлении в Западной Германии.
В течение двух суток с момента приземления в Берлине он внимательнейшим образом изучал ситуацию, в которую попали около ста девяноста жителей Штайнштюккена, в общей сложности порядка сорока двух семей. В силу географических особенностей крошечный анклав западноберлинского района Целендорф – располагавшийся в юго-западном углу американского сектора – был отделен от Западного Берлина участком советской зоны. Единственный доступ – короткая извилистая дорога, которая контролировалась восточногерманской полицией.
В результате закрытия границы 13 августа уединенная деревня стала самым уязвимым местом Западного Берлина и, следовательно, Запада. Восточногерманская полиция окружила Штайнштюккен заграждениями из колючей проволоки, а позже добавила сторожевые башни и нейтральную зону шириной сто метров. Жители Штайнштюккена оказались отрезаны от внешнего мира; люди внутри этого замкнутого сообщества с растущим отчаянием думали о своем будущем.
Восточногерманские власти угрожали штурмом деревни, чтобы вернуть восточного немца, который нашел там убежище, и только тогда он понял, что оказался в ловушке. Ходили упорные слухи, что Ульбрихт заявил, что к концу года, если Запад не выкажет намерения защищать деревню, он заявит на нее права. Восточная Германия уже поступила так с некоторыми подобными частями территории Западного Берлина, но это были хотя бы ненаселенные территории – садовые участки и лесные массивы.
21 сентября за несколько минут до одиннадцати утра Клей, не ставя в известность относительно своих планов ни американское начальство, ни коммунистические власти, вылетел в Штайнштюккен на военном вертолете в сопровождении двух вертолетов для защиты с флангов. Он доставил жителям две вещи, в которых они нуждались: телевизор и надежду. Толпа окружила вертолет, как только он опустился на травянистое поле. Клей встретился с бургомистром в баре, где они за бутылкой вина обсудили, какой выход можно найти из создавшегося положения и как успокоить людей.
Генерал Клей провел в Штайнштюккене всего пятьдесят минут, но этого было достаточно, чтобы восточногерманская газета «Нойес Дойчланд» назвала его действия «воинственными». Британское посольство заявило протест Вашингтону – Клей слишком рискует ради столь незначительной выгоды.
На следующий день Клей, желая показать, что его не запугать, доставил на вертолете трех человек из военной полиции в Штайнштюккен, где они установили первый пограничный пост, который оставался в течение следующего десятилетия. Лейтенант военной полиции Верн Пайк прилетел в Штайнштюккен, чтобы помочь оборудовать командный пункт в цокольном этаже в доме бургомистра. Затем Клей приказал, чтобы генерал Уотсон 24 сентября организовал наземное наступление двумя ротами для «освобождения» Штайнштюккена с тем, чтобы пробить коридор в новом берлинском заграждении.
Надо же так случиться, что именно в то утро из Гейдельберга поездом прибыл с инспекцией генерал Брюс Кларк, командующий силами США в Европе. За завтраком Уотсон и бригадный генерал Фредерик О. Хартель радостно сообщили своему непосредственному начальнику, что он появился «очень вовремя», поскольку через три часа они начнут операцию «Штайнштюккен».
«Кто приказал организовать операцию?» – спросил Кларк Уотсона. «Генерал Клей», – ответил Уотсон.
«Эл, вы забыли, кому подчиняетесь? – грозно спросил Кларк. – Разве вы не знаете, кто пишет вашу служебную характеристику?»
Кларк приказал своим подчиненным впредь не выполнять приказы Клея, отозвать свои подразделения из леса и отправить в казармы. Затем он пришел в кабинет Клея и, указав на красный телефон, сердито потребовал, чтобы Клей позвонил Кеннеди или «убрал свои никуда не годные руки от моих войск».
«Что ж, Брюс, теперь я вижу, что вместе нам не ужиться», – ответил Клей.
Клей был уверен, что знает, какое давление можно оказывать на Советы, и что в данном случае он в полной безопасности, поскольку Москва «не может позволить незначительной проблеме [такой, как Штайнштюккен] превратиться в международный инцидент из-за допущенного их восточногерманскими марионетками плохого обращения [с жителями Штайнштюккен]».
Спустя несколько дней американцы эвакуировали семерых восточных немцев, которые в поисках убежища въехали на грузовике, сломав забор, на задний двор дома бургомистра. Беглецов постригли, чтобы они были похожи на джи-ай, солдат армии США, выдали форму военной полиции и шлемы и эвакуировали на американском военном вертолете. Восточногерманские власти угрожали обстрелять вертолет, но Клей был прав, утверждая, что Москва не пойдет на риск.
Полеты в и из Штайнштюккена стали обычным делом; регулярно переправляли туда и обратно солдат военной полиции, а иногда вывозили беженцев. Клей понимал, что не только доказал свою точку зрения берлинцам и вышестоящему начальству, но и сам укрепился во мнении, что Советы отступят, когда столкнутся с решимостью Запада.
Это придало ему сил, и Клей продолжал действовать с прежней энергией. Он объявил, что американские солдаты возобновят патрулирование вдоль автострады, которое Вашингтон прекратил шесть лет назад. Это был его ответ на действия восточногерманской полиции, которая иногда по нескольку часов проводила досмотр американских транспортных средств. Патрули вмешивались во все случаи, связанные с транспортом. В скором времени с этой проблемой было покончено.
Жители Западного Берлина ликовали. «Берлинер морген-пост» поместила на первой полосе фотографию генерала Клея, целующего жену Марджори в аэропорту Темпельхоф. «Каждый берлинский ребенок знает, что сделал этот американец для свободы нашего города. Его последние дела согревают сердца жителей Берлина: размещение американских коммандос в Штайнштюккене и возобновление патрулирования вдоль автострады».
Но они не могли знать, что самые опасные враги Клея уже планируют контрудар – в Вашингтоне. В прошлый раз, когда Клей нарушил приказ в Берлине, президент Трумэн встал на его защиту. Клей не знал, будет ли защищать его Кеннеди, но он собирался это выяснить.
Хайяннис-Порт, Массачусетс
Суббота, 23 сентября 1961 года
В выходной день в дом Кеннеди в Хайяннис-Порте, где президент работал над речью, которую должен был произнести на следующий день на Генеральной ассамблее ООН, съехались все те, кто обычно приезжал сюда на выходные.
Брат президента Тедди; зять Кеннеди, актер Питер Лоуфорд; Фрэнк Синатра и доминиканский плейбой Порфирио Рубироза с последней женой. Синатра прибыл с теми, кого шофер Джозефа Кеннеди, отца президента, называл «толпой завсегдатаев модных курортов», среди которых были женщины, которые, по его мнению, выглядели как проститутки. Девицы болтали не переставая.
Позже Сондерс утверждал, что услышал среди ночи звуки вечеринки, вышел из своего коттеджа и пошел в главный дом, чтобы вернуть Джо Кеннеди его сапоги для верховой езды. В прихожей он наткнулся на старого друга, ласкающего хихикающую полногрудую женщину.
«Мои сапоги для верховой езды! – услышал Сондерс. – Как раз вовремя!»
Общественная репутация президента как трудоголика, скорочтеца и семьянина не имела ничего общего с реальностью; об этом станет известно только спустя несколько лет благодаря свидетельствам очевидцев, среди которых были агенты его секретной службы. Они не заботились, как члены семьи Кеннеди и его ближайшие помощники, о наведении блеска на имидж президента – они обеспечивали безопасность президента и волновались, чтобы распутство не довело Кеннеди до беды.
Ларри Ньюмена, ставшего агентом секретной службы в 1960 году, не столько волновали вопросы морали, сколько главный поставщик женщин для президента Дэйв Пауэрс, не позволявший агентам секретной службы проверять и обыскивать женщин, которых он проводил мимо телохранителей. И это в то время, когда всех агентов предупредили, что Фидель Кастро, возможно, вынашивает план мести за операцию в заливе Свиней. «Мы не знали, будет ли президент на следующее утро жив или мертв», – рассказывал позже Ньюмен журналисту Сеймуру Хершу. Ньюмен сказал, что агенты полушутя обсуждали между собой, кто утром первым пойдет к президенту, и решали, что тот, кто вытянет черный боб.
Тони Шерман, сотрудник охраны Кеннеди из Солт-Лейк-Сити, позже вспоминал дни, когда Кеннеди «вообще не работал». Шерману не нравилось, что в его должностные обязанности входило предупреждать помощников Кеннеди о неожиданном появлении жены президента, чтобы она не узнала об интрижках мужа. Агент Уильям Т. Макинтайр из Финикса, штат Аризона, как человек, давший клятву охранять президента, переживал, что его просили делать вид, будто ничего не происходит, когда Кеннеди доставляли проституток. Агент Джозеф Паолелла из Лос-Анджелеса обожал Кеннеди, ему очень нравилось, что президент помнил по именам сотрудников службы безопасности, но он волновался, что американский президент из-за своих бесчисленных интрижек может стать объектом шантажа. Он и другие агенты называли одного из гостей Кеннеди, приехавших в тот день в Хайяннис-Порт, Питера Лоуфорда, «тухлой задницей», за чрезмерное увлечение алкоголем и грубое обращение с женщинами.
Гости веселились, а Кеннеди в это время вносил последние правки в одну из самых важных речей в период президентства и первый сигнал миру о том, как он собирается обращаться с Москвой после закрытия берлинской границы. Генеральная ассамблея была назначена на 25 сентября, а 17 сентября в авиакатастрофе погиб Генеральный секретарь ООН Даг Хаммершельд. Советы развернули кампанию по замене Хаммершельда триумвиратом – один представитель от западных держав, один от социалистических и один от неприсоединившихся государств.
Высокий общественный рейтинг не учитывал серьезности ситуации, но президент понимал, что за ним скрывается ряд неудач во внешней политике и наболевших внутренних проблем, которые с течением времени могли подорвать его руководство. В пятницу перед отъездом из Вашингтона в Хайяннис-Порт Кеннеди встретился с начальником вашингтонского бюро газеты «Детройт ньюс» Эли Абелем, которого нью-йоркский издатель попросил написать книгу о первом сроке президента. Разговор велся в одной из жилых комнат Белого дома, под рев моторов Marine One [85].
Абель пил «Кровавую Мэри», пока Кеннеди пытался отговорить его от проекта, предложенного нью-йоркским издателем. «Почему никто не хочет написать книгу о правительстве, которое не проявило себе ничем, кроме череды бедствий?» – спросил президент. Абель, оказавшись в щекотливом положении, попытался убедить Кеннеди, что, несмотря на трудное начало, он в конце концов совершит великие дела и все будут гордиться своим правительством.
В воскресенье в 18:35 вертолет с Кеннеди и Лоуфордом приземлился в Marine Air Terminal нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардиа, где их встречали мэр Роберт Вагнер, государственный секретарь Раск и постоянный представитель США в ООН Эдлай Стивенсон. Пьер Сэлинджер, пресс-секретарь президента, известный бонвиван, прилетел перед ними. Его срочно вызвал советский агент Георгий Большаков, который продолжал играть роль неофициального связника Хрущева. Большаков сказал, что Сэлинджер должен немедленно встретиться с Михаилом Харламовым, заведующим отделом печати Министерства иностранных дел СССР, у которого есть срочное сообщение для президента.
Большаков все увереннее чувствовал себя в роли связного, не допуская утечки информации; начальство было им довольно. Хотя он по-прежнему оставался обычным агентом военной разведки, теперь он был стражем хорошо организованной и часто используемой прямой линии связи с Хрущевым. Сэлинджер считал Большакова «одним человеком в трех ипостасях… переводчика, редактора и шпиона».
Следуя указаниям Сэлинджера, в воскресенье в 19:15 Большаков провел Харламова через незаметный боковой вход в «Карлайл», отель, в котором останавливался президент, приезжая в Нью-Йорк. В холле всегда слонялись репортеры, в надежде увидеть президента, поэтому агент секретной службы провел двоих русских к грузовому лифту.
Сэлинджера поразили первые слова Харламова: «Гроза в Берлине закончилась».
Сэлинджер ответил Харламову, что, с его точки зрения, трудно представить ситуацию, которая была бы хуже, чем нынешняя ситуация в Берлине.
«Минуту терпения, мой друг», – сказал Харламов и спросил, получил ли президент письмо, которое Хрущев послал ему через парижского корреспондента «Нью-Йорк таймс» Сайруса Лео Сульцбергера, который в начале сентября брал интервью у советского лидера.
Сэлинджер сказал, что президент не получал письма от Хрущева. На самом деле Сульцбергер 10 сентября передал Кеннеди личное письмо, которое Хрущев вручил Сульцбергеру после интервью, но Кеннеди на него еще не ответил.
Хрущев сказал Сульцбергеру: «Если у вас есть возможность лично встретиться с президентом Кеннеди, то я хочу, чтобы вы сказали ему, что я не против установить с ним неофициальный контакт, чтобы найти способ урегулировать [Берлинский] кризис, не нанося ущерб престижу Соединенных Штатов – на основе мирного договора с Германией и превращения Берлина в вольный город». Хрущев предложил Кеннеди установить неофициальные отношения для обмена мнениями и «чтобы договориться, как подготовить общественное мнение и сделать так, чтобы не повредить престижу Соединенных Штатов».
Харламов, пересказывая Сэлинджеру суть сообщения Хрущева, говорил настолько быстро и взволнованно, что Большаков не успевал переводить. Сэлинджер попросил говорить помедленнее, объяснив, что у них есть время. Президент после обеда пошел смотреть пьесу на Бродвее и вернется в отель после полуночи, заверил Сэлинджер.
Харламов перевел дух и сказал, что дело не терпит отлагательства. Хрущев расценивает наращивание вооруженных сил США в Германии как непосредственную угрозу миру. Вот почему советский лидер сообщил Сульцбергеру о своем желании установить личный канал с Кеннеди, чтобы достигнуть урегулирования германского вопроса.
Хрущев готов к встрече с Кеннеди в ближайшее время, сказал Харламов, чтобы рассмотреть американские предложения по Берлину. Он оставил Кеннеди свободу принять решение, учитывая «очевидные политические трудности» президента. Харламов рассказал о продолжающемся «сильном давлении» на Хрущева в части заключения мирного договора с Восточной Германией. Кроме того, заявил Харламов, обстановка в Берлине остается настолько напряженной, что нельзя откладывать решение этого вопроса.
Хрущеву необходимо было повлиять или, по крайней мере, знать содержание речи, с которой Кеннеди должен был выступить в понедельник, поскольку хотел избежать того, что в период возрастания напряженных отношений могло бы дать новую надежду его противникам перед октябрьским съездом партии. Харламов сказал Сэлинджеру, что советский лидер надеется, что «выступление президента в ООН не явится еще одним воинственным ультиматумом, вроде того, что был сделан 25 июля».
Сэлинджер оставил Кеннеди записку с просьбой позвонить, когда он вернется в отель. Затем Сэлинджер налил советским гостям виски с содовой. Они провели в отеле почти два часа, и перед их отъездом Сэлинджер пообещал, что передаст ответ президента утром в 11:30, до выступления Кеннеди на Генеральной ассамблее ООН.
Кеннеди позвонил Сэлинджеру в час ночи и пригласил в свой двухкомнатный номер на тридцать четвертом этаже. Это был его нью-йоркский «дом», арендованный его отцом и украшенный предметами антиквариата. Шторы были раздвинуты, и из окон открывался потрясающий вид на Нью-Йорк. Когда Сэлинджер вошел в номер, Кеннеди в белой пижаме лежал на кровати, жевал незажженную сигару и читал. По просьбе президента Сэлинджер несколько раз повторил основные моменты беседы с Харламовым.
Президент сообщил Сэлинджеру, что Сульцбергер ничего не говорил ему о встрече с Хрущевым. Президент встал с кровати, подошел к окну и стал смотреть на Манхэттен. Он сказал, что Сэлинджер сообщил хорошие новости, «если Хрущев готов выслушать наше мнение о Германии», и это, вероятно, означает, что он не собирается в этом году в одностороннем порядке подписывать мирный договор с режимом Ульбрихта и вызывать новый кризис. Однако Кеннеди считал, что Москва будет продолжать настаивать на мирном договоре, чтобы закрыть доступ американцам в Западный Берлин.
В 1:30 президент позвонил секретарю Раску, и они втроем стали обсуждать ответ, который утром Сэлинджер должен был дать русским. Президент диктовал, Сэлинджер записывал. Сэлинджер должен был передать русским, что Кеннеди готов в ближайшее время встретиться с Хрущевым для обсуждения вопросов по Берлину, но ставит условием прекращение наступления Патет-Лао в Лаосе. Если мы будем соблюдать наши венские договоренности по Лаосу, сказал Кеннеди, то можно будет решить и германский вопрос.
Тон письма должен был быть сердечным, но слова следовало подбирать очень тщательно. Хотя Кеннеди и Хрущев договорились в Вене о независимом, нейтральном Лаосе, Советы, как и Северный Вьетнам, продолжали оказывать экономическую и военную помощь коммунистам Патет-Лао. Сэлинджер должен был в точности повторить слова президента Харламову: «Мы посмотрим и подождем».
До 3:00 Кеннеди обсуждал текст своего выступления в ООН с Сэлинджером. Окончательный вариант был даже мягче, чем могли ожидать Советы.
Президент мучился над текстом выступления несколько недель. Хотя до выборов было еще три года, внутренние противники Кеннеди почувствовали его слабость. Барри Голдуотер, сенатор-республиканец от штата Аризона, оставив прежнюю сдержанность, подверг Кеннеди жесткой критике по Берлину и сказал, что опасения Западной Германии, что от нее откажутся, «совершенно оправданны». «Дипломаты начинают говорить о переговорах относительно созданной Советами ситуации, но там не о чем говорить, сейчас защитникам свободы надо проявлять осторожность», – подчеркнул Голдуотер. На съезде Республиканской партии 28 сентября Голдуотер заявил, что если бы на следующий день проводились выборы, то республиканцы одержали победу на выборах с подавляющим большинством голосов.
Кеннеди было необходимо вернуть инициативу. Хрущев «трижды плюнул нам в глаза», сказал Кеннеди постоянному представителю США в ООН Эдлаю Стивенсону. «У него была серия явных побед – космос, Куба, тринадцатое августа… и ему кажется, что он обратил нас в бегство».
Вице-президент Линдон Джонсон убеждал президента, что он не может выступить с требованием о разоружении в Нью-Йорке, а затем вернуться в Вашингтон и призвать больше дивизий и возобновить испытания ядерного оружия, именно то, что планировал сделать Кеннеди. За десять месяцев общения с Хрущевым президент понял, что с этим человеком нельзя соглашаться, ему следует возражать.
В своем выступлении в ООН Кеннеди сделал упор на перспективе ядерного конфликта. Его речь произвела сильное впечатление. Каждое слово отражало озабоченность президента растущей напряженностью. «Само существование современного оружия – в десять миллионов раз более мощного, чем любое другое, какое мир когда-либо видел, и только в нескольких минутах от любой цели на земле, – это источник ужаса, раздора и недоверия».
«Ядерная катастрофа, распространяемая ветром, водой, страхом, может охватить великих и малых мира сего, богатых и бедных, идейных и не бравших на себя никаких обязательств. Человечество должно положить конец войне – или война положит конец человечеству», – заявил Кеннеди.
Кеннеди обрисовал свой план «общего и полного разоружения под жестким международным контролем». «Сегодня каждый обитатель этой планеты, – сказал Кеннеди, – должен думать о том дне, когда эта планета может стать необитаемой. Каждый мужчина, женщина и ребенок живет в условиях ядерного дамоклова меча, висящего на тончайших нитях, которые могут быть порваны в любой момент вследствие аварии, или просчета, или сумасшествия. Оружие войны должно быть уничтожено до того, как оно уничтожит нас».
Что касается Берлина, то президент только отметил, что считает оправданным беспокойство Советов относительно Восточной Германии, и в очередной раз высказал мнение, которое вызывало сильную тревогу видавших виды дипломатов, что американские интересы в Европе не простираются за пределы Западного Берлина. Позже Сэлинджер уверял, что той ночью Кеннеди ничего не изменил в тексте своего выступления в ООН, так как оно, в отличие от выступления 25 июля, не было слишком жестким и должно было удовлетворить Хрущева.
«Мы не придерживаемся жестких стереотипов, – сказал Кеннеди. – Мы не видим идеального решения. Мы признаем, что войска и танки могут какое-то время защищать страну, разделенную против ее желания, однако нам эта политика кажется неразумной. Но мы считаем, что возможно такое мирное соглашение, которое защищает свободу Западного Берлина и доступ союзников, в то же время признавая исторические и законные интересы других в обеспечение европейской безопасности».
Кеннеди закончил выступление на высокой ноте: «События и решение следующих десяти месяцев могут определить судьбу человека на последующие десять тысяч лет… И нас, сидящих в этом зале, будут вспоминать или как часть поколения, которое превратило планету в пылающий погребальный костер, или как поколение, которое сдержало клятву «спасти последующие поколения от бедствий, вызванных войной».
Он закончил речь предложением провести переговоры, не высказав ни единого упрека в адрес Москвы в связи с августовским закрытием границы. «Мы никогда не будем вести переговоры из страха, и мы никогда не будем бояться вступить в переговоры… Мы вместе спасем нашу планету, или вместе погибнем в огне».
Высокая риторика способствовала укреплению репутации Кеннеди как мирового лидера. Американский сенатор Майк Мэнсфилд назвал его речь «одной из великих речей нашего поколения». Однако в Западном Берлине те, кто слышал речь президента, обратили внимание на готовность Кеннеди пойти в дальнейшем на компромисс за их счет и то, что он не высказал намерения убрать разделявший их барьер.
Зато Восточная Германия была в восторге от его речи. Режим Ульбрихта назвал ее вехой на пути к мирному сосуществованию. Партийная газета «Нойес Дойчланд» назвала речь Кеннеди «замечательной, поскольку она продемонстрировала готовность Соединенных Штатов к переговорам».
Западногерманские авторы передовых статей сосредоточили внимание не на цветистых выражениях, а на невыразительном стиле изложения мыслей. «Бильд цайтунг» с горечью вопрошала, предполагала ли ссылка Кеннеди на «исторические и законные интересы других», что Москва имела право «расколоть Германию и отказаться от воссоединения».
Западногерманский министр иностранных дел Генрих фон Брентано на собрании партии Христианско-демократического союза, одним из основателей которой он является, сказал, что страна должна «напрячь все силы для борьбы с тенденциями урегулировать берлинский вопрос за счет Западной Германии».
Западногерманский канцлер Конрад Аденауэр жаловался друзьям, что президент даже не упоминал об объединении Германии в Организации Объединенных Наций. Кеннеди не обратился с традиционным призывом к общегерманским свободным выборам. Он, казалось, уступил во всех вопросах, связанных с Берлином. Аденауэр решил предпринять поездку в Вашингтон в надежде повлиять на Кеннеди, если уже не было слишком поздно.
Аденауэр настолько боялся, что Кеннеди может предать Западную Германию, что 29 августа через западногерманского посла Ганса Кролля передал секретное послание Хрущеву. «Две огромнейшие опасности, – написал он, – это когда танки стоят против танков на расстоянии всего нескольких метров, как это происходит сейчас в Берлине, и еще большая опасность в неправильной оценке ситуации».
В газете «Берлинер моргенпост» разгорелась читательская дискуссия относительно того, можно ли еще доверять американцам защищать свободу Берлина. Один из участников дискуссии из городского района Штеглиц спрашивал, не предоставил ли Запад Советскому Союзу свободу действий, чтобы он мог делать все, что ему заблагорассудится, в Западном Берлине до конца этого года. Другой читатель высказал мнение, что марксисты получили это право, поскольку американский капитализм создал общество изобилия, нерешительное и равнодушное.
Помимо этих писем было одно от Раймона Арона [86], известного французского философа, повторявшее предупреждение французского лидера Шарля де Голля, выступившего на той неделе по телевидению.
«Под угрозой не только судьба двух миллионов берлинцев, – написал Арон. – Вопрос, способны ли Соединенные Штаты убедить Хрущева, что не намерены уступать в хитроумной политической игре».
Жители Западного Берлина были в смятении. Генерал Клей приземлился в Штайнштюккене и установил патрули на автостраде. А на следующий день Кеннеди произнес речь, в которой даже не упомянул о существовании стены и о том, что восточные немцы ежедневно укрепляют ее.
Корреспондент «Нью-Йорк таймс» Джеймс Скотти Рестон написал, что Кеннеди «говорил как Черчилль, но действовал как Чемберлен». В той же статье Рестон сообщил о просочившейся в прессу записке Кеннеди относительно конфронтационных мер, предпринятых Клеем в Берлине, в которой президент спрашивал высших должностных лиц, почему его политика поиска переговоров по Берлину не находит понимания.
Читая сообщения разведывательных служб, Хрущев начал понимать, что жесткая линия Клея в Берлине была не чем иным, как смелой импровизацией отставного генерала, не получившей президентского благословения. Это свидетельствовало о явных разногласиях в политических кругах Соединенных Штатов, и, значит, пришло время изучить эти разногласия.
Итак, маршал Конев направил резкое письмо генералу Уотсону, потребовав положить конец «незаконному» патрулированию автострады, возобновленному по приказу Клея. Его письмо, подчеркнул Конев, «не протест, а предупреждение». Правительство Кеннеди приказало прекратить патрулирование после недели успешных операций. Союзники генерала Конева были американскими противниками Клея.
27 сентября генерал Кларк прилетел в Берлин, чтобы опять сделать выговор командующему. После протокольного завтрака (специально для прессы) генерал Кларк вновь предупредил генерала Уотсона, что американские силы не могут использоваться для нейтрализации действий Советов и Восточной Германии без его согласия. Восточногерманская пресса прослышала о разногласиях между Клеем и правительством Кеннеди и много говорила об этом.
Затем Кларк узнал о следующей секретной операции Клея.
Клей приказал построить в лесу на окраине Берлина барьеры, которые по возможности были точной копией стены. Под наблюдением Клея американские солдаты на танках с навесным бульдозерным оборудованием проламывались через барьеры, с разной скоростью и поднятыми на разную высоту ковшами бульдозеров, для достижения максимальной эффективности. Клей хотел опытным путем выяснить, как и чем лучше всего пробить брешь в стене.
«Как только я узнал об этом, – позже написал Кларк в личном письме, – я прекратил эти испытания и приказал уничтожить эту стену».
Кларк не сообщил об операции Клея и своих действиях в Вашингтон, надеясь, что вопрос исчерпан.
Кеннеди так никогда и не узнал об этом – а Хрущев узнал. Советский агент, прятавшийся в лесу, сделал фотографии. Хрущев не знал, что Кларк прекратил испытания. Теперь у Хрущева было, по его мнению, конкретное доказательство того, что американцы планируют операцию в Берлине, которая унизит его достоинство во время съезда партии.
Глава 17. Ядерный покер
В некотором смысле есть аналогия – мне нравится это сравнение – с Ноевым ковчегом, где и «чистые», и «грязные» нашли приют. Но независимо от того, кто причисляет себя к «чистым», а кого считают «грязным», все одинаково заинтересованы в том, чтобы ковчег успешно продолжил путь.
Председатель Совета Министров СССР Хрущев президенту Кеннеди, из первого письма их секретной переписки, 29 сентября 1961 годаВера в нашу способность предупредить все действия коммунистов и противостоять их шантажу основана на беспристрастном анализе военных возможностей обеих сторон. Наша страна обладает ядерными силами возмездия такой смертоносной мощи, что любой шаг противника, который заставит ввести их в действие, станет для него не чем иным, как актом самоуничтожения.
Заместитель министра обороны Росуэлл Гилпатрик, Хот-Спрингс, Вирджиния, 21 октября 1961 годаОтель «Карлайл», Нью-Йорк
Суббота, 30 сентября 1961 года
Георгий Большаков, с двумя свернутыми газетами под мышкой, подошел, как договаривались, к двери номера Пьера Сэлинджера в «Карлайле» в 15:30; от лифта до двери его сопровождал агент секретной службы. Между страницами одной из газет был толстый конверт. С видом заговорщика советский шпион вынул из конверта пачку листов и объявил, что это личное письмо Хрущева Кеннеди на двадцати шести страницах, на перевод которого он потратил целую ночь. У Большакова всегда были мешки под глазами, поэтому Сэлинджер не знал, так это или нет.
Прошла всего неделя с последней встречи Большакова и Сэлинджера, которая произошла в этом же номере перед выступлением Кеннеди на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций. Хрущеву не терпелось проверить примирительные слова Кеннеди и высказанную им готовность к переговорам по Берлину, несмотря на возражения со стороны Франции и Западной Германии. Большаков вручил Сэлинджеру оригинал письма Хрущева и английский перевод, чтобы их могли сравнить официальные переводчики американского правительства.
Так было положено начало тому, что советник по вопросам национальной безопасности Макджордж Банди назовет «письмами друзей по переписке», уникальной личной переписке между двумя основными соперниками своего времени. В течение двух последующих лет Хрущев продолжал использовать шпионские навыки Большакова и других, чтобы незаметно передавать письма в неподписанных конвертах, всунутых в свернутую газету, Сэлинджеру, Роберту Кеннеди и Теду Соренсону на улице, в баре и в других людных местах.
По мнению Хрущева, это был настолько неотложный вопрос, что накануне Большаков позвонил Сэлинджеру с просьбой заказать самолет, чтобы доставить письмо в Ньюпорт, штат Род-Айленд, где в доме матери Жаклин, Джанет Ли Бувье, и отчима, Хью Очинклосса, проводил осенние каникулы Кеннеди. Однако Кеннеди и Раск хотели избежать возможной огласки в средствах массовой информации, опасаясь, чтобы досужие репортеры не увидели президента с русским агентом, поэтому на следующий день они отправили Сэлинджера в Нью-Йорк.
«Если бы вы знали, насколько важной информацией я владею, вы бы не заставили меня ждать так долго», – сказал Большаков Сэлинджеру.
Позже Сэлинджер пересказал в нескольких словах суть письма Хрущева из шести тысяч букв: «Я и вы, господин президент, лидеры двух стран, находящихся в острых разногласиях… У нас нет иного выбора, как вместе подумать о том, как найти пути к миру».
Человек, который так жестоко обошелся с Кеннеди в Вене, открылся в теплом, личном письме, объяснив, что сейчас он отдыхает с семьей на Черном море в Пицунде. В засекреченном Советском Союзе даже советский народ не знал, где отдыхает Хрущев. «Как бывший морской офицер, – написал Хрущев Кеннеди, – вы, конечно, по достоинству оценили бы окружающую природу, красоту моря и великолепие Кавказских гор». Трудно в такой обстановке, написал Хрущев, думать, что нерешенные проблемы «бросают зловещую тень на мирную жизнь, на будущее миллионов людей».
Вот почему Хрущев предложил конфиденциальный обмен между двумя людьми, действия которых будут решать будущее планеты. Если Кеннеди это не интересует, написал советский лидер, то он может не обращать внимания на письмо и Хрущев больше не побеспокоит его.
Сэлинджера поразил простой крестьянский язык Хрущева «в сравнении с бесцветным бюрократическим слогом, характерным для всех уровней дипломатической корреспонденции». В письме не было обычных для Хрущева угроз, наоборот, советский лидер просил Кеннеди выдвигать альтернативные предложения, которые не должны совпадать с его предложениями.
Хрущев, проявляя инициативу, руководствовался несколькими причинами. Съезд партии начинался через две с небольшим недели, и обаятельный Кеннеди в такой переписке мог скорее гарантировать ему, что Соединенные Штаты не предпримут никаких действий, чтобы помешать ему действовать в соответствии с тщательно продуманным сценарием съезда. Во-вторых, он надеялся ослабить растущее напряжение, которое привело к значительному увеличению расходов на оборону США, намного большему, чем он ожидал.
Хрущев понимал, что советская экономика не позволит принять участие в длительной гонке вооружений с Соединенными Штатами, несравнимо богатой страной. Он, должно быть, впервые почувствовал волнение, что Запад может подвергнуть сомнению его превосходство в обычном вооружении. Наращивание военной мощи Соединенными Штатами заставило советских сторонников жесткой линии с новой силой обрушиться на Хрущева за то, что он делает слишком мало, ввязавшись в борьбу с Западом, и должен делать все возможное, чтобы нейтрализовать Западный Берлин. В своем письме Хрущев предупредил Кеннеди, что военные расходы обеих сторон, «зуб за зуб», на которые толкает Берлин, были следующей причиной, почему Москва «придавала такое исключительное значение германскому вопросу».
Советский лидер сообщил, что готов пересмотреть позиции, которые оставались замороженными в течение пятнадцати лет холодной войны. В письме католику Кеннеди советский атеист сравнил послевоенный мир с Ноевым ковчегом, на борту которого все хотят продолжать путешествие, и «чистые», и «грязные». «И у нас нет иной альтернативы: или мы живем в мире и сотрудничаем и наш ковчег остается на плаву, или он пойдет ко дну».
Хрущев также сообщил, что готов к расширению секретных контактов между государственным секретарем Раском и министром иностранных дел Громыко, первая встреча которых произошла 21 сентября в Нью-Йорке. Кроме того, он готов рассмотреть предложение Кеннеди относительно предварительных переговоров между американским и советским послами в Югославии, легендарным американским дипломатом Джорджем Кеннаном и генералом Алексеем Епишевым [87], доверенным лицом советского лидера.
На следующий день после закрытия границы, 14 августа, Государственный департамент уполномочил Кеннана открыть этот канал, но тогда Москва не заинтересовалась. Теперь Хрущев проявлял нетерпение, хотя и опасался, что, не получив конкретных распоряжений, послы будут «гонять чаи» и «мычать, вместо того чтобы говорить по существу». Хрущев предложил использовать для этой цели американского посла Томпсона, поскольку он заслуживал доверие и был хорошим собеседником, но Томпсон, извинившись, отказался, объяснив, что, как он понял, выбор остается за Кеннеди.
Хрущев развеял подозрения Запада относительно того, что Москва все еще стремится захватить Берлин. «Об этом смешно даже думать», – сказал он, заявив, что город не имеет никакого геополитического значения. Стремясь продемонстрировать свои благие намерения, он предложил перенести штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Западный Берлин, идея, которую он уже излагал ранее в том же месяце на встрече с министром иностранных дел Бельгии Полем Анри Спааком, а затем на встрече с бывшим премьер-министром Франции Полем Рейно.
Помимо открытия нового канала с Кеннеди, Хрущев принимал другие меры, чтобы избежать дальнейшего усиления напряженных отношений с Соединенными Штатами. Советы отложили план поставок на Кубу более современного вооружения, в том числе ракет, способных достичь Соединенные Штаты. Кроме того, Хрущев запретил Ульбрихту предпринимать ряд мер в Восточном Берлине, объяснив своему назойливому клиенту, что он и так должен быть доволен завоеваниями 1961 года.
Хрущев, что было крайне важно, ответил на обращение Кеннеди недельной давности относительно Лаоса. Советский лидер подтвердил венские договоренности, что Лаос должен стать нейтральным, независимым государством, как Бирма и Камбоджа. Однако не разделил беспокойства Кеннеди относительно того, кто должен занять руководящие позиции в Лаосе, заявив, что Москва и Вашингтон не должны вмешиваться в решение этого вопроса.
Хрущев закончил письмо пожеланиями благополучия и здоровья президенту, его жене и всем членам семьи.
Хайяннис-Порт, Массачусетс
Суббота, 14 октября 1961 года
Только спустя две недели Кеннеди был готов дать ответ.
Работая в выходные на Кей-Коде, Кеннеди писал и переписывал проект ответа, сравнивая свое повышенное недоверие к Хрущеву с желанием использовать все средства, чтобы не допустить просчета, который может привести к войне. Отрицательный ответ мог подвигнуть Кремль на очередной шаг в отношении Берлина, но положительный ответ покажется его критикам, внутренним и из числа союзников, наивным. Шарль де Голль и Конрад Аденауэр опасались, что переговоры Кеннеди и Хрущева служат для советского лидера способом добиваться новых уступок по Западному Берлину.
Беспокойство Аденауэра еще больше усилилось бы, если бы он узнал о распоряжениях, которые Кеннеди отдал Раску, чтобы восстановить позиции США для нового раунда переговоров по Берлину. Кеннеди отказался использовать в качестве посредника американского посла в Западном Берлине Уолтера Доулинга, поскольку «он слишком выражает точку зрения Бонна». Президент хотел, чтобы Раск оставил для обсуждения только те вопросы, которые устраивают Москву, считая, что нет смысла ставить на обсуждение вопрос, на котором так настаивает Аденауэр, – воссоединение Германии путем свободных выборов. «Это вопрос, по которому не договориться, – сказал Кеннеди. – Всем понятно, что его бессмысленно поднимать». Он был готов рассматривать многие из тех предложений Москвы, которые ранее считал неприемлемыми, включая предложение относительно того, чтобы сделать Западный Берлин «свободным городом» при условии, что НАТО будет гарантировать его будущее, а не иностранные воинские контингенты, в том числе советские.
Кеннеди, готовый идти на значительные уступки, был разочарован реакцией Советов. Советские самолеты атаковали американские транспортные самолеты, летевшие в Берлин; Хрущев возобновил ядерные испытания и опять стал угрожать подписанием мирного договора с Восточной Германией. С другой стороны, советский лидер прекратил угрожать войной и обещал сохранить независимость Западного Берлина.
Одно не вызывало сомнений: Кеннеди, в начале президентства отодвинувший берлинский вопрос на второе место, теперь был больше всего занят именно этим вопросом. Министр внутренних дел, безуспешно пытавшийся заставить президента сконцентрировать внимание на вопросах, стоявших на повестке дня, жаловался, что «Берлин взял его в плен. Это единственное, о чем он думает. У него беспокойный ум, и ему нравится обсуждать самые разные вопросы, но начиная с августа все его мысли сосредоточены на Берлине».
Кеннеди подумывал обратиться за советом, как ответить Хрущеву, к союзникам, но по опыту знал, что только вызовет неразбериху и информация просочится в прессу. А это приведет к тому, что он утратит доверие Хрущева. Но чего стоит это доверие? Чип Болен, бывший американский посол в Москве, объяснил Кеннеди, что его ответ Хрущеву «возможно, будет самым важным письмом из писем, которые когда-либо будет писать президент».
В письме, датированном 16 октября, отправленном спустя две недели после получения письма Хрущева, Кеннеди, подражая Хрущеву, написал, что уехал из Вашингтона и проводит время на берегу со своими детьми и племянниками. Он принял предложение Хрущева относительно частной переписки и заверил, что будет держать переписку в тайне от прессы. Но, добавил Кеннеди, об их переписке будут знать Раск и еще несколько ближайших помощников.
Кеннеди понравилось сравнение с Ноевым ковчегом. В связи с угрозами ядерного века, написал президент, американо-советское сотрудничество представляется теперь еще более важным для сохранения мира, чем во время Второй мировой войны. Кеннеди не мог яснее выразить свое согласие с закрытием границы. Что касается Берлина и Германии, то Кеннеди высказал мнение, что «сейчас там мир – и правительство должно выступать против любых действий, которые могут разрушить этот мир».
Хотя Кеннеди был готов позволить строительство Берлинской стены, он провел границу, за которую не собирался переходить в вопросах о Берлине. Он отказался от предложенных Хрущевым переговоров относительно изменения статуса Берлина на так называемый «свободный город, где советские войска вместе с войсками трех союзников будут обеспечивать свободу города, а восточные немцы контролировать доступ в город». «Мы не будем «дважды покупать одну и ту же лошадь», – сказал Кеннеди. – Признавая цели, которые вы преследуете, мы намерены просто сохранить то, что уже имеем». Однако президент выразил готовность начать предварительные переговоры через американца, предложенного для этой цели Хрущевым, посла Томпсона.
Кроме того, Кеннеди хотел, чтобы Хрущев пошел на большие уступки по Лаосу как делу, имеющему принципиальное значение для разрешения вопроса по Берлину. «Я не вижу, как мы можем достигнуть урегулирования по такой сложной проблеме, как Берлин, где под угрозой жизненно важные интересы и ваши, и мои, если не можем прийти к окончательному решению по Лаосу, хотя ранее договорились о том, что он должен быть нейтральным и независимым, как Бирма и Камбоджа». Теперь, когда совершенно ясно, что принц Суванна Фума, нейтралист, будет премьер-министром, сказал Кеннеди, они с Хрущевым должны обеспечить, чтобы принцу «оказывали помощь люди, которые, по нашему мнению, обязаны соблюдать нормы нейтралитета». Нападения коммунистов на Южный Вьетнам с территории Лаоса представляют «серьезную угрозу миру».
Для Хрущева более важным, чем содержание письма, был факт, что президент попался на удочку и ответил на письмо. Теперь советский лидер был практически уверен, что Кеннеди готов участвовать в новых переговорах по Берлину и, значит, воздержится от конфронтационных речей и действий, которые могут разрушить тщательно спланированный им решающий съезд партии. Спустя всего два месяца после закрытия границы Советы вовлекли Кеннеди в новые переговоры о статусе города.
Точка зрения Кеннеди, высказанная в письме, не удовлетворила Хрущева. Следующее сообщение от Хрущева пришло в виде пятидесятимегатонной водородной бомбы.
Дворец съездов, Москва
Вторник, 17 октября 1961 года
Солнечные лучи, пробиваясь сквозь утренний туман, освещали золотые купола кремлевских церквей XV и XVI веков. Перед входом в современный, со стеклянными стенами и внутренней отделкой в красно-золотых тонах Дворец съездов, открытие которого было приурочено к началу работы XXII съезда партии, трепетали красные флаги пятнадцати республик.
Огромный зал был заполнен до отказа. Ни одно из обитых красной тканью кресел не осталось свободным. Никогда еще не собиралось в одном месте в одно и то же время так много коммунистов. Присутствовали 4394 делегата с правом голоса и 405 делегатов с совещательным голосом – в общей сложности почти пять тысяч делегатов и делегации восьмидесяти зарубежных партий из коммунистических и некоммунистических стран. В три с половиной раза больше делегатов, чем на предыдущих трех съездах.
Их количество отражало рост партии, численность которой достигла десяти миллионов человек, после того как почти полтора миллиона человек вступили в партию после XXI съезда партии, состоявшегося в 1959 году. Хрущев хотел собрать небывалое количество статистов для своего представления в 1961 году, поэтому дал право каждой партийной организации прислать делегатов.
Во Дворце съездов работалось намного лучше, чем в любом из советских правительственных зданий. В нем были бесшумные эскалаторы, система стереофонического воспроизведения звука, западногерманская центральная система кондиционирования воздуха, английское холодильное оборудование, горячая и холодная вода в туалетах, отделанных мрамором. Западные журналисты выпивали и закусывали на седьмом этаже, который они назвали «вершиной Маркса».
Журнал «Тайм» дал следующую оценку присутствовавшим на съезде: «Товарищи из небольших русских деревень, изысканные кофеманы-парижане, жесткие, как бамбук, агитаторы из Азии». Среди выдающихся личностей были вьетнамский Хо Ши Мин; Чжоу Эньлай из красного Китая; семидесятиоднолетняя Элизабет Герли Флинн, одна из основателей Американского союза гражданских свобод и ключевых деятелей профсоюза «Индустриальные рабочие мира»; известный активный политический деятель Испании Долорес Ибаррури; и Янош Кадар, лидер, помогавший подавить восстание в Венгрии в 1956 году. Они прошли по сцене под гигантским серебристого цвета барельефом Ленина на алом фоне.
Западные журналисты обычно называли Хрущева «абсолютным лидером» Советского Союза, но в действительности все было намного сложнее. В 1957 году Хрущев с трудом пережил государственный переворот. После инцидента с U-2 и провалом Парижского саммита в мае 1960 года сталинисты начали объединяться против Хрущева. В частности, они ухватились за его, с их точки зрения, безответственное сокращение советских вооруженных сил, разрыв с коммунистическим Китаем и отношения с американскими империалистами. Хрущев следил за потенциальными соперниками, которые могли погубить его.
Три основных американских политических противника Кеннеди – сенатор Барри Голдуотер, республиканец, сенатор от штата Аризона, губернатор Нью-Йорка Нельсон Рокфеллер и бывший вице-президент Ричард Никсон – были кроткими и смиренными по сравнению с менее очевидными и более опасными противниками Хрущева, людьми, воспитанными в кровавые сталинские времена.
Член президиума Фрол Козлов, хотя и обязанный своим положением Хрущеву, относился к тем убийцам, которые наносят удар из-за угла. После провала Парижского саммита он начал готовить заговор против Хрущева. Козлов был малообразованным, невоспитанным человеком, сталинистом, враждебно настроенным против Запада. Американский дипломат Ричард Дэвис описал его как мерзкого пьяницу, который ел как свинья и пил как сапожник. Но Хрущеву также пришлось столкнуться с более вкрадчивым, льстивым и более безжалостным потенциальным врагом в лице Михаила Суслова, главного идеолога партии.
В 1961 году Хрущев укреплял свою власть путем покровительства, фракционных чисток и общения с секретарями местных партийных организаций во время поездок по стране. Запуск в космос Гагарина, залив Свиней, Венский саммит и закрытие берлинской границы нейтрализовали влияние потенциальных противников. Товарищу по партии Петру Демичеву казалось, что Хрущев наслаждался редкими спокойными периодами. Журнал «Тайм» высказал такое мнение: «С Октябрьской революции 1917 года прошло сорок четыре года и пятнадцать партийных съездов, и никогда еще внутренняя коммунистическая иерархия не казалась более устойчивой и успешной».
Однако Хрущев лучше чем кто-либо знал, насколько уязвимо его положение. Несмотря на все его усилия по распространению коммунизма в Африке и Азии, только Куба вошла в советский лагерь, и то больше благодаря случаю. Некоторые из числа партийных руководителей не могли простить Хрущеву разоблачение культа Сталина; они увидели в этом не только посягательство на личность, но и на историю и законность власти коммунистов. Чжоу Эньлай в гневе покинул съезд, не дожидаясь его закрытия, после возложения цветов на могилу Сталина.
Теперь Хрущев выглядел более похудевшим и бодрым, чем на протяжении многих месяцев, словно специально готовился к этому событию. «Двадцать второй съезд объявляю открытым, – сказал Хрущев собравшимся, и его слова были переведены на двадцать девять языков. – Предлагаю приступить к работе».
Даже Сталин, будь он жив, позавидовал бы режиссерскому таланту Хрущева. Первые два дня были заняты выступлениями советского лидера, приблизительно по шесть часов каждое. Он с невероятной энергией переходил от одной темы к другой, ярко описывая, как к 1980 году советская экономика превзойдет экономику Соединенных Штатов – увеличение валового национального продукта в пять раз, расширение промышленного производства в шесть раз и каждая семья будет иметь бесплатную квартиру. К 1965 году, заявил он, Советский Союз будет ежегодно производить три пары обуви на человека!
Хрущев возобновил нападки на умершего Сталина и предложил вынести тело Сталина из Мавзолея, где он покоился рядом с Лениным, и перезахоронить у Кремлевской стены, рядом с коммунистами более низкого ранга.
Однако наибольшее внимание делегатов привлекли две бомбы, связанные с Берлином. Одна – образная, другая – реальная.
Хрущев, к разочарованию восточногерманского лидера, сказал, что не будет настаивать на подписании мирного договора до конца года. Он объяснил свое решение тем, что недавние переговоры Громыко с Кеннеди показали, что западные державы «выражают готовность разрешить берлинский вопрос».
Предложив Кеннеди эту морковку, Хрущев стал размахивать ядерной палкой. Он отступил от заранее заготовленного текста речи, говоря об успехах военной науки и промышленности, особенно в области ракетостроения. Он, смеясь, сказал, что американские шпионские суда отслеживают и подтверждают точность советских ракет.
Затем, продолжая импровизировать, все еще шутливым тоном, Хрущев заявил: «Раз уж я оторвался от текста доклада, то хочу сказать, что очень успешно идут у нас испытания и нового ядерного оружия. Скоро мы завершим эти испытания. Очевидно, в конце октября. В заключение, вероятно, взорвем водородную бомбу мощностью в пятьдесят миллионов тонн тротила».
Делегаты встали с мест и встретили его слова бурными аплодисментами. К тому времени никто еще не проводил испытания такого мощного оружия. Репортеры яростно строчили в блокнотах. «Мы говорили, что имеем бомбу в сто миллионов тонн тротила. И это верно. Но взрывать такую бомбу мы не будем, потому что если взорвем ее даже в самых отдаленных местах, то и тогда можем окна у себя выбить. Поэтому мы пока воздержимся и не будем взрывать эту бомбу. Но, взорвав пятидесятимиллионную бомбу, мы тем самым испытаем устройство и для взрыва стомиллионной бомбы».
Делегаты устроили бурную овацию.
Затем советский лидер, атеист, обратил свои слова к Всевышнему: «Однако, как говорили прежде, дай Бог, чтобы эти бомбы нам никогда не пришлось взрывать ни над какой территорией. Это самая большая мечта нашей жизни!»
Вот таким был всемирно известный Хрущев. Он слегка ослабил давление на Кеннеди, заявив, что ультимативный срок для подписания сепаратного мирного договора с ГДР не так уж важен, чтобы тут же огорошить президента известием об испытании водородной бомбы. В последний день работы съезда Советский Союз взорвал самое мощное из созданного к этому времени ядерного оружия. На Западе бомба получила название «царь-бомба». Для сравнения: мощность американских бомб, использованных при бомбежке Хиросимы и Нагасаки, составила около двадцати одной килотонны в тротиловом эквиваленте.
Кеннеди, снова застигнутый врасплох, понял, что должен отреагировать на это заявление.
Белый дом, Вашингтон, округ Колумбия
Среда, 18 октября 1961 года
Во время завтрака в Белом доме для техасских издателей консерватор Е.М. Тед Дили, издатель «Даллас морнинг ньюс», бросил вызов президенту. «Мы можем уничтожить Россию, – заявил он, – и должны дать ясно понять это советскому правительству».
Он извлек из кармана и громко зачитал грозную петицию, состоявшую из пятисот слов. К несчастью для Америки, заявил Дили, обращаясь к Кеннеди, «вы и ваше правительство – кисейные барышни», а нужен «мужчина, который бы верхом на коне руководил народом. А в Техасе и на юго-западе многие считают, что вы катаетесь на трехколесном велосипеде».
Кеннеди, ошарашенный заявлением Хрущева и уставший от недель постоянного давления по Берлину, раздраженно ответил: «Разница между нами, господин Дили, в том, что я, а не вы избран в президенты этой страны. Я, а не вы несу ответственность за жизни ста восьмидесяти миллионов американцев… Болтать о войнах проще, чем их вести. Я не менее твердый человек, чем вы, и я избран в президенты не за мягкие убеждения».
Кеннеди столкнулся с самой трудной проблемой в своей жизни: ему предстояло решить, как вести ядерную войну с Советским Союзом. План, появившийся в результате многонедельных секретных совещаний, был нацелен на полное уничтожение советского ядерного арсенала, чтобы лишить Советский Союз возможности нанести ответный удар. В плане, проработанном до мельчайших деталей, четко указывалось, на какой высоте должны лететь американские бомбардировщики, чтобы избежать обнаружения, и какие цели и с помощью какого ядерного оружия следует подвергнуть бомбардировке.
Ко времени, когда план медленно преодолел бюрократические препоны, удалось обсудить десятки проектов, и уже три недели, как существовала Берлинская стена. 5 сентября пояснительная записка на тридцати трех страницах, озаглавленная «Стратегическое воздушное планирование и Берлин», легла на стол генерала Максвелла Тейлора, военного советника президента. Автор программы Карл Кайзен, один из молодых гениев в администрации Кеннеди, пришел к выводу, что «у нас есть вероятность достигнуть успеха» ценой всего лишь полумиллиона жертв к миллиону жертв со стороны Советов. Однако согласно графикам, приведенным в пояснительной записке, если уцелевшие советские ракеты нанесут удар по Соединенным Штатам, то жертвы будут исчисляться в пределах от пяти до десяти миллионов из-за концентрации населения в таких городах, как Нью-Йорк и Чикаго. «В термоядерной войне, – сухо заметил он, – легко убивать людей».
В течение августа Кайзен, завоевавший авторитет в правительстве благодаря ряду проектов по самым разным вопросам, от международной торговли до факторов, влияющих на стоимость бортовых аварийных систем, работал помощником специального советника по вопросам национальной безопасности Банди. Этот сорокаоднолетний профессор экономики Гарвардского университета служил во время Второй мировой войны в Лондоне в Управлении стратегических служб (УСС), первой объединенной разведывательной службе США [88].
Записка Кайзена начиналась с перечисления недостатков так называемого «Единого оперативного плана поражения стратегических целей», СИОП-62, действующего плана, предусматривающего ведение всеобщей ядерной войны с неограниченным применением ядерного оружия. План предусматривал нанесение первого массированного удара по СССР и КНР с применением 3423 ядерных боеприпасов общей мощностью свыше 7800 мегатонн. Согласно плану массированный упреждающий удар должен был быть нанесен по военным и гражданским объектам «китайско-советского блока». Согласно оценкам, этот удар уничтожал 54 процента советского населения (из них 71 процент городского населения) и 82 процента зданий и сооружений. По мнению Кайзена, авторы плана недооценили жертвы, поскольку оценивались только первые семьдесят два часа войны.
Кайзен утверждал, что по двум причинам СИОП-62 необходимо заменить другим планом или внести в него существенные изменения. Во-первых, из-за ложной тревоги, которая могла быть результатом «преднамеренной ложной атаки» Хрущева или «неверного истолкования событий» любой стороной. Он утверждал, что «если нынешнее состояние напряженности в отношении Берлина продолжит оставаться на протяжении месяцев, то, вероятно, в какой-то момент действия Советов могут показаться представляющими угрозу нападения на Соединенные Штаты с достаточной степенью вероятности и неизбежности», чтобы развязать ядерную войну.
Кайзен утверждал, что возникнет проблема, если Кеннеди, приняв решение о нанесение ядерного удара, захочет отменить приказ, поскольку ошибся или был введен в заблуждение. Существующий план, по словам Кайзена, практически не давал ему такой возможности. Кроме того, если бы президент изменил решение, потребовалось бы приблизительно восемь часов, чтобы отменить состояние боевой готовности для части вооруженных сил, введенных в действие, тем самым создав «период ослабления», которым могла воспользоваться Москва.
Кайзен полагал, что более серьезная проблема – и это подтверждает августовское бездействие в отношении Берлина – президента состояла в том, что он никогда не согласится на тот уровень массированного ядерного ответного удара, который потребуется, чтобы отразить обычную советскую атаку на Западную Германию или Западный Берлин. Кайзен прямо спросил: «Готов ли на это президент? Советский ответный удар неизбежен, и наиболее вероятно, он будет направлен против наших городов и городов наших европейских союзников».
Кеннеди и его администрация столкнулись с Берлинским кризисом, положение ухудшалось, и, по мнению Кайзена, было ясно, что президент едва ли воспользуется имеющимся стратегическим планом. Кайзен утверждал, что непрекращающийся Берлинский кризис требует не теоретизирования, а создания специального плана на случай первого ядерного удара, если ситуация повернется против Соединенных Штатов.
«В этих обстоятельствах требуется нечто абсолютно другое, – сказал Кайзен. – Мы должны быть готовы к тому, что своим первым ядерным ударом развяжем всеобщую войну, и создавать план на этот случай, а не создавать план, отражающий стратегию массированного возмездия. Мы должны установить минимально возможный перечень целей с учетом дальности и поражающей способности советских ракет и избегая по возможности жертв среди гражданского населения Советского Союза и разрушений общественных зданий и сооружений».
Помимо этого, следовало «оставить в резерве значительную часть своей стратегической ударной мощи». В этом случае, по мнению автора, Хрущев не станет бросать в бой свои уцелевшие силы против американских населенных центров. Кайзен держал пари, что американские усилия по минимизации жертв среди советского гражданского населения, возможно, уменьшат желание врага нанести ответный удар, что может расширить масштабы войны. Кроме того, Кайзен представил подробный, «более эффективный и менее страшный», чем СИОП-62, план на случай, если нынешний Берлинский кризис приведет к «значительным изменениям на территории Западной Европы».
Это был план, который президент просил на протяжении большей части года: план более рациональной ядерной войны. Он позволял уничтожить советский ядерный арсенал дальнего действия при минимальном причинении ущерба Соединенным Штатам и их союзникам.
Далее Кайзен изложил детальный план, который Кеннеди читал и перечитывал, прежде чем дать ответ. Американские стратегические бомбардировщики – в небольшом количестве, на значительном расстоянии друг от друга, на малой высоте, чтобы избежать перехвата, – должны нанести удар по сорока шести основным советским базам бомбардировщиков, двадцати шести базам материально-технического обеспечения бомбардировочной авиации и шахтным пусковым установкам межконтинентальных баллистических ракет. В общей сложности для первого удара были определены восемьдесят восемь целей.
Кайзен считал, что для нанесения первого удара потребуется пятьдесят пять бомбардировщиков В-47 и В-52, с учетом 25 процентов предполагаемых потерь. С таким, казалось бы, незначительным количеством бомбардировщиков, утверждал Кайзен, можно добиться цели, поскольку самолеты «развернутся веером и, необнаруженные, проникнут на малой высоте в разные ранее обнаруженные пункты на советской территории, затем сбросят бомбы и уйдут на малой высоте».
Кайзен признал, что для проверки его предположений потребуется большая подготовка. «Сразу возникают два вопроса: насколько эффективен этот план и обладаем ли мы способностью и умением для выполнения такого набега?» И сам ответил, что план разумный, что у США есть военные средства и что «хотя возможен широкий диапазон результатов, у нас есть возможность достигнуть значительного успеха».
Если удастся избежать ошибок при бомбардировке, сказал Кайзен, то потери Советов от первого удара ограничатся миллионом, а возможно, даже полумиллионом человек – цифры по-прежнему вселяющие ужас, но значительно меньшие, чем по плану СИОП-62, где речь идет о гибели 54 процентов, или более ста миллионов, советских людей.
В Белом доме, непривычном к такому непринужденному обсуждению кровавой бойни, доклад Кайзена вызвал потрясение. Специальный советник президента Тед Соренсен выкрикнул: «Ты сумасшедший! Мы не должны позволять парням вроде тебя находиться здесь». Маркус Раскин, как и Кайзен, член Совета по национальной безопасности, перестал разговаривать с Кайзеном, выслушав его доклад. «Чем мы лучше тех, кто приспособил для своих целей газовые печи, или тех, кто строил дороги для поездов смерти в нацистской Германии?» – с гневом спросил он Кайзена.
Кеннеди не испытывал подобных чувств, поскольку искал именно такой подробный план. «Берлинские события могут поставить нас в такое положение, когда мы захотим взять на себя инициативу в эскалации конфликта», – записал президент в список вопросов, которые хотел обсудить на намеченном на 19 сентября совещании с генералом Тейлором, генералом Лайманом Лемницером, председателем Объединенного комитета начальников штабов, и генералом Томасом С. (Томми) Пауэром, командующим стратегической авиацией. Подготовленные президентом вопросы свидетельствовали о его растущем понимании проблем, связанных с ядерным ударом. Кеннеди готовился к ведению войны.
Вопрос № 1. Можно ли предусмотреть в плане альтернативные возможности в различных ситуациях? Кеннеди особенно хотел знать, может ли он перейти от «оптимального соединения» гражданских и военных целей и в неких непредвиденных обстоятельствах исключить городские территории или исключить из перечня целей Китай или европейских сателлитов. «Если да, то каков риск?»
Вопрос № 2. Если в ходе развития берлинских событий он окажется в положении, когда захочет обострить конфликт с местного до общего уровня, то хотелось бы знать, удастся ли воспользоваться преимуществом внезапности при нанесении первого удара, чтобы уничтожить советский ядерный арсенал дальнего действия.
Вопрос № 3. Кеннеди волновал вопрос: не останется ли при внезапной атаке на советский арсенал дальнего действия «значительное количество» ракет среднего радиуса действия, готовых атаковать Европу? Короче говоря, он хотел знать, какой ценой будет достигнута защита Европы и США. Он хотел знать, если при первом ударе включить в перечень еще и эти цели, то не приведет ли «такое увеличение целей к исключению эффекта внезапности».
Вопрос № 4. «Смогу ли я сразу, как начнется война, контролировать наши военные действия? Я полагаю, что в любой момент могу остановить стратегическую атаку, должен ли я получить сообщение о том, что враг сдался».
Помимо этих четырех вопросов, президент интересовался, может ли он избежать «чрезмерного разрушения» и прекратить атаку, если первая ядерная бомба попадет в цель, то есть будет достигнут «желаемый результат». Он хотел понять, есть ли у него возможность отменить атаку, если окажется, что она была вызвана ложной тревогой.
На следующий день состоялось заседание Совета по национальной безопасности, но президент не смог получить ясные ответы на многие вопросы. Это, кроме всего прочего, свидетельствовало о том, что советники Кеннеди расходились во взглядах на концепцию ограниченной ядерной войны. Командующий стратегической авиацией генерал Томми Пауэр высказал мнение, что «для нас сейчас и в следующем году наибольшая угроза внезапного советского нападении. Если всеобщая ядерная война неизбежна, то Соединенные Штаты должны первыми нанести удар», после того как будут определены основные ядерные цели на территории Советского Союза.
В марте 1945 года Пауэр руководил авиационным налетом на Токио [89] и был заместителем командующего стратегической авиацией на Тихом океане, руководившим операцией по атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки.
Он помогал генералу Кертису Э. Лемею в создании Стратегического командования ВВС США [90], которое они в результате превратили в свою вотчину.
Грубый, легко приходящий в ярость Пауэр горячо уверял, что единственный способ контролировать коммунистов, владеющих ядерным оружием, – дать им понять, что их уничтожат, если они будут дурно себя вести.
Когда стало известно о долгосрочном влиянии радиоактивных осадков на генетический аппарат, Пауэр весьма неудачно пошутил: «Знаете, пока мне еще никто не доказал, что две головы хуже, чем одна». Советник по вопросам национальной безопасности Банди имел в виду Пауэра, когда предупреждал Кеннеди, что подчиненный командующий имеет право «начать термоядерную войну по собственной инициативе», если не сможет связаться с президентом после нападения Советов.
Пауэр убеждал Кеннеди, что у Советов намного больше ракет, чем удалось сфотографировать самолетам-разведчикам ЦРУ. Он пожаловался, что ему не хватает данных о численности и базировании советских межконтинентальных баллистических ракет (МРБ), и добавил, что, по его мнению, самолеты-разведчики обнаружили всего 10 процентов советского арсенала. Он сказал президенту, что обнаружено местоположение двадцати пусковых установок МРБ, но их может быть во много раз больше в неисследованных областях. Пауэр, не имея точных данных о советской ракетной мощи, настойчиво рекомендовал Кеннеди возобновить полеты U-2, хотя президент обещал Хрущеву запретить разведывательные полеты.
Кеннеди оставил без внимания совет Пауэра. Он упорно хотел получить ответ на свой вопрос относительно того, может ли он нанести неожиданный удар по Советскому Союзу, не вызвав разрушительного ответного удара. Кроме того, он хотел, чтобы генералы «дали ответ на такой вопрос: какой объем информации и сколько времени потребуется русским, чтобы приступить к запуску своих ракет?».
Мартин Хилленбранд, заведующий отделом Государственного департамента, заметил, что с каждым днем Кеннеди все глубже погружался в Берлинский кризис, «все больше поражаясь его сложности». Для его предшественников война была неприятной, но необходимой альтернативой в таких случаях, как порочность нацизма или японская агрессия. Но для Кеннеди, по мнению Хилленбранда, война стала «почти тождественна проблеме выживания человечества».
10 октября Кеннеди собрал ведущих представителей администрации и военачальников в Зале Кабинета, чтобы утвердить планы на случай непредвиденных обстоятельств в Берлине. Заместитель министра обороны Пол Нитце принес документ под названием «Предпочтительная последовательность военных действий в берлинском конфликте» (Preferred Sequence of Military Actions in a Berlin Conflict).
Пятидесятичетырехлетний уравновешенный рационалист Нитце уже стал, вероятно, самым ключевым игроком, тайно влияющим на политику, которая привела к развитию ядерного оружия и контролю над ним. Размышляя над неумением действующих из лучших побуждений игроков избежать конфликта, он вспоминал свой детский опыт, когда был свидетелем начала Первой мировой войны, и видел, как толпа в Мюнхене приветствовала приближающееся бедствие.
Президенты Рузвельт и Трумэн поставили перед ним задачу изучить воздействие стратегической бомбардировки, и Нитце побывал в крупных немецких городах, лежавших в руинах, и тщательно исследовал воздействие ядерного оружия на Хиросиму и Нагасаки. Но ничто так не повлияло на его мнение о важности наращивания ядерных сил, как озабоченность стратегической уязвимостью, появившаяся после изучения вопросов, связанных с нападением на Пёрл-Харбор.
Нитце, занявший при Трумэне после ухода Джорджа Кеннана пост директора отдела стратегического планирования, был одним из главных авторов директивы Совета национальной безопасности, известной как СНБ-68. В мире, где США утратили атомную монополию, СНБ-68 дала разумное объяснение значительному увеличению расходов на оборону и сформировала основу американской политики национальной безопасности на следующие четыре десятилетия, предупредив о «кремлевских планах мирового господства».
Нитце считал, что если бы Трумэн не одобрил создания водородной бомбы в 1950 году, то «к концу 1950-х годов Советы достигли бы неоспоримого ядерного превосходства».
Два демократических ястреба, Ачесон и Нитце, заложили основу позиции Кеннеди в отношении обороны и концепции «гибкого реагирования» после его назначения.
Нитце, как и Ачесон, считал Берлин испытательным полигоном для коммунистов, поставивших цель одержать психологическую победу над Западом, продемонстрировав его бессилие по сравнению с возросшими советскими возможностями. Нитце сошелся во мнении с Ачесоном, что глупо думать, будто новые переговоры помогут разрядить кризисную обстановку.
13 августа Нитце поначалу пришел в ярость оттого, что Соединенные Штаты никак не отреагировали на закрытие берлинской границы. Однако дальше выяснилось, что три советские дивизии и две восточногерманские дивизии окружили Берлин. Можно было предположить, что Москва поставила капкан – Соединенные Штаты сбили бы барьер только для того, чтобы увидеть, что Советы заняли весь Берлин. Пентагон решил не трогать стену, опасаясь, чтобы это не привело к всеобщей войне, к которой Соединенные Штаты не были готовы.
Теперь задача Нитце заключалась в том, чтобы описать в общих чертах, как США должны вести подготовку к новому берлинскому противостоянию. После 13 августа Нитце попросили собрать военных представителей Великобритании, Франции и Западной Германии, чтобы договориться об ответе на следующую советскую провокацию в Берлине.
В составленном ими документе относительно сохранения доступа в Берлин предлагалось четыре подробных сценария, от ограниченных обычных боевых действий до ядерной войны. Занимаясь составлением плана, Нитце увидел, что «предложения множатся, подобно вариантам ходов в шахматах», и тут кто-то предложил «взять лист бумаги размером с конскую попону и записывать предложения одно под другим». Так план военного ответа по Берлину получил название «Попона для пони». Нитце был доволен, что удалось преобразовать программу нагнетания напряжения в понятную и логичную схему действий, которая вселяла в Америку и ее союзников больше уверенности.
Кеннеди прибыл поздно на совещание Совета национальной безопасности. Раск сообщил, что Москва возьмет назад требование относительно крайнего срока по мирному договору с ГДР, если переговоры с Соединенными Штатами докажут, что они собираются выполнять свои обещания. Однако Раск по-прежнему считал, что необходимо наращивание военных сил в Европе. Затем свои соображения высказал министр обороны Макнамара.
Кеннеди, не задумываясь, одобрил все предложения: размещение в Европе начиная с 1 ноября одиннадцати эскадрилий ВВС национальной гвардии; отправка в Европу из США семи эскадрилий из состава тактического авиационного командования ВВС; размещение в Европе необходимых служб материально-технического обеспечения для одной танковой дивизии и одной пехотной дивизии. Таким образом, у него гарантированно были по крайней мере две боевые группы в полной боевой готовности плюс группы поддержки. Одновременно он отправлял в Европу 3-й бронекавалерийский полк из Форт-Мида, штат Мэриленд.
Президента по-прежнему больше всего интересовало, как он будет действовать в условиях ограниченной ядерной войны. Ужас заключался в том, что сейчас он обсуждал возможность ядерной войны, хотя меньше месяца назад, выступая в ООН, говорил о «погребальном костре». Задавая вопросы по документу Нитце, его больше всего интересовал вопрос: действительно ли возможно выборочно использовать ядерное оружие без перерастания конфликта в тотальную войну?
По этому вопросу Нитце имел свое мнение, отличное от мнения Макнамары. Он считал, что начальное ограниченное использование ядерного оружия приведет к тому, что у Советов «появится сильное искушение» нанести стратегический удар. Таким образом, доказывал он, «для нас будет лучше, собираясь использовать ядерное оружие, серьезнейшим образом отнестись к выбору начального стратегического удара». По его мнению, Соединенные Штаты оказывались в выигрыше только в том случае, если бы первыми нанесли удар.
Интересно, что Кеннеди спокойно слушал и вникал в подробности, изредка задавая вопросы, в то время как сидящие вокруг него люди продолжали обсуждать самый страшный из сценариев.
Раск был обеспокоен тем, что военные стратеги забыли о моральном аспекте проблемы: «Сторона, которая первой использует ядерная оружие, возьмет на себя серьезнейшую ответственность и будет отвечать за последствия перед остальной частью мира».
Кеннеди не разрешил их спор, но все сошлись во мнении, что следует отправить новые инструкции президента генералу Норстеду, верховному главнокомандующему объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, чтобы «прояснить» намерения США на случай непредвиденных обстоятельств.
Вашингтон, округ Колумбия
Пятница, 20 октября 1961 года
В течение десяти дней, прошедших с совещание в Зале Кабинета, президент занимался не только вопросами, связанными с Берлином. Он еще не оставил надежды на переговоры с Москвой и был озабочен растущими проблемами со своими союзниками.
«Вашингтон пост» сообщила об усилиях покончить с расовой дискриминацией в ресторанах Мэриленда. В статье на первой полосе «Нью-Йорк таймс» сообщалось, что в Верховном суде слушалось дело о сидячих забастовках на Юге в знак протеста против расовой дискриминации. Полиция претворяла в жизнь десегрегацию школ, в то время как одетые в белое куклуксклановцы выступали против десегрегации.
Однако президент был целиком поглощен мыслями о войне и о том, как будет ее вести. Его проблемы передались американской общественности. Журнал «Тайм» поместил на обложке цветную фотографию начальника управления гражданской обороны Вирджила Кауча. Газетный заголовок во всю ширину полосы гласил: «Убежища: как скоро – насколько большие – насколько обеспечат безопасность?» Кауч объяснял американцам, что готовиться к ядерному удару так же нормально, как делать прививки от оспы.
Спустя три дня после заявления Хрущева о пятидесятимегатонной бомбе президент собрал свою команду по национальной безопасности – высших советников, чтобы добавить последние штрихи в военные инструкции для НАТО. Заседание проходило тяжело.
Члены Объединенного комитета начальников штабов ввязались в словесный бой относительно запланированного Кеннеди наращивания обычных вооружений в Европе и о том, как может отразиться на доверии к США использование ядерного оружия в качестве средства устрашения.
Шарль де Голль и Конрад Аденауэр уже высказывались по поводу того, что Кеннеди слишком торопится вступить в переговоры с Хрущевым относительно будущего Западного Берлина, при этом делает слишком мало для того, чтобы убедить Хрущева в том, что готов использовать ядерное оружие для защиты города.
Казалось, только Макмиллан поддерживает Кеннеди в его стремлении вступить в переговоры с Москвой. Премьер-министр с удовлетворением отметил, что Кеннеди изменил свое отношение к Москве; если весной он придерживался жесткой политики, то теперь занял более примирительную, британскую, позицию. Он видел, что Кеннеди «уже сыт по горло» де Голлем и Аденауэром.
Кеннеди начал действовать, чтобы уладить глубокие разногласия между союзниками по вопросу выбора стратегии по Берлину. В Зале Кабинета в 10:00 собрались брат президента Бобби, Макнамара, Банди и Лемницер. Рядом с ним сидел заместитель министра обороны Розуэлл Гилпатрик. Присутствовали и другие крупные игроки в берлинской политике: Нитце, Фой Колер, Мартин Хилленбранд и – столь часто присутствовавший в решающие моменты Берлинского кризиса Дин Ачесон, сторонний подстрекатель.
Совещание открыл Лемницер, сообщив президенту о «значительных разногласиях» членов Объединенного комитета начальников штабов относительно необходимости быстрого наращивания вооружений. Начальник штаба ВВС США генерал Кертис Лемей и руководитель военно-морских операций ВМС США адмирал Джордж Виллан Андерсон разделяли мнение генерала Норстеда, что «в ближайшем будущем» нет необходимости в крупномасштабном наращивании обычных вооружений. Но Лемницер и генерал Джордж Декер, начальник штаба сухопутных войск США, согласились с Макнамарой, что необходимо немедленно приступать к наращиванию вооружений.
Раск сообщил мнение Норстеда, что спор из-за Берлина так быстро приведет к ядерной войне, что наращивание обычного вооружения уже не будет иметь значения. Кроме того, сказал Раск, Норстед опасается, что наращивание обычного вооружения может негативным образом отразиться на готовности ядерных сил. Таким образом, Норстед вместе с французами и немцами выступал против президента.
Как часто случалось в сложные времена, связанные с Берлином, Кеннеди хотел знать мнение Ачесона. В записке, подводя итог встречи, Банди с издевкой написал: «С этого момента на совещании господствовал Ачесон». Позже Банди выразился более изысканно: «Как всегда, господин Ачесон был царицей бала».
Ачесона выводила из терпения чувствительность союзников. В такой сложный для нации момент американские чиновники, заявил он, тратят слишком много времени, добиваясь согласия французов, британцев, западных немцев и прочих, хотя именно Соединенные Штаты взвалят на себя это бремя. Он утверждал, что Соединенным Штатам необходимо в ноябре перебросить новые дивизии в Европу, не задумываясь о том, что могут подумать или сказать союзники.
По мнению Ачесона, президентская демонстрация намерений – отправка в Европу обычных войск – поможет «с дипломатической и политической точек зрения». Он не согласился с мнением, что из-за ядерного вооружения отпадет необходимость в обычном вооружении. Переброска американских войск – «угрожающее событие», сказал он, свидетельствующее о «серьезных намерениях американского правительства».
Кеннеди заявил, что его беспокоит «утечка золота», имея в виду денежные средства, необходимые для этой демонстрации сил. Макнамара и Гилпатрик заверили его, что ведутся переговоры с союзниками, которые, вероятно, возьмут на себя часть расходов.
Спустя несколько часов после совещания Банди отправил письмо президента с грифом «совершенно секретно» Норстеду вместе с приложением так называемой «Попоны для пони».
Спустя три дня документ, озаглавленный U.S. Policy on Military Actions in a Berlin Conflict («Американская политика в отношении военных действий в берлинском конфликте»), был одобрен президентом как меморандум по вопросу национальной безопасности № 109. В нем рассматривались четыре варианта в случае закрытия Советами доступа в Берлин.
I. Если Советы и восточные немцы будут чинить препятствия, но не заблокируют доступ, согласно плану Соединенные Штаты, Франция и Британия должны будут отправить на автостраду взвод под прикрытие истребителей. В документе отмечалось, что этот достаточно ограниченный шаг не приведет к войне.
II. Если Советы будут упорно продолжать блокировать доступ, несмотря на действия союзников, то Запад будет обострять конфликт и НАТО предпримет дополнительные невоенные меры, такие как экономическое эмбарго, беспокоящие действия на море и протесты ООН. Союзники должны укрепить войска, чтобы подготовиться к дальнейшей эскалации конфликта. Авторы документа предупреждали, что без дальнейшего наращивания возможности союзников будут ограниченны, что может привести к задержке и создаст угрозу жизнеспособности Западного Берлина.
III. Запад будет продолжать обострять конфликт против продолжающейся блокады Западного Берлина. Проведение наземных операций на территории Восточной Германии: отправка по автостраде трех танковых дивизий в Западный Берлин и создание превосходства в воздухе путем нанесения ударов по несоветским аэродромам. «Риск возрастает, как и военное давление на Советы», – говорилось в документе. В этом пункте Кеннеди призывал к глобальным действиям против советских интересов. Имелось в виду использование преимущества США на море для частичной морской блокады, что задержит момент ядерной истины, пока дипломаты будут приходить к соглашению.
IV. Только если Советы будут по-прежнему не реагировать на использование союзниками обычных видов вооружений, столкновение перерастет в ядерную войну. Кеннеди сможет выбрать одно или все из перечисленного: выборочные удары, чтобы продемонстрировать желание использовать ядерное оружие; ограниченное использование ядерного оружия, чтобы достигнуть тактического преимущества, и, наконец, всеобщую войну.
В документе говорилось, что «союзники только частично контролируют выбор времени и масштаб использования ядерного оружия. Советы могут приступить к его использованию в любой момент после начала незначительных военных действий. Ограниченное использование ядерного оружия союзниками может вызвать такой же ответ, также может вызвать неограниченный упреждающий удар».
Это был серьезный документ. Кеннеди, находившийся на посту президента десять месяцев, распланировал последовательность действий, которые могли привести к ядерной войне за Берлин.
В сопроводительном письме генералу Норстеду Кеннеди написал: «Это потребует энергии при подготовке, готовности к боевым действиям и осмотрительности – предупреждаю против необдуманных действий». Президент объяснил Норстеду, что в случае, если Советы перебросят значительные силы, чтобы одержать победу над Западом, то ответ, относительно которого он (генерал Норстед) получит конкретные указания, будет ядерным.
Кеннеди убедил скептически настроенного Норстеда – и заодно французов и немцев, – что наращивание союзнических обычных сил – сообщение, которое он хочет отправить Советам, что готов в случае необходимости начать ядерную войну. «У меня не вызывает сомнений, – написал президент Норстеду, – что наше ядерное оружие Советы не воспримут как средство устрашения до тех пор, пока не убедятся в готовности НАТО вступить в бой и осознают, насколько велика вероятность того, что обычный конфликт перерастет в ядерную войну».
Подготовка к войне сопровождалась лихорадочной дипломатической активностью – записки, телефонные звонки, совещания. Как это часто случалось в тяжелые времена, Кеннеди захотел узнать точку зрения экспертов. Кеннеди попросил откровенно высказывать свое мнение, и его доверенный посол в Соединенном Королевстве Дэвид Брюс, бывший посол в Германии, не сдержался.
Брюс сказал, что, не отреагировав должным образом на появление стены, Кеннеди сделал американское присутствие в Берлине более уязвимым и подорвал моральное состояние Западного Берлина и Западной Германии. Советы согласились с присутствием Соединенных Штатов в городе только потому, что имели достаточно сил для удаления их из Берлина.
Брюс предупредил Кеннеди, что целью Советов является не сам Западный Берлин, а скорее долговременное владение «Западной Германией с ее огромными ресурсами». Кроме того, он напомнил Кеннеди об обещании, связанном с объединением Германии. Именно это обещание, сказал Брюс Кеннеди, убедило Аденауэра в 1953 году отклонить «коварное, но заманчивое советское предложение о воссоединении при условии создания системы коллективной безопасности для всей Европы». Другими словами, Брюс предупредил Кеннеди, что отказ от этого обещания вызовет ответ Германии, который может не понравиться Вашингтону.
Брюс с подкупающей откровенностью заявил, что раздел Германии не является достаточной причиной для отказа от своих обязательств. «Правительство Западной Германии не сможет пережить открытое признание союзниками, что то, что до сих пор было, по крайней мере, отсроченной надеждой, будет отвергнуто как безнадежное». Брюс откровенно сказал: Кеннеди столкнулся с проблемами, которые сам помог создать. «Мы близки, полагаю, к моменту принятия решения, – написал он. – Я считаю важным то, что мы решились, в случае необходимости, начать ядерную войну, но не потерять Западный Берлин и, соответственно, Западную Германию».
Хот-Спрингс, Вирджиния
Суббота, 21 октября 1961 года
Кеннеди чувствовал, что времени совсем мало.
Опасаясь, что Хрущев может начать боевые действия, президент решил нанести упреждающий ядерный удар иного сорта, который будет словно оскорбительная пощечина Хрущеву во время его октябрьского съезда партии.
Кеннеди решил обнародовать секретные данные о размере, мощи и превосходстве ядерного арсенала Соединенных Штатов. Согласно разведывательным данным, у Кеннеди не оставалось сомнений в значительном ядерном превосходстве США, но он считал, что Хрущев не обладает полной информацией о возможностях Соединенных Штатов.
Президент Эйзенхауэр никогда не показывал, что ему известно о значительном превосходстве США над СССР, поскольку не хотел, чтобы Советы спешили устраивать гонку вооружений. Нехватка разведывательной информации заставила Кеннеди ложно обвинить Эйзенхауэра в отставании в области ракетостроения. Как ни странно, но теперь Кеннеди утверждал, что для того, чтобы Америка была в безопасности, надо открыть карты.
Кеннеди беспокоило, что он кажется слабым Москве, союзникам и американцам, хотя на самом деле он достаточно силен, чтобы победить Москву и любую другую страну в любом военном конфликте. Президент решил, что ему самому не стоит выступать с этим сообщением, и выбрал для этой миссии Розуэлла Гилпатрика, второй номер в министерстве обороны, который должен был выступить 21 октября на Деловом совете в Хот-Спрингсе, штат Вирджиния.
Аудитория для такого знаменательного момента была малоподходящей, зато оратора Кеннеди выбрал идеального. Гилпатрик был личным другом Жаклин Кеннеди, которая называла его «вторым самым привлекательным мужчиной» в Пентагоне после Макнамары. Кеннеди доверял этому уравновешенному, окончившему Йельский университет адвокату с Уолл-стрит.
Речь набросал молодой пентагоновский стратег Даниэль Эллсберг, но доработал ее президент вместе с Банди, Раском и Макнамарой.
Эллсберг, ничего не знавший о канале связи через Большакова и о тайной переписке с Хрущевым, спросил Кайзена, не разумнее ли президенту послать личное письмо советскому лидеру относительно превосходства США. К чему весь этот шум? Разве Кеннеди не может просто сообщить Хрущеву точные координаты советских межконтинентальных баллистических ракет и приложить фотографии?
Представители Белого дома пригласили ведущих американских журналистов в Хот-Спрингс и заранее предупредили, чтобы они не пропустили крайне важное выступление. Речь пойдет о Берлине, там создалась чрезвычайная ситуация, сказал Гилпатрик.
«Мы вместе с нашими западными союзниками немедленно отреагировали, укрепив наши гарнизоны в этом осажденном городе. Мы призвали порядка ста пятидесяти тысяч резервистов… Вера в нашу способность предупредить все действия коммунистов и противостоять их шантажу основана на беспристрастном анализе военных возможностей обеих сторон. Наша страна обладает ядерными силами возмездия такой смертоносной мощи, что любой шаг противника, который заставит ввести их в действие, станет для него не чем иным, как актом самоуничтожения».
Гилпатрик объявил, что, несмотря на опасения относительно «отставания по ракетам», США располагают более чем достаточным количеством межконтинентальных баллистических ракет, бомбардировщиков и подводных лодок, оснащенных баллистическими ракетами, чтобы нанести сокрушительный удар возмездия, если СССР задумает нанести первый удар. Гилпатрик сообщил, что у США сотни межконтинентальных бомбардировщиков, в том числе порядка шестисот тяжелых бомбардировщиков. Он обнародовал данные по тактическому и стратегическому ядерному оружию.
«Наши силы так развернуты и защищены, что внезапное нападение не сможет в полной мере обезоружить нас», – заявил Гилпатрик. Даже в случае внезапного нападения разрушительная мощь Соединенных Штатов будет намного превышать мощь любого противника, и американский ответный удар будет намного сильнее советского, потому что «американские войска лучше замаскированы, защищены и обладают большей мобильностью».
«Хвастовство Советов и угрозы ракетных ударов против свободного мира – нацеленные в основном на европейских членов НАТО – против неопровержимого факта ядерного превосходства Соединенных Штатов, – сказал Гилпатрик. – Соединенные Штаты не хотят решать споры насильственными методами. Но если вмешательство в наши права и обязательство приведут к серьезному конфликту, Соединенные Штаты не собираются быть побежденными».
Наконец-то Кеннеди заставил Хрущева раскрыть карты.
Дворец съездов, Москва
Воскресенье, 22 октября 1961 года
Когда до Москвы донеслись рекламные выкрики из Хот-Спрингса, Хрущев заволновался, что приближается берлинский конфликт.
Во время перерыва в заседаниях съезда партии, проходившего в Москве, генерал Конев представил Хрущеву доказательства подготовки американцев к войне. Хотя Конев оставался главнокомандующим группой советских войск в Германии, но в Москве он находился как делегат съезда.
Позже Хрущев вспоминал, что Конев сообщил ему точное время – день и час, когда Запад начнет военные действия в Берлине. «Они готовят бульдозеры, чтобы сломать наши пограничные заграждения. За бульдозерами пойдут танки, а за ними двинутся джипы с пехотой». Хрущев решил, что Запад намеренно приурочил эту акцию к работе его октябрьского съезда партии.
Хотя не было никаких причин сомневаться в том, что Хрущеву доложили о несанкционированных танковых маневрах Клея, советский лидер вполне мог возложить вину за выбор времени на своего надоедливого союзника Вальтера Ульбрихта. Расстроенный решением Хрущева отказаться от подписания мирного договора с Восточной Германией, Ульбрихт вновь решил взять дела в Восточном Берлине в свои руки. Однако на сей раз он столкнулся с Америкой, готовой вернуть все назад.
Место действия для первой и последней прямой американо-советской военной конфронтации было готово.
Глава 18. Проба сил у контрольно-пропускного пункта «Чарли»
Я не думаю, что вы послали меня сюда, чтобы я жил изолированно, и я знаю, что не могу как положено исполнять свои обязанности, если считается правильным соблюдать в Берлине чрезвычайную осторожность. Могу добавить, что я прибыл сюда не для того, чтобы добавить вам проблем.
Генерал Люсиус Клей – президенту Кеннеди, 18 октября 1961 годаМы, естественно, давно решили, что вход в Берлин не относится к жизненно важным интересам, которые бы требовали решительного применения силы для защиты и сохранения позиции. По этой причине согласившись со строительством стены, мы должны честно признаться себе, что тем самым признали факт, что Советы смогли, как они ранее сделали в других местах под своим эффективным контролем, изолировать своих упрямых подданных.
Государственный секретарь Дин Раск – генералу Люсиусу Клею, 26 октября 1961 годаРайон Далем, Западный Берлин
Воскресенье, 22 октября 1961 года
Вечер, который привел к переломному моменту этого года, начался невинно.
Алан Лайтнер, дипломат, высший гражданский чиновник американской миссии в Западном Берлине, попросил жену Дороти поторопиться, чтобы не опоздать к началу спектакля чешской экспериментальной театральной труппы, выступавшей в Восточном Берлине. Дороти прочла о спектакле в местной газете и решила, что необходимо развеяться после двух месяцев и девяти дней неослабного напряжения, в котором они пребывали с закрытия берлинской границы.
Лайтнеры жили в респектабельном районе Далем на роскошной вилле, принадлежавшей высокопоставленному нацисту, которая была конфискована после войны. Погода была по-осеннему прохладной. Соседи Лайтнеров готовились к зиме. Некоторые убирали участки, сгребали в кучи листья, покрывавшие разноцветным ковром лужайки перед домом. Кто-то проветривал зимние вещи, развешивая их на бельевых веревках, натянутых на балконах и во дворе.
Хотя Лайтнер не предвидел появления стены, это никак не отразилось на его карьере. Подобно многим женам сотрудников Государственного департамента, Дороти пользовалась положением мужа и привилегиями; прислуга считала ее бесцеремонной и чрезмерно требовательной. Лайтнеры любили проводить время в советской зоне, где выступали лучшие артисты из социалистического лагеря. Однако с 13 августа их посещения советской зоны приобрели больше символическую ценность. Жители Восточного Берлина, узнав Лайтнера, часто будут благодарить его только за то, что он пришел.
Лайтнер знал, что есть небольшая возможность, что их поездка по городу будет богаче событиями, чем обычно. На той неделе так называемая восточногерманская народная полиция, Volkspolizei, или сокращенно Voрo, начала выборочно проверять документы у гражданских представителей союзников. Это было не только нарушением четырехсторонних соглашений, но и противоречило советским распоряжениям – самое последнее от министра обороны маршала Родиона Малиновского – относительно того, что восточные немцы без санкции Советов не могут ничего менять на границе.
Ульбрихт, взбешенный выступлением Хрущева на съезде партии, очевидно, санкционировал это действие, находясь в Москве. Если Кеннеди выступление Хрущева показалось излишне воинственным, то Ульбрихта больше всего задело решение Хрущева отодвинуть срок подписания мирного договора. По мнению Ульбрихта, Хрущев вернулся к старой привычке решать берлинскую проблему за счет Восточной Германии. Спустя три дня в своем выступлении Ульбрихт назвал договор «задачей предельной безотлагательности». Ульбрихту был необходим договор для укрепления августовской победы путем дальнейшего усиления контроля над Восточным Берлином и изоляции и деморализации Западного Берлина.
Итак, Ульбрихт, не советуясь с Хрущевым, ужесточил пограничный контроль, решив, что Запад будет недоволен, но не станет сопротивляться, раз согласился с большим унижением – закрытием границы. Однако восточногерманский лидер недооценил решимость нового американского представителя в Германии генерала Люсиуса Клея.
Вместе Ульбрихт и Клей начали сверхмощную конфронтацию, которую их хозяева в Москве и Вашингтоне не хотели и не ожидали, хотя каждый из противников считал, что другая сторона планировала помериться силами.
Лайтнер, при поддержке Клея, приказал сотрудникам американской миссии противиться новой восточногерманской процедуре. Он запретил своим сотрудникам проходить пограничный контроль. Лайтнер и Клей были вне себя от злости, узнав, что британский премьер-министр Макмиллан без возражений согласился с новым режимом пограничного контроля. Лондон отдал ясный приказ своим командующим в Берлине: эта борьба не имеет никакого значения, раз мы согласились с закрытием границы.
Клей считал иначе. Если Вашингтон разрешит восточным немцам и дальше вмешиваться в права союзников, то, по мнению Клея, подорвет и без того слабый моральный дух Западного Берлина и лишится того, что осталось от законного положения союзников. Он был уверен, что Кеннеди настроен более решительно в отношении Берлина, чем его советники. Его противники чувствовали, что в данный момент у Клея нет такого влияния на Кеннеди, как в случае с Трумэном.
Сложившаяся на тот момент ситуация давала Клею три возможности. Во-первых, он мог продемонстрировать, что американцы по-прежнему полны решимости защищать Берлин. Во-вторых, он мог вернуть веру жителей Западного Берлина в себя и американских солдат. И наконец, он мог продемонстрировать своим противникам в Москве и Вашингтоне, что пользуется поддержкой президента Кеннеди.
Была только одна проблема: Клей точно не знал, какую позицию занимает его нерешительный президент.
Лайтнер, в отличие от Клея, не считал себя сторонником холодной войны, но именно им он и был. Пятидесятитрехлетний выпускник Принстона высмеивал «салонных радикалов», как он называл своих товарищей-интеллектуалов, которые писали и говорили о «величайшем социальном эксперименте» – русском коммунизме. Он уверял Дороти, что через пару месяцев в Советском Союзе переменят тон. Он знал это по опыту. Он был сотрудником посольства в сталинской России и занимался эвакуацией посольской документации в 1941 году. Он работал с эмигрантами-антикоммунистами в Скандинавии, сидел в бомбоубежище в Лондоне с отважными британцами и приложил руку к составлению послевоенных соглашений, сожалея, что уступил большую часть Европы Советам.
Лайтнер сказал друзьям, что, если бы Клей был в Берлине 13 августа, американские войска сразу разрушили временную границу и восточные немцы не стали бы ее восстанавливать, опасаясь, что дело может закончиться войной. Он был согласен с Клеем, что США не могут себе позволить отступать, но беспокоился, что Клей не сможет победить американскую бюрократическую структуру в Берлине, как ту, с которой он столкнулся в 1948 году. Лайтнер, как номер два в министерстве обороны, держал связь с генералом Уотсоном в Берлине и послом Доулингом в Бонне.
Восточногерманская полиция остановила «фольксваген»-седан Лайтнера, когда он переваливался через первый из трех зигзагообразных бетонных барьеров контрольно-пропускного пункта. Лайтнер отказался предъявить документы и потребовал, чтобы пригласили советского представителя. В большинстве случаев восточногерманские полицейские пропускали американских дипломатов. Однако, получив новые указания, восточногерманский офицер отказался пропустить Лайтнера. Сегодня воскресенье, сказал он, и он не сможет связаться с советским представителем, покажите документы или возвращайтесь обратно.
Лайтнер опять отказался предъявить документы. В это время Дороти менторским тоном читала лекцию восточному немцу, стоявшему с ее стороны, о правах четырех держав в Берлине. Спор разгорался, участники разговаривали на повышенных тонах, бушевали страсти, прошло уже сорок пять минут, а советский представитель так и не появился. Лайтнер решил, что пришло время обострить конфликт. Послав сигнал тревоги Клею со специального телефона, установленного в машине, Лайтнер приготовился прорываться через границу. Он знал, что восточногерманские полицейские получили приказ стрелять в соотечественников, пытавшихся сбежать, но решил, что они не будут стрелять в американского дипломата, пытающегося въехать на территорию Восточного Берлина. Это уже был бы акт агрессии.
«Послушай, – сказал Лайтнер полицейскому, стоявшему у его окна, – мне очень жаль, но я собираюсь отстаивать свое право входить в любой сектор Берлина». И он завел двигатель.
«Прочь с дороги! Мы въезжаем!»
Лайтнер резко двинулся вперед, заставив полицейских отпрыгнуть в сторону. Однако автомобиль мог проехать по бетонному лабиринту только на небольшой скорости. Полицейские догнали машину и заставили Лайтнера остановиться. На этот раз их было уже больше, и они смогли окружить машину.
Один из них сердито крикнул: «Можете ждать здесь русского хоть до утра, чтобы пожаловаться! Конечно, если он появится здесь!»
В это время Клей начал готовить наступление. Он отдал приказ взводу из состава 2-й боевой группы проделать пятнадцатикилометровый путь от казарм Макнейр в Лихтерфельде до КПП «Чарли» на двух бронетранспортерах. Следом за ними шли четыре танка М-48 и бульдозеры. Клей и военный комендант Берлина генерал Уотсон отправились в оперативный центр, так называемый «бункер», расположенный в подвале американского консульства на Клей-аллее, чтобы руководить операцией. В здании, построенном в 1936 году как резервный штаб люфтваффе, во времена воздушного моста Клей устроил оперативный центр, и теперь он собирался использовать его для той же цели.
Начальник американской военной полиции подполковник Роберт Сэболик, стоя в деревянной будке военной полиции, расположенной в ста метрах от места действия, наблюдал через бинокль за разворачивавшейся драмой у КПП «Чарли». Получив приказ держать все под контролем до прибытия подкрепления, Сэболик, занимавшийся в студенческие годы боксом, запрыгнул в машину, объехал первый барьер, подъехал ко второму и с визгом затормозил перед «фольксвагеном» Лайтнера. Несколько полицейских с криками отскочили в сторону – еще секунда, и они бы остались без ног.
Почти сразу четыре американских танка, грохоча, подъехали к толстой белой линии, отделявшей Восточный и Западный Берлин. Из будки выбежал американский полицейский и, подбежав к «фольксвагену» Лайтнеров, вежливо попросил Дороти выйти из машины. Она категорически отказалась покинуть машину.
Полицейский ушел в будку, но вернулся буквально через несколько минут. «Сожалею, но генерал Клей приказал, чтобы госпожа Лайтнер вышла из машины», – сказал он.
Как только полицейский увел Дороти с места действия, две группы по четыре пехотинца в каждой с винтовками М-14 с примкнутыми штыками заняли позиции по обе стороны Фридрихштрассе. Четыре американских танка с орудиями, наведенными на КПП, заставили отступить восточногерманских полицейских. Лайтнер включил первую передачу и медленно двинулся вперед. Преодолев последний барьер, он благополучно въехал на коммунистическую территорию. Командир взвода спросил Лайтнера, должны ли они остаться здесь.
«Нет», – сказал дипломат.
Впервые в послевоенном Берлине вооруженное пехотное подразделение из состава американских оккупационных сил вошло в советский сектор. Только для того, чтобы подтвердить свое право свободного прохода в любой сектор Берлина, Лайтнер проехал до следующего перекрестка, развернулся и поехал обратно – в сопровождении вооруженной охраны. Восточногерманская полиция оставалась на месте под прицелом танковых орудий.
Благополучно вернувшись на американскую территорию, Лайтнер приготовился еще раз проехать через границу. К этому времени по Берлину прокатился слух о конфронтации. Репортеры и фотографы собрались у границы, чтобы запечатлеть происходящее. Альберт Хемзинг, чувствуя, как от волнения сердце готово выскочить из груди, запрыгнул к Лайтнеру в машину. Сорокалетний представитель по связи с прессой немецкого происхождения после войны работал в съемочной группе в Париже, снимавшей фильмы в рамках плана Маршалла. Но он никогда еще не участвовал в такого рода приключениях. Позже восточногерманские полицейские утверждали, что от него пахло алкоголем.
Когда восточногерманские полицейские опять отказались его пропустить, Лайтнер махнул рукой из окна вооруженным солдатам и еще раз в их сопровождении въехал на территорию Восточного Берлина. В это время политический советник американской миссии Говард Триверс позвонил в советский штаб и попросил, чтобы к контрольно-пропускному пункту «Чарли» подъехал русский чиновник.
Когда Лайтнер вернулся из второй поездки в Восточный Берлин, у КПП появился советский представитель. После переговоров с восточногерманскими полицейскими и американцами русский принес извинения Лайтнеру за поведение восточных немцев. Лайтнер в третий раз проехал туда и обратно, и на этот раз за ним ехал еще один гражданский автомобиль. Казалось, американцы одержали полную победу.
Американские автомобили сделали что-то вроде круга почета: проехали по Фридрихштрассе до Унтер-ден-Линден, затем повернули налево у Бранденбургских ворот и, повернув еще раз налево, выехали на Фридрихштрассе. Приблизительно в 22:00 прибыл более высокопоставленный советский чиновник, заместитель политического советника полковник Лазарев. Он тоже принес извинения за поведение восточногерманских полицейских, объяснив, что у полицейских нет списка машин, которые они не должны проверять. После этого в довольно резкой форме он выразил недовольство «вооруженным вторжением» американцев в советскую зону.
Лайтнер с женой не попали на спектакль, но Клей поздравил их с собственным представлением. На следующее утро Клей сообщил представителям прессы, что «все выяснилось», это восточные немцы придумали не пускать союзников в Восточный Берлин.
Однако его победа была недолгой. В то же утро восточногерманское правительство издало приказ, согласно которому все иностранцы – кроме военных в форме – должны предъявлять удостоверения личности перед входом в «демократический» Берлин. Восточногерманское телеграфное информационное агентство АДН (ADN; сокращение от Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst) назвало воскресный инцидент «провокацией на границе», совершенной вечером неизвестным гражданским лицом (Лайтнер) с неизвестной женщиной (Дороти), к которым позже присоединился пьяный (Хемзинг).
Как только стали известны имена американцев, причастных к инциденту, по радио ГДР специально для американских солдат на английском языке было передано сообщение: «Не скоро министр Лайтнер сможет опять взять свою подругу, чтобы попытаться провести с ней ночь в Восточном Берлине в выходной день».
В Вашингтоне Кеннеди был вне себя от злости. Он пытался начать переговоры с Советами, и ему совсем некстати был этот инцидент. «Мы посылали его [Лайтнера] туда не для того, чтобы он посещал оперу в Восточном Берлине», – сказал президент, превратно истолковав событие и не принимая во внимание тот факт, что Лайтнер действовал согласно руководящим указаниям личного представителя президента.
Помимо этого, Кеннеди предстояло решить еще одну проблему. Четырьмя днями ранее Клей вынес на обсуждение вопрос о своей отставке, если ему не разрешат более активно участвовать в решении берлинского вопроса. Только предоставив Клею большую свободу действий, президент мог предотвратить политический катаклизм.
Американский военный штаб, Западный Берлин
Среда, 18 октября 1961 года
Растущее неверие в свои силы заставило генерала Клея предложить президенту рассмотреть вопрос о его отставке в первом личном письме, которое он написал Кеннеди после возвращения в Берлин.
Советник по вопросам национальной безопасности Банди предупреждал президента, когда тот остановил свой выбор на Клее, что он рискует устроить «еще одно дело Макартур – Трумэн» – Макартур был отправлен в отставку президентом Гарри Трумэном из-за разногласий во взглядах на ведение войны и необходимость ее расширения на территорию Китая. Макартур настаивал на начале широкомасштабной войны против Китая, выступал с критикой руководства страны, и Банди считал, что все указывает на то, что Клей тоже захочет действовать в Берлине более агрессивно, чем Кеннеди, в то время как президентская администрация продолжает идти на уступки по требованию Хрущева.
Клей изложил свои предложения в более мягкой форме, чем это сделал в свое время Макартур, поскольку понимал, что почти наверняка станут известны причины его отъезда из Берлина, а это только еще больше оживит критиков Кеннеди и приведет в уныние жителей Берлина.
Клей начал письмо с извинений за то, что оно слишком длинное, 1791 слово, и что не писал раньше. Он объяснил Кеннеди, что, по его мнению, многие инциденты, которые произошли за время его нахождения в Берлине, недостойны президентского внимания.
Прежде всего, написал он, «мы должны сохранять доверие берлинцев. В противном случае утечка капитала и бегство авторитетных граждан могут разрушить нашу позицию здесь, и утрата доверия к нам распространится по всему миру». Берлинцев мало заботит поведение французов и британцев, утверждал Клей, но «если мы не оправдываем ожиданий, они приходят в сильное смятение».
Клей не удержался от критики. Он косвенно раскритиковал отношение президента к закрытию границы 13 августа, считая, что это можно было оспорить, причем без особого риска. «Я не говорю, что мы должны были начать войну, чтобы остановить строительство Берлинской стены, но как минимум должны были ездить туда-сюда через границу на военных грузовиках и с помощью этих ограниченных действий препятствовать возведению стены».
Клей сообразил обвинить в этом не Кеннеди, а его берлинских подчиненных. «Я был поражен, увидев, что не предпринимается никаких действий, чтобы положить этому конец». Эти люди не склонны к риску, возмущенно заявил он. «Достаточно всего нескольких неодобрительных замечаний, чтобы отбить у них охоту высказывать независимые суждения». «Даже такие талантливые командующие, как [верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО Лорис] Норстед», находятся под влиянием союзников, не желающих предпринимать каких-либо действий в Берлине.
Затем Клей перешел к сути дела: «Насущная необходимость – прекратить посягательства на наши права» со стороны восточногерманских сил, «в то время как советские силы остаются в тени». Он был недоволен тем, что европейское командование «обходит вниманием» его советы относительно того, что США должны отвечать на незначительные инциденты. Он хотел, чтобы президент расширил его полномочия по такому вопросу, как проверка документов на восточногерманской границе, поскольку, по его мнению, этот вопрос был намного серьезнее, чем считали советники президента по вопросам внешней политики.
Генерал высказывал мнение с самоуверенностью человека, повлиявшего на историю путем непосредственной связи с предыдущим президентом. «Если мы хотим реагировать должным образом и быстро, местный командующий должен иметь право в случае непредвиденных обстоятельств действовать по моему совету и с моего согласия в пределах полномочий, которые вы передали нашему военному командованию в Европе».
Клей хотел, чтобы президент освободил генерала Уотсона, местного командующего, от ограничений, наложенных на него генералом Кларком (Гейдельберг) и генералом Норстедом (Париж). Хотя Клей признавал, что Соединенные Штаты не могут изменить ситуацию в Берлине с помощью военной силы, он тем не менее отметил, что «мы можем потерять Берлин, если не захотим пойти на некоторый риск, применив силу… совершенно очевидно, что мы достигли опасной точки».
Клей доказывал правильность предпринятых им действий, против которых, как он знал, выступали советники Кеннеди, – в частности, освобождение беженцев, прятавшихся в Штайнштюккене, и возобновление патрулирования автострады. Он утверждал, что «эти простые действия с нашей стороны ослабили здесь напряженность и восстановили уверенность». Он сказал президенту, что Соединенные Штаты должны отстаивать свое право свободного прохода через контрольно-пропускной пункт «Чарли» не ради себя, а потому, что этого ждут жители Западного Берлина. По этой причине, объяснил Клей, он «каждый день отправляет туда по возможности больше транспортных средств».
Клей, хотя президент не просил его об этом, изложил план военных действий на случай непредвиденных обстоятельств, как он это сделал для Трумэна после введения эмбарго. «Если нас остановят на шоссе [в Берлин], мы должны быстро незначительными силами выяснить намерения противника. Если нам придется отступить перед превосходящими силами противника, мы должны незамедлительно организовать воздушный мост и одновременно применить экономические санкции и блокаду в попытке вызвать ответное действие со стороны Советов. В Западном Берлине не будет паники, если мы одновременно предпримем эти шаги, и мы выиграем время для вас, чтобы вы могли спокойно принять окончательное решение».
Говоря об «окончательном решении», Клей имел в виду ядерную войну. Генерал спокойно заявил: «Если наши действия приведут к уничтожению и захвату вовлеченных сил, то совершенно очевидно, что советское правительство захочет начать войну».
Заканчивая эту тему, Клей пообещал в будущем писать более короткие письма. Он заверил, что для него большая честь служить Кеннеди в Берлине, но добавил: «Я понимаю, что никто полностью не осознает, что это значит». «Я не думаю, – написал он, – что вы послали меня сюда, чтобы я жил изолированно, и я знаю, что не могу как положено исполнять свои обязанности, если считается правильным соблюдать в Берлине чрезвычайную осторожность».
Далее он затронул тему отставки. Клей был известен тем, что время от времени угрожал отставкой, и практически достигал этими угрозами своей цели. Он считал, что иногда это единственный способ привлечь внимание вышестоящих начальников.
Тщательно взвешивая каждое слово, заверяя в преданности солдата главнокомандующему, Клей, однако, выразил сомнение в том, что может продолжать служить в существующих обстоятельствах. «Могу добавить, что я прибыл сюда не для того, чтобы добавить вам проблем. Я очень хочу, чтобы вы знали, что в трудные времена я никогда не позволю себе вызвать ненужные споры и если вы решите или я сочту нужным доложить вам, что моя служба здесь не приносит никакой пользы, то я уйду так, что вызову только ваше одобрение и не добавлю вам проблем».
Письмо заканчивалось словами:
«С глубоким уважением, готовый к услугам,
Люсиус Д. Клей,
генерал армии США в отставке».
Париж
Понедельник, 23 октября 1961 года
По распоряжению Кеннеди американский посол в Париже генерал Джеймс М. Гевин договорился о встрече с президентом Шарлем де Голлем, чтобы ответить на письмо французского лидера, полученное Кеннеди двумя днями ранее и вызвавшее у него сильное раздражение.
Шарль де Голль стал самым неудобным союзником, да еще и оказывал влияние на западногерманского канцлера Конрада Аденауэра, а Кеннеди, желая вовлечь Москву в новые переговоры по Берлину, хотел выступать единым фронтом с союзниками. Де Голль отказался даже принимать участие в предварительных совещаниях о возможностях новых переговоров с Советами, на которых присутствовали американцы, британцы и западные немцы, – не помогли ни просьбы, ни увещевания.
Де Голль неодобрительно отнесся к переговорам между Раском и Громыко, которые состоялись вскоре после закрытия границы, поскольку они создали впечатление, что США согласились с долгосрочным разделением Берлина и готовы обсудить с Москвой законность этого положения. Кроме того, он опасался, что Кеннеди готов обсуждать с Советами даже будущее Западной Германии. Французский лидер не видел обстоятельств, при которых переговоры с Хрущевым могли привести к чему-либо, кроме дальнейших уступок, которые нарушат политический баланс в Европе и «приведут к деморализации, с которой трудно бороться, в странах, входящих в наш альянс, особенно в Германии, и могут подвигнуть Советы на дальнейшее наступление».
В письме де Голля не звучало той отеческой теплоты, которую он выказал во время встречи с Кеннеди в Париже, где президент сделал остановку перед Венским саммитом с Хрущевым. «Должен сказать, господин президент, что сегодня, более чем когда-либо, я считаю, что проводимая в дальнейшем политика должна быть следующей: отказ от обсуждения изменения статус-кво в Берлине и существующей ситуации в Германии и, следовательно, отказ от ведения переговоров по этим вопросам до тех пор, пока Советский Союз не откажется от действий в одностороннем порядке и не прекратит угрозы». Жесткое, не вызывающее сомнений письмо.
Сразу же после 13 августа де Голль установил в общении с Кеннеди резкий тон. Уже через две недели после закрытия границы Кеннеди обратился к де Голлю с просьбой повлиять на мнение лидеров стран третьего мира, чтобы настроить их против коммунистов. Он также сказал, что хочет, чтобы Франция оказала поддержку в предпринимаемых им усилиях в организации новых переговоров по Берлину с Москвой.
Де Голль отклонил просьбу Кеннеди относительно стран третьего мира, заявив, что слаборазвитые страны «по большей части уже приняли решение, и вы знаете какое». Что касается переговоров с Советами, то де Голль ясно объяснил, почему он против этих переговоров: «из-за угроз, которыми они осыпают нас, и действий, которые они совершают в нарушение соглашений».
Французский президент предупредил Кеннеди, что сейчас, когда прошло так мало времени с августовского закрытия границы, любые переговоры будут рассматриваться Советами как «сигнал о нашей капитуляции» и, следовательно, это будет серьезный удар по НАТО. Хрущев, написал де Голль, будет использовать переговоры только для того, чтобы оказать большее давление на берлинцев.
Несмотря на двухмесячные усилия американских дипломатов и личные письма Кеннеди, французский лидер не отступил от своей позиции. 14 октября Кеннеди сообщил де Голлю, что добился «прорыва» в отношениях с Москвой: Хрущев согласился на переговоры с союзниками по Берлину, не затрагивая темы Восточной Германии. Кеннеди сообщил, что надеется в середине ноября организовать встречу министров иностранных дел союзников, чтобы подготовиться к новым переговорам с Москвой. Кеннеди заверил де Голля, что «у нас нет намерения уходить из Берлина и мы не собираемся отказываться от своих прав на переговорах». Однако Кеннеди сказал, что союзники должны приложить дипломатические усилия, пока Берлин не вошел «в стадию глубокого и драматичного кризиса». Он хочет, чтобы союзники четко обозначили цель и провели военные приготовления «перед окончательной конфронтацией».
Де Голль поднял на смех Кеннеди, сказавшего, что Хрущев пошел на уступку по Восточной Германии. Он отмахнулся от страха Кеннеди перед войной, заявив, что Хрущев «не создает впечатления, что Кремль действительно готов метать молнии. Дикий зверь, который готовится к прыжку, не выжидает так долго».
Учитывая это, посол Гевин понимал, что ему предстоят трудные переговоры. Кеннеди выбрал Гевина для работы в Париже отчасти из-за того, что Гевин относился к тем немногим людям, чьи действия во время войны заслужили уважение де Голля. Гевин был самым молодым дивизионным командиром армии США во время Второй мировой войны и получил прозвище Прыгающий генерал за свою готовность, несмотря на занимаемое положение, совершать вместе со своими солдатами боевые прыжки с парашютом [91].
Несмотря на это, де Голль разговаривал с Гевином со свойственной ему снисходительностью.
Де Голль сказал Гевину, что хотя не станет ничего делать, чтобы помешать Соединенным Штатам провести ноябрьское совещание с союзниками, но Кеннеди придется проводить его без участия французов.
Гевин спросил, не считает ли де Голль, что лучше принять участие и дать понять, чтобы у Советов не осталось сомнений, что союзники «будут участвовать в военных действиях», если Советы продолжат следовать нынешним курсом.
Де Голль ответил, что, по его мнению, у Советов есть только два варианта и ни один не требует переговоров. Или Советы не хотят начинать всеобщую ядерную войну, и тому, по его мнению, есть доказательства – и тогда нет никакого смысла спешить с переговорами, или они действительно хотят начать войну, и в этом случае союзники должны отказаться от переговоров, поскольку тогда они «будут вести переговоры в условиях непосредственной угрозы».
«Нельзя вести переговоры с людьми, которые угрожают войной», – заявил де Голль Гевину. Убедительно отстаивая свою точку зрения, де Голль сказал, что союзники не могут вести переговоры с Советами, «когда они угрожают атомной бомбой, построили стену в Берлине, угрожают подписать договор с Восточной Германией, не гарантируя сохранения доступа в Берлин, и вообще позволяют себе бряцать оружием».
Как и его предшественники в Белом доме, Кеннеди терял терпение с де Голлем, который был готов рисковать жизнями американцев ради Берлина. Кеннеди приходилось одновременно вести борьбу с непредсказуемыми русскими, с не желающими сотрудничать союзниками и отставным генералом, который играл по собственным правилам, а теперь еще и пытался вмешиваться в дипломатию.
Американский военный штаб, Западный Берлин
Понедельник, 23 октября 1961 года
Клей, ободренный успехом с военными эскортами, решил, что пришло время дать Вашингтону совет, как можно совместить стремление к переговорам с демонстрацией силы. Он высказал свои соображения в телеграмме государственному секретарю Раску, одному из своих основных противников в Вашингтоне.
Клей указал, что согласен с мнением Раска, что вопрос предъявления документов, удостоверяющих личность, на восточногерманских пограничных пунктах не является «весьма важным делом», однако заявил, что Соединенные Штаты должны все вернуть на прежнее место. «Я считаю, – написал он Раску, повторив слова, сказанные президенту, – что мы не можем позволить себе согласиться с лишением прав до переговоров, поскольку тогда мы начнем переговоры только с оставшимися правами, которые в случае необходимости будем отстаивать с помощью силы».
Клей «посоветовал» Раску срочно вызвать советского посла и сообщить ему, что Соединенные Штаты не признают новый пограничный режим и отказываются начинать любые переговоры по Берлину с русскими, пока восточные немцы не отменят приказ. Он утверждал, что это укрепит позицию США в Берлине, послужит проверкой готовности Хрущева к переговорам и сблизит мнение США относительно переговоров по Берлину с мнением французов и западных немцев.
Клей старался доказать Раску, что намного разумнее использовать пограничный спор в качестве дипломатического рычага, чем продолжать его военные эскорты, поскольку он понял, что в конечном итоге столкнется с превосходящими силами Советов. Клей объявил, что прекратит свои выступления у контрольно-пропускного пункта «Чарли», чтобы Раск мог попробовать решить вопрос дипломатическим путем. «Сегодня мы не будем подвергать испытанию КПП на Фридрихштрассе, дождемся вашего мнения по этому вопросу, – написал Клей, а затем добавил: – Но ответ ждем не позже завтрашнего дня».
Овальный кабинет, Белый дом, Вашингтон, округ Колумбия
Вторник, 24 октября 1961 года
Западногерманский посол Вильгельм Греве считался в Белом доме самым неприятным членом иностранного дипломатического корпуса. Не обладавший чувством юмора, надменный Греве настолько откровенно демонстрировал презрение к так называемым «создателям новых рубежей» Кеннеди, что его за это упрекнул даже Аденауэр.
Учитывая, что днем раньше Гевину не удалось уговорить де Голля, Кеннеди не ждал ничего хорошего от назначенной на утро в Овальном кабинете встречи с Греве. Президент был раздражен тем, что в американские и европейские СМИ просочились сведения о том, что его желание начать новый раунд переговоров по Берлину встретило противодействие со стороны французов и западных немцев.
Посол Греве обошелся без легкой светской беседы и сразу сообщил о беспокойстве канцлера по поводу того, что Кеннеди, похоже, забыл об обязательствах перед Западным Берлином. В своей стране Греве был одним из ведущих специалистов по международному праву. Он участвовал в переговорах об окончании оккупации союзниками Западной Германии и играл ведущую роль в создании так называемой «доктрины Хальштайна», которая отрицала возможность установления дипломатических отношений со странами, признавшими Восточную Германию.
Греве сказал, что Аденауэр готов начать войну, чтобы защитить свободу Берлина. С этой целью канцлер увеличил военный бюджет, укрепляет вооруженные силы и формирует коалиционное правительство. Однако, продолжил Греве, канцлер обеспокоен планами Кеннеди относительно наращивания обычных сил в Европе. Он считает, что «это было бы убедительно только в том случае, если бы мы были готовы в случае необходимости к нанесению упреждающего ядерного удара».
Мы опасаемся того, заметил Греве, что надежда союзников на обычные вооружения может привести к ситуации, когда отсутствие угрозы применения ядерного и других высокоэффективных видов оружия подвигнет советские войска «перейти границу и занять значительные территории» Западной Германии, и привел в качестве примера ситуацию в Китае в 1947 году. «Решение использовать ядерное оружие ясно даст понять советскому правительству, что целью будет Советский Союз», – сказал Греве.
Кеннеди не выдавал растущего раздражения, выслушивая нотации союзников о разного рода рисках, которым он подвергает американцев ради Берлина. Он солгал Греве, заявив, что хочет встретиться с Аденауэром, встреча запланирована на середину ноября, и надеется, что они смогут найти понимание в отношении политики с Советами. Президент отметил, что «сожалеет» о появившихся в печати сообщениях относительно существующих между ними разногласиях в связи с переговорами с Москвой. Он хотел понять, что Хрущев понимает под свободным Западным Берлином. «Я чувствовал бы себя намного лучше, если бы мы пришли к договоренностям, не доходя до ядерной стадии», – сказал он Греве.
Кеннеди пожаловался Греве, что де Голль «очевидно, считает каждый шаг в направлении Советов проявлением слабости».
Греве знал, что Аденауэр считает точно так же. Аденауэр, как и де Голль, был крайне недоволен переговорами между Раском и Громыко. Кроме того, сказал Греве, Аденауэр беспокоится, что Соединенные Штаты забыли об обещании поддержать объединение Германии, поощряют установление более тесных контактов между двумя Германиями.
Кеннеди, уставший выслушивать одни и те же жалобы, раздраженно ответил, что США и Западная Германия «должны искать новые подходы» к Советам. Кеннеди заявил, что не видит перспективы объединения в обозримом будущем и не думает, что союзники должны твердо придерживаться своего решения относительно Западного Берлина. Президент искал способ улучшить ситуацию и хотел, чтобы Аденауэр помог ему в этом.
Отражая презрительное отношение Аденауэра к «новым подходам» Кеннеди, Греве повторил мнение де Голля, что практически нет возможности договориться с Советами, поскольку в настоящий момент Москва будет добиваться новых уступок, а Запад отчаянно сопротивляться. Он доступно объяснил Кеннеди, как отразились уступки, сделанные президентом, на немцах и Аденауэре.
До 13 августа, сказал Греве, границу ежедневно пересекали по различным причинам в среднем полмиллиона человек – родственники, друзья и рабочие, которые тесно связывали два города, Восточный и Западный, и их население. Теперь границу ежедневно пересекает приблизительно пятьсот человек. Из-за «сдержанной» реакции Аденауэра на строительство Берлинской стены, объяснил Греве Кеннеди, чуть больше месяца назад канцлер потерял большинство и чуть не проиграл выборы.
Кеннеди напомнил Греве, что альтернативой переговоров с Советами по Берлину является «реальная перспектива вооруженного конфликта». Соединенные Штаты не отдадут Западный Берлин, сказал президент, но он хочет быть уверен, что, «когда мы дойдем до конца дороги», никто не задастся вопросом: а не лучше ли было решить проблемы путем переговоров, а не с помощью силы? Кеннеди раздраженно сказал Греве, что вместо того, чтобы только критиковать предложения США, Германия лучше бы высказывала «свои предложения, которые считает приемлемыми».
Греве, которого упрек Кеннеди задел за живое, ответил, что западные немцы тоже ищут способы изменить ситуацию в Берлине к лучшему, но считают, что в настоящий момент это не представляется возможным.
Холодно попрощавшись, Греве вернулся в посольство и отправил Аденауэру очередную телеграмму с плохими новостями.
Государственный департамент США, Вашингтон, округ Колумбия
Вторник, полдень, 24 октября 1961 года
Секретарь Раск пришел в крайнее раздражение оттого, что генерал Клей давал ему совет, о котором его никто не просил, относительно ведения переговоров с Москвой, и единолично принимал решения на берлинской границе. Фой Колер, начальник группы специалистов для решения берлинской задачи, позвонил от имени Раска в девять вечера по берлинскому времени Алану Лайтнеру для того, чтобы вырвать из-под влияния генерала Клея.
Во время разговора с Лайтнером Колер доказал абсурдность совета Клея, что Раск должен использовать пограничный конфликт в качестве рычага для переговоров с Москвой. Кроме того, он напомнил Лайтнеру, что тот должен отчитываться перед Раском, а не перед Клеем. Позже, сообщая Раску о беседе с Лайтнером, Колер сообщил, что «Лайтнер отделывался пустыми словами, говорил одно, а думал другое».
Лайтнер заверил Колера, что его роль в инциденте с переходом границы, случившемся два дня назад, была «неожиданной и он чувствовал себя неловко». Никогда еще за всю дипломатическую карьеру Лайтнер не сталкивался с таким вниманием со стороны средств массовой информации, от гнусных инсинуаций в коммунистической прессе, что он якобы пересек границу, чтобы встретиться с любовницей в Восточном Берлине, до чрезмерных восхвалений в западноберлинских газетах, что главный американец в Берлине наконец-то продемонстрировал восточным немцам намерения Соединенных Штатов.
Колер сообщил, что в США только и разговоров, что о Лайтнере, но Государственный департамент старался избегать гласности, и для его сотрудника это не было комплиментом. Но, сказал Колер, его гораздо больше волнует решение, которое Клей принял относительно пересечения границы без разрешения Вашингтона; он назвал его «серьезной тактической ошибкой Клея». По его мнению, появление советского чиновника на границе 22 октября доказало, что Советы, а не восточные немцы отвечают за свободный проход американцев в Восточный Берлин.
Лайтнер принес извинение своему руководству в Вашингтоне, что не положил конец военным эскортам, объяснив, что решение принял «человек, имевший большие, чем он, полномочия», а именно генерал Клей. В то же время Лайтнер хотел знать, что Раск думает об остроумной идее Клея пригласить советского посла и сообщить ему, что Соединенные Штаты будут отказываться от переговоров с Россией до тех пор, пока восточные немцы не отменят приказ об ужесточении пограничного контроля.
Колер ответил, что предложения Клея рассматриваются, но много других факторов будут влиять на принятие решения о том, когда и как вести переговоры с русскими. Раск хотел, чтобы Клей продолжил свои испытания с «вооруженными и невооруженными эскортами американских транспортных средств», если восточные немцы будут продолжать отказывать американцам в праве свободного прохода через границу.
Таким образом, генерал Клей получил ясные инструкции возобновить свои эскорты. Клею четко указали его место. Раск не хотел, чтобы генерал вмешивался в вопросы, связанные с американо-советскими переговорами, поскольку ничего не понимал в дипломатии.
Контрольно-пропускной пункт «Чарли», Западный Берлин
Пятница, 27 октября 1961 года
Первый лейтенант армии США Верн Пайк в оливково-зеленом армейском шлеме, на котором спереди были две белые буквы МР (Military Police – военная полиция), с винтовкой М-14 с примкнутым штыком, глядя на орудийные стволы вражеских танков, мучился двумя вопросами.
Двадцатичетырехлетний американский военный полицейский беспокоился за свою двадцатилетнюю жену Ренни, беременную близнецами. Пайк решил не отправлять ее домой на Рождество, поскольку молодоженам не хотелось надолго расставаться, но теперь это решение казалось ему безответственным.
Пайк понимал, что разворачивающийся перед ним конфликт может перерасти в войну – возможно, даже ядерную – и унести жизни его самого, его молодой жены и их будущих близнецов, не говоря уже о значительной части планеты. Все, что требуется, думал он, – это один щелчок пальцем, русского или американца, у которого откажут нервы.
Десять американских танков М-48 «Паттон» [92] стояли на Фридрихштрассе напротив такого же количества советских танков Т-54 на расстоянии приблизительно ста шагов.
Открытая проверка сил началась несколькими часами ранее, когда американские танки с грохотом подъехали к границе, как они это проделывали уже два дня, чтобы выступить в качестве военного эскорта при проезде гражданских машин в Восточный Берлин.
Ровно в 16:45 после очередной успешной операции американским танкам поступил приказ возвращаться на авиабазу Темпельхоф. Пайк, чей взвод военной полиции контролировал контрольно-пропускной пункт «Чарли», и майор Томас Тири, командир танковой группы, выкурив по сигарете, зашли погреться в аптеку на углу Фридрихштрассе и Циммерштрассе. Какое-то время они молча смотрели в окно, а потом, не веря своим глазам, посмотрели друг на друга.
«Ты видишь то же, что и я?» – спросил Тири Пайка.
«Сэр, это танки! – тревожно воскликнул Пайк. – И они не наши». Он прикинул, что танки находятся примерно в семидесяти – ста метрах от них.
Танки выглядели как новые советские танки Т-54, но без опознавательных знаков. Еще удивительнее было то, что танкисты были в черной форме без знаков различия. Если это были советские солдаты – а трудно было представить, что это кто-то другой, – то они явно не хотели быть опознанными.
«Верн, – сказал Тири, – я не знаю, чьи это танки, но мчись в Темпельхоф и возвращай мои танки назад».
«Есть, сэр», – взглянув на часы, ответил Пайк. Танки отъехали десять минут назад, так что у него не займет много времени догнать их. Он вскочил в свой белый полицейский «форд» и, включив сирену и мигалку, понесся по оживленной в этот час трассе, лавируя между машинами. Он догнал танки, когда они уже подъезжали к своей базе.
Пайк обогнал танки, показывая, чтобы они остановились, и крикнул в смотровую щель первого танка, которым управлял капитан Боб Лэмфир, который жил в том же доме, что и Пайк, в Берлине: «Сэр, у нас проблемы на контрольно-пропускном пункте «Чарли»; следуйте за мной обратно на максимально возможной скорости».
«О-го-го!» – в восторге выкрикнул Лэмфир, приказав танкам разворачиваться и двигаться на границу. Позже Пайк вспоминал, как росло в нем нервное напряжение по мере приближения к КПП: «В Берлине в пятницу в пять часов вечера самый час пик, я мчусь на своей небольшой машине к КПП «Чарли» под звуки сирены. И только вижу, как берлинцы разбегаются в стороны, освобождая дорогу».
Американские танки вернулись к месту действия в 17:25. К этому времени советские танки встали на стоянку у одного из главных бульваров Берлина, Унтер-ден-Линден. То, что происходило на Фридрихштрассе, если бы не скрытая опасность, напоминало сцену из французской комедии с советскими актерами, орущими за занавесом, в то время как американские актеры, запыхавшись, вбегают на сцену. Ожидая, что противники могут вернуться, американские танки заняли оборонительную позицию.
Примерно через сорок минут, в самом начале седьмого, танки, которые опознали как советские, вернулись. Корреспондент «Вашингтон пост», стоявший в толпе десятков других корреспондентов, собравшихся на перекрестке, заявил, что «впервые произошло открытое противостояние вооруженных сил двух союзников величайших мировых держав».
Что касается отсутствия опознавательных знаков, то корреспондент радио Си-би-эс Даниэль Шорр назвал эти танки «позаимствовав термин из Оруэлла… не-танками. Или мы можем однажды услышать, что это были просто русскоговорящие добровольцы, которые купили несколько резервных танков и сами же приехали на них». Шорр описал любопытную сцену: на Западе американские солдаты сидели на танках, курили, разговаривали и ели что-то из котелков. Жители Западного Берлина, собравшиеся за заградительными барьерами, покупали у уличных торговцев сухие крендельки, посыпанные солью, и бросали цветы солдатам. Западная часть сцены была ярко освещена мощными прожекторами, установленными на коммунистической стороне, – попытка запугать, используя превосходство в электрической мощности. На восточной части сцены в темноте на танках, очевидно советских, сидели одетые в черную форму солдаты. «Какая иллюстрация для исторических книг!» – воскликнул Шорр.
Клей приказал найти доказательства, что это советские танки, для того, чтобы сообщить об этом в Вашингтон. Это был не праздный интерес: для США опасность заключалась в том, что противоборство с советскими танками могло перерасти во всеобщую войну.
Пайк и его водитель Сэм Маккарт, выполняя приказ по установлению происхождения танков, сели в армейский седан и, пробравшись сквозь баррикады, проехали мимо танков, припарковались и пошли пешком обратно. В этом состоял определенный парадокс открытого противостояния: обе стороны продолжали соблюдать свободу передвижения военных транспортных средств на границе, поэтому-то Пайк смог беспрепятственно въехать на территорию Восточного Берлина.
Пайка удивила нелогичная расстановка танков – два-три-два. При такой расстановке последний ряд танков лишался возможности стрелять по врагу. Кроме того, они были легкой мишенью. Пайк подошел к заднему танку, но не увидел ничего, что бы помогло ему понять, чьи это танки. Тогда он залез на танк и спустился в водительский отсек. Там он нашел доказательства, что это советский танк: надписи на панели управления были на кириллице, и лежала газета на русском языке – Пайк обладал поверхностным знанием русского языка. «Эй, Маккарт, посмотри, что я нашел», – сказал Пайк водителю, показав ему газету, которую прихватил в качестве доказательства.
Экипажи танков, примерно пятьдесят человек, сидели поблизости на земле и, очевидно, уже знали о цели их появления. Пайк подошел достаточно близко, чтобы понять, что они говорят по-русски. Когда один из офицеров заметил его, Пайк повернулся к Маккарту и сказал: «Давай сматываться!»
По возвращении они доложили подполковнику Сэболику, начальнику Пайка, что танки советские. Когда Пайк рассказал, как он это узнал, и показал газету, Сэболик, не веря своим ушам, воскликнул: «Что ты сделал?»
Подполковник позвонил в центр по операциям в случае непредвиденных обстоятельств и передал трубку Пайку, чтобы он сам доложил специальному представителю Кеннеди.
«Чьи это танки?» – спросил Клей.
«Советские, сэр», – ответил Пайк.
«Как вы узнали?» – задал вопрос Клей.
Когда Пайк объяснил, на той стороне линии воцарилось молчание. Пайк почувствовал, словно умел читать мысли на расстоянии, «о мой бог, лейтенант начал третью мировую войну».
Пайк отважился выполнить задание отчасти потому, что был молод и, как ему казалось, неуязвим, и, кроме того, потому, что американские солдаты считали, будто моральный дух, дисциплина и боевая готовность советских солдат находятся на низком уровне, и испытывали по отношению к ним чувство превосходства. Пайк, проезжая по автостраде в Западный Берлин, видел, как советские солдаты продавали ременные пряжки, форменные головные уборы и даже обменивали медали на журналы «Плейбой», жевательную резинку и, главное, на сигареты.
Иногда американские солдаты бросали горящие сигареты на землю только для того, чтобы понаблюдать, как русские бросаются наперегонки, чтобы подобрать их и сделать несколько затяжек. Позже Пайк вспоминал их стоптанную обувь и поношенную форму; Пайку показалось, что форма перешла им от предыдущих новобранцев. Он рассказал друзьям, что «от их тел шел запах, как из сортира».
С таким же пренебрежением Пайк относился к их танкам, обладавшим плохой маневренностью. Пайк отметил, что водителями в основном были представители азиатских меньшинств, поскольку только они могли поместиться в слишком тесной и узкой башне Т-34. Пайк и его товарищи смеялись, наблюдая, как подъезжали первые советские танки и стоявшие на дороге офицеры отчаянно размахивали руками, показывая, как и куда им следует встать.
Но Пайку было совсем не смешно, когда он думал о том, что советские солдаты могут «просто снести нас с пути, если решат захватить западную часть города». Пайк вспомнил инструктивное заседание, когда ему сообщили об обязанностях на дежурстве в Западном Берлине.
«Вы – первая линия обороны, – сказал командир. – Лучший способ выбраться оттуда, если начались действия, надеть на левую руку повязку Strassenmeister (уборщика улицы), взять метлу и начать подметать автостраду, двигаясь в Западную Германию. Это единственный способ выбраться живым из Берлина».
Тогда Пайку это показалось смешным, но теперь ему было не до смеха. Он просчитывал возможные варианты, топая ногами, чтобы согреться. Американские или советские лидеры передумают и отступят с поля боя, или кто-нибудь выстрелит, и начнется война. В любом случае он не мог представить себе беременную жену Ренни, хватающую метлу, чтобы с ее помощью выбраться из Берлина.
В какой-то момент восьмидесятилетняя женщина, жительница Восточного Берлина, решила воспользоваться неразберихой и просто перейти границу. Всего десять метров отделяло ее от сына, стоявшего на западной стороне, который кричал, чтобы она шла ни на что не обращая внимания, хотя на ее пути стоял восточногерманский полицейский. Толпа в ужасе наблюдала за сыном, который кричал: «Мама, давай, пожалуйста!»
Офицер, который получил приказ стрелять в тех, кто пытается сбежать, неожиданно проявил милосердие, отойдя в сторону вместе с собакой. Старуха, неуверенно ступая, сделала последние десять шагов и под радостные крики зрителей упала в объятия сына.
На капиталистическом Западе купались в свете шести мощных прожекторов, установленных восточными немцами днем раньше, четыре американских танка М-48, первая пара на белой нарисованной черте на Фридрихштрассе, разделяющей Восток и Запад. Еще два танка застыли чуть дальше на Фридрихштрассе, и четыре танка стояли наготове в шести километрах. Рядом расположились пять бронетранспортеров и пять джипов с военными полицейскими в бронежилетах и с винтовками с примкнутыми штыками.
Американский гарнизон, численностью 6500 человек, был приведен в состояние боевой готовности. Французские солдаты – три тысячи человек – получили приказ оставаться в казармах. Британцы установили рядом с Бранденбургскими воротами, приблизительно в шестистах метрах от них, два противотанковых орудия и направили вооруженные патрули к заграждениям из колючей проволоки. Репортер «Нью-Йорк таймс» подробно рассказал читателям о событиях того дня. «Выглядело так, словно два шахматиста пытались сразиться в центре доски, на которой царил хаос: генерал Клей двигал американские фигуры, а, по-видимому, маршал Иван Конев, недавно назначенный советский командующий в Восточной Германии, двигал советские фигуры… Как личный представитель президента Кеннеди, генерал Клей занимал особое место… и было ясно, что благодаря этому особому положению у него решающий голос в принятии решений».
Пайк и его военные полицейские стремились противостоять коммунистам, расстроенные тем, что 13 августа им было приказано оставаться в казармах. Спустя три недели после закрытия границы военные полицейские беспомощно наблюдали, как восточногерманские строители заменяли заграждения из колючей проволоки бетонными блоками.
Пайк пытался добиться от начальников распоряжений, что ему делать в данной ситуации, надеясь, что ему прикажут помешать возводить стену, но услышал в ответ: американские солдаты должны сидеть сложа руки и молча наблюдать за строительством стены.
Позже Пайк вспоминал, как вечером 1 сентября один из восточных немцев, строивших стену, посмотрел по сторонам, чтобы убедиться, что никто не обращает на него внимания, и сказал, глядя на Пайка через колючую проволоку: «Лейтенант, видишь, как я медленно работаю? Чего вы ждете?» Он хотел, чтобы американцы вмешались.
Позже полицейский, стоявший за рабочим, сказал почти то же самое: «Видишь, лейтенант, мой автомат не заряжен. Чего вы ждете?» У восточногерманских офицеров пограничной полиции, дабы избежать случайной перестрелки, были незаряженные автоматы, и офицер поделился этой информацией с Пайком, чтобы американцы знали, что могут нанести удар.
Пайк доложил об этом вышестоящему начальству, но ему опять приказали проявлять сдержанность.
Приказ о начале военных эскортов в прошедшее воскресенье как нельзя больше способствовал укреплению боевого духа. Полицейские Пайка должны были дежурить на границе, быть бдительными и стрелять в коммунистических пограничных полицейских, если те откроют огонь. Вооруженные винтовками, прикрываемые с тыла танками, они неоднократно сопровождали гражданские машины союзников и туристические автобусы через зигзагообразные пограничные барьеры.
Все шло нормально до тех пор, пока не появились советские танки. Теперь силы обеих сторон замерли на месте, а командующие скрылись в штабах – одни в восточной части города, другие в западной части города, – ожидая указаний соответственно из Вашингтона и Москвы.
Пайк заступил на дежурство. Впереди была длинная холодная ночь. Его личные вещи едва ли могли помочь остановить советские танки и пехоту: нарукавная повязка военной полиции на левой руке, санитарная сумка, комплект столовых принадлежностей, наручники, полицейская дубинка, автоматический пистолет 45-го калибра и винтовка. Рассматривая в бинокль молодые испуганные лица противника, Пайк с беспокойством думал о том, «что случится, если один из этих идиотов откроет по нас огонь – и открытое противостояние превратится в перестрелку».
Как раз в то время, когда начали подходить советские танки, Клей получил новые распоряжения из Вашингтона с требованием отступить. Раск предостерег Клея от следования агрессивным курсом, подтвердив то, что уже говорил ему три дня назад. Фой Колер добавил примечание к телеграмме Раска, предназначенное для того, чтобы убедить Клея, что любое обращение к Кеннеди будет пустой тратой времени: «Одобрено [Раском] после рассмотрения президентом». За эти годы Клей неоднократно наблюдал проявления политической мягкотелости, но это было уже чересчур.
«Мы, естественно, давно решили, что вход в Берлин не относится к жизненно важным интересам, которые бы требовали решительного применения силы для защиты и сохранения позиции, – написал Раск. – По этой причине, согласившись со строительством стены, мы должны честно признаться себе, что тем самым признали факт, что Советы смогли, как они ранее сделали в других местах под своим эффективным контролем, изолировать своих упрямых подданных».
В телеграмме Раска ясно говорилось: Клей должен рассматривать отсутствие реакции Кеннеди на закрытие границы как фактическое признание того, что Советы могут делать все, что пожелают на территории, которую в настоящее время контролируют. Раск подчеркнул, что союзники не поддержат более жестких мер, «особенно по вопросу предъявления удостоверений личности».
Раск сообщил Клею, что Кеннеди испытывает трудности, убеждая союзников в «реальной перспективе» вооруженного конфликта за Западный Берлин. Хотя правительство Кеннеди хотело продемонстрировать незаконность восточногерманских и советских действий 13 августа, объяснил Раск, «мы хотели, чтобы это превратилось не в демонстрацию бессилия, а привлекло внимание общественности всего мира к неправомерным действиям и пробудило надежды жителей Западного Берлина и всех западных немцев, которые испытали огромное разочарование».
Никогда еще Клей не был так уверен, что политика умиротворения только раззадорит русского медведя. Вот почему в тот же день он отправил телеграмму, призвав «совершить набег», чтобы разрушить часть стены. Он считал возможным, что восточные немцы полностью перекроют Фридрихштрассе.
В телеграмме он в общих чертах обрисовал план действий. Танки с навесным бульдозерным оборудованием на законном основании въезжают в Восточную Германию, что формально закреплено четырехсторонними соглашениями, а на обратном пути демонстративно проламывают часть стены. 26 октября верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО Норстед разрешил генералу Уотсону использовать «данный план [Клея] по сносу пограничных заграждений на Фридрихштрассе», если восточные немцы полностью заблокируют перекресток. Он приказал Уотсону составить альтернативный план, согласно которому танки должны будут одновременно «снести заграждения на Фридрихштрассе и в нескольких других местах».
При этом он добавил: «Этот альтернативный план может быть введен в действие только с моего особого распоряжения».
Фактически новая телеграмма Раска зарубила планы Норстеда и Клея. «Я не вижу, какую национальную цель преследует предложенный силовой набег», – написал Раск. Он добавил, что днем обсудит с президентом предложение Клея использовать танки для сноса заграждений.
Однако, сообщил Раск, учитывая важность сохранить «вместе трех основных союзников, мы, скорее всего, не сможем договориться по данному вопросу». Раск выразил признательность Клею за его совет, но объяснил, что в настоящее время важнее удержать союзников «перед лицом серьезной советской угрозы, одновременно оказывая давление на Советы против дальнейших односторонних действий».
Вашингтон лишил свободы действий знаменитого генерала Люсиуса Клея, создателя берлинского воздушного моста, когда советские танки приставили стволы своих орудий к его горлу.
Еще никогда он не чувствовал такого бессилия.
Кремль, Москва
Пятница, 27 октября 1961 года
Маршал Конев сообщил Хрущеву, что американские танки выдвинулись к границе и, похоже, готовы приступить к главной операции. Он уже представил в качестве доказательств фотографии об учениях, проводимых Клеем в лесу, где танки сбивали заграждения, и считал, что Хрущев должен понимать, что американцы могут попытаться уничтожить то, чего удалось добиться 13 августа.
Хрущев, который к тому времени лично руководил из Москвы действиями в Берлине, несмотря на продолжавшийся съезд партии, уже приказал отправить в Берлин еще двадцать три танка. «Поставьте наши танки на соседней улице, – приказал он Коневу, – и пусть они не выключают моторы. И пустите грохот и рев танков через громкоговорители».
Конев предупредил Хрущева, что если он бросит вызов американцам, то американские танки «могут перейти в наступление». Он опасался, что импульсивный Хрущев, преувеличивая советские возможности, может начать войну.
«Это едва ли, – ответил Хрущев – если только американцы не ослепли от ненависти».
Зал Кабинета, Белый дом, Вашингтон, округ Колумбия
18:00, пятница, 27 октября 1961 года
Помощник вручил генералу Клею сообщение об увеличении советских танков на контрольно-пропускном пункте «Чарли» во время его телефонного разговора с президентом Кеннеди, который находился в Зале Кабинета на заседании президентской команды по национальной безопасности. К этому моменту, похоже, весь Вашингтон был против Клея, за исключением Кеннеди, который еще не высказал своего отношения к генералу.
Клей заверил президента, что контролирует ситуацию в Берлине. Он настойчиво утверждал, что решение Советов выдвинуть еще двадцать танков свидетельствовало всего лишь о математических расчетах, проведенных Советами, – они просто хотели сравняться с американцами.
Однако Советы были напуганы демонстрацией силы у контрольно-пропускного пункта «Чарли» и возможностью дальнейшей эскалации конфликта, и Хрущев впервые привел свои ядерные силы в состояние боевой готовности. Советский лидер не был уверен, что ситуация не выйдет из-под контроля, и подготовился к разным вариантам развития событий.
Клей ясно высказал свое мнение: «Если Советы не хотят войну за Берлин, мы не можем начинать ее. Если они начнут ее, мы ничего не сможем сделать, чтобы остановить ее». Генерал был готов ручаться, что Советы не хотят начинать войну, и считал, что Соединенные Штаты должны отбросить их. Но президент не хотел рисковать.
Клей не знал, что демонстрация силы у контрольно-пропускного пункта «Чарли» настолько лишила президента присутствия духа, что он отправил брата решить вопрос с его постоянным собеседником на протяжении последних шести месяцев, советским агентом Георгием Большаковым. Одновременно он задействовал второй, более старый канал через посла Томпсона в Москве, как уже делал перед Венским саммитом.
Президент не отказывался от Большакова, поскольку этот канал доказал свою успешность. Переговоры Бобби с Большаковым перед Веной не смогли подготовить его к расставленным Хрущевым ловушкам по Берлину, но в критический момент Большаков был самой быстрой и непосредственной связью с Хрущевым.
Бобби знал, как немедленно организовать встречу с Большаковым, причем так, чтобы об этом не прознали газетчики. Джеймс В. Симингтон, помощник генерального прокурора, думал, что его босс, Роберт Кеннеди, испытывает расположение к «Георгию» отчасти из-за своей «склонности к безобидным фиглярам». Они встречались каждые две недели или около того, и Бобби обсуждал с Большаковым «большинство важных вопросов, связанных с Советским Союзом и Соединенными Штатами».
Брат президента сам установил порядок общения и позже сокрушался, что «к сожалению – как глупо, – я не записывал многие из обсуждаемых вопросов. Я просто пересказывал брату, о чем мы говорили, и он действовал в зависимости от этой информации. Я думаю, иногда он сообщал эту информацию Государственному департаменту, а иногда умалчивал о ней».
Первое совещание относительно возрастания напряженности на границе у контрольно-пропускного пункта «Чарли» между Бобби Кеннеди и Большаковым состоялось 26 октября в 17:30, за день до появления советских танков на перекрестке Фридрихштрассе. Согласно воспоминаниям брата президента, вторые, решающие переговоры состоялись 27 октября в 23:30 по вашингтонскому времени, или 28 октября в 5:30 по берлинскому времени, когда в холодный предрассветный час друг напротив друга посреди Берлина стояли танки и солдаты двух держав.
По словам Бобби, он сказал Большакову, что «ситуация в Берлине усложнилась». Он пожаловался, что министр иностранных дел Громыко резко отклонил предложение посла Томпсона по разрядке напряженности. «Мы считаем, что такое отношение, когда прилагаются усилия, чтобы найти способ решить эту проблему, недопустимо», – заявил Кеннеди. Он призвал «в последующие четыре – шесть недель немного успокоиться».
Позже генеральный прокурор вспомнил, что тогда он сказал Большакову: «Президент хотел бы, чтобы через двадцать четыре часа там не было никаких танков». Хрущев именно так и поступил. Бобби отметил, что обсуждение инцидента на контрольно-пропускном пункте «Чарли» показало, что Большаков «действовал весьма эффективно, когда решался столь важный вопрос».
Неизвестны подробности договоренностей, поскольку ни один не вел запись бесед. Однако с этого момента Соединенные Штаты прекратили военные эскорты гражданских лиц, и Клей больше не бросал вызов восточногерманским властям на пограничных пунктах. Как бы то ни было, но Клей был готов в любой момент приступить к сносу части стены; навесное бульдозерное оборудование для пробивки стены сняли с танков и убрали на склад.
В отсутствие сопротивления Восточная Германия продолжила укреплять и расширять стену.
Вашингтон, округ Колумбия
22:00, пятница, 27 октября 1961 года
В пятницу вечером, 27 октября, государственный секретарь Раск отправил телеграмму в американскую миссию в Берлине, в которой объявил о победе, несмотря на отступление. Раск отметил, что окончательное решение, положившее конец Берлинскому кризису, было принято на совещании в Белом доме в 17:00, на котором присутствовали президент, Раск, Макнамара, Банди, Колер и Хилленбранд. О решении сообщено в НАТО и в американские посольства, находящиеся в столицах трех главных союзников США.
«Мы достигли своей цели», – сообщил Раск. Кеннеди и Клей с полным правом могли утверждать, что появление советских танков доказывало их правоту, подтверждая мнение о том, что Москва, а не Восточный Берлин по-прежнему руководит событиями, происходящими в городе.
Тем не менее было ясно, что Раск капитулировал. В телеграмме говорилось, что «следует отложить поездки личного состава в штатской одежде на служебных машинах и на личных машинах с номерами вооруженных сил США и использование охранников и военных эскортов». Раск, чтобы избежать недопонимания, ясно дал понять, что президент хочет, чтобы Клей в дальнейшем избегал конфронтации с восточными немцами и русскими. «Американские гражданские официальные лица, – говорилось в телеграмме, – в настоящее время должны воздерживаться от посещения Восточного Берлина».
Клей оставался в Берлине еще несколько месяцев, пока его противники не одержали победу. «В данный момент, – сказал Раск, – уже ничего нельзя сделать на месте, теперь вопрос решается на высшем правительственном уровне… Отданы распоряжения о приостановке посещения гражданскими лицами Восточного Берлина в сопровождении военных эскортов».
Даже такой упрямец, как Клей, понял, что пора уступать место.
Дворец съездов, Москва
Субботнее утро, 28 октября 1961 года
После напряженной ночи на берлинской границе маршал Конев встретился с Хрущевым в Москве, где подходил к завершению затянувшийся съезд партии. Конев доложил Хрущеву, что положение на границе в Берлине не изменилось. Никто не предпринимает никаких действий, сообщил он советскому лидеру, «за исключением того, что танкисты с той и другой стороны вылезают из танков и ходят вокруг, чтобы согреться». Хрущев приказал Коневу отвести танки. «Я уверен, что через двадцать минут или чуть больше американские танки тоже отойдут», – сказал Хрущев с уверенностью человека, заключившего сделку.
«Они не могут развернуть танки и отправить их на базу, пока на них направлены наши орудия, – объяснил Хрущев. – Они поставили себя в трудное положение и не знают, как из него выйти… Так давайте дадим им возможность».
Субботним утром, где-то в половине одиннадцатого, первые советские танки отъехали от контрольно-пропускного пункта «Чарли». Некоторые были завалены цветами и гирляндами, которые утром положили на них члены Союза свободной немецкой молодежи.
Спустя полчаса отъехали американские танки.
Закончился самый опасный момент холодной войны. Однако последствия Берлина 1961 года были драматичными и долговременными. Они встряхнули мир спустя год на Кубе – и они же сформировали картину мира на последующие три десятилетия.
Эпилог. Последствия
Я полностью осознаю, что основная цель Хрущева состоит в том, чтобы увеличить возможности в Берлине, и мы тоже готовы играть там и на Карибском море главную роль. То, что является важным в этот момент высочайших испытаний, так это чтобы Хрущев понял, что если он рассчитывает на слабость или нерешительность, то он просчитался.
Президент Кеннеди, из секретной телеграммы британскому премьер-министру Гарольду Макмиллану о фотографиях, доказывающих наличие советских ракетных баз на Кубе, 21 октября 1962 годаЕсть много людей в мире, которые действительно не понимают или только говорят, что не понимают, что является самой большой проблемой между свободным миром и коммунистическим миром. Пусть они приедут в Берлин. Есть такие, которые говорят, что коммунизм – идея будущего. Пусть они приедут в Берлин. И есть такие, которые говорят, что и в Европе, и в любом другом месте мы можем сотрудничать с коммунистами. Пусть они приедут в Берлин. И есть даже такие, которые заявляют, что да, коммунизм является системой зла, но это не мешает нам сотрудничать с коммунистами в сфере экономики. Пусть они приедут в Берлин…
Все свободные люди, где бы они ни жили, – граждане Западного Берлина. Поэтому я, как свободный человек, с гордостью заявляю: «Я – берлинец!»
Президент Кеннеди, из речи, произнесенной в Западном Берлине, 26 июня 1963 годаБерлин и Гавана.
Середина августа 1962 года
Спустя год после того, как президент Джон Ф. Кеннеди согласился со строительством Берлинской стены, две драмы, разыгравшиеся на расстоянии восьми тысяч километров друг от друга, показали высокую цену одного из худших шагов, когда-либо предпринятых современными американскими президентами.
Действие первой драмы начало разворачиваться под яркими лучами горячего берлинского солнца в два часа дня, когда восемнадцатилетний каменщик Петер Фехтер и его друг Гельмут Кульбайк побежали к свободе через полосу смерти, нейтральную зону у Берлинской стены. Первый из тридцати пяти выстрелов раздался после того, как юноши перебирались через заграждение из колючей проволоки. Две пули попали в спину и живот Фехтера, и он видел, как его более проворный друг вскарабкался на стену. Фехтер упал у подножия стены. Он лежал в позе эмбриона, обхватив себя руками; ботинок с левой ноги соскочил, и была видна белая лодыжка. Более часа его постепенно слабеющий голос взывал о помощи, пока жизнь выходила вместе с кровью из многочисленных ран.
В то же самое время начали тайно причаливать в одиннадцати кубинских портах советские суда с советскими ядерными ракетами с достаточной дальностью и мощностью, чтобы стереть с лица земли Нью-Йорк и Вашингтон. 26 июля советский теплоход «Мария Ульянова», названный в честь матери Ленина, первым из восьмидесяти пяти советских судов, которые в течение последующих девяноста дней совершат сто пятьдесят рейсов на Кубу и обратно, пришвартовался в порту Кабаньяс.
Суда доставили на Кубу подразделения ракетных войск, два вида ракет средней дальности (16 пусковых установок и 24 ракеты Р-14; 24 пусковые установки и 36 ракет Р-12).
А теперь вернемся в Западный Берлин. Полицейские и репортеры наблюдали и фотографировали Фехтера, умирающего от потери крови. Американские солдаты стояли в стороне, выполняя приказ, согласно которому они не могли оказывать помощь потенциальным беженцам, если те находились на коммунистической территории. Толпа жителей Западного Берлина выкрикивала проклятия в адрес восточных немцев, называя их убийцами, и американцев, которые вели себя как трусы. Один из американских военных полицейских сказал: «Это не моя проблема». Его слова, вызвавшие взрыв возмущения, появились на следующий день в газетах.
Что касается восточногерманских пограничников, то они не стали оказывать помощь умирающему Фехтеру, опасаясь, что американские солдаты откроют по ним огонь. Только когда стало ясно, что юноша умер, восточногерманские полицейские под прикрытием дымовой завесы вынесли тело. Однако фотограф успел заснять эту сцену, удивительно напоминающую сцену снятия тела Иисуса с креста. На следующий день на первой полосе газеты «Берлинер моргенпост» была напечатана фотография: трое полицейских в шлемах, двое из них с пистолетами-пулеметами Томпсона, держат безжизненное тело Фехтера с бессильно повисшими руками и запястьями, запачканными кровью.
Убийство Фехтера не оставило равнодушными жителей Западного Берлина. На следующий день десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы, протестуя против бессилия американцев так же гневно, как они выступали против жестокости коммунистов. Они дали выход накопившимся чувствам гнева и разочарования, и западноберлинским полицейским пришлось использовать брандспойты и слезоточивый газ, чтобы помешать своим согражданам штурмовать стену. Корреспондент «Нью-Йорк таймс» Сидни Грасон назвал это «почти невероятной сценой». Грасон написал: «Более чем какой-либо другой случай с момента строительства стены, одинокая и жестокая смерть Петера Фехтера заставила жителей Западного Берлина испытать чувство беспомощности перед лицом надвигающегося вторжения столь ловко сработанного коммунистами».
Тем временем на Кубе в середине августа разведывательные самолеты ЦРУ зафиксировали с помощью аэрофотосъемки повышенную активность русских на море. Солдаты разгружали суда ночью при свете уличных фонарей и перегружали на закамуфлированные автотранспортные средства, такие длинные, что солдатам приходилось разрушать крестьянские дома, чтобы они могли повернуть на узких грунтовых дорогах. Командиры – если не вели войну с москитами, жарой или муссонами – сообщали в Москву о достижениях через курьеров; радио и телефон в целях конспирации не использовались.
22 августа ЦРУ предупредило Белый дом, что более пяти тысяч русских прибыли на более чем двадцати судах, груженных большим количеством разнообразной техники – машины, средства связи, строительное оборудование. Аналитики ЦРУ сообщили, что скорость и количество советского персонала и техники, доставляемых в страну, не входящую в советский блок, «беспрецедентны; не имеют отношения к оказанию военной помощи; явно затевается что-то новое». В течение двух следующих месяцев ракеты на Кубу не поступали, и американские разведывательные службы пришли к выводу, что Москва, вероятно, занимается усилением кубинской системы противовоздушной обороны.
На первый взгляд, казалось бы, трудно связать убийство молодого каменщика в Восточном Берлине и скрытное перемещение советских войск и техники на Кубу. Однако, взятые вместе, они символизировали два самых важных последствия событий в Берлине в 1961 году, в которых Кеннеди действовал неправильно.
Первое последствие носило долгосрочный характер: раздел Европы в период холодной войны длился более трех десятилетий. Возведение стены не только остановило развитие Восточной Германии в то время, когда жизнеспособность страны вызывала сомнение, но и обрекло следующее поколение – десятки миллионов жителей Восточной Европы – на жизнь при авторитарном, советском стиле правления, ограничивающем личные и национальные свободы.
Второе последствие выявилось значительно раньше: Карибский кризис с его угрозой ядерной войны. Хотя историки превозносят Кеннеди за то, как он справился с Карибским кризисом, Хрущев ни за что не стал бы рисковать, размещая ядерное оружие на Кубе, если бы не решил, исходя из поведения американского президента в Берлине в 1961 году, что Кеннеди слаб и нерешителен.
Теперь миру известно то, что Кеннеди не мог представить себе тогда: Берлинская стена пала в ноябре 1989 года, год спустя, в октябре 1990 года, произошло объединение Германии, а еще через год, в конце 1991 года, произошел распад Советского Союза. Для историков весьма заманчиво, учитывая благополучное окончание холодной войны, поставить в заслугу Кеннеди больше, чем он того заслуживает. Они доказывают, что, не воспрепятствовав строительству Берлинской стены, избежав тем самым ненужного риска, Кеннеди предотвратил войну и подготовил почву для окончательного объединения Германии, освобождения порабощенных народов советского блока и расширения свободной и демократической Европы.
Однако факты – открывшиеся новые доказательства и более тщательное изучение мнений и документов – требуют несколько поумерить восторги. Советник по вопросам национальной безопасности Брент Скоукрофт в предисловии к этой книге дважды отмечает, что «история, к сожалению, не раскрывает свои альтернативы». Но предоставляет очевидные факты. Мы уже никогда не узнаем, закончилась бы раньше холодная война, если бы Кеннеди действовал более решительно. Однако не вызывает сомнений тот факт, что поведение Кеннеди позволило восточногерманским лидерам остановить поток беженцев, а затем на протяжении двадцати восьми лет вести страну к гибели. Факты также ясно указывают на то, что желание сохранить Западный Берлин свободным не являлось основным фактором, повлиявшим на поведение Кеннеди в 1961 году.
В первый год своего президентства Кеннеди сосредоточил усилия на попытке остановить распространение коммунизма в развивающихся странах, а не на том, чтобы остановить коммунизм в Европе. Что касается Берлина, то он старался не допустить нарушения стабильности и просчетов, которые могли привести к ядерной войне. В отличие от своих предшественников, президентов Эйзенхауэра и Трумэна, он освободился от канцлера Конрада Аденауэра и его надежд на объединение Германии.
Вероятно, сам президент был наилучшим судьей своих неправильных действий в 1961 году. На встрече в Вене он искренне признался в неправильном поведении в критической ситуации во время операции в заливе Свиней. Когда 22 сентября – спустя более месяца после закрытия границы – Эли Абель, журналист «Детройт ньюс», обратился к Кеннеди с просьбой оказать содействие в написании книги о первом сроке президента, Кеннеди спросил: «Почему никто не хочет написать книгу о правительстве, которое не проявило себя ничем, кроме череды бедствий?»
Это свидетельство того, что Кеннеди отдавал себе отчет, что первый год его президентства был отмечен непродуманностью и нерешительностью его действий и политическими ошибками, связанными с принятием им неправильных решений, с неправильной оценкой политической ситуации.
Хотя в своей предвыборной кампании Кеннеди концентрировал внимание на свежих идеях и насущных проблемах, когда дело коснулось Берлина, он больше сосредоточился на вопросе сохранения хрупкого статус-кво. Он полагал, что только после построенного на доверии процесса переговоров, в ходе которых будет подписан договор о запрещении испытаний ядерного оружия и контроле над другими видами вооружения, можно переходить к решению более трудного берлинского вопроса.
Тогда, в первые дни своего президентства, Кеннеди не смог воспользоваться лучшей возможностью, имевшейся в его распоряжении для прорыва в отношениях, из-за неправильного истолкования поведения Хрущева. Советский лидер продемонстрировал готовность к сотрудничеству с Соединенными Штатами путем ряда односторонних действий, включая освобождение американских летчиков на следующий день после инаугурации Кеннеди. Однако Кеннеди решил, что Хрущев наращивает холодную войну, чтобы проверить лично его, – вывод, к которому он пришел в значительной степени из-за так называемой секретной речи, с которой Хрущев выступил перед советскими идеологами и пропагандистами.
За этим последовала паникерская речь Кеннеди «О положении в стране». Президент, сильно преувеличивая, объяснил своему народу, какие причины заставили его менее чем через две недели пребывания у власти изменить свое мнение.
«С каждым днем кризисы приумножаются. С каждым днем их решение становится все более трудным. С каждым днем мы приближаемся к часу максимальной опасности. Я чувствую, что должен информировать конгресс, что наш анализ за последние десять дней четко показывает, что в каждой из принципиально важных зон кризиса поток событий иссякает и время перестает быть нашим союзником».
Впервые Кеннеди проявил нерешительность, когда в апреле первого года нахождения у власти не отменил запланированную еще администрацией Эйзенхауэра операцию в заливе Свиней, не имея необходимых ресурсов для ее успешного завершения. С этого момента Кеннеди не переставал беспокоиться, кстати, совершенно справедливо, что Хрущев уверен в его слабости, особенно учитывая решительную реакцию советского лидера на венгерское восстание 1956 года. Как сказал Кеннеди корреспонденту «Нью-Йорк таймс» Джеймсу Рестону после того, как советский лидер жестоко раскритиковал его на венской встрече, Хрущев «так себя вел из-за нашей неудачи на Кубе. Видимо, решил, что с человеком, ухитрившимся ввязаться в такую историю, легко будет справиться. Решил, что я молод, неопытен и слаб духом. Он меня просто отколошматил… У нас серьезнейшая проблема».
На угрозу Хрущева к концу года в одностороннем порядке изменить статус Берлина Кеннеди ответил увеличением расходов на оборону, приведением в повышенную боевую готовность вооруженные силы США и рассмотрением мер на случай непредвиденных обстоятельств, в том числе плана нанесения упреждающего удара. Однако он всегда на шаг отставал от Советов. Когда 13 августа восточногерманские силы при поддержке Советов так необыкновенно быстро и действенно закрыли берлинскую границу, США и их союзники, похоже, были застигнуты врасплох.
Судя по документам этого периода, для Кеннеди это явилось полнейшей неожиданностью. Однако после более тщательного изучения документов становится ясно, что Кеннеди не только ожидал, что Советы предпримут какие-то действия, подобные тем, что последовали, но и помог составить план действий. Кеннеди, скорее почувствовав облегчение, чем возмущение, решил не разрушать границу, когда у него была такая возможность, и не применять санкции против коммунистов. Он замечательно сказал своим помощникам: «Не очень хорошее решение, но стена, черт возьми, лучше, чем война». Советский лидер может делать все что угодно на контролируемой им территории, пока не затрагивает территорию Западного Берлина и доступ союзников к городу, неоднократно повторял Кеннеди Хрущеву – напрямую в Вене, косвенно в публичных выступлениях и в сообщениях, отправляемых по неофициальным каналам.
За несколько дней до закрытия границы Кеннеди сказал советнику по экономическим вопросам Уолтеру Ростоу: «Хрущев теряет Восточную Германию. Он не может этого позволить. Потеряв Восточную Германию, Советский Союз лишился бы Польши, да и всей Восточной Европы. Он должен что-то предпринять, чтобы остановить поток беженцев. Может быть, стена? Мы не сможем выступить против. Я могу объединить альянс для защиты Западного Берлина, но не в силах удержать открытым Восточный Берлин».
13 августа 1961 года Хрущев и Ульбрихт были практически уверены, что Кеннеди не отреагирует на их действия, пока они не нарушают установленных им границ. Вероятно, по этой причине они возвели стену не на самой границе, а в нескольких шагах от нее, на территории Восточного Берлина.
С пренебрежением относясь к идее объединения Германии и желая сохранить существующий баланс сил в Европе, Кеннеди руководствовался ошибочным представлением, что, заставив Советы чувствовать себя в большей безопасности в Берлине, он увеличит шансы для успешных переговоров по более широкому кругу проблем. Позже Карибский кризис показал, что бездействие Кеннеди в Берлине подвигло Советы на неблаговидные действия.
Ученым долгое время не давал покоя вопрос: не одобрил ли Кеннеди заранее строительство Берлинской стены? Если бы это произошло, то, скорее всего, во время регулярных встреч брата президента Роберта и советского агента военной разведки Георгия Большакова, исполнявшего, по его собственным словам, роль «горячей линии» и «секретного канала связи между Джоном Кеннеди и Хрущевым». Позже Бобби сокрушался, что не вел записи их бесед. Записи Большакова не проливают свет на его переговоры с Бобби непосредственно до и после закрытия границы, а кремлевские и советские архивы по-прежнему недоступны.
Однако столь поразительное сходство между планом, получившим одобрение Кеннеди, и планом, реализованным Советами и восточными немцами, не может быть случайным. Кеннеди предоставил Хрущеву большую свободу действий в Берлине, чем кто-либо из его предшественников. Рассекреченные расшифровки стенограмм венской встречи свидетельствуют о сделке, заключенной между двумя лидерами: Кеннеди позволил Хрущеву закрыть границу в обмен на гарантию сохранения свободы Западного Берлина и доступа союзников к городу. Высокопоставленные американские чиновники, прочитавшие расшифровки стенограмм, были потрясены беспрецедентной готовностью Кеннеди признать постоянным, в интересах достижения стабильности, послевоенное деление Европы. В первый день переговоров в Вене Кеннеди сказал Хрущеву: «Важно, чтобы перемены, происходящие в мире и воздействующие на баланс сил, не оказывали влияния на выполнение нашими государствами договорных обязательств».
На следующий день Кеннеди воспользовался той же аргументацией в отношении Берлина, но говорил об обязательствах Америки перед Западным Берлином, а не перед всем Берлином, как его предшественники. По возвращении домой, выступая 25 июля по телевидению, Кеннеди опять говорил только о Западном Берлине; он послал явный сигнал Хрущеву, чем сильно расстроил людей, определявших политический курс Соединенных Штатов и тщательно выстраивавших язык дипломатии, начиная со Второй мировой войны.
За две недели до закрытия берлинской границы, 30 июля, в телевизионном интервью председатель сенатской комиссии по иностранным делам Джеймс Уильям Фулбрайт прямо заявил: «Если они хотят закрыть границу, то могут сделать это на следующей неделе и даже не станут из-за этого нарушителями договора. Я не понимаю, почему восточные немцы не закрыли уже давно свою границу, ведь, как мне кажется, у них есть все права на это».
Сенатор от штата Арканзас публично высказал то, о чем Кеннеди думал про себя. Президент не сделал ничего, чтобы опротестовать заявление сенатора, а советник по вопросам национальной безопасности Макджордж Банди в личной беседе сказал Кеннеди, что считает слова Фулбрайта «полезными». Хрущев, не увидев отрицательной реакции президента на выступление сенатора, пришел к выводу, что выступление Фулбрайта неслучайно, о чем он сообщил восточногерманскому лидеру Вальтеру Ульбрихту и председателю Совета министров Итальянской Республики Аминторе Фанфани, прибывшему в Москву с официальным визитом: «Если закрыть границу, то и американцы, и западные немцы будут довольны. [Американский посол в Москве Льюэллин] Томпсон сказал мне, что перебежчики доставляют западным немцам большие неудобства. Так что все будут довольны. И кроме того, они почувствуют вашу власть.
«Да, – ответил Ульбрихт, – и мы достигнем стабильности». Единственное, что объединяло Ульбрихта, Хрущева и Кеннеди, – это желание стабильности Восточной Германии.
На протяжении 1961 года Берлин был для Кеннеди нежелательной, доставшейся в наследство проблемой, и он никогда не испытывал желания бороться за него. Во время перерывов в переговорах с де Голлем в Париже, лежа в огромной позолоченной ванне в «королевских покоях», Кеннеди сказал своим помощникам Кенни О’Доннеллу и Дэйву Пауэрсу: «Глупо стоять на пороге ядерной войны из-за обязательств по защите Берлина как будущей столицы воссоединенной Германии, когда всем нам известно, что Германия, вероятно, никогда не воссоединится». Во время полета из Вены в Лондон Кеннеди вновь вернулся к этому вопросу: «Не мы явились причиной отсутствия единства в Германии. На самом деле мы не несем ответственности за оккупацию Берлина четырьмя державами. А теперь западные немцы хотят, чтобы мы выгнали русских из Восточной Германии».
Если растянувшаяся на три десятилетия холодная война была долгосрочным последствием Берлина 1961 года, то Карибский кризис был самым значительным краткосрочным последствием. Для Кеннеди и Хрущева ситуации на Кубе и в Берлине были неразрывно связаны.
Критики назвали хрущевский план размещения советских ядерных ракет на Кубе рискованной авантюрой, но, с точки зрения советского лидера, это был просчитанный риск, основанный на его понимании Кеннеди. В конце 1961 года Хрущев сказал группе советских чиновников, что уверен в том, что Кеннеди предпримет какие-нибудь действия, чтобы избежать ядерной войны. «Я знаю наверняка, – сказал Хрущев, – что у Кеннеди нет ни сильной поддержки, ни смелости, чтобы не спасовать перед серьезной проблемой». В разговоре с сыном Сергеем о Кубе Хрущев заметил, что Кеннеди «поднимет шум, начнет суетиться, а потом согласится».
Несмотря на все ошибки, сделанные в первый год нахождения у власти, Кеннеди был настолько готов пойти на уступки, чтобы достигнуть соглашения по Берлину, что предложение, которое он внес в апреле 1962 года, привело к серьезному столкновению с западногерманским канцлером Конрадом Аденауэром. План Кеннеди заключался в том, чтобы передать контроль за доступом в Берлин международному совету, который бы урегулировал въезд в город и выезд из него, причем Восточная и Западная Германия должны были обладать в нем равным статусом. Взамен Кеннеди хотел получить согласие Кремля на сохранение военного присутствия союзников и прав в Западном Берлине.
Разработчики документа, отправляя его из Вашингтона в Москву, подчеркнули некоторые разделы, чтобы показать, что позаимствовали их из советских документов. Кроме того, в документе даже не упоминалось о воссоединении Германии путем свободных выборов. Никогда еще американские предложения не были так схожи с советскими предложениями и так отличались от предложений Аденауэра. Кеннеди дал Аденауэру всего день на рассмотрение проекта документа и только после гневных протестов со стороны западногерманского канцлера увеличил срок рассмотрения документа до сорока восьми часов.
Аденауэр больше не мог скрывать раздражение, которое у него вызывал Кеннеди. Он заявил Полу Нитце, заместителю министра обороны США, который посетил его в Бонне, что если будут приняты предложения Кеннеди, то Западный Берлин не сможет ничего предложить тем, кто хочет сбежать из города. Он направил Кеннеди резкую записку, в которой, в частности, говорилось: «Я категорически возражаю против некоторых предложений. Я настоятельно прошу вас, мой дорогой мистер президент, приостановить слушание этих предложений…»
Утечка документа, почти наверняка с благословения Аденауэра, вызвала страшный шум. Комментаторы с обеих сторон Атлантики критиковали Кеннеди за то, что он сдал позиции, в то время как его противники продолжают расстреливать потенциальных беженцев, не давать покоя союзническим солдатам и укреплять стену. Кеннеди пришлось забрать свои предложения. Оскорбительнее всего был тот факт, что Хрущев, так или иначе, собирался отклонить предложения Кеннеди, поскольку американский президент ничего не говорил о полном выводе американских войск.
Хрущев играл по-крупному.
Уже приступив к выполнению кубинской операции, 5 июля 1962 года Хрущев выдвинул встречные подробнейшие предложения, чтобы покончить с тем, что он назвал «западноберлинским оккупационным режимом». В соответствии с его планом союзные войска должны быть заменены на войска ООН, в состав которых будут входить войска трех западных держав, нейтральных государств и двух стран Варшавского договора. Путем постепенного сокращения этого контингента, ежегодно на 25 процентов, через четыре года в Западном Берлине не останется иностранных войск. Спустя почти две недели, 17 июля, Кеннеди отклонил предложения Хрущева, но при каждом удобном случае Хрущев продолжал продвигать свою стратегию по Берлину, тайно проводя в жизнь кубинский план.
Кубинская операция была настолько крупномасштабной, что Хрущев наверняка считал, что это не укрылось от глаз Кеннеди и его разведывательных служб, но при этом президент не собирается препятствовать размещению ракет на Кубе.
4 сентября Кеннеди сообщил нескольким конгрессменам, что, по мнению ЦРУ, Советы помогают кубинцам в укреплении обороноспособности Кубы. Вечером того же дня Кеннеди сделал заявление для прессы, которое закончил обращением непосредственно к Хрущеву: «Самые серьезные проблемы возникнут, если будут обнаружены доказательства присутствия на Кубе советских боевых формирований, советских военных баз… наличие наступательных ракет класса «земля – земля», а также другого существенного наступательного потенциала». Заявление президента удивило Хрущева, не ожидавшего от Кеннеди такой решительности.
Спустя два дня, 6 сентября, Хрущев выразил желание встретиться с министром внутренних дел США Стюартом Юдаллом, совершавшим ознакомительную поездку по советским гидроэлектростанциям. Юдалл не рассчитывал на возможность встречи с советским премьером и был удивлен неожиданным приглашением в Пицунду. Хрущев хотел понять, контролирует ли президент ситуацию. Он в очередной раз подчеркнул, что, по его мнению, Кеннеди проявляет слабость и нерешительность. «Как президент, он обладает пониманием, но ему не хватает мужества», – сказал Хрущев, обрушившись с презрительными нападками на американскую политику по Берлину. Хрущев, памятуя о том, что кубинская операция уже шла полным ходом, заметил Юдаллу: «Если мы и президент сможем договориться, тогда откроются большие возможности для сотрудничества в области науки, техники и в космосе. Но если Белый дом добровольно не пойдет на разрешение проблемы, мы поставим его в такое положение, когда будет необходимо принять решение. Мы поставим его перед выбором воевать или подписывать мирный договор».
Хрущев сказал Юдаллу, что «из уважения к вашему президенту мы ничего не предпримем до ноября». Не упоминая Кубу, Хрущев заявил Юдаллу, что «давно миновали те времена, когда вы могли отшлепать нас, как мальчишку. Теперь мы можем сами наподдать вам… поэтому давайте не будем говорить о силе; мы одинаково сильны».
16 октября 1962 года, когда большая часть пусковых установок была уже доставлена на Кубу, Хрущев сказал новому послу США в СССР Фою Колеру, преемнику Томпсона, что он собирается посетить сессию Генеральной ассамблеи ООН в ноябре и обсудить с Кеннеди вопросы по Западному Берлину. К этому времени Москва уже могла бы представлять серьезную угрозу для США и, значит, оказывалась в лучшем положении. Хрущев решил использовать ракеты на Кубе не столько для защиты Кубы, сколько для того, чтобы добиться решения берлинского и германского вопросов так, как он этого хотел. Берлин остается «основной проблемой советско-американских отношений», заявил Хрущев новому послу в США Анатолию Добрынину.
Позже Хрущев вспоминал:
«Я пришел к выводу, что если мы все сделаем тайно и если американцы узнают про это, когда ракеты уже будут стоять на месте, готовыми к бою, то перед тем, как принять решение ликвидировать их военными средствами, они должны будут призадуматься. Эти средства могут быть уничтожены США, но не все. Достаточно четверти, даже одной десятой того, что было бы поставлено, чтобы бросить на Нью-Йорк одну-две ядерные ракеты, и там мало что останется. Атомная бомба, сброшенная США на Хиросиму, имела мощность в двадцать тысяч тонн. А нашу бомбу в миллион тонн еще никто не проверил на себе. Но по нашим испытаниям было известно, что разрушения производятся колоссальные. Я не говорю, что все бы там погибли. Нет, не все бы погибли, но трудно сказать, сколько не погибло бы… Думалось, что это сможет удержать США от военных действий. Если бы сложилось так, то было бы неплохо: получилось бы в какой-то степени «равновесие страха», как Запад это сформулировал. Они окружили нас военными базами и держат под возможностью ударов нашу страну. А тут американцы сами бы испытали, что означает такое положение».
Ни один из предпринятых Хрущевым в этот период шагов не свидетельствовал так красноречиво о связи Кубы и Берлина, как строительство нефтепровода, который должен был пройти через территорию Восточной Германии. Кеннеди понял, что в случае нанесения удара по Кубе Хрущев начнет войну в Берлине. По словам Хрущева: «Они [американцы] считали, что начнется война, а на Кубе наши люди, много наших людей, и вот прольется кровь русская. На это русские ответят, но не в Америке, а в Германии. Все это пугало правительство США». Слова и действия Кеннеди в течение напряженных дней Карибского кризиса, с 18 по 29 октября, подчеркивали его мнение относительно связи кубинской и берлинской стратегий Хрущева. С самого начала президент подозревал, что кубинская стратегия в конечном итоге нацелена на завоевание Берлина. Выступая перед Объединенным комитетом начальников штабов, Кеннеди сказал:
«Я считаю, что в первую очередь мы должны понять, зачем это русским. На самом деле это довольно опасная, но и весьма полезная игра. Мы ничего не делаем, а у них там ракетная база, что даст им возможность оказывать давление на Соединенные Штаты и наш престиж. Если мы нападем на Кубу, то откроем им путь к захвату Берлина. Нас станут считать безответственными американцами, потерявшими Берлин. Союзники нас не поддержат. Это плохо отразится на отношении к нам западных немцев. И [народ решит], что мы позволили забрать Берлин, потому что не имели мужества решить кубинский вопрос. В конце концов, Куба в восьми или десяти тысячах километров от них. Им, черт побери, нет никакого дела до Кубы. На самом деле они заботятся о Берлине и о собственной безопасности».
Решение Кеннеди проводить более жесткую политику в отношении Советов по Кубе в 1962 году, чем по Берлину в 1961 году, имело под собой по крайней мере три основания. Во-первых, возросла угроза для Соединенных Штатов, поскольку Куба была значительно ближе, чем Берлин. Во-вторых, неправильная политика в отношении близкой Кубы, в отличие от далекого Берлина, могла негативным образом сказаться на выборах президента. И наконец, Кеннеди понял, что проявление слабости только поощряет Хрущева к дальнейшим проверкам его дееспособности. Советский лидер беззастенчиво обманул его, сказав, что откладывает берлинские переговоры из уважения к американскому президенту. Он просто выигрывал время, чтобы разместить свои ракеты на Кубе. Кеннеди повторил свое мнение о связи с Берлином в телеграмме британскому премьер-министру Гарольду Макмиллану, поступившей в Лондон в 22:00 21 октября, в которой сообщал о фотографиях, доказывающих наличие советских ракетных баз на Кубе. В телеграмме говорилось:
«Я полностью осознаю, что основная цель Хрущева состоит в том, чтобы увеличить возможности в Берлине, и мы тоже готовы играть там и на Карибском море главную роль. То, что является важным в этот момент высочайших испытаний, так это чтобы Хрущев понял, что если он рассчитывает на слабость или нерешительность, то он просчитался».
Во второй телеграмме Макмиллану, отправленной на следующий день, всего за несколько часов до своего исторического телевизионного обращения к американцам об угрозе, требовании к Москве убрать ракеты с Кубы и введении морской блокады, Кеннеди вновь высказал мнение о связи Кубы и Берлина – «эти тайные, опасные действия со стороны Хрущева имеют отношение к Берлину».
В 1962 году Кеннеди отверг предложение так называемых «слюнтяев». Посол Томпсон, который, вернувшись из Москвы, занял пост специального советника по советским проблемам в Государственном департаменте, предложил приостановить военные действия в Берлине во время урегулирования кубинского вопроса, чтобы не провоцировать Кремль, но Кеннеди отверг его предложение. Советник по вопросам национальной безопасности Банди сказал, что, может, удастся добиться соглашения, обменяв Берлин на ракеты. Кеннеди отверг и его предложение, заявив, что не желает быть президентом, потерявшим Берлин.
При этом Кеннеди выступал против предложения нанести удар по кубинским базам, опасаясь, что Советы тут же нанесут ответный удар в Берлине. Кертис Лемей, начальник штаба ВВС США, в ответ на нежелание Кеннеди атаковать Кубу, заявил: «Если мы не предпримем никаких действий в отношении Кубы, то они продолжат давление в Берлине и нам будет трудно справиться с ними, поскольку они опережают нас. Отказ от военных действий приведет к таким же плачевным результатам, как мюнхенская политика умиротворения».
Кеннеди сказал членам исполнительного комитета Совета национальной безопасности, что Советы ответят на блокаду Кубы блокадой Берлина. Президент создал подкомиссию исполкома для решения вопросов, связанных с Берлином, под председательством Пола Нитце. Он даже предложил вернуть в Берлин генерала Люсиуса Клея, если возникнет необходимость в координации действий США.
22 октября в обращении к нации Кеннеди публично предупредил Хрущева: «Любая враждебная акция в любой точке мира, направленная против безопасности и свободы народов, наших союзников, в первую очередь это касается мужественных жителей Западного Берлина, будет встречена любыми, самыми необходимыми в данной ситуации, ответными мерами».
С этого момента Берлинский кризис Кеннеди перекинулся на Кубу.
Во время встречи с американским послом в Лондоне Дэвидом Брюсом вечером того дня, когда Кеннеди выступил с обращением к нации, Макмиллан с тревогой спросил: «Хрущев действительно хочет обменять Кубу на Берлин? Если он будет остановлен, с потерей престижа, на Кубе, не возникнет ли у него желание отыграться на Берлине? Может, он именно на это и рассчитывает – выдвинуть одну пешку, чтобы обменять ее на другую?» В свою очередь, Кеннеди беспокоился, о чем сообщил Макмиллану, что Хрущев может нанести упреждающий удар в Берлине, который потребует соответствующего ответа США на Кубе. «У нас нет иного выхода. Если Хрущев захватит Берлин, нам придется захватить Кубу».
Вместо этого Хрущев отступил перед решимостью Кеннеди, как предсказывал год назад генерал Клей относительно Берлина. Когда заместитель министра иностранных дел Василий Кузнецов предложил в ответ на блокаду Кубы военно-морскими силами США предпринять ответные меры против Западного Берлина, Хрущев на повышенных тонах заявил, что ему не нужна «еще одна авантюра»: «Мы не знаем, как выйти из одного затруднительного положения, а вы хотите втянуть нас в другое?» Хрущев отверг и предложение посла Добрынина сделать «первый шаг» в направлении закрытия наземных доступов к Берлину. «Отец считал, что крайне опасно предпринимать любые действия в Берлине», – вспоминал сын Хрущева Сергей, настаивая на том, что Хрущев никогда не собирался наносить упреждающий удар по Соединенным Штатам. После выступления Кеннеди Хрущев начал отзывать советские войска с западногерманской границы, а это свидетельствовало о том, что он не собирается наращивать конфликт.
27 октября брат президента Бобби и посол Добрынин договорились о том, что СССР вывезет ракеты с Кубы в обмен на две уступки с американской стороны: США дадут публичное обещание не вторгаться на Кубу и секретное обещание убрать свои ракеты «Юпитер» из Турции. Когда на следующий день в письме Кеннеди Хрущев упомянул об этой сделке, Бобби вернул письмо и заявил, что не знает ни о какой сделке. Но для Хрущева демонтаж американских ракет представлялся важным событием.
Как бы то ни было, но Кеннеди одержал победу даже над самыми главными критиками из числа союзников. Де Голль заявил об этом Дину Ачесону, которого прислали, чтобы сообщить о решении президента относительно блокады Кубы. Когда Ачесон предложил посмотреть фотографии советских объектов на Кубе, де Голль ответил, что ему нет необходимости смотреть фотографии, поскольку «великие нации, такие как ваша, не предпринимают серьезных шагов, если нет бесспорных оснований», и добавил: «Соединенные Штаты могут рассчитывать на полную и безоговорочную поддержку Франции». Аденауэр заявил, что он поддержит Кеннеди, даже если Соединенные Штаты примут решение подвергнуть Кубу бомбежке или вторгнуться на остров. Кеннеди отверг предложение Макмиллана, стоявшего за мирное разрешение конфликта, выступить в качестве посредника с Москвой и организовать встречу по Кубе, считая, что это будет иметь пагубные последствия для Берлина. «Я не знаю, что мы будем обсуждать на этой встрече, – сказал Кеннеди, – поскольку он [Хрущев] опять займет ту же позицию по Берлину и, вероятно, предложит демонтировать ракеты в обмен на нейтрализацию Берлина».
Генерал Клей сказал дипломату Уильяму Смайзеру, что если бы Хрущев не считал Кеннеди слабым политиком, то не было бы никакого Карибского кризиса. По его мнению, как только Кеннеди понял, что больше не собирается терпеть запугивания Москвы, отступила угроза Берлину.
Жители Западного Берлина с бóльшим энтузиазмом чем кто-либо отмечали окончание Карибского кризиса. Они считали, что Советы им больше не угрожают.
Шёнебергская ратуша, Западный Берлин.
Четверг, 27 июня 1963 года
Спустя восемь месяцев после Карибского кризиса, 27 июня 1963 года, Кеннеди совершил свою первую и последнюю поездку в качестве президента в Берлин. Побывав у КПП «Чарли» и пройдя вдоль стены, президент приехал на площадь перед зданием муниципалитета, чтобы выступить перед собравшимися на площади жителями Западного Берлина. Большинство из трехсот тысяч берлинцев помнили об этом событии до конца своих дней.
Примерно еще миллион жителей Западного Берлина выстроились вдоль маршрута следования Кеннеди от аэропорта Тегель. Большую часть пути из аэропорта Кеннеди, вместе с которым в машине с открытым верхом ехали бургомистр Вилли Брандт и канцлер Конрад Аденауэр, проделал стоя. Жители Берлина, чтобы мельком увидеть своего американского героя, забирались на фонарные столбы и деревья, стояли на крышах и балконах. По данным Красного Креста, более тысячи человек упало в обморок.
В аэропорту и когда кортеж двигался по городу, некоторые члены американской делегации язвительно замечали, что такие же безумные толпы приветствовали Гитлера. Жители Берлина с таким невиданным энтузиазмом приветствовали Кеннеди, что удивленный Аденауэр шепнул Раску: «Не значит ли это, что однажды в Германии появится новый Гитлер?» В какой-то момент Кеннеди даже почувствовал испуг и сказал своему адъютанту генералу Годфри Т. Макхью: «Если я скажу им пойти и снести Берлинскую стену, они так и сделают».
Чем дольше Кеннеди и его окружение находились на территории Западного Берлине, тем большую симпатию испытывали к жителям этого города. Кеннеди был восхищен мужеством этих людей и потрясен видом стены. «Он похож на человека, заглянувшего в преисподнюю», – заметил корреспондент «Тайм» Хью Сайди. Во время поездки по городу Кеннеди переписал самую важную из трех речей, которые должен был произнести. Его речь у здания муниципалитета Западного Берлина была самой эмоциональной и впечатляющей из всех речей, которые он произносил за границей.
«Есть много людей в мире, которые действительно не понимают или только говорят, что не понимают, что является самой большой проблемой между свободным миром и коммунистическим миром. Пусть они приедут в Берлин. Есть такие, которые говорят, что коммунизм – идея будущего. Пусть они приедут в Берлин. И есть такие, которые говорят, что и в Европе, и в любом другом месте мы можем сотрудничать с коммунистами. Пусть они приедут в Берлин. И есть даже такие, которые заявляют, что да, коммунизм является системой зла, но это не мешает нам сотрудничать с коммунистами в сфере экономики».
А дальше он добавил по-немецки: «Lasst sie nach Berlin kommen» («Пусть они приедут в Берлин»), предварительно отрепетировав эту фразу с переводчиком Аденауэра Хайнцем Вебером и выписав немецкие слова на отдельную карточку. Он закончил выступление словами: «Все свободные люди, где бы они ни жили, – сейчас граждане Берлина, и поэтому, как свободный человек, я горжусь словами: «Ich bin ein Berliner» – «Я – берлинец!».
Или как Кеннеди написал на карточке: «Ish bin ine Bear-LEAN-er».
Несколько лет спустя лингвисты-любители заявили, что Кеннеди допустил грамматическую ошибку, использовав неопределенный артикль ein. Таким образом, получилось, что вместо задуманной фразы «Я – берлинец» («Ich bin Berliner») он сказал «Я – берлинский пончик» («Ich bin ein Berliner»). Как бы то ни было, но никто в огромной толпе не обратил на это внимания; все поняли, что хотел сказать Кеннеди.
Кеннеди выразил все накопившееся возмущение коммунистами, которое не показал в 1961 году. «У свободы есть много трудностей, и демократия несовершенна, но мы никогда не стали бы возводить стену, чтобы удерживать наших людей и не давать им возможности уйти от нас». К великой радости Аденауэра, Кеннеди сказал, что «живя восемнадцать лет в мире и честности, это поколение немцев заработало право быть свободными, включая право объединять свои семьи и нацию в вечном мире и с доброй волей ко всем людям». Он заявил, что верит в то, что «мы сможем увидеть тот день, когда этот город объединится. И этот город, и эта страна, и великий континент Европа объединятся на мирной и полной надежд Земле».
Это был новый Кеннеди.
Президент пригласил генерала Клея, который приехал с ним в Берлин, встать рядом с ним. Они наслаждались ликованием толпы – человек, осудивший Кеннеди за нежелание противостоять Советам, и главнокомандующий, действия которого теперь так напоминали Клея, что вызвали сильный испуг у советников. После выступления Банди сказал президенту: «Мне кажется, вы несколько перестарались».
Одним выступлением Кеннеди изменил политику США в отношении Германии и Берлина. Впервые за время президентства Кеннеди рассматривал Берлин как город, который будет защищать, а не как полученный в наследство причиняющий беспокойство город, населенный людьми, к которым он не испытывал ни сочувствия, ни симпатии. С этого момента ни Кеннеди, ни другой американский президент не могли отказаться от Берлина.
Во время полета из Берлина в Ирландию Кеннеди сказал Теду Соренсену: «У нас уже никогда в жизни не будет такого дня».
Спустя менее пяти месяцев, 22 ноября 1963 года, президент Джон Ф. Кеннеди был убит в Далласе, штат Техас. Прошло чуть меньше года с убийства Кеннеди, и товарищи коммунисты свергли советского лидера Никиту Хрущева. Он умер от сердечного приступа в 1971 году, успев переправить свои воспоминания на Запад.
В октябре 1963 года Аденауэр ушел с поста федерального канцера. Он умер в 1967 году в возрасте девяноста одного года, оставив в качестве наследства демократическую, экономически развитую Западную Германию и мечту – казавшуюся нереальной, – что когда-нибудь Германия станет единой. Его последние слова дочери были: «Нет ничего, о чем бы стоило плакать».
Спустя чуть меньше десятилетия после закрытия берлинской границы, в мае 1971 года, ушел в отставку восточногерманский лидер Вальтер Ульбрихт, и его место занял Эрих Хонеккер, человек, которого Ульбрихт назначил ответственным за строительство Берлинской стены. Хонеккер ушел в отставку за месяц до того, как была разрушена возведенная им стена. Он умер от рака в 1994 году в эмиграции в Чили; он обвинялся в том, что санкционировал убийство граждан ГДР, пытавшихся перебежать в ФРГ, но судебное преследование против него было прекращено из-за плохого состояния здоровья.
Но в 1961 году их судьбы были связаны с городом, название которого станет олицетворением идеологической и геополитической борьбы второй половины XX века. В конечном счете история закончилась благополучно, но только потому, что на Кубе Кеннеди полностью изменил опасный курс, которым он следовал в предыдущем году в Берлине.
Кеннеди не смог уничтожить стену, которая возводилась, в то время как он равнодушно стоял в стороне. Эта стена на протяжении трех десятилетий и, вероятно, всей истории останется каноническим изображением того, что способны сделать несвободные системы, когда свободные лидеры оказываются неспособными к сопротивлению.
Примечания
1
Зал Кабинета, в котором проходят заседания кабинета министров Соединенных Штатов, расположен в западном крыле Белого дома. (Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примеч. пер.)
(обратно)2
В США Карибский кризис называют Кубинским ракетным кризисом.
(обратно)3
Кухонные дебаты – серия импровизированных диалогов (через переводчиков) между вице-президентом США Ричардом Никсоном и председателем Совета Министров СССР Никитой Хрущевым, состоявшихся 24 июля 1959 года на открытии Американской национальной выставки в парке «Сокольники» в Москве. Кухонные дебаты были первой встречей на высшем уровне между руководителями США и СССР после встречи в Женеве в 1955 году. Диалоги имели место в разных частях выставки, но в основном на территории модели кухни пригородного дома.
(обратно)4
НАТО (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO) – Организация Североатлантического договора, или Североатлантический альянс. Военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Основан 4 апреля 1949 года в США.
(обратно)5
В середине 1957 года, через два года после начала работ над самолетом, завершилась постройка первого опытного экземпляра Ту-114, получившего впоследствии название «Россия», а 15 ноября 1957 года экипаж во главе с ведущим летчиком-испытателем А.П. Якимовым совершил на нем первый полет. Несмотря на преемственность конструкции и прямое использование агрегатов Ту-95, испытания Ту-114 прошли далеко не гладко. Причем наибольшие проблемы вызвали именно те элементы, которые считались отработанными: шасси и силовая установка. В результате заводские испытания самолета закончились с опозданием почти на два года, вместо первоначально запланированного срока, – в октябре 1959 года, а государственные – только в июле 1960 года. Причем по их итогам самолет получил 428 замечаний, для устранения которых пришлось провести соответствующие доработки и новые испытательные полеты, продлившиеся до июля 1961 года.
(обратно)6
«Специальный помощник мэра, который сопровождал Никиту Сергеевича в городе, Виктор Картер, уполномоченный городского управления по пожарной охране, тоже не очень-то стремился сделать пребывание советских гостей в Лос-Анджелесе приятным и полезным. Объяснение этому искать недолго. Он дал его сам в разговоре с Никитой Сергеевичем Хрущевым. Оказалось, что Виктор Картер – сын купца второй гильдии из Нахичевани Ростовской области. Отец его в 1921 году еле унес ноги от Красной армии. «Было трудно надеяться, чтобы этот господин организовал мне хорошую встречу, – смеялся Никита Сергеевич. – Ведь именно в то время я был с Красной армией в Ростове-на-Дону». ( А. Аджубей. Лицом к лицу с Америкой.)
(обратно)7
В ходе избирательной кампании Кеннеди резко критиковал своих политических противников не за отсутствие реализма, но за наметившееся, по его словам, отступление перед лицом исторического врага. Впрочем, антикоммунистическая риторика в США всегда считалась правилом хорошего тона для политика. (Золов А.В. США: борьба за мировое лидерство.)
(обратно)8
В 90-х годах он вошел в число «Восьми бессмертных Коммунистической партии Китая». (Примеч. авт.)
(обратно)9
Кларк Клиффорд – влиятельный американский юрист и государственный деятель. В 1961 году после победы на выборах Кеннеди назначил Клиффорда членом президентского совета по внешней разведке. В 1963 году Клиффорд стал председателем этого совета. Занимал пост министра обороны США в 1968–1969 годах при президенте Линдоне Джонсоне.
(обратно)10
Национальные разведывательные оценки (НРО) являются основными аналитическими и прогнозными документами, разрабатываемыми американской разведкой для высшего руководства страны. Они разрабатываются, как правило, на регулярной основе и выражают единую точку зрения всего разведывательного сообщества по тому или иному вопросу. Основные положения тех или иных НРО и приводимые в них конкретные цифры и данные разрабатываются и согласовываются на рабочих совещаниях представителей различных разведок – разведывательного управления министерства обороны (РУМО), разведок сухопутных войск, ВВС и ВМС, Госдепартамента, Национального агентства безопасности и других – под председательством представителя ЦРУ. Согласованные оценки затем поступают на утверждение в Национальный совет по разведке, состоящий из высокопоставленных сотрудников разведывательных ведомств и ФБР.
(обратно)11
Было выдвинуто предположение, что общепринятое название чемоданчика – Football (футбольный мяч) – произошло от одного из предлагаемых сценариев ядерного удара под кодовым названием Dropkick (удар с полулета).
(обратно)12
На Капитолийском холме находится здание Капитолия, которое считается официальным местом пребывания конгресса США.
(обратно)13
Кеннан Джордж Фрост – историк, международник и дипломат, один из основателей советологии в США. В 1934–1938 годах был первым секретарем, а в 1945–1946 годах советником посольства США в Москве. За годы работы в СССР Кеннан стал ярым противником сталинской системы, убежденным в невозможности сотрудничества с ней. В 1947–1949 годах он возглавлял отдел Государственного департамента США по планированию внешней политики и сыграл заметную роль в разработке плана Маршалла, стратегии «психологической войны» против СССР.
(обратно)14
В ноябре 1958 года КГБ СССР заинтересовала переписка Попова с гражданкой Австрии Эмилией Коханек, его любовницей еще со времен службы в Австрии. Дело оперативной разработки Попова получило кодовое наименование «Бумеранг», а его главный фигурант – псевдоним Иуда. По мере разработки дальнейшее пребывание подполковника в ГДР становилось все более опасным для СССР. 23 декабря 1958 года ЦРУ совершило главную ошибку, стоившую их агенту жизни. Секретарь неверно понял указание послать Попову письмо с инструкциями и отправил по его домашнему адресу в Калинин (Тверь). Попова отозвали в Москву, где установили за ним плотное наблюдение. В течение января – февраля 1959 года фиксировались его встречи с агентами ЦРУ в СССР. 18 февраля 1959 года Попова задержали на Ленинградском вокзале в Москве. При обыске по месту жительства Попова в Калинине были обнаружены 20 тысяч рублей, пистолет «вальтер», шифры, а также инструкции по связи с резидентурой США. 7 января 1960 года он был приговорен к высшей мере наказания – смертной казни через расстрел.
(обратно)15
Пауэрс провел в тюрьме полтора года. 10 февраля 1962 года в Западном Берлине на мосту Глинике, так называемом «шпионском мосту», Пауэрса обменяли на полковника Рудольфа Абеля – другое имя легендарного русского разведчика Вильяма Фишера, чьи заслуги были столь велики, что его изображение позже появилось на советской почтовой марке.
(обратно)16
По словам Черчилля, «Россия – это загадка, завернутая в загадку, помещенную внутрь загадки».
(обратно)17
«О положении страны» – ежегодное послание президента Соединенных Штатов Америки конгрессу, в котором он излагает свою оценку ситуации в стране и описывает предстоящие законодательные инициативы. Традиция ежегодных посланий президента родилась в 1790 году, когда Джордж Вашингтон выступил с подобным обращением к конгрессу в Нью-Йорке. Ныне действующее название послания было введено в обиход в 1935 году Франклином Рузвельтом.
(обратно)18
19 ноября 1863 года президент произнес эту речь при открытии Национального солдатского кладбища в Геттисберге; за четыре с половиной месяца до этого решающая Битва при Геттисберге, закончившаяся победой северян, унесла множество жизней.
(обратно)19
Президентская медаль Свободы была учреждена президентом США Гарри Трумэном в 1945 году для награждения гражданских лиц за заслуги во время Второй мировой войны. Новая медаль приравнивалась к медали Почета – высшей военной награде США, но после окончания войны она потеряла свою актуальность.
(обратно)20
Имеется в виду Лоуренс Штейнгардт. В 1939 году, менее чем за полгода до начала Второй мировой войны, Штейнгардт был назначен на работу в СССР. Нападение Германии на Советский Союз заставило иностранные посольства эвакуироваться на восток, в город Куйбышев (ныне Самара). Штейнгардт выехал в Куйбышев в конце 1941 года, оставив в Москве второго секретаря Льюэллина Томпсона и часть сотрудников посольства. Вскоре Лоуренс Штейнгардт был назначен послом США в Турции, где работал до окончания войны. Позже президент Гарри Трумэн направил его послом в Чехословакию, а затем в Канаду.
(обратно)21
Графиня Марион Хедда Ильзе Денхоф – журналист, публицист, «гранд-дама политической журналистики ФРГ». Автор нескольких десятков книг, многие из которых посвящены анализу истории Германии в XX веке. Единственная из участников заговора, пережившая последствия покушения на Гитлера в 1944 году. После прихода к власти нацистов встает в открытую оппозицию к режиму. За сотрудничество с коммунистами получила прозвище «красная графиня». В 1946 году становится одним из постоянных авторов еженедельника «Цайт». Ее статьи во многом повлияли на формирование морального облика послевоенной Германии. С 1955 года возглавляет политический раздел газеты «Цайт», а в 1968 году становится главным редактором. За журналистскую и публицистическую деятельность Союз немецкой книготорговли в 1971 году вручил ей Премию мира. К юбилею Марион Денхоф в Германии была выпущена памятная монета достоинством 10 евро. Надпись на ней отражает один из ее главных принципов – «Lieben ohne zu besitzen» («Любить, не владея»).
(обратно)22
Рейнская область – историческая область по среднему течению Рейна, расположенная в пределах современной Германии (земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия).
(обратно)23
Методы взимания репараций были следующие.
Первоначально просто снимали оборудование с германских заводов и вывозили в СССР. Вскоре, однако, выяснилось, что это не очень эффективно.
Тогда СССР перешел к эксплуатации германских предприятий на месте. Свыше двухсот «советских предприятий» (так называемые Sowjetische Aktien-Gesellschaften), на которые приходилось до трети всей промышленной продукции Восточной Германии, принадлежали Советскому государству. Две трети всей производимой на «советских предприятиях» продукции отправлялось в Советский Союз бесплатно в счет репараций.
Часть «советских предприятий» затем была продана ГДР. Большая часть была передана бесплатно при Хрущеве.
Несколько миллионов немецких военнопленных работало на СССР в послевоенные годы. В СССР также были вывезены десятки тысяч немецкого научного и технического персонала.
(обратно)24
Радио «Свободная Европа» / Радио «Свобода» – международная некоммерческая радиовещательная организация, финансируемая конгрессом США, создающая передачи, направленные на поощрение развития демократических институтов и рыночной экономики в странах, которые пытаются преодолеть авторитарное правление, нарушения прав человека, вражду на этнической и религиозной почве, обеспечить свободу средств массовой информации.
(обратно)25
План Маршалла – программа помощи Европе после Второй мировой войны. Выдвинут в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем К. Маршаллом. В осуществлении плана участвовали 17 европейских стран (включая Западную Германию). План Маршалла содействовал установлению послевоенного мира в Западной Европе. Целью США было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация индустрии европейских стран и развитие Европы в целом.
(обратно)26
Во время премьерства Черчилля Иден считался его преемником. Черчилль советовал королю Георгу VI в случае его, Черчилля, смерти назначить на пост премьер-министра Идена как самого способного из членов правительства.
(обратно)27
Берлинский воздушный мост – название операции западных союзников по авиаснабжению Западного Берлина продовольствием во время блокады города со стороны СССР. Берлинский воздушный мост просуществовал с 23 июня 1948 года по 12 мая 1949 года. 26 июня 1963 года, выступая с речью у ратуши в Шенеберге, своей ставшей знаменитой фразой «Я – берлинец», произнесенной на немецком языке, Кеннеди выразил солидарность американского народа с жителями Берлина и заявил о дальнейшей поддержке Берлина.
(обратно)28
Розовый сад Белого дома был создан в 1913 году Эллен Вильсон, супругой двадцать восьмого президента США Вудро Вильсона. Сравнительно небольшой (38 на 18 метров), но очень красивый розарий часто используется для встречи почетных гостей, проведения различных церемоний и публичных выступлений президента. Именно в Розовом саду президент США Рональд Рейган подписал закон, закрепляющий за розой статус официального цветка-символа США.
(обратно)29
Бочче – итальянская игра в шары, известная со времен Римской империи. Она чем-то похожа на боулинг, керлинг и бильярд. Еще в древние времена метание камней было одним из самых популярных развлечений человечества, о чем свидетельствуют найденные археологами изображения. Центром бочче являются Италия и Франция, эти страны до сих пор борются за право называть себя родоначальниками игры. Бочче распространено на всех континентах, от Северной Америки до Австралии.
(обратно)30
Бассейн, с закачиваемой прямо из моря водой, имеет размеры 24,6 на 11,0 метра, а также необычную конструкцию и расположение. Самое ценное – это раздвигающаяся, подобно гармошке, при помощи электропривода, передняя стена, обращенная к морю. Вода в бассейне, облицованном белой мраморной плиткой, в отличие от многих других подобных систем, переливается через край, удаляясь через специальный фальшбортик, который играет роль слива. Сделано это для того, чтобы у человека, плавающего в бассейне, создавалось ощущение, что он плавает в море.
(обратно)31
Автор ошибается. В тройку кандидатов на роль первого космонавта вошли Юрий Гагарин, Герман Титов и Григорий Нелюбов. (Примеч. ред.)
(обратно)32
Вольный город (в международном праве) – самостоятельное территориально-политическое нейтрализованное и демилитаризованное образование, правовой режим которого устанавливается международными договорами и гарантируется государствами или международными организациями.
(обратно)33
В 1893 году Май опубликовал свой самый знаменитый цикл романов о благородном индейце Виннету. С 1895 года ежегодно продавалось более 60 тысяч экземпляров его романов. Только в 1908 году Май побывал в Америке, причем западнее Буффало не ездил. В 1960-х годах многие его романы были экранизированы совместно кинематографистами ФРГ и Югославии. Считается, что романы Карла Мая были любимыми книгами Адольфа Гитлера во время его учебы в школе. По этой причине после Второй мировой войны его произведения не изучались ни в ГДР, ни в СССР.
(обратно)34
Ишервуд Кристофер – англо-американский писатель. Обучался медицине в Кембридже, но, проучившись всего шесть месяцев, уехал в Берлин. Начал публиковать свои произведения в 1928 году. В 1930–1933 годах работал учителем английского языка в Германии. После прихода к власти Гитлера покинул Германию. Воспоминания о Германии легли в основу самого известного произведения писателя – романа «Прощай, Берлин!», на основе которого был снят фильм «Кабаре».
(обратно)35
С ноября 1961 года улица носит название Карл-Маркс-аллее (KarlMarx-Allee – аллея Карла Маркса). (Примеч. авт.)
(обратно)36
Вильгельм Раабе – один из самых значительных немецких авторов второй половины XIX века. Первое произведение Раабе, написанное под псевдонимом Якоб Корвинус, – проникнутая печальным юмором повесть «Хроника Воробьиной улицы» (1857), изображает жизнь обитателей берлинской окраины, стоящих на низшей ступени социальной лестницы.
(обратно)37
RFK – Роберт Фрэнсис Кеннеди.
(обратно)38
Джон Фицджеральд «Джек» Кеннеди – англ. John Fitzgerald «Jack» Kennedy, известный как JFK.
(обратно)39
«Борт номер один» – позывной любого летательного аппарата ВВС США, на борту которого находится президент США. Неофициально этот термин часто используется вне зависимости от местонахождения президента в отношении самолетов президентского флота, который с 1990 года и по настоящее время состоит из двух специально оборудованных самолетов Boeing-747-200B (военное обозначение VC-25A) – борт 28000 и 29000. Если аэропорт назначения не может принять такой большой самолет, как VC-25A, в качестве «Борта номер один» выступает Boeing C-32.
(обратно)40
Уильямс Теннесси (1911–1983) – известный американский прозаик и драматург; Гарсия Капоте Трумен (1924–1984) – американский писатель-прозаик.
(обратно)41
Граф Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши – французский модельер, правнук французского живописца Пьера-Адольфа Бадена, основатель модного дома Живанши. Его понимание моды воплощали две знаменитые клиентки – Жаклин Кеннеди и Одри Хепберн; Олег Кассини – американский дизайнер одежды русско-итальянского происхождения. Был дизайнером голливудских киностудий «Парамаунт» и «Двадцатый век – Фокс». В 1960 году он был объявлен официальным модельером первой леди США Жаклин Кеннеди.
(обратно)42
В 1975 году доктора Джекобсона лишили медицинской лицензии. Один из его пациентов, друг Кеннеди Марк Шоу, умер в 1969 году в возрасте 47 лет, вскрытие показало наличие амфетаминов в его организме. (Примеч. авт.)
(обратно)43
Луи Александр Раймон (Александр де Пари) был создателем высокого парикмахерского искусства. Его клиентками были Мария Каллас, Одри Хепберн, Элизабет Тейлор, Роми Шнайдер, Грета Гарбо, Софи Лорен – самые красивые и талантливые женщины мира. Софи Лорен посещала знаменитого мастера более пятисот раз! Элизабет Тейлор блистала с прической от Александра де Пари в легендарной картине «Клеопатра», а также на своей свадьбе с Ричардом Бартоном. С 1978 по 1993 год Александр де Пари возглавлял Всемирную федерацию парикмахеров. Дважды, в 1963 и 1969 годах, ему вручалась самая престижная премия в области моды во Франции, а в 1992 году великий парикмахер получил орден Почетного легиона. Ему присвоили множество прозвищ: «д’Артаньян прически», «Сфинкс прически», «Принц парикмахерского искусства».
(обратно)44
«Содержание этой речи просто: именно ввиду того, что Филипп только на словах соблюдает мир, на деле же наносит много вреда, оратор советует афинянам собраться в поход и отразить натиск царя, так как большая опасность нависла и над ними самими, и вообще над всеми греками» (Либавий. Речи Демосфена. Третья речь против Филиппа. Пер. Радциг С.И.).
(обратно)45
Строительство дворца началось в 1696 году.
(обратно)46
Сан-Францисский мирный договор между странами антигитлеровской коалиции и Японией был подписан в Сан-Франциско 8 сентября 1951 года. Договор официально завершил Вторую мировую войну, закрепил порядок выплаты репараций союзникам и компенсаций пострадавшим от японской агрессии странам. Представители Советского Союза, Чехословакии и Польши, участвовавшие в конференции, отказались его подписать.
При обсуждении договора в Сан-Франциско в сенате США была принята односторонняя резолюция, содержавшая следующую важную оговорку: «Предусматривается, что условия договора не будут означать признание за СССР каких бы то ни было прав или претензий на территории, принадлежавшие Японии на 7 декабря 1941 года, которые наносили бы ущерб правам и правооснованиям Японии на эти территории, равно как не будут признаваться какие бы то ни было положения в пользу СССР в отношении Японии, содержащиеся в Ялтинском соглашении».
(обратно)47
Старейший парусный корабль в мире из находящихся на плаву. До сих пор числится в боевом составе американского флота. Известен как Old Ironsides («Железнобокий старина»). В настоящее время находится в гавани города Бостона, штат Массачусетс. Корабль включен в список важнейших достопримечательностей США.
(обратно)48
Хрущев подтвердил предложение о том, чтобы при заключении мирного договора с двумя германскими государствами Западный Берлин был наделен статусом «вольного города». Для обеспечения такого статуса, а также для гарантии невмешательства в дела города и его связи с внешним миром там могли бы быть размещены символические контингенты войск четырех держав – США, СССР, Англии и Франции или же войска нейтральных стран; гарантии для Западного Берлина были бы также юридически закреплены Организацией Объединенных Наций.
(обратно)49
Марка Германской демократической республики была неконвертируемой, в отличие от марки Федеративной республики Германии.
(обратно)50
И это несмотря на то, что Гарриман перед отъездом в Вену предупредил Кеннеди, что «хвастовство и угрозы Хрущева не стоит воспринимать слишком серьезно: «Не позволяйте ему вас уболтать. Он постарается вас запугать и запутать, но не обращайте на это внимания… Его стиль – сначала ввязываться в драку, а потом смотреть, что из этого выйдет. А вы не ввязывайтесь туда, куда он вас втягивает, а вместо этого посмейтесь над ним» (Таубман Уильям. Хрущев).
(обратно)51
Мировая серия – решающая серия игр в сезоне Главной лиги бейсбола «Сан-Франциско Джайентс». Современная Мировая серия проходит с 1903 года.
(обратно)52
«Функция политической полиции в КГБ резко усилилась после событий в Новочеркасске, отозвавшихся практически по всей стране. И партийные власти, и органы КГБ оказались, по существу, захваченными врасплох. Сразу же после подавления волнений в Президиуме ЦК КПСС принимается большое число решений, направленных на усиление политического сыска и борьбы с инакомыслием в стране. 19 июля 1962 года на заседании Президиума ЦК КПСС было [среди прочих] принято постановление:
Разрешить КГБ СССР увеличить штатную численность контрразведывательных подразделений территориальных органов КГБ на 400 военнослужащих».
(обратно)53
Молот и циркуль в ГДР соответствовали советской главной эмблеме – серпу и молоту. Эта соединенная эмблема символизировала союз между рабочим классом и научно-технической интеллигенцией, говорила о высоком техническом уровне хозяйства республики, о высокой квалификации ее рабочего класса. Хотя циркуль как символ меры вещей и как эмблема точности (прециозности) был известен в Германии уже в середине XVIII века, но его употребление было крайне ограниченно, эта эмблема носила чисто прикладное значение, и являлась ремесленным знаком архитекторов и чертежников (циркуль и угольник). Во второй половине XVIII – начале XIX века циркуль стал одной из главных эмблем масонов. Однако именно немецкий пролетариат впервые еще в 60-х годах XIX века попытался сделать эту эмблему своей, классовой. В социалистической геральдике ГДР значение циркуля как эмблемы неизмеримо расширилось и возвысилось: он символизировал научно-технический прогресс, техническую вооруженность, прециозность немецкой промышленности, а также известную немецкую точность и аккуратность, указывал на высокую квалификацию рабочего класса и на высокое качество изделий республики. Циркуль и молот, а иногда и один циркуль как главная эмблема республики входили в большинство знаков отличия ГДР, фигурировали на монетах и банкнотах республики. ( Похлёбкин В. Словарь международной символики и эмблематики).
(обратно)54
Изоляционизм в США понимался как направление во внешней политике по сокращению вмешательства в конфликты вне Американского континента.
(обратно)55
Народная палата – высший орган государственной власти и единственный законодательный орган ГДР.
(обратно)56
«Экономист» – влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Великобритании с 1843 года. Основные темы, освещаемые журналом, – политические события, международные отношения, финансовые, экономические и деловые новости, а также наука и культура. Редакция журнала придерживается позиций классического либерализма.
(обратно)57
На вечере в Кремле в честь выпускников военных академий он заявил: «Мы подпишем мирный договор, а нашим вооруженным силам дадим приказ, чтобы любой агрессор, если он поднимет руку на Советский Союз или на наших друзей, получил бы достойный отпор» (Медведев Рой. Н.С. Хрущев: Политическая биография).
(обратно)58
Еженедельный американский журнал, который входит в «большую тройку» еженедельников США. Основан в 1933 году. Выходит на семи языках.
(обратно)59
94 градуса по Фаренгейту = 34,4 градуса по Цельсию.
(обратно)60
Бюро разведки и исследования – подразделение Государственного департамента, в задачи которого входит обеспечение высшего руководства страны информацией по военно-политическим, социологическим, научным и другим вопросам. Отвечает за сбор данных на политических, военных и других деятелей различных государств, руководит деятельностью разведывательных аппаратов американских посольств и других представительств за рубежом. Бюро занимается изучением проблем влияния военного потенциала иностранных государств на международные отношения, осуществляет анализ хода переговоров по проблемам разоружения.
(обратно)61
После стабилизации обстановки в апреле 1962 года Якубовский был вновь возвращен на должность главнокомандующего группой советских войск в Германии.
(обратно)62
«Сотни кавалеристов рубили немцев саблями и крушили их так, как никогда еще не крушила врага кавалерия. Брать пленных было некогда. Это была бойня, которую ничто не могло остановить, пока она не закончится. На небольшом участке было перебито более 20 тысяч немцев» (Верт Александр. Россия в войне 1941–1945).
(обратно)63
«Берлинер ансамбль» был основан в 1949 году писателем Бертольтом Брехтом и его женой, актрисой Еленой Вейгель. В труппу вошли актеры берлинского Немецкого театра и Цюрихского драматического театра. Символом театра стал голубь мира Пабло Пикассо на театральном занавесе. Получил всемирную известность благодаря постановкам произведений своего основателя Бертольта Брехта. С 1954 года размещается в здании театра на Шиффбауэрдамм в центре Берлина.
(обратно)64
В октябре 1953 года по решению восточноберлинского магистрата было открыто политическое кабаре «Дистель» («Чертополох»); первая программа называлась «Ура, юмор планируется!». Задуманная как мощное политическое оружие, антизападная направленность программ кабаре «Дистель» позднее обернулась колкой сатирой в адрес самого руководства ГДР.
(обратно)65
Киль расположен на берегу Кильской бухты Балтийского моря. Кильским каналом связан с Северным морем.
(обратно)66
Хоум-ран – разновидность игровой ситуации в бейсболе. Хоум-раны являются одними из самых популярных моментов в бейсболе, считаются одними из самых зрелищных среди любителей бейсбола и, следовательно, неплохо оплачиваются. В Америке даже появилась пословица: «Выбивающие хоум-ран водят «кадиллак», а выбивающие сингл – «форд».
Мантл был знаменит силой хоум-рана, совершенного как правой, так и левой рукой. За свою карьеру бейсболист сделал 536 хоум-ранов. Мантл был назван лучшим игроком американской лиги в 1956, 1957, 1962 годах. Мантл вместе с «Янкиз» выиграл семь чемпионатов США. Микки Мантл в 1961 году совершил 54 хоум-рана, но этот рекорд побил Роджер Марис, совершивший 61 хоум-ран. Роджер Марис был назван лучшим игроком Американской лиги в 1960, 1961 годах.
(обратно)67
Одна из наиболее популярных и авторитетных газет США. Публикуется в Лос-Анджелесе и первоочередное внимание уделяет освещению событий городской жизни. По тиражу занимает четвертое место в США. По оценке Британской энциклопедии, начиная с 1960-х годов «Лос-Анджелес таймс» вышла из ниши регионального издания и стала «од ной из великих газет мира».
(обратно)68
Туров сбежал на Запад 21 февраля 1962 года. В министерстве госбезопасности ГДР был составлен план его ликвидации. Его пытались убить и даже похитить. «В этом плане о ликвидации написано, как меня нужно было убить, – позже вспоминал Туров. – Моя смерть от удара молотком по голове должна была быть инсценирована как ограбление». Подобные способы ликвидации дезертиров широко использовались спецслужбами ГДР. (Примеч. авт.)
(обратно)69
Шёнхаузер-аллее – крупнейшая торговая улица в районе Пренцлауэр-Берг, главная транспортная ось, тянущаяся от Шёнхаузских ворот в северную сторону административного округа Берлина – Панков.
(обратно)70
Унтер-ден-Линден – одна из главных и самых известных улиц Берлина, получившая свое название благодаря липам, посаженным на месте королевской дороги в 1647 году по приказу Фридриха Вильгельма. Собственно бульваром и одновременно лицом прусской столицы Унтер-ден-Линден стала в 1770 году, когда на месте старых построек были возведены элегантные, парадные здания для богатых горожан. Современный облик бульвара был воссоздан из руин Второй мировой войны. Новые здания практически полностью копируют архитектурную историю Унтер-ден-Линден.
(обратно)71
Потсдамская площадь – центральная площадь в берлинском районе Тиргартен. Известно, что на ней появился первый в Европе светофор, приобретенный в Нью-Йорке и установленный в Берлине в 1924 году. Некоторые считают, что первый в Европе электрический фонарь тоже был установлен на Потсдамской площади. После падения Берлинской стены на площади выступил Роджер Уотерс из «Пинк Флойд» с концертом «Стена». На площади сохранили несколько элементов Берлинской стены, которые образовали так называемый Мемориал Берлинской стены.
(обратно)72
Прозвище сотрудников народной полиции ГДР, созданной в мае 1945 года, образовано по первым слогам слова Volkspolizei (народная полиция) – Voрo.
(обратно)73
Воспетая ирландской группой U2 (песня Zoo Station), станция Зоологический сад начала функционировать 7 февраля 1882 года, а 11 марта 1902 года она была соединена со станцией метро (U-Bahn). После возведения Берлинской стены Bahnhof Zoo был единственным в Западном Берлине вокзалом, который принимал поезда дальнего следования. Даже после воссоединения разделенной страны станция, несмотря на свои скромные размеры (всего две пассажирские платформы и четыре пути), оставалась крупной транспортной артерией города.
(обратно)74
Рюман Хайнц (настоящее имя Генрих Вильгельм Рюман) – немецкий актер и режиссер.
Вернер Ильзе – датско-немецкая актриса и певица.
Вайзер Грета – немецкая актриса.
(обратно)75
Является крупнейшим еврейским кладбищем Европы и выдающимся культурно-историческим памятником. Полностью сохранившийся реестр умерших – уникальный документ современной истории. Мартин Ризенбургер, позднее раввин Еврейской общины Восточного Берлина, даже в 1943 и 1944 годах время от времени проводил здесь богослужения и хоронил умерших в Берлине жителей еврейского происхождения. Ему удалось спасти и спрятать на кладбище большое количество свитков Торы и серебряное убранство синагоги.
(обратно)76
Впоследствии Шуман обосновался в Баварии, где познакомился со своей будущей женой. После падения Берлинской стены он сказал: «Лишь с 9 ноября 1989 года я чувствую себя действительно свободным». Однако он сильно переживал из-за напряженных отношений с бывшими коллегами и родственниками, жившими в Саксонии. 20 июня 1998 года страдавший от депрессии Шуман покончил жизнь самоубийством, повесившись в саду собственного дома. (Примеч. авт.)
(обратно)77
Темпельхофское поле, на котором был построен аэропорт Темпельхоф, раньше служило плацем для строевой подготовки. В 1909 году Орвилл Райт представил здесь свой летательный аппарат, проводил показательные полеты и установил несколько рекордов. После сдачи аэропорта в эксплуатацию 6 апреля 1926 года был совершен первый регулярный рейс авиакомпании «Люфтганза» в Цюрих. В 1927 году к аэропорту Темпельхоф – первому в мире – была подведена линия U-Bahn. В апреле 1945 года аэропорт Темпельхоф был оккупирован советскими войсками, а 4 июля передан американцам. Самолеты взлетали и садились в Темпельхофе каждые девяносто секунд. Благодаря американскому пилоту Гейлу Хелворсену, который при посадке в Темпельхофе сбрасывал для берлинских детей из окна кабины сладости на парашютиках из носовых платков, самолеты, работавшие на берлинском воздушном мосту, стали называть «конфетными бомбардировщиками».
(обратно)78
Государственный гимн Соединенных Штатов Америки. Текст взят из поэмы «Оборона форта Макгенри», написанной в 1814 году Фрэнсисом Скоттом Ки, тридцатипятилетним адвокатом и поэтом-любителем. Автор музыки Джон Стаффорд Смит, британский историк музыки, композитор, органист и певец, который в 1766 году написал шутливый гимн «Общества Анакреона», объединявшего лондонских музыкантов. В 1889 году песня стала официально использоваться в военно-морских силах США, в 1916 году в Белом доме, а 3 марта 1931 года резолюцией конгресса была объявлена национальным гимном.
(обратно)79
Газета основана 21 мая 1945 года и первоначально являлась органом командования Красной армии. Первым главным редактором был полковник Советской армии Александр Кирзанов. Редакция состояла из советских офицеров, антифашистов и членов КПГ, позже были включены и другие журналисты. В 1953 году «Берлинер цайтунг» была подчинена ЦК СЕПГ, но официально не являлась органом окружной организации партии. Планы начала 1990-х годов сделать «Берлинер цайтунг» немецким аналогом «Вашингтон пост» не увенчались успехом.
(обратно)80
Свободный университет был учрежден 4 декабря 1948 года в разделенном на оккупационные секторы послевоенном Берлине. Берлинский университет, основанный в 1849 году, оказался в советском секторе оккупации германской столицы и возобновил свою работу с разрешения советской военной администрации в Германии в 1946 году. Политические разногласия между бывшими союзниками по коалиции проявились и в системе высшего образования. Необходимость основания нового, свободного университета назрела к концу 1947 года. На фоне студенческих волнений в конце апреля 1948 года глава американской военной администрации в Берлине Люсиус Клей распорядился об изыскании возможностей для открытия нового университета в Западном Берлине. Занятия в Свободном университете начались 15 ноября 1948 года в зданиях Общества кайзера Вильгельма в Далеме. Цели Свободного университета отражены в его девизе: Veritas – Iustitia – Libertas («Правда – Справедливость – Свобода»).
По требованию бывшего студента в книге указана вымышленная фамилия. (Примеч. авт.)
(обратно)81
Нельсон был первым исполнителем, который возглавил Billboard Hot – 100 (еженедельно публикуемый американским журналом Billboard хит-парад ста наиболее популярных в США песен). В общей сложности в 1957–1973 годах пятьдесят три его сингла входили в американский хит-парад, девятнадцать из них поднимались в первую десятку. В январе 1987 года, через два года после гибели в авиакатастрофе, Рики Нельсон был включен в Зал славы рок-н-ролла.
(обратно)82
Колокол Свободы – копия филадельфийского Колокола Свободы, одного из главных символов американской борьбы за независимость от Великобритании, подарок американцев Западному Берлину.
(обратно)83
Институт Гэллапа – американский институт общественного мнения. Основан в 1935 году Джорджем Гэллапом, проводит регулярные опросы населения по проблемам внутренней и внешней политики, пользуется международным авторитетом как один из наиболее надежных источников информации о состоянии общественного мнения в США и в мире.
(обратно)84
В 1963 году Аденауэр уйдет в отставку, и в 1969 году Брандт станет первым в послевоенный период канцлером от социал-демократической партии. (Примеч. авт.)
(обратно)85
Позывной любого летательного аппарата Корпуса морской пехоты США, на борту которого находится президент США. Использование вертолетов в качестве президентского транспорта началось в США в 1957 году с полета Дуайта Эйзенхауэра на H-13. В 1958 году в качестве президентского вертолета использовался H-34, а в 1961 году – VH-3A. До 1976 года вертолетный транспорт для президента предоставлялся совместно Корпусом морской пехоты и сухопутными войсками США. Вертолеты сухопутных войск использовали позывной Army One.
(обратно)86
Арон Раймон – французский философ, политолог, социолог и публицист. Либерал. Считал, что государство обязано создавать законы, обеспечивающие свободу, плюрализм и равенство гражданам, а также обеспечить их выполнение. Является одним из авторов теории индустриального и постиндустриального обществ. Автор книги «Опиум для интеллигенции».
(обратно)87
Епишев Алексей Алексеевич – дипломат, генерал армии. Имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Советского Союза. В 1961–1962 годах посол в Югославии. Весной 1962 года отозван из Югославии, в третий раз зачислен на военную службу и 30 апреля 1962 года назначен на должность начальника Главного политического управления Советской армии и Военно-морского флота. Прослужил на этом посту дольше чем кто бы то ни было. Сыграл исключительную роль в полном подчинении вооруженных сил интересам руководства КПСС. Имел полную власть в армии, поскольку не подчинялся даже министру обороны СССР. Сторонник самых догматических и ортодоксальных взглядов, категорический противник упоминания о репрессиях, о культе личности, о неудачных операциях периода Великой Отечественной войны.
(обратно)88
До создания УСС разведкой в США занимались специальные отделы в различных ведомствах исполнительной власти: Государственном департаменте, армии, флоте и казначействе. У них не было единого руководства. Президент Рузвельт был озабочен этими недостатками американской разведки. По предложению Уильяма Стефенсона, представителя британской разведки в Западном полушарии, Рузвельт назначил друга Стефенсона, нью-йоркского адвоката Уильяма Донована, ветерана Первой мировой войны, руководителем новой разведслужбы. УСС было основано в июне 1942 года для сбора и анализа стратегической информации. На основе УСС после войны было создано ЦРУ.
(обратно)89
В налете впервые участвовали самолеты 314-го авиакрыла. В состав крыла входили четыре группы (19, 29, 39 и 339-я). Возглавлял крыло бригадный генерал Томас С. Пауэр. Крыло базировалось на аэродроме Норт-Филд на острове Гуам. В полдень 9 марта 1945 года с Марианских островов поднялось 325 самолетов. К ночи над Токио появилось 279 В-29. Самолеты сбросили 1665 тонн зажигательных бомб. Сильный ветер у земли способствовал распространению пожара. Над городом возник огневой смерч.
К утру 10 марта более 40 квадратных километров в центре города выгорело дотла. В огне погибло более 84 тысяч мирных жителей. Более миллиона токийцев осталось без крова. В ночь с 9 на 10 марта 1945 года погибло больше человек, чем при взрыве атомной бомбы. Американцам налет обошелся в 14 потерянных В-29.
(обратно)90
Стратегическое командование ВВС США – главное командование, существовавшее в составе ВВС США, а также как Особое командование в министерстве обороны в 1946–1992 годах. В ведении Стратегического командования находился флот стратегических бомбардировщиков и межконтинентальные баллистические ракеты шахтного базирования, а также отдельные эскадрильи воздушных танкеров, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения и истребителей, обеспечивавших поддержку американской стратегической авиации.
(обратно)91
Гевин начал службу в пехоте, в 1941 году после прохождения специальной подготовки был зачислен во временную парашютную группу в Форт-Беннинге. В августе 1942 года был назначен командиром 505-го парашютного пехотного полка. В феврале 1944 года стал заместителем командира 82-й воздушно-десантной дивизии. Прославился своими действиями во время высадки союзников в Нормандии. В августе 1944 года был назначен командиром 82-й воздушно-десантной дивизии. В феврале 1945 года прорвал линию Зигфрида и 2 мая принял капитуляцию частей 21-й германской армии. После окончания войны занимал высокие командные посты в армии США. В 1952–1954 годах командир VI корпуса. В 1954 году назначен заместителем начальника штаба армии США. В 1958 году вышел в отставку и был приглашен в корпорацию Arthur D. Little, Inc. директором по новым разработкам и развитию. В 1961–1962 годах посол США во Франции.
(обратно)92
Танку было присвоено имя Паттон в честь генерала Джорджа Смита Паттона-младшего. Газета «Нью-Йорк таймс» написала о Паттоне в некрологе: «Генерал Джордж Смит Паттон-младший был одним из самых выдающихся солдат в американской истории».
Нацистские генералы признавались, что из американских военачальников больше всех боялись Паттона. Когда после войны немецкого фельдмаршала Герда фон Рундштедта попросили оценить противостоявших ему союзнических полководцев, он ответил: «Паттон. Он был вашим лучшим».
(обратно)




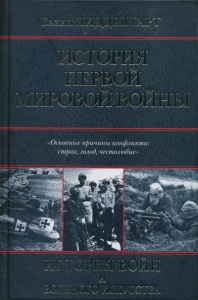
Комментарии к книге «Берлин 1961. Кеннеди, Хрущев и самое опасное место на Земле», Фредерик Кемп
Всего 0 комментариев