Сергей Ольденбург Царствование императора Николая II
© «Центрполиграф», 2016
Книга первая Самодержавное правление 1894–1904
Николай II и императрица Александра Федоровна. 1896 г.
Глава 1
Манифест о восшествии государя на престол. – Оценка царствования императора Александра III (В. О. Ключевский, К. П. Победоносцев). – Общее положение в 1894 г. – Российская империя. – Царская власть. – Чиновничество. – Тенденции правящих кругов: «демофильская» и «аристократическая». – Внешняя политика и франко-русский союз. – Армия. – Флот. – Местное самоуправление. – Финляндия. – Печать и цензура. – Мягкость законов и суда. – Культурный уровень. – Литература к началу 90-х гг. – Искусство. – Положение сельского хозяйства. – Рост промышленности. – Постройка железных дорог; Великий Сибирский путь. – Бюджет. – Внешняя торговля. – Рознь между властью и образованным обществом. – Отзыв К. Н. Леонтьева
«Богу Всемогущему угодно было в неисповедимых путях своих прервать драгоценную жизнь горячо любимого родителя нашего, государя императора Александра Александровича. Тяжкая болезнь не уступила ни лечению, ни благодатному климату Крыма, и 20 октября Он скончался в Ливадии, окруженный августейшей семьей своей, на руках ее императорского величества государыни императрицы и наших.
Горя нашего не выразить словами, но его поймет каждое русское сердце, и мы верим, что не будет места в обширном государстве нашем, где бы не пролились горячие слезы по государю, безвременно отошедшему в вечность и оставившему родную землю, которую он любил всею силою своей русской души и на благоденствие которой он полагал все помыслы свои, не щадя ни здоровья своего, ни жизни. И не в России только, а далеко за ее пределами никогда не перестанут чтить память царя, олицетворявшего непоколебимую правду и мир, ни разу не нарушенный во все его царствование».
Этими словами начинается манифест, возвестивший России о восшествии императора Николая II на прародительский престол.
Правление императора Александра III, получившего наименование царя-миротворца, не изобиловало внешними событиями, но оно наложило глубокий отпечаток на русскую и на мировую жизнь. За эти тринадцать лет были завязаны многие узлы – и во внешней, и во внутренней политике, – развязать или разрубить которые довелось его сыну и преемнику, государю императору Николаю II Александровичу.
И друзья, и враги императорской России одинаково признают, что император Александр III значительно повысил международный вес Российской империи, а в ее пределах утвердил и возвеличил значение самодержавной царской власти. Он повел русский государственный корабль иным курсом, чем его отец. Он не считал, что реформы 60-х и 70-х гг. – безусловное благо, а старался внести в них те поправки, которые, по его мнению, были необходимы для внутреннего равновесия России.
После эпохи Великих реформ, после войны 1877–1878 гг., этого огромного напряжения русских сил в интересах балканского славянства, России во всяком случае была необходима передышка. Надо было освоить, «переварить» произошедшие сдвиги.
В императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете известный русский историк, профессор В. О. Ключевский, в своем слове памяти императора Александра III через неделю после его кончины сказал:
«В царствование императора Александра III мы на глазах одного поколения мирно совершили в своем государственном строе ряд глубоких реформ в духе христианских правил, следовательно, в духе европейских начал – таких реформ, какие стоили Западной Европе вековых и часто бурных усилий, – а эта Европа продолжала видеть в нас представителей монгольской косности, каких-то навязанных приемышей культурного мира…
Прошло 13 лет царствования императора Александра III, и чем торопливее рука смерти спешила закрыть Его глаза, тем шире и изумленнее раскрывались глаза Европы на мировое значение этого недолгого царствования. Наконец и камни возопили, органы общественного мнения Европы заговорили о России правду, и заговорили тем искреннее, чем непривычнее для них было говорить это. Оказалось, по этим признаниям, что европейская цивилизация недостаточно и неосторожно обеспечила себе мирное развитие, для собственной безопасности поместилась на пороховом погребе, что горящий фитиль не раз с разных сторон приближался к этому опасному оборонительному складу, и каждый раз заботливая и терпеливая рука русского царя тихо и осторожно отводила его… Европа признала, что царь русского народа был государем международного мира, и этим признанием подтвердила историческое призвание России, ибо в России, по ее политической организации, в воле царя выражается мысль Его народа, и воля народа становится мыслью его царя. Европа признала, что страна, которую она считала угрозой своей цивилизации, стояла и стоит на ее страже, понимает, ценит и оберегает ее основы не хуже ее творцов; она признала Россию органически необходимой частью своего культурного состава, кровным, природным членом семьи своих народов…
Наука отведет императору Александру III подобающее место не только в истории России и всей Европы, но и в русской историографии, скажет, что Он одержал победу в области, где всего труднее достаются эти победы, победил предрассудок народов и этим содействовал их сближению, покорил общественную совесть во имя мира и правды, увеличил количество добра в нравственном обороте человечества, ободрил и приподнял русскую историческую мысль, русское национальное самосознание, и сделал все это так тихо и молчаливо, что только теперь, когда Его уже нет, Европа поняла, чем Он был для нее».
Если профессор Ключевский, русский интеллигент и скорее западник, останавливается больше на внешней политике императора Александра III и, видимо, намекает на сближение с Францией, – о другой стороне этого царствования в сжатой и выразительной форме высказался ближайший сотрудник покойного монарха, К. П. Победоносцев: «Все знали, что не уступит он русского, историей завещанного интереса ни на Польской, ни на иных окраинах инородческого элемента, что глубоко хранит он в душе своей одну с народом веру и любовь к Церкви православной; наконец, что он заодно с народом верует в непоколебимое значение власти самодержавной в России и не допустит для нее, в призраке свободы, гибельного смешения языков и мнений».
В заседании Французского сената его председатель Шалльмель-Лакур сказал в своей речи (5 ноября 1894 г.), что русский народ переживает «скорбь утраты властителя, безмерно преданного его будущему, его величию, его безопасности; русская нация под справедливой и миролюбивой властью своего императора пользовалась безопасностью, этим высшим благом общества и орудием истинного величия».
В таких же тонах отзывалась о почившем русском царе большая часть французской печати: «Он оставляет Россию более великой, чем ее получил», – писал Journal des Debats; a Revue des deux Mondes вторила словам В. О. Ключевского: «Это горе было и нашим горем; для нас оно приобрело национальный характер; но почти те же чувства испытали и другие нации… Европа почувствовала, что она теряет арбитра, который всегда руководился идеей справедливости».
* * *
1894 г. – как вообще 80-е и 90-е гг. – относится к тому долгому периоду «затишья перед бурей», самому долгому периоду без больших войн в новой и средневековой истории. Эта пора наложила отпечаток на всех, кто вырастал в эти годы затишья. К концу XIX в. рост материального благосостояния и внешней образованности шел с возрастающим ускорением. Техника шла от изобретения к изобретению, наука – от открытия к открытию. Железные дороги, пароходы уже сделали возможным «путешествие вокруг света в 80 дней»; вслед за телеграфными проволоками по всему миру уже протягивались нити телефонных проводов. Электрическое освещение быстро вытесняло газовое. Но в 1894 г. неуклюжие первые автомобили еще не могли конкурировать с изящными колясками и каретами; «живая фотография» была еще в стадии предварительных опытов; управляемые воздушные шары были только мечтой; об аппаратах тяжелее воздуха еще не слыхали. Не было изобретено радио, и не был еще открыт радий…
Почти во всех государствах наблюдался один и тот же политический процесс: рост влияния парламента, расширение избирательного права, переход власти к более левым кругам. Против этого течения, казавшегося в то время стихийным ходом «исторического прогресса», никто на Западе, в сущности, не вел реальной борьбы. Консерваторы, сами постепенно линяя и левея, довольствовались тем, что временами замедляли темп этого развития – 1894 г. в большинстве стран как раз застал такое замедление.
Во Франции, после убийства президента Карно и ряда бессмысленных анархических покушений, вплоть до бомбы в палате депутатов и пресловутого Панамского скандала, которыми ознаменовалось начало 90-х гг. в этой стране, произошел как раз небольшой сдвиг вправо. Президентом был Казимир Перье, правый республиканец, склонный к расширению президентской власти; управляло министерство Дюпюи, опиравшееся на умеренное большинство. Но «умеренными» уже в ту пору считались те, кто в 70-х гг. были на крайней левой позиции Национального собрания; как раз незадолго перед тем – около 1890 г. – под влиянием советов папы Льва XIII значительная часть французских католиков перешла в ряды республиканцев.
В Германии после отставки Бисмарка влияние рейхстага значительно возросло; социал-демократия, постепенно завоевывая все большие города, становилась самой крупной германской партией. Консерваторы, со своей стороны, опираясь на прусский ландтаг, вели упорную борьбу с экономической политикой Вильгельма II. За недостаток энергии в борьбе с социалистами канцлер Каприви в октябре 1894 г. был заменен престарелым князем Гогенлоэ; но какой-либо заметной перемены курса от этого не получилось.
В Англии в 1894 г. на ирландском вопросе потерпели поражение либералы, и у власти находилось «промежуточное» министерство лорда Розбери, которое скоро уступило место кабинету лорда Солсбери, опиравшемуся на консерваторов и либералов-унионистов (противников ирландского самоуправления). Эти унионисты во главе с Чемберленом играли настолько видную роль в правительственном большинстве, что вскоре имя унионистов вообще лет на двадцать вытеснило название консерваторов. В отличие от Германии английское рабочее движение еще не носило политического характера, и мощные тред-юнионы, уже устраивавшие весьма внушительные забастовки, довольствовались пока экономическими и профессиональными достижениями – встречая в этом больше поддержки у консерваторов, нежели у либералов. Этими соотношениями объясняется фраза видного английского деятеля того времени: «Все мы теперь социалисты»…
В Австрии и в Венгрии парламентское правление было ярче выражено, чем в Германии: кабинеты, не имевшие большинства, должны были уходить в отставку. С другой стороны, сам парламент противился расширению избирательного права: господствующие партии боялись утратить власть. К моменту кончины императора Александра III в Вене правило недолговечное министерство князя Виндишгреца, опиравшееся на весьма разнородные элементы: на немецких либералов, на поляков и на клерикалов.
В Италии, после периода господства левых с Джолитти во главе, после скандала с назначением в сенат проворовавшегося директора банка Танлонго, в начале 1894 г. пришел снова к власти старый политический деятель Криспи, один из авторов Тройственного союза, в особых итальянских парламентских условиях игравший роль консерватора.
Хотя 2-й Интернационал был уже основан в 1889 г. и социалистические идеи получали в Европе все большее распространение, к 1894 г. социалисты еще не представляли собою серьезной политической силы ни в одной стране, кроме Германии (где в 1893 г. они провели уже 44 депутата). Но парламентарный строй во многих малых государствах – Бельгии, Скандинавских, Балканских странах – получил еще более прямолинейное применение, чем у великих держав. Кроме России, только Турция и Черногория из европейских стран вовсе не имели в то время парламентов.
Эпоха затишья была в то же время эпохой вооруженного мира. Все великие державы, а за ними и малые увеличивали и усовершенствовали свои вооружения. Европа, как выразился В. О. Ключевский, «для собственной безопасности поместилась на пороховом погребе». Всеобщая воинская повинность была проведена во всех главных государствах Европы, кроме островной Англии. Техника войны не отставала в своем развитии от техники мира.
Взаимное недоверие между государствами было велико. Тройственный союз Германии, Австро-Венгрии и Италии казался наиболее мощным сочетанием держав. Но и его участники не вполне полагались друг на друга. Германия до 1890 г. еще считала нужным «перестраховаться» путем тайного договора с Россией – и Бисмарк видел роковую ошибку в том, что император Вильгельм II не возобновил этого договора, – а с Италией не раз вступала в переговоры Франция, стремясь оторвать ее от Тройственного союза. Англия пребывала в «великолепном одиночестве». Франция таила незажившую рану своего поражения в 1870–1871 гг. и готова была примкнуть ко всякому противнику Германии. Жажда реванша ярко проявилась в конце 80-х гг. успехами буланжизма.
Раздел Африки был в общих чертах закончен к 1890 г., по крайней мере на побережье. Внутрь материка, где еще оставались неисследованные области, отовсюду стремились предприимчивые колонизаторы, чтобы первыми поднять флаг своей страны и закрепить за ней «ничьи земли». Только на среднем течении Нила путь англичанам еще преграждало государство махдистов, фанатиков-мусульман, в 1885 г. одолевших и убивших при взятии Хартума английского генерала Гордона. И горная Абиссиния, на которую начинали свой поход итальянцы, готовила им неожиданно мощный отпор.
Все это были только островки – Африка, как раньше Австралия и Америка, становилась достоянием белой расы. До конца XIX в. преобладало убеждение, что и Азию постигнет та же участь. Англия и Россия уже следили друг за другом через тонкий барьер слабых еще самостоятельных государств, Персии, Афганистана, полунезависимого Тибета. Ближе всего дошло до войны за все царствование императора Александра III, когда в 1885 г. генерал Комаров под Кушкой разгромил афганцев: англичане зорко наблюдали за «воротами в Индию»! Однако острый конфликт был разрешен соглашением 1887 г.
Но на Дальнем Востоке, где еще в 1850-х гг. русские без борьбы заняли принадлежавший Китаю Уссурийский край, дремавшие народы как раз зашевелились. Когда умирал император Александр III, на берегах Желтого моря гремели пушки: маленькая Япония, усвоившая европейскую технику, одерживала свои первые победы над огромным, но еще недвижным Китаем.
* * *
В этом мире Российская империя, с ее пространством в 20 миллионов квадратных верст, с населением в 125 миллионов человек, занимала видное положение. Со времени Семилетней войны, а в особенности с 1812 г. военная мощь России ценилась весьма высоко в Западной Европе. Крымская война показала пределы этой мощи, но в то же время и подтвердила ее прочность. С тех пор эпоха реформ, в том числе и в военной сфере, создала новые условия для развития русской силы.
Россию в это время начали серьезно изучать. А. Леруа-Болье на французском языке, сэр Д. Маккензи-Уоллес на английском издали большие исследования о России 1870–1880-х гг. Строение Российской империи весьма существенно отличалось от западноевропейских условий, но иностранцы тогда уже начали понимать, что речь идет о несходных, а не об «отсталых» государственных формах.
«Российская империя управляется на точном основании законов, от высочайшей власти исходящих. Император есть монарх самодержавный и неограниченный», – гласили русские основные законы. Царю принадлежала вся полнота законодательной и исполнительной власти. Это не означало произвола: на все существенные вопросы имелись точные ответы в законах, которые подлежали исполнению, пока не было отмены. В области гражданских прав русская царская власть вообще избегала резкой ломки, считалась с правовыми навыками населения и с благоприобретенными правами и оставляла в действии на территории империи и кодекс Наполеона (в царстве Польском), и Литовский статут (в Полтавской и Черниговской губерниях), и Магдебургское право (в Прибалтийском крае), и обычное право у крестьян, и всевозможные местные законы и обычаи на Кавказе, в Сибири, в Средней Азии.
Но право издавать законы нераздельно принадлежало царю. Был Государственный совет из высших сановников, назначенных туда государем; он обсуждал проекты законов; но царь мог согласиться, по своему усмотрению, и с мнением большинства, и с мнением меньшинства – или отвергнуть и то и другое. Обычно для проведения важных мероприятий образовывались особые комиссии и совещания; но они имели, разумеется, только подготовительное значение.
В области исполнительной полнота царской власти также была неограниченна. Людовик XIV после смерти кардинала Мазарини заявил, что хочет отныне быть сам своим первым министром. Но все русские монархи были в таком же положении. Россия не знала должности первого министра. Звание канцлера, присваивавшееся иногда министру иностранных дел (последним канцлером был светлейший князь А. М. Горчаков, скончавшийся в 1883 г.), давало ему чин I класса по Табели о рангах, но не означало какого-либо главенства над остальными министрами. Был Комитет министров, у него имелся постоянный председатель (в 1894 г. им еще состоял бывший министр финансов Н. Х. Бунге). Но этот Комитет был, в сущности, только своего рода межведомственным совещанием.
Все министры и главноуправляющие отдельными частями имели у государя свой самостоятельный доклад. Государю были также непосредственно подчинены генерал-губернаторы, а также градоначальники обеих столиц.
Это не значило, что государь входил во все детали управления отдельными ведомствами (хотя, например, император Александр III был «собственным министром иностранных дел», которому докладывались все «входящие» и «исходящие»; Н. К. Гирс был как бы его «товарищем министра»). Отдельные министры имели иногда большую власть и возможность широкой инициативы. Но они имели их, поскольку и пока им доверял государь.
Для проведения в жизнь предначертаний, идущих сверху, Россия имела также многочисленный штат чиновников. Император Николай I обронил когда-то ироническую фразу о том, что Россией управляют 30 000 столоначальников. Жалобы на «бюрократию», на «средостение» были весьма распространены в русском обществе. Принято было бранить чиновников, ворчать на них. За границей существовало представление о чуть ли не поголовном взяточничестве русских чиновников. О нем часто судили по сатирам Гоголя или Щедрина; но карикатура, даже удачная, не может считаться портретом. В некоторых ведомствах, например в полиции, низкие оклады действительно способствовали довольно широкому распространению взятки. Другие, как, например Министерство финансов или судебное ведомство после реформы 1864 г., пользовались, наоборот, репутацией высокой честности. Надо, впрочем, признать, что одной из черт, роднивших Россию с восточными странами, было бытовое снисходительное отношение к многим поступкам сомнительной честности; борьба с этим явлением была психологически нелегка. Некоторые группы населения, как, например, инженеры, пользовались еще худшей репутацией, чем чиновники, – весьма часто, разумеется, незаслуженной.
Зато правительственные верхи были свободны от этого недуга. Случаи, когда к злоупотреблениям оказывались причастны министры или другие представители власти, были редчайшими сенсационными исключениями.
Как бы то ни было, русская администрация, даже в самых несовершенных своих частях, выполняла, несмотря на трудные условия, возложенную на нее задачу. Царская власть имела в своем распоряжении послушный и стройно организованный государственный аппарат, прилаженный к многообразным потребностям Российской империи. Этот аппарат создавался веками – от московских приказов – и во многом достиг высокого совершенства.
Но русский царь был не только главой государства: он был в то же время главою Русской православной церкви, занимавшей первенствущее положение в стране. Это, конечно, не означало, что царь был вправе касаться церковных догматов; соборное устройство православной церкви исключало такое понимание прав царя. Но по предложению Святейшего синода, высшей церковной коллегии, назначение епископов производилось царем; и от него же зависело (в том же порядке) пополнение состава самого Синода. Связующим звеном между церковью и государством был обер-прокурор Синода. Эта должность более четверти века занималась К. П. Победоносцевым, человеком выдающегося ума и сильной воли, учителем двух императоров – Александра III и Николая II.
За время правления императора Александра III проявились следующие основные тенденции власти: не огульно-отрицательное, но во всяком случае критическое отношение к тому, что именовалось «прогрессом», и стремление придать России больше внутреннего единства путем утверждения первенства русских элементов страны. Кроме того, одновременно проявлялись два течения, далеко не сходные, но как бы восполнявшие друг друга. Одно, ставящее себе целью защиту слабых от сильных, предпочитающее широкие народные массы отделившимся от них верхам, с некоторыми уравнительными склонностями, в терминах нашего времени можно было бы назвать «демофильским» или христианско-социальным. Это – течение, представителями которого были, наряду с другими, министр юстиции Манасеин (ушедший в отставку в 1894 г.) и К. П. Победоносцев, писавший, что «дворяне одинаково с народом подлежат обузданию». Другое течение, нашедшее себе выразителя в министре внутренних дел графе Д. А. Толстом, стремилось к укреплению правящих сословий, к установлению известной иерархии в государстве. Первое течение между прочим горячо отстаивало крестьянскую общину как своеобразную русскую форму решения социального вопроса.
Русификаторская политика встречала больше сочувствия у «демофильского» течения. Наоборот, яркий представитель второго течения, известный писатель К. Н. Леонтьев выступил в 1888 г. с брошюрой «Национальная политика как орудие всемирной революции» (в последующих изданиях слово «национальная» было заменено «племенная»), доказывая, что «движение современного политического национализма есть не что иное, как видоизмененное только в приемах распространение космополитической демократизации».
Из видных правых публицистов того времени к первому течению примыкал M. H. Катков, ко второму – князь В. П. Мещерский.
Сам император Александр III, при его глубоко русском складе ума, не сочувствовал русификаторским крайностям и выразительно писал К. П. Победоносцеву (в 1886 г.): «Есть господа, которые думают, что они одни Русские, и никто более. Уже не воображают ли они, что я Немец или Чухонец? Легко им с их балаганным патриотизмом, когда они ни за что не отвечают. Не я дам в обиду Россию».
* * *
Во внешней политике царствование императора Александра III принесло большие перемены. Та близость с Германией, вернее, с Пруссией, которая оставалась общей чертой русской политики с Екатерины Великой и проходит красной нитью через царствования Александра I, Николая I и особенно Александра II, сменилась заметным охлаждением. Едва ли было бы правильным, как это иногда делают, приписывать это развитие событий антигерманским настроениям императрицы Марии Феодоровны, датской принцессы, вышедшей замуж за русского наследника вскоре после датско-прусской войны 1864 г.! Можно разве сказать, что политические осложнения на этот раз не смягчались, как в предшествующие царствования, личными добрыми отношениями и семейными связями династий. Причины были, конечно, преимущественно политические.
Хотя Бисмарк и считал возможным совмещать Тройственный союз с дружественными отношениями с Россией, австро-германо-итальянский союз был, конечно, в основе охлаждения между старыми друзьями. Берлинский конгресс оставил горечь в русском общественном мнении. На верхах начали звучать антигерманские нотки. Известна резкая речь генерала Скобелева против немцев; Катков в «Московских ведомостях» вел против них кампанию. К середине 80-х гг. напряжение стало ощущаться сильнее; германский семилетний военный бюджет (септеннат) был вызван ухудшением отношений с Россией. Германское правительство закрыло берлинский рынок для русских ценных бумаг.
Императора Александра III, как и Бисмарка, это обострение серьезно тревожило, и в 1887 г. был заключен – на трехлетний срок – так называемый договор о перестраховке. Это было секретное русско-германское соглашение, по которому обе страны обещали друг другу благожелательный нейтралитет на случай нападения какой-либо третьей страны на одну из них. Соглашение это составляло существенную оговорку к акту Тройственного союза. Оно означало, что Германия не будет поддерживать какого-либо антирусского выступления Австрии. Юридически эти договоры были совместимы, так как и Тройственный союз предусматривал только поддержку в том случае, если кто-либо из его участников подвергнется нападению (что и дало Италии возможность в 1914 г. объявить нейтралитет, не нарушая союзного договора).
Но этот договор о перестраховке не был возобновлен в 1890 г. Переговоры о нем совпали с моментом отставки Бисмарка. Его преемник, генерал Каприви, с военной прямолинейностью указал Вильгельму II, что этот договор представляется нелояльным в отношении Австрии. Со своей стороны, император Александр III, питавший симпатии к Бисмарку, не стремился связываться с новыми правителями Германии.
После этого, в 90-х гг., дело дошло до русско-германской таможенной войны, завершившейся торговым договором 20 марта 1894 г., заключенным при ближайшем участии министра финансов С. Ю. Витте. Этот договор давал России – на десятилетний срок – существенные преимущества.
Отношениям с Австро-Венгрией нечего было и портиться: с того времени, как Австрия, спасенная от венгерской революции императором Николаем I, «удивила мир неблагодарностью» во время Крымской войны, Россия и Австрия так же сталкивались на всем фронте Балкан, как Россия и Англия на всем фронте Азии.
Англия в то время еще продолжала видеть в Российской империи своего главного врага и конкурента, «огромный ледник, нависающий над Индией», как выразился в английском парламенте лорд Биконсфильд (Дизраэли).
На Балканах Россия пережила за 80-е гг. тягчайшие разочарования. Освободительная война 1877–1878 гг., стоившая России столько крови и таких финансовых потрясений, не принесла ей непосредственных плодов. Австрия фактически завладела Боснией и Герцеговиной, и Россия вынуждена была это признать, чтобы избежать новой войны. В Сербии находилась у власти династия Обреновичей в лице короля Милана, явно тяготевшая к Австрии. Про Болгарию даже Бисмарк едко отозвался в своих мемуарах: «Освобожденные народы бывают не благодарны, а притязательны». Там дело дошло до преследования русофильских элементов. Замена князя Александра Баттенбергского, ставшего во главе антирусских течений, Фердинандом Кобургским не улучшила русско-болгарских отношений. Только в 1894 г. должен был уйти в отставку Стамбулов, главный вдохновитель русофобской политики. Единственной страной, с которой Россия в течение долгих лет даже не имела дипломатических сношений, была Болгария, так недавно воскрешенная русским оружием из долгого государственного небытия!
Румыния находилась в союзе с Австрией и Германией, обиженная тем, что в 1878 г. Россия вернула себе небольшой отрезок Бессарабии, отнятой у нее в Крымскую войну.[1] Хотя Румыния получила при этом в виде компенсации всю Добруджу с портом Констанцей, она предпочла сблизиться с противниками русской политики на Балканах.
Когда император Александр III провозгласил свой известный тост за «единственного верного друга России, князя Николая Черногорского», – это, в сущности, соответствовало действительности. Мощь России была настолько велика, что она не чувствовала себя угрожаемой в этом одиночестве. Но после прекращения договора о перестраховке, во время резкого ухудшения русско-германских экономических отношений, император Александр III предпринял определенные шаги для сближения с Францией.
Республиканский строй, государственное безверие и такие недавние в то время явления, как Панамский скандал, не могли располагать к Франции русского царя, хранителя консервативных и религиозных начал. Многие считали поэтому франко-русское соглашение исключенным. Торжественный прием моряков французской эскадры в Кронштадте, когда русский царь с непокрытой головой слушал «Марсельезу», показал, что симпатии или антипатии к внутреннему строю Франции не являются решающими для императора Александра III. Мало кто, однако, думал, что уже с 1892 г. между Россией и Францией был заключен тайный оборонительный союз, дополненный военной конвенцией, указывающей, какое количество войск обе стороны обязуются выставить на случай войны с Германией. Договор этот был в то время настолько секретным, что о нем не знали ни министры (конечно, кроме двух-трех высших чинов Министерства иностранных дел и военного ведомства), ни даже сам наследник престола.
Французское общество давно жаждало оформления этого союза, но царь поставил условием строжайшее сохранение тайны, опасаясь, что уверенность в русской поддержке может породить во Франции воинственные настроения, оживить жажду реванша и правительство, по особенностям демократического строя, не будет в силах противиться напору общественного мнения.
* * *
Российская империя в ту пору обладала самой многочисленной в мире армией мирного времени. Ее 22 корпуса, не считая казаков и нерегулярных частей, достигали численности 900 000 человек. При четырехлетнем сроке военной службы ежегодный призыв новобранцев давал в начале 90-х гг. втрое больше людей, чем было нужно армии. Это не только давало возможность производить строгий отбор по физической годности, но и позволяло предоставлять широкие льготы по семейному положению. Единственные сыновья, старшие братья, на попечении коих находились младшие, учителя, врачи и т. д., освобождались от действительной военной службы и прямо зачислялись в ратники ополчения второго разряда, до которых мобилизация могла дойти лишь в самую последнюю очередь. В России зачислялся в армию всего 31 процент призывных каждого года, тогда как во Франции 76 процентов.
На вооружение армии работали преимущественно казенные заводы; в России не было тех «торговцев пушками», которые пользуются столь нелестной репутацией на Западе.
Для подготовки офицерского состава имелось 37 средних и 15 высших военных учебных заведений, в которых обучалось 14 000–15 000 человек.
Все нижние чины, проходившие службу в рядах армии, получали, кроме того, известное образование. Неграмотных обучали читать и писать, и всем давались некоторые основные начала общего образования.
Русский флот, находившийся в упадке со времени Крымской войны, в царствование императора Александра III ожил и отстроился. Было спущено на воду 114 новых военных судов, в том числе 17 броненосцев и 10 бронированных крейсеров. Водоизмещение флота достигало 300 000 тонн – русский флот занимал третье место (после Англии и Франции) в ряду мировых флотов. Слабой стороной его было, однако, то, что Черноморский флот – около трети русских морских сил – был заперт в Черном море по международным договорам и не имел возможности принять участие в борьбе, которая возникла бы в иных морях.
* * *
Россия не имела имперских представительных учреждений; император Александр III, говоря словами К. П. Победоносцева, веровал «в непоколебимое значение власти самодержавной в России» и не допускал для нее «в призраке свободы, гибельного смешения языков и мнений». Но от предшествующего царствования в наследие остались органы местного самоуправления, земства и города; и еще со времен Екатерины II существовало сословное самоуправление в лице дворянских собраний, губернских и уездных (мещанские управы и другие органы самоуправления горожан утратили постепенно всякое реальное значение).
Земские самоуправления были введены (в 1864 г.) в 34 (из 50)[2] губерниях Европейской России, то есть распространились более нежели на половину населения империи. Они избирались тремя группами населения: крестьянами, частными землевладельцами и горожанами; число мест распределялось между группами соответственно суммам платимых ими налогов. В 1890 г. был издан закон, усиливший роль дворянства в земствах. Вообще частные владельцы, как более образованный элемент деревни, играли руководящую роль в большинстве губерний; но были и земства преимущественно крестьянские (Вятское, Пермское, например). Русские земства имели более широкую сферу деятельности, чем сейчас имеют органы местного самоуправления во Франции. Медицинская и ветеринарная помощь, народное образование, содержание дорог, статистика, страховое дело, агрономия, кооперация и т. д. – такова была сфера деятельности земств.
Городские самоуправления (думы) избирались домовладельцами. Думы избирали городские управы с городским головой во главе. Сфера их компетенции в пределах городов была в общих чертах та же, что у земств в отношении деревни.
Наконец, и деревня имела свое крестьянское самоуправление, в котором принимали участие все взрослые крестьяне и жены отсутствующих мужей. Миром решались местные вопросы и избирались уполномоченные на волостной сход. Старосты (председатели) и при них состоявшие писаря (секретари) руководили этими первичными ячейками крестьянского самоуправления.
В общем, к концу царствования императора Александра III, при государственном бюджете в 1 миллиард 200 миллионов рублей, местные бюджеты, находившиеся в ведении выборных учреждений, достигали суммы около 200 миллионов, из которых на земства и города приходилось примерно по 60 миллионов в год. Из этой суммы земства тратили около трети на медицинскую помощь и около одной шестой – на народное образование.
Дворянские собрания, созданные еще Екатериной Великой, состояли из всех потомственных дворян каждой губернии (или уезда), причем участвовать в собраниях могли только те дворяне, которые имели в данной местности земельную собственность.[3] Губернские дворянские собрания были, в сущности, единственными общественными органами, в которых порою обсуждались на законном основании вопросы общей политики. Дворянские собрания в виде адресов на высочайшее имя не раз выступали с политическими резолюциями. Кроме этого, сфера их компетенции была весьма ограниченна, и они играли известную роль только благодаря своей связи с земствами (местный предводитель дворянства являлся по должности председателем губернского или уездного земского собрания).
Значение дворянства в стране в то время уже заметно шло на убыль. В начале 1890-х гг., вопреки распространенным на Западе представлениям, в 49 губерниях Европейской России из 381 миллиона десятин земельной площади только 55 миллионов принадлежало дворянам, тогда как в Сибири, Средней Азии и на Кавказе дворянское землевладение вообще почти отсутствовало (только в губерниях царства Польского дворянству принадлежало 44 процента земель).
В местных самоуправлениях, как везде, где действует выборное начало, были, конечно, свои группировки, свои правые и левые. Были земства либеральные и земства консервативные. Но настоящих партий из этого не слагалось. Не было в то время и сколько-нибудь значительных нелегальных группировок после распада «Народной воли», хотя за границей и выходили кое-какие революционные издания. Так, Лондонский фонд нелегальной печати (С. Степняк, Н. Чайковский, Л. Шишко и др.) в отчете за 1893 г. сообщил, что за год им распространено 20 407 экземпляров нелегальных брошюр и книг – из них 2360 в России, что составляет небольшое количество на 125 миллионов населения…
На особом положении находилось Великое княжество Финляндское. Там действовала конституция, дарованная еще Александром I. Финский сейм, состоявший из представителей четырех сословий (дворян, духовенства, горожан и крестьян), созывался каждые пять лет, и при императоре Александре III он даже получил (в 1885 г.) право законодательной инициативы. Местным правительством был сенат, назначавшийся императором, а связь с общеимперским управлением обеспечивалась через министра – статс-секретаря по делам Финляндии.
При отсутствии представительных учреждений организованной политической деятельности в России не было, и попытки создать партийные группы немедленно пресекались полицейскими мерами. Печать находилась под зорким наблюдением власти. Некоторые большие газеты выходили, однако, без предварительной цензуры – чтобы ускорить выпуск – и несли поэтому риск последующих репрессий. Обычно газете делалось два «предостережения», и на третьем ее выход в свет приостанавливался. Но при этом газеты оставались независимыми: в известных рамках, при условии некоторой внешней сдержанности, они могли проводить, и зачастую проводили взгляды, весьма враждебные правительству. Большинство больших газет и журналов было заведомо оппозиционными. Правительство только ставило внешние преграды выражению враждебных ему воззрений, а не пыталось влиять на содержание печати.
Можно сказать, что русская власть не имела ни склонности, ни способности к саморекламе. Ее достижения и успехи нередко оставались в тени, тогда как неудачи и слабые стороны старательно расписывались с мнимой объективностью на страницах русской повременной печати, а за границей распространялись русскими политическими эмигрантами, создавая во многом ложные представления о России.
В отношении книг наиболее строгой была цензура церковная. Менее суровая, чем Ватикан с его «индексом», она в то же время имела возможность не только заносить запрещенные книги в списки, но и пресекать на деле их распространение. Так, под запретом были антицерковные писания графа Л. Н. Толстого, «Жизнь Иисуса» Ренана; при переводах из Гейне, например, исключались места, содержащие глумление над религией. Но в общем – особенно если принять во внимание, что цензура в разные периоды действовала с различной степенью строгости, а книги, однажды допущенные, редко изымались затем из обращения, – книги, запретные для русского «легального» читателя, составляли ничтожную долю мировой литературы. Из крупных русских писателей запрещен был только Герцен.
В стране, которую за границей считали «царством кнута, цепей и ссылки в Сибирь», действовали на самом деле весьма мягкие и гуманные законы. Россия была единственной страной, где смертная казнь вообще была отменена (со времен императрицы Елизаветы Петровны) для всех преступлений, судимых общими судами. Она оставалась только в военных судах и для высших государственных преступлений. За XIX в. число казненных (если исключить оба польских восстания и нарушения воинской дисциплины) не составляло и ста человек за сто лет. За царствование императора Александра III, кроме участников цареубийства 1 марта, казнены были только несколько человек, покушавшихся убить императора (один из них, между прочим, был как раз А. Ульянов – брат Ленина).
Административная ссылка на основании закона о положении усиленной охраны применялась зато довольно широко ко всем видам противоправительственной агитации. Были разные степени ссылки: в Сибирь, в северные губернии («места не столь отдаленные», как это обычно называли), иногда просто в провинциальные города. Высланным, не имевшим собственных средств, выдавалось казенное пособие на жизнь. В местах ссылки образовывались особые колонии людей, объединенных общей судьбой; нередко эти колонии ссыльных становились ячейками будущей революционной работы, создавая связи и знакомства, содействуя «закрепощению» во вражде к существующему порядку. Те же, кто считались наиболее опасными, помещались в Шлиссельбургскую крепость на острове в верхнем течении Невы.
Русский суд, основанный на судебных уставах 1864 г., стоял с того времени на большой высоте; «гоголевские типы» в судейском мире отошли в область преданий. Бережное отношение к подсудимым, широчайшее обеспечение прав защиты, отборный состав судей – все это составляло предмет справедливой гордости русских людей и соответствовало настроениям общества. Судебные уставы были одними из немногих законов, которые общество не только уважало, но и готово было ревниво защищать от власти, когда она считала необходимым вносить оговорки и поправки в либеральный закон для более успешной борьбы с преступлениями.
Труднее всего было бы определить культурный уровень русского народа. Если измерить его одними внешними признаками, числом учебных заведений, числом учащихся и их соотношением с общей численностью населения, было бесспорно, что большинство европейских государств в этом отношении опередило Россию. К 1894 г. в девяти русских университетах обучалось 14 327 студентов; вместе со специальными высшими учебными заведениями (техническими, военными, художественными и т. д.) оно достигало 25 000–30 000 человек. В средних учебных заведениях (их было около 900) обучалось 224 000 человек (из них в женских 75 500). В низших учебных заведениях всех видов (около 72 000) обучалось 3 360 000 детей. Учащиеся составляли, таким образом, немного менее 3 процентов общей массы населения.[4] Для азиатских стран такой процент учащихся, как в России, казался бы вообще огромным. (В странах всеобщего обязательного обучения учащиеся составляют около 10 процентов населения.)
В России выходило к 1894 г. около 850 периодических изданий всех видов; ежедневных газет, не считая губернских официальных изданий, имелось около ста. Во главе оппозиционной печати были в то время в Санкт-Петербурге «Новости», в Москве – «Русские ведомости», тогда как наиболее распространенной умеренной газетой было суворинское «Новое время», а правыми органами были «Гражданин» князя Мещерского и «Московские ведомости», имевшие, однако, меньший вес после смерти M. H. Каткова. Из так называемых толстых журналов только «Русский вестник» был органом консервативным, тогда как «Вестник Европы» и «Русская мысль» держались либерального направления, а в «Русском богатстве» и «Мире Божием» пробивалась социалистическая струя. Особо стоял «Северный вестник», проводивший взгляды враждебные плоскому материализму 60-х гг., но в то же время политически весьма далекий от власти. Провинциальная печать была беднее и серее столичной, но и там – исключением был «Киевлянин» профессора Д. И. Пихно – преобладали сдержанно оппозиционные тона. Именно в провинции большевики упоминают первые ростки «марксистской печати».
В России в 1894 г. имелось 1315 типографий. Книг и других непериодических изданий выпущено было 16 541, в том числе около 6000 в Санкт-Петербурге и около 2500 в Москве. Тираж их достигал нескольких десятков миллионов экземпляров.
Число общественных библиотек под влиянием деятельности земств в этой области быстро росло и приближалось к 4000, во главе с Императорской Публичной библиотекой с ее полутора миллионами книг и 15 000 читателей в год. Большие библиотеки также имелись в Академии наук, в Румянцевском музее (Москва) и при всех университетах. Согласно закону по одному экземпляру каждой книги, выходившей в России, должно было поступать в библиотеку Академии наук и в Публичную библиотеку.
Иностранные наблюдатели не раз отмечали высокий культурный уровень образованных слоев русского общества, нашедший себе такое яркое выражение в русской литературе XIX в., сразу выдвинувшейся в первые ряды мировой литературы. Отмечалось также, что, в отличие от Запада, в России образование более равномерно распространяется и на женщин, которые в России вообще были гораздо ближе к гражданскому и социальному равенству с мужчинами, чем в Западной Европе, особенно в романских странах. Профессор Legras в своих впечатлениях о пребывании в России в 1892 г. писал: «Лицеи для девиц (гимназии) буквально кишат в России… Серьезное развитие женского образования в России имеет и свои преимущества… Чувствуешь, что их ум прошел иную школу, чем у воспитанниц наших модных монастырей… Русские девушки менее сдержанны, но более естественны, чем девицы в наших пансионатах». Этот отзыв любопытен потому, что он исходит от человека, отзывающегося в общем без сочувствия об императорской России.
В русской литературе начало 90-х гг. было периодом тусклым, промежуточным. Большие писатели второй половины века сошли со сцены. Достоевский и Тургенев умерли, Л. Н. Толстой отошел от художественного творчества и занимался проповедью своих учений. В 1892 г. скончался А. А. Фет, давший за последние годы жизни свои великолепные «Вечерние огни»; из меньших умерли Гаршин, Гл. Успенский, раньше – Писемский; поэты Апухтин и Надсон (так безмерно возвеличенный русской публикой того времени). Доживали последние годы А. Н. Майков (ум. 1897), Я. П. Полонский (ум. 1898), Н. С. Лесков (ум. 1895). Из новых писателей А. П. Чехов еще не получил общего признания; он пользовался меньшей известностью, чем Короленко. Только вокруг «Северного вестника» ощущалось некоторое «движение воды» – возникало так называемое «декадентство» с Мережковским, Гиппиус, Минским во главе. Свою первую книгу в 1894 г. выпустил Бальмонт. Одиноко стоял талантливый поэт-алкоголик К. М. Фофанов.
Из русских писателей того времени наибольшей известностью пользовался философ Владимир Соловьев. К. Н. Леонтьев скончался в 1892 г.; в «Русском вестнике» о нем поместил ряд статей талантливый публицист В. В. Розанов, получивший известность своей небольшой книгой «Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского».
В критике господствовала политическая тенденция. Большим влиянием пользовался Н. К. Михайловский. Литературу рассматривали с точки зрения общественной пользы (весьма узко понимаемой), и на «Северный вестник» за его защиту чистого искусства сыпались громы почти всех других органов печати.
Архитектура, как, впрочем, и во всех других странах, находилась в печальном упадке. Утилитарный дух века, казалось, убил творчество в этой области; строились в огромных количествах только безобразные, четырех– и пятиэтажные жилые дома, чтобы вместить быстро растущее население городов. Было не до церквей и не до дворцов…
В живописи наибольшей популярностью пользовались передвижники, реалисты с «общественно полезной» тенденцией. Их выставки, «передвигавшиеся» из города в город, привлекали наибольшее число посетителей: в Санкт-Петербурге от 25 000 до 44 000 человек, в Москве – до 27 000, тогда как выставки Академии художеств не достигали цифр выше 18 000–20 000 посетителей. В. А. Серов был еще в ту пору начинающим художником; на первом плане были имена Крамского, Репина, Сурикова и Верещагина; в моде были также «марины» Айвазовского. Религиозную струю в живопись вносили В. М. Васнецов и Нестеров, трогательно преданный поклонник императора Александра III. В скульптуре первое место принадлежало Антокольскому.
* * *
Семь восьмых населения Российской империи жило в деревне, и только одна восьмая – в городах. Уже из этого явствует преобладающее значение сельского хозяйства. Но именно эта отрасль народной экономической жизни находилась в состоянии известного застоя. Отмена крепостного права сильно подорвала частное землевладение и в хозяйственном отношении весьма мало улучшила положение крестьян. Общинное землевладение, препятствуя обезземелению слабых элементов деревни, в то же время тормозило сильные, предприимчивые элементы; получалось равнение по худшим. Тем не менее из крестьянства понемногу выделялись более зажиточные единицы, шла перекупка земель у дворян (распродавших за время с 1861 г. по начало 90-х гг. свыше четверти оставленных им земель). Но этот процесс, вместе с некоторым повышением уровня сельскохозяйственной техники, только-только уравновешивал быстрый прирост населения. Хлеба хватало на большее число ртов, но количество хлеба на каждого почти не увеличивалось. Неурожаи поэтому тяжело отражались на всем хозяйстве страны. Исключительное по своим размерам – для того времени – бедствие 1891 г. вызвало со стороны государства затрату около полумиллиарда рублей на помощь пострадавшим, предоставление льгот при уплате налогов, приостановку вывоза хлеба за границу и отсрочку намечавшейся валютной реформы. Рождаемость в Европейской России упала со средней нормы в 4,9 процента за последние годы до 4,5 в 1892 г., тогда как смертность поднялась с 3,4 процента до 4 процентов, и естественный прирост населения в 1892 г. достиг всего 600 000 человек – около трети обычного числа. При этом случаи непосредственной смерти от голода были редки, рост смертности был вызван ослаблением сопротивляемости против болезней.
Урожай зерновых хлебов давал около 2 миллиардов пудов в год для Европейской России. За границу вывозилось около одной пятой этого количества, и все-таки Россия была самым крупным поставщиком хлеба в Европе.
По количеству лошадей (26 миллионов в начале 90-х гг.) Россия занимала первое место в мире, и это было естественно, так как обработка полей производилась почти исключительно конской тягой. Рогатого скота числилось 33 миллиона голов; овец 64 миллиона. На окраинах имели реальное хозяйственное значение олени (на севере) и верблюды (в Средней Азии), и тех и других было по полмиллиона. Сравнительно слабо было распространено свиноводство (11 миллионов голов). Годовое потребление мяса определялось цифрой около 175 миллионов пудов.
Из побочных культур исстари славился русский лен. Больше чем половина всего льна в мире вырастала на русских полях. В западных губерниях голубые пространства льна чередовались с золотыми нивами. Быстро увеличивались посевы сахарной свеклы (в 1894 г. около 300 000 десятин).
Рыбная ловля, в отношении которой статистика весьма несовершенна, приносила ежегодно около 70 миллионов пудов рыбы.
Промышленность начинала развиваться быстрее. Число рабочих, занятых в ней, перевалило к 1894 г. за полтора миллиона. Стоимость выработанных товаров в том же году приближалась к 2 миллиардам рублей. На первом месте стояла текстильная промышленность, занимавшая более трети общего числа рабочих, в значительной мере удовлетворявшая потребности рынка, но – кроме льна – ввозившая свое сырье (хлопок, шерсть, шелк) преимущественно из-за границы. Развитие хлопководства подвигалось быстро вперед,[5] но все же русский хлопок удовлетворял только 30 процентов общей потребности. Немногим менее трети рабочих приходилось на горное дело и металлургию. Старый горнозаводский центр, Урал, с его изумительным разнообразием всех видов полезных ископаемых, начинал отступать на второй план перед Донецким бассейном (уголь), Кривым Рогом (железная руда), Баку (нефть). Даже в отношении золота первенство перешло к Восточной Сибири (Ленские прииски), и только платина, естественная монополия которой принадлежала России, составляла по-прежнему привилегию Урала.
Уже существовали зачатки рабочего законодательства: запрещение ночного труда женщин и детей, ограничение труда малолетних, регулировка условий найма, меры предотвращения несчастных случаев и учреждение фабричной инспекции для контроля над выполнением законов об охране труда.
До 80-х гг. рабочие были настолько малочисленны, что им не придавалось особого значения как отдельной группе населения. К тому же многие рабочие сохраняли связь с деревней: фабрика служила своего рода «отхожим промыслом». Тем не менее вокруг некоторых крупных заводов начали образовываться слои «наследственных пролетариев». Быстрый рост промышленности к 1894 г. чрезвычайно повысил значение рабочих в общей экономике страны.
Казенное хозяйство играло большую роль в России. Больше половины всей земельной площади в империи принадлежало казне. Правда, в это входили все худшие земли: тундры, пустыни, болота, сибирская тайга. Земель удобных для обработки у казны в Европейской России почти не оставалось после освобождения государственных крестьян.[6] Зато огромным богатством казны были лесные пространства Русского Севера и Сибири. Даже при очень малоинтенсивной разработке они давали государству ежегодно несколько десятков миллионов рублей. Государство имело также свои казенные заводы, но они не рассматривались как доходная статья: это были в первую очередь заводы военные.
Необыкновенное разнообразие русских условий, разница климата, почвы, племенного состава создавали необходимость неустанной работы для того, чтобы держать вместе Российскую империю. Первостепенное значение для этой цели имели пути сообщения. На них было положено немало усилий. К концу 1894 г. в империи имелось 32 500 верст железных дорог, 150 000 верст телеграфных проводов, 45 000 верст судоходных рек (с 2000 речных пароходов) и 23 000 верст шоссейных дорог.
В 1891 г. начата была постройка длиннейшей во всем мире железнодорожной линии, Великого сибирского пути. Закладка пути на восточном его конце, во Владивостоке, была произведена наследником цесаревичем Николаем Александровичем при его возвращении из путешествия по Азии в мае 1891 г. Сооружение Сибирского пути, конечно, объяснялось не столько хозяйственными выгодами, сколько решимостью «ногою твердой стать» на Тихом океане, играть активную роль в судьбах Азии и Дальнего Востока в частности. Наследник был назначен председателем Комитета по сооружению дороги и живо интересовался этим начинанием.
Финансы России после пятнадцати лет мира оправились от потрясения войны 1877–1878 гг. Кредитный рубль держался в течение ряда лет на высоте двух третей своего номинального курса. Правительство, заключая заграничные займы в золоте и тратя внутри страны кредитные рубли, накапливало значительный золотой запас для проведения стабилизации рубля. Без повышения налоговых ставок поступление налогов значительно возросло. Пост министра финансов с 1892 г. занимал С. Ю. Витте.
Русское Министерство финансов того времени было не только бюджетным ведомством. Это было подлинное министерство народного хозяйства. Оно ведало торговыми договорами, промышленностью и торговлей, торговым судоходством и даже имело свои учебные заведения.
Около 1890 г. русский бюджет перевалил за миллиард рублей. В 1894 г. прямые налоги составляли менее 10 процентов доходной сметы, косвенные налоги – около 50 процентов (питейные сборы превышали половину этой суммы), доходы от казенных имуществ (железные дороги, леса) – около 15 процентов, крестьянские выкупные платежи за землю, доставшуюся им при освобождении, – около 8 процентов; остальное приходилось на гербовые сборы, почту и телеграф, погашение государственных ссуд и т. д. На душу населения бремя государственных расходов составляло в среднем менее 10 рублей – много ниже, чем в других великих державах. Конечно, при низком уровне благосостояния населения и эта сумма была ощутительной. Но все же утверждение социалистических «экономистов» того времени, вроде Николая-она[7] (Даниельсона), писавшего, что казна берет у крестьян 90 процентов их дохода и что они от этого постепенно разоряются и распродают свой инвентарь, было безмерным преувеличением, фантастическим искажением действительности.
В мировом хозяйственном обороте Россия участвовала уже лет двести и завоевала себе прочное место на мировом рынке. Годовой оборот внешней торговли превышал за последние десять лет миллиард рублей (только в 1892 г., вследствие запрещения вывоза хлеба, он спустился до 880 миллионов рублей) и давал России ежегодный актив от 150 до 200 миллионов рублей. Лучшим клиентом России в то время была Англия, почти наравне с ней шла Германия. Сношения с этими двумя государствами составляли половину всего оборота русской внешней торговли. Франция, находившаяся на третьем месте, давала только 7 процентов оборота. Русский торговый баланс был активным в сношениях со всеми странами, за исключением Соединенных Штатов и Египта (откуда ввозился хлопок) и Китая (чай). На первом месте в русском вывозе был хлеб (более половины), затем лен, лес (нефть – на шестом месте), во ввозе – хлопок, металлы, машины, чай, шерсть.
Оборот судов в русских портах достигал около 10 миллионов тонн. За границу в 1894 г. выехало (если исключить пограничное общение) 313 000 человек (из них около трети русских подданных), а въехало в Россию 300 000 (русских – менее трети). Перевес эмиграции (главным образом в Соединенные Штаты) над возвращением составлял для русских подданных в среднем около 40 000 человек в год. Весьма значительную часть этой эмиграции составляли евреи, из района черты оседлости уезжавшие в Америку (в эту черту входило царство Польское и 15 западных губерний Белоруссии, Малороссии и Новороссии).
Если часть русского общества только старалась доказать, что крестьянство разоряется и идет к гибели, другая часть интеллигенции, исходя из такого же враждебного отношения к существующему строю, доказывала неизбежность экономического перерождения России по примеру западных стран, а некоторые даже приветствовали такую эволюцию как шаг вперед.
«Вся современная духовная и материальная культура тесно связана с капитализмом, – писал молодой экономист П. Б. Струве в своей первой книге, вышедшей легально в 1894 г. – Она выросла вместе с ним и на его почве. Мы же, ослепленные каким-то непомерным тщеславием, мним заменить трудную культурную работу целых поколений, суровую борьбу экономических сил и интересов настроениями нашей собственной «критической мысли», которая открыла трогательное совпадение народно-бытовых форм с собственными своими идеалами… Нет, признаем нашу некультурность и пойдем на выучку к капитализму».
* * *
Конечно, много было недочетов в русском народном хозяйстве, и западные государства с их маленькой площадью и густым населением значительно опередили Россию в количественном отношении по части развития техники.
Но не в хозяйственных недочетах и не в технической отсталости была заложена главная угроза Российскому государству! Корень зла был в глубокой розни между властью и значительной частью образованного общества. Русская интеллигенция относилась к власти с определенной враждебностью, которая порой принимала более откровенные формы, порой загонялась вглубь, с тем чтобы снова проявиться с удвоенной силой.
В первой половине XIX в. лучшие русские писатели еще понимали значение царской власти. Пушкин, Гоголь, Жуковский, не говоря уже о Карамзине, оставили немало страниц, ярко о том свидетельствующих. Но русская интеллигенция уже и тогда была не с ними. Белинский, гневным обличением отвечающий на «Переписку с друзьями», для нее гораздо типичнее самого Гоголя. Среди писаний Пушкина замалчивались произведения его зрелого возраста, где он говорил об императоре Николае I, и списывались и распространялись его юношеские выпады против власти.
Восстание декабристов внесло этот раскол на самые верхи общества, подорвало доверие царя к военному дворянству и этим увеличило значение зависящего от власти служилого сословия.
Эпоха Великих реформ сперва кое-что улучшила в этом отношении; она открыла новые поприща для работы: суды, земства, посредническую деятельность в деревне. Но крайние течения быстро отравили и тут сотрудничество между интеллигенцией и властью. Реформы только вызывали требования дальнейших реформ; новые возможности действия использовались для пропаганды против правительства. Через пять лет после освобождения крестьян уже произошло первое покушение на царя-освободителя.
И опять-таки: лучшие писатели того времени были скорее с властью, чем с интеллигенцией. Граф Л. Н. Толстой до конца 70-х гг. печатался в «Русском вестнике» Каткова. Достоевский, в молодости примкнувший к социалистическому кружку и за это жестоко пострадавший, в «Бесах» с непревзойденной яркостью изобразил дух русской революции и в «Дневнике писателя» отстаивал значение царской власти для России. К консервативному лагерю принадлежали и Фет, и Тютчев, и Майков, и по существу даже граф А. К. Толстой («двух станов не боец, а только гость случайный»). Определенным противником интеллигентского радикализма был Лесков. Писемский во «Взбаламученном море» дал неприглядный очерк «шестидесятников»; и даже западник Тургенев в «Отцах и детях», «Дыме» и «Нови» изобразил так называемых «нигилистов» в малопривлекательном свете…
Но тон задавали не они! «Властителями дум» были радикальные критики, проповедники материализма, непримиримые обличители существующего. Уже раздавались требования не только политических, но и коренных социальных преобразований, как будто отмена крепостного права не была сама по себе огромной социальной реформой. Интеллигенция перенимала от Запада непременно самые крайние учения. Началось «хождение в народ» с целью распространения этих учений в крестьянской среде, с надеждой на революцию по образцам Пугачева и «атамана Степана», как называли Стеньку Разина в модном тогда романсе «Утес».
Народная масса тогда не поддалась на эти увещания и посулы; она встретила с недоверием чуждых ей людей; хождение в народ окончилось полным провалом, и тогда возникла партизанская вооруженная атака на власть, руководившаяся пресловутой партией «Народной воли».
Восполняя дерзостью и предприимчивостью недостаток своей численности, революционеры в течение нескольких лет сумели создать гипноз мощного движения против власти; они смутили правителей, они производили впечатление за границей. Жизнь царя-освободителя подвергалась ежечасной угрозе: то взрывали рельсы перед царским поездом, то даже покои Зимнего дворца. Александр II решил попытаться привлечь на сторону власти колеблющиеся образованные слои, с известным злорадством наблюдавшие за борьбой между правительством и «нигилистами», но не успел принять никаких реальных мер в этом направлении: 1 марта 1881 г. свершилось цареубийство.
Страшная весть всколыхнула Россию, многих отрезвила, создала пустоту вокруг деятелей «Народной воли». Император Александр III, считавший положение крайне опасным, тем не менее решил дать врагам мужественный отпор – и вдруг натиск «нигилистов» рассеялся, как наваждение.
Но произошли ли за царствование императора Александра III действительные перемены в настроениях образованных классов? Интеллигенция притихла, смолкла, враждебность исчезла с поверхности, но тем не менее она осталась. Все меры царствования встречали глухую, по внешности сдержанную, но непримиримую критику. Болезнь оказалась только загнанной вглубь.
Грозная черта этих лет: новые писатели уже не отделялись от интеллигенции в своем отношении к существующему строю. Те из них, которым было душно в радикальной казарме, просто уходили в область чистого искусства, оставаясь в стороне от общественной жизни. Из учений графа Л. Н. Толстого, резко изменившегося за эти годы, его «непротивление злу» и рационалистическое христианство пользовались гораздо меньшим успехом, чем его отрицание всего современного государства.
Пассивное сопротивление интеллигенции создавало для власти большие затруднения, особенно в области народного образования. Студенчество, несмотря на ряд новых законов, вводивших университетскую жизнь в строгие рамки (ношение формы, обязательное посещение лекций и т. д.), или отчасти благодаря этим законам оставалось рассадником революционных течений. Власть поэтому питала недоверие к высшим учебным заведениям; некоторые из них, как женские медицинские курсы, были закрыты; на Санкт-Петербургские Высшие женские курсы на три года был запрещен прием. Правительству приходилось лавировать между Сциллой отсталости в учении и Харибдой взращивания своих врагов. Насколько велика была нетерпимость этих врагов, показывает характерный случай: профессор В. О. Ключевский, известный историк, пользовавшийся огромной популярностью в студенчестве, вызвал с его стороны враждебные выходки своей (приведенной выше) речью памяти императора Александра III и нескоро вернул себе былой престиж. Сделать так, чтобы увеличить число школ, не создавая в деревне очагов противоправительственной пропаганды, было при таких условиях весьма нелегко. Строить и совершенствовать огромнейшее государство при враждебном отношении значительной части образованных слоев было задачей исключительной трудности!
Попытки увеличить удельный вес дворянства в государстве, создание Дворянского банка, учреждение земских начальников были вызваны потребностью в некоем правящем слое, из которого можно было бы пополнить ряды носителей власти. Но К. Н. Леонтьев еще в 70-х гг. писал: «Молодость наша, говорю я с горьким чувством, сомнительна».
«Мы прожили много, сотворили духом мало и стоим у какого-то страшного предела…
На Западе вообще бури и взрывы были громче, величавее; Запад имеет более плутонический характер; но какая-то особенная, более мирная или глубокая подвижность всей почвы и всего строя у нас в России стоит западных громов и взрывов.
Дух охранения на Западе был сильнее в высших слоях общества, и потому и взрывы были сильнее; у нас дух охранения слаб. Наше общество вообще расположено идти по течению за другими… Кто знает? Не быстрее ли других? Дай Бог, чтобы я ошибался!»
Глава 2
Личность государя. – Взгляды К. П. Победоносцева на современную государственность. Похороны императора Александра III. – Первые приемы министров. – Бракосочетание государя. – Земские адреса и речь государя 17 января 1895 г. – Выступление трех держав против Симоносекского мира. – Тенденция к примирению Франции с Германией. – Забота о просвещении. – Отзыв Британской энциклопедии
Государя императора Николая Александровича мало знали в России ко времени его восшествия на престол. Мощная фигура императора Александра III как бы заслоняла наследника-цесаревича от глаз внешнего мира. Конечно, все знали, что ему 26 лет, что по своему росту и сложению он скорее в свою мать, императрицу Марию Феодоровну; что он имеет чин полковника русской армии, что он совершил необычное по тому времени путешествие вокруг Азии и подвергся в Японии покушению азиатского фанатика. Знали также, что он помолвлен с принцессой Алисой Гессенской, внучкой королевы Виктории, что его невеста прибыла в Ливадию перед самой кончиной императора Александра III. Но облик нового монарха оставался обществу неясным.
Наследник цесаревич также состоял председателем Комитета по сооружению Великого сибирского пути, возглавлял Комитет по борьбе с голодом 1891–1892 гг., заседал в Государственном совете, но эта сторона его деятельности не привлекала до того времени особого внимания.
«Редко народ имел при восхождении на престол его монарха такое неясное представление о его личности и свойствах характера, как русский народ в наши дни, – докладывал своему правительству германский поверенный в делах граф Рекс. – Данные, по которым можно судить о его свойствах и воззрениях, чрезвычайно скудны. По личному впечатлению и на основании суждения высокопоставленных лиц русского двора я считаю императора Николая человеком духовно одаренным, благородного образа мыслей, осмотрительным и тактичным; его манеры настолько скромны и он так мало проявляет внешней решимости, что легко прийти к выводу об отсутствии у него сильной воли, но люди, его окружающие, заверяют, что у него весьма определенная воля, которую он умеет приводить в жизнь самым спокойным образом».
Государь император Николай II родился 6 мая 1868 г. – в день святого Иова Многострадального, как он сам иногда любил отмечать. Старший сын наследника престола, он с детства был «обручен царству», и это наложило особый отпечаток на все его воспитание. Образование он получил весьма тщательное. С детства его обучали иностранным языкам, которыми он овладел в совершенстве. После общеобразовательного курса, пройденного под общим руководством генерала Данилевича, наследник получил высшее юридическое и высшее военное образование, причем его преподавателями были выдающиеся профессора высших учебных заведений: К. П. Победоносцев, Н. Х. Бунге, М. Н. Капустин, Е. Е. Замысловский, генерал Г. А. Леер и М. И. Драгомиров. По окончании теоретической подготовки наследник ознакомился с практикой военного дела, состоя в рядах лейб-гвардии Преображенского полка и лейб-гвардии Конной артиллерии и два лета проведя в составе лейб-гвардии Гусарского полка, и начал приобщаться к государственным делам, председательствуя в комитетах, заседая в Государственном совете и Комитете министров.
Эта тщательная и планомерная подготовка к исполнению обязанностей монарха не была доведена до конца вследствие ранней смерти императора Александра III, который не думал, что ему не суждено дожить и до 50 лет. Наследник еще не был введен в курс высших государственных дел; многое ему пришлось уже после восшествия на престол узнать из доклада своих министров.
Но характер государя и его мировоззрение, конечно, определились еще до восшествия на престол; только их почти никто не знал. Общение с молодым царем оказалось для многих неожиданным откровением.
Вера в Бога и в свой долг царского служения были основой всех взглядов императора Николая II. Он считал, что ответственность за судьбы России лежит на нем, что он отвечает за них перед престолом Всевышнего. Другие могут советовать, другие могут ему мешать, но ответ за Россию перед Богом лежит на нем. Из этого вытекало и отношение к ограничению власти – которое он считал переложением ответственности на других, не призванных, и к отдельным министрам, претендовавшим, по его мнению, на слишком большое влияние в государстве. «Они напортят – а отвечать мне» – таково было в упрощенной форме рассуждение государя.
Император Николай II обладал живым умом, быстро схватывавшим существо докладываемых ему вопросов, – все, кто имел с ним деловое общение, в один голос об этом свидетельствуют. У него была исключительная память, в частности на лица. Государь имел также упорную и неутомимую волю в осуществлении своих планов. Он не забывал их, постоянно к ним возвращался и зачастую в конце концов добивался своего.
Иное мнение было широко распространено потому, что у государя поверх железной руки была бархатная перчатка. Воля его была подобна не громовому удару, она проявлялась не взрывами и не бурными столкновениями; она скорее напоминала неуклонный бег ручья с горной высоты к равнине океана: он огибает препятствия, отклоняется в сторону, но в конце концов с неизменным постоянством близится к своей цели.
Министры, с которыми государю довелось расстаться, зачастую говорили, что на него «нельзя положиться». Но что это значило? В проведении планов, одобренных им по существу, государь, по свидетельству тех же министров, например Витте, умел проявлять спокойную стойкость при самой неблагоприятной обстановке. Только в отношении своей личной карьеры министры действительно не могли «положиться» на государя: он всегда ставил дело выше лиц, а при несогласии с действиями своих министров отстранял их, независимо от их прошлых заслуг. При этом он старался «позолотить пилюлю»: отставка обычно сопровождалась внешними знаками милости и назначением высоких пенсий. Он также не любил – и это, быть может, являлось некоторым недостатком – говорить другим неприятные для них вещи прямо в лицо, особенно если речь шла о людях, с которыми он долго сотрудничал, которым был благодарен за многое в прошлом. Но это был вопрос формы, а не существо дела; тут не было «коварства», как утверждали его враги. Коварство предполагает умысел, расчет; а какая выгода могла для царя быть в том, что министр после милостивого приема узнает вечером о своей отставке из высочайшего рескрипта? Милостивый прием только подчеркивал отсутствие личного нерасположения, а отставка свидетельствовала о деловом расхождении.
До восшествия на престол император Николай II имел только один серьезный случай показать свою волю. Русский государственный строй не допускал проявления политических разногласий в царской семье; не могло случиться при императоре Александре III, чтобы наследник публично рукоплескал речи, направленной против правительства его отца (как это делал германский кронпринц в рейхстаге в 1911 г.). Свою волю наследник-цесаревич проявил только в вопросе, лично его касавшемся. Он в ранней молодости полюбил маленькую принцессу Алису Гессенскую, младшую сестру великой княгини Елизаветы Феодоровны, супруги его дяди, и в течение десяти лет неизменно сохранял о ней память. Император Александр III, императрица Мария Феодоровна были против этого брака. Они не хотели женитьбы на немецкой принцессе; возникали предположения о браке русского наследника с принцессой Еленой Орлеанской из семьи претендента на французский престол. Но наследник с тихим упорством отклонял эти планы и хранил в душе образ принцессы Алисы. В конце концов родители уступили, и весной 1894 г. наконец состоялась помолвка.
В этой борьбе, длившейся несколько лет, наследник оказался сильнее.
Император Николай II – это признают и его враги – обладал совершенно исключительным личным обаянием. Он не любил торжеств, громких речей; этикет ему был в тягость. Ему было не по душе все показное, искусственное, всякая широковещательная реклама (это также могло почитаться некоторым недостатком в наш век!). В тесном кругу, в разговоре с глазу на глаз, он зато умел обворожить своих собеседников, будь то высшие сановники или рабочие посещаемой им мастерской. Его большие серые лучистые глаза дополняли речь, глядели прямо в душу. Эти природные данные еще более подчеркивались тщательным воспитанием. «Я в своей жизни не встречал человека более воспитанного, нежели ныне царствующий император Николай II», – писал граф Витте уже в ту пору, когда он по существу являлся личным врагом государя…
* * *
Самодержавные монархи редко имеют время излагать свои воззрения в пространных писаниях, Екатерина II была в этом отношении исключением. Ни Людовик XIV, ни Мария-Терезия этим не занимались, от Петра Великого в этом отношении дошло только несколько крылатых фраз. Монархи действуют на основе своего мировоззрения; они проповедуют действием, предоставляя другим теоретическое обоснование этих действий.
Не будет, однако, далеким от истины утверждение, что основные мысли «Московского сборника» К. П. Победоносцева, изданного в самом начале нового царствования (в 1896 г.), были тождественны с исходными взглядами царя; и в этом отношении права была французская газета, следующими словами рекомендовавшая своим читателям французский перевод «Московского сборника»: «Книгу эту надо прочесть, во-первых, потому, что г. Победоносцев думает глубоко, во-вторых, потому, что он думает иначе, чем мы, и, в-третьих, потому что император Николай II и его народ думают, как он».
Теперь, через сорок лет, своеобразно злободневными кажутся многие положения этой примечательной книги.
Необходимо хотя бы вкратце на них остановиться, чтобы понять многое в царствовании императора Николая II.
Многие говорили и тогда: Россия не созрела для демократии, Россия не созрела для социализма, Россия не созрела для той или другой из реформ, диктуемых современным пониманием прогресса. Но те, кто стоял во главе Российской империи в 1894 г., вовсе не считали, что политические формы, воспреобладавшие на Западе, были шагом вперед, свидетельством большей зрелости. Они относились к ним критически по существу.
Парламентское правление – «великая ложь нашего времени», писал К. П. Победоносцев. «История свидетельствует, что самые существенные, плодотворные для народа и прочные меры и преобразования исходили от центральной воли государственных людей или от меньшинства, просветленного высокой идеей и глубоким знанием; напротив того, с расширением выборного начала происходило принижение государственной мысли и вульгаризация в массе избирателей».
В парламентарных государствах царит фактическая безответственность и законодательной, и исполнительной власти. «Ошибки, злоупотребления, произвольные действия – ежедневное явление в министерском управлении, а часто ли мы слышим о серьезной ответственности министра? Разве, может быть, раз в пятьдесят лет приходится слышать, что над министром суд, и всего чаще результат суда выходит ничтожный сравнительно с шумом торжественного производства». (Слова эти, быть может навеянные Панамским скандалом, не менее были бы приложимы ко многим современным случаям.)
Зло парламентского правления К. П. Победоносцев видит в том, что на выборах получается не отбор лучших, а только «наиболее честолюбивых и нахальных». Особенно опасна избирательная борьба в государствах многоплеменных: «Монархия неограниченная успевала устранять или примирять все подобные требования и порывы – и не одною только силой, а уравнением прав и отношений под одной властью. Но демократия не может с ними справиться, а инстинкты национализма служат для нее разъедающим элементом: каждое племя из своей местности высылает представителей – не государственной и народной идеи, но представителей племенных инстинктов, племенного раздражения, племенной ненависти – и к господствующему племени, и к другим племенам, и к связующему все части государства учреждению». В виде примера приводится австрийский парламент.
«Вместо неограниченной власти монарха мы получаем неограниченную власть парламента, с тою разницей, что в лице монарха можно представить себе единство разумной воли, а в парламенте нет его, ибо здесь все зависит от случайности, так как воля парламента определяется большинством… Такое состояние неотразимо ведет к анархии, от которой общество спасается одною лишь диктатурою, то есть восстановлением единой воли и единой власти в правлении».
Там, где парламентская машина издавна действует, ослабевает вера в нее; еще славит ее либеральная интеллигенция, но народ стонет под игом этой машины и распознает скрытую в ней ложь. Едва ли дождемся мы – но дети наши и внуки, несомненно, дождутся свержения этого идола, которому современный разум продолжает еще в самообольщении поклоняться.
Еще более резкой и едкой критике К. П. Победоносцев подвергает периодическую печать:
«Кто же эти представители страшной власти, именующей себя общественным мнением? Кто дал им право и полномочие – во имя целого общества – править, ниспровергать существующие учреждения, выставлять новые идеалы нравственного и положительного закона?
Любой уличный проходимец, любой болтун из непризнанных гениев, любой искатель гешефта может, имея свои или достав для наживы и спекуляции чужие деньги, основать газету, хотя бы большую. Ежедневный опыт показывает, что тот же рынок привлекает за деньги какие угодно таланты, если они есть на рынке, – и таланты пишут что угодно редактору. Опыт показывает, что самые ничтожные люди – какой-нибудь бывший ростовщик, газетный разносчик, участник банды червонных валетов – могут основать газету, привлечь талантливых сотрудников и пустить свое издание на рынок в качестве органа общественного мнения…»
И опять-таки как в парламенте, так и в печати царит та же безответственность: «Мало ли было легкомысленных и бессовестных журналистов, по милости коих подготовлялись революции, закипало раздражение до ненависти между сословиями и народами, переходившее в опустошительную войну? Иной монарх за действия этого рода потерял бы престол свой; министр подвергся бы позору, уголовному преследованию и суду; но журналист выходит сух из воды, изо всей заведенной им смуты, изо всякого погрома и общественного бедствия, коего был причиной; выходит, с торжеством улыбаясь и бодро принимаясь снова за свою разрушительную работу».
Понятие прогресса, требование неустанных преобразований вызывает следующую отповедь:
«Есть в человечестве сила, земляная сила инерции, имеющая великое значение. Ею, как судно балластом, держится человечество в судьбах своей истории – и сила эта столь необходима, что без нее поступательное движение вперед становится немыслимым. Сила эта, которую близорукие мыслители новой школы безразлично смешивают с невежеством и глупостью, безусловно необходима для благосостояния общества. Разрушить ее – значило бы лишить общество той устойчивости, без которой негде найти и точку опоры для дальнейшего движения. В пренебрежении или забвении этой силы – вот в чем главный порок новейшего прогресса.
Общая и господствующая болезнь у всех так называемых государственных людей – честолюбие или желание прославиться. Жизнь течет в наше время с непомерной быстротой, государственные деятели часто меняются, и потому каждый, покуда у места, горит нетерпением прославиться поскорее, пока еще есть время и пока в руках кормило. И всякому хочется переделать все свое дело заново, поставить его на новом основании… Нравится именно высший прием творчества – творить из ничего, и возбужденное воображение подсказывает на все возражения известные ответы: «учреждение само поддержит себя, учреждение создаст людей, люди явятся» и т. п.» (с. 117).
«Слово преобразование так часто повторяется в наше время, что его уже привыкли смешивать со словом улучшение… Кредитом пользуется с первого слова тот, кто выставляет себя представителем новых начал, поборником преобразования и ходит с чертежами в руках для возведения новых зданий. Поприще государственной деятельности наполняется все архитекторами, и всякий, кто хочет быть работником, или хозяином, или жильцом, – должен выставить себя архитектором… Мудрено ли, что лучшие деятели отходят, или, что еще хуже и что слишком часто случается, – не покидая места, становятся равнодушными к делу и стерегут только вид его и форму, ради своего прибытка и благосостояния… Вот каковы бывают плоды преобразовательной горячки, когда она свыше меры длится… «Не расширяй судьбы своей! – было вещание древнего оракула. – Не стремись брать на себя больше, чем на тебя положено». Какое мудрое слово! Вся мудрость жизни – в сосредоточении силы и мысли, все зло – в ее рассеянии». Эти слова, отчасти отражающие критическое отношение К. П. Победоносцева к эпохе Александра II, должны были служить в то же время предостережением современным ему государственным людям.
«Московский сборник» касается также вопроса о народном образовании; дело не так просто, говорится в нем, не всякое механическое накопление знаний можно считать благом.
«Нет спора, что ученье свет, а неученье тема, но в применении этого правила необходимо знать меру и руководствоваться здравым смыслом… Сколько наделало вреда смешение понятия о знании с понятием об умении. Увлекшись мечтательной задачей всеобщего просвещения, мы назвали просвещением известную сумму знаний… Мы забыли или не хотели сознать, что масса детей, которых мы просвещаем, должна жить насущным хлебом, для приобретения коего требуется не сумма голых знаний, а умение делать известное дело…
Понятие о народной школе есть истинное понятие, но, к несчастью, его перемудрили повсюду новой школой. По народному понятию, школа учит читать, писать и считать; но в нераздельной связи с этим учит знать Бога и любить Его и бояться, любить Отечество, почитать родителей».
В более заостренной форме другой русский мыслитель писал о том же: «Настроить школ и посадить в них учителями озлобленных невежд значит дать камень вместо хлеба».
Все эти мысли были с молодости хорошо знакомы и близки государю. Они вошли составной частью в его мировоззрение. Государь в то же время глубоко верил, что для стомиллионного русского народа царская власть по-прежнему остается священной. Представление о добром народе, противопоставляемом враждебной интеллигенции, жило в нем всегда. Он был также верным и преданным сыном православной церкви. Он верил в величие России и, в частности, придавал большое значение ее роли в Азии.
Но он также ощущал, что живет в сложную эпоху; он чувствовал, что нарастающего во всем мире зла не победить простым его отрицанием. Было верно, что государь был учеником К. П. Победоносцева; но также не без основания писал на втором месяце его царствования германский дипломат граф Рекс: «По-моему, эра Победоносцева миновала, хотя он, вероятно, и останется на своем посту». («В первые годы меня изредка спрашивали… А затем меня уже и не спрашивали», – отмечает через десять лет К. П. Победоносцев.)[8] «Московский сборник» был исходной точкой, но не «законом и пророками» для императора Николая II.
Скажут, может быть, что это только догадки? Они подтверждаются всем ходом его царствования. Более прямых доказательств этому нет, так как государь с молодости отличался большой замкнутостью, мало кому доверял даже малую долю своих планов, своих задушевных дум. Разве только императрица Александра Феодоровна действительно знала государя до конца.
Император Александр III скончался в Крыму, и переведение его праха в столицу, похоронные торжества, вплоть до водворения гроба в усыпальнице Петропавловского собора, заслонили дней на десять все остальное. Улицы Санкт-Петербурга были убраны траурными, черными с белым флагами. Огромные толпы провожали в могилу безвременно скончавшегося царя.
Только в первых числах ноября министры впервые явились со своими докладами к новому монарху. Они должны были, одновременно с разрешением очередных вопросов, посвящать его в общий ход государственной машины. И тут выяснилось, что государь был в курсе всех существенных дел, кроме наиболее секретных вопросов внешней политики. Он задавал Витте вопросы, свидетельствующие о том, что и в бытность наследником он ко всему внимательно присматривался.
Министр иностранных дел Н. К. Гирс – который, как свидетельствует в своем дневнике Ламздорф, «был в восторге от Его Величества» – один сообщил ему существенную новость: о весьма далеко зашедшем секретном соглашении с Францией. Государь тут же почувствовал, что в этом сближении таятся не только выгоды, но и угрозы в будущем: если оно уменьшает опасность в случае войны с Германией, оно в то же время увеличивает шансы такой войны, создавая новые плоскости трения. Он сознавал, что только превращение франко-русского союза в соглашение великих держав Европейского материка может действительно обеспечить мир в Европе и поддержание мирового первенства христианских европейских государств.
В первой циркулярной депеше, разосланной министерством 28 октября 1894 г., говорилось: «Россия пребудет неизменно верна своим преданиям: она приложит старания к поддержанию дружественных отношений ко всем державам и по-прежнему в уважении к праву и законному порядку будет видеть верный залог безопасности государства».
Но этими заверениями дело не ограничилось. Когда через два-три месяца был поднят вопрос об участии всех держав в торжественном открытии Кильского канала, государь заявил заведующему Министерством иностранных дел: «Весьма жаль, если Франция не примет участия. Мне кажется, что французы напрасно затрудняются ответом. Раз все державы приглашены, участие Франции необходимо наряду с ними».
«Какое нам, в сущности, до этого дело», – заносит по этому поводу в свой дневник граф Ламздорф. Но государь считал, что России весьма большое дело до предотвращения новой войны в Европе…
Первым событием царствования было бракосочетание императора с принцессой Алисой Гессенской, имевшее место 14 ноября. Ввиду траура свадебные торжества носили скромный характер. При проезде царской четы из Зимнего в Аничков дворец государь распорядился убрать с улиц шпалеры войск на пути их следования, и народ, толпившийся на улице, теснился вокруг царских саней, впервые после долгого времени видя вблизи своего государя. «Это был красивый и смелый жест», – писал Journal des Debats, отмечавший, что новый монарх вообще свободнее показывается народу, нежели Александр III, живший под впечатлением трагической кончины своего отца.
Принцесса Алиса Гессенская, которая стала русской императрицей через три недели по восшествии государя на престол, была за всю жизнь лучшим другом и верной спутницей императора Николая II и в светлые, и в темные дни. Брак их был исключительно дружным и счастливым, и семейная жизнь государя омрачалась порою только болезнями детей. Государыня, всецело разделявшая мировоззрение своего супруга, мало касалась государственных дел до последних тяжелых годов его царствования.
Император Николай II глубоко уважал своего отца и не стал на первых порах менять его сотрудников. Он расставался с ними только постепенно, по мере возникновения деловых расхождений. В первые недели, еще в 1894 г., произошли только две существенные перемены на верхах: был уволен генерал И. В. Гурко с поста генерал-губернатора царства Польского и смещен министр путей сообщения Кривошеин.[9] Если верить Витте, отставка генерала Гурко объяснялась тем, что он поставил перед государем «министерский вопрос»: исполните то, что я прошу, или увольте меня в отставку. Верно ли это в данном случае, проверить трудно, но несомненно, что государь не любил такого прямого давления; он считал, что министры (и высшие чины государства) не имеют права «ставить монарху ультиматумы». Увольнение министра путей сообщения произошло из-за того, что создалось впечатление, будто он пользуется своим служебным положением для личного обогащения. Хоть он при этом не делал ничего противозаконного в точном смысле слова, государь счел, что и недостаток осторожности в денежных делах недопустим для царского министра.[10]
Увольнение генерала Гурко, совпавшее с милостивым приемом делегации польского дворянства, тотчас же породило толки об ослаблении «русификаторских» тенденций. В Варшаве это вызвало нескрываемую радость. Никакой принципиальной и резкой перемены курса при этом, однако, не было.
* * *
В русском обществе восшествие на престол нового государя породило прежде всего смутную надежду на перемены. В русской печати стали помещаться приветственные статьи по адресу молодой императрицы, в которых мимоходом высказывалось предположение, что она внесет и в русскую жизнь те начала, среди которых была воспитана. Интеллигенция считала преимущества западных государственных форм совершенно бесспорными и очевидными и была уверена, что жить при парламентарном строе – значит ценить его и любить…
На некоторых земских и дворянских собраниях звучали речи, смолкшие в царствование императора Александра III.
Требование народного представительства, которое в эпоху императора Александра II именовалось «увенчанием здания», выдвигалось снова.
И не только раздавались отдельные речи; были приняты всеподданнейшие адреса, выдвигавшие это требование в осторожных выражениях. Более радикальные земские элементы пошли рука об руку с умеренными, чтобы добиться возможно большего единодушия. Земские собрания выступали как бы ходатаями от значительного большинства русского общества. Конечно, тот шаг, о котором говорилось в земских адресах, казался ничтожным большинству интеллигенции. Ведь ее не удовлетворяли и западные конституции – достаточно для этого приглядеться к изображению иностранной жизни в русских оппозиционных газетах и толстых журналах. Но лиха беда начать; рассчитывали, что после первого шага быстро последуют дальнейшие.
Император Николай II был, таким образом, поставлен в необходимость публично исповедовать свое политическое мировоззрение. Если бы он ответил общими, неопределенными приветственными словами на пожелание о привлечении выборных земских людей к обсуждению государственных дел, это было бы тотчас истолковано как согласие. После этого либо пришлось бы приступить к политическим преобразованиям, которых государь не желал, либо общество с известным основанием сочло бы себя обманутым.
Говорить «нет» в ответ на верноподданнические адреса всегда нелегко. Если бы та внешняя черта характера государя, которая так раздражала министров, – неопределенный ответ, за которым следует заочный отказ, – была действительно его непреоборимым свойством, он, вероятно, ответил бы и тут общими местами на адреса с конституционными пожеланиями. Но государь не захотел вводить общество в заблуждение. Как ни оценивать отказ по существу, прямое заявление о нем было со стороны монарха только актом политической честности.
В своей речи 17 января 1895 г. к земским депутациям государь сказал: «Мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления; пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начала самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой покойный незабвенный родитель».
Слова «беспочвенные мечтания» (которые, как утверждают, имелись в первоначальном тексте речи) лучше выражали мысль царя, и оговорка была, конечно, досадной; но дело было не в форме, а в существе. Как из манифеста 29 апреля 1881 г. Россия узнала, что преемник умерщвленного монарха решил твердо оберегать самодержавную власть, так из этой речи молодого государя сразу стало известно, что он в этом вопросе не намерен отступать от пути своего отца.
Среди разноречивого хора иностранной печати выделяется передовая статья влиятельнейшей английской газеты Times:[11] «О русских учреждениях не следует судить с западной точки зрения, и было бы ничем иным, как дерзостью, осуждать их за несоответствие идеям, возникшим из совершенно иных обстоятельств и из совершенно несходной истории. Судя по всем обычным признакам национального преуспеяния, самодержавная власть царя весьма подходит России; и не иностранцам, во всяком случае, подобает утверждать, что ей лучше подошло бы что-нибудь другое. Тот образ правления, о котором только что царь высказал свою решимость сохранить его, может, во всяком случае, развернуть историю таких достижений в государственном строительстве, с которыми его соперники не могут и претендовать сравняться. В России, во всяком случае, он должен быть в настоящее время признан как основоположный факт».
Русское образованное общество, в своем большинстве, приняло эту речь как вызов себе. Русская печать из-за цензуры, конечно, не могла этого явно выразить. Характерны, однако, для этой эпохи «внутренние обозрения» толстых журналов. «Северный вестник» (от 1 февраля того же года) в оглавлении отмечает на первом месте речь государя к земским делегациям, затем ряд мелких событий. В тексте приведена речь государя: ни слова комментария; обозрение прямо переходит к очередным мелочам. «Цензурного сказать нечего», – ясно говорила редакция читателям…
В то время как умеренно либеральная «Русская мысль» огорченно умалчивала об этой речи, социалистическое «Русское богатство» писало с явным злорадством: «С неопределенностью в душе, с тревогами, опасениями и надеждами встретило наше общество 1845 год. Первый же месяц нового года принес разрешение всех этих неопределенностей. Высочайшая речь 17 января… была этим историческим событием, положившим конец всякой неопределенности и всем сомнениям. Царствование императора Николая Александровича начинается в виде прямого продолжения прошлого царствования».[12]
По поводу этой речи 17 января тотчас же стали слагаться легенды. Ее решительное содержание мало соответствовало общим представлениям о государе. Поэтому начали утверждать, что эта речь ему кем-то продиктована. Начали искать, «кто за этим скрывается». Гадали на Победоносцева, на министра внутренних дел И. Н. Дурново.
Германский посол фон Вердер отмечает, со своей стороны, (15 (3) февраля). «В начале царствования им (императором) увлекались, превозносили все его действия и его речи до небес. Как теперь все изменилось! Начало перемене положила неожиданно резкая речь императора к депутациям. Она составлена была не министром Дурново, как сначала думали; тот узнал только от военного министра, что император хочет говорить. Император собственноручно написал эту речь и положил ее в свою фуражку. По всей России она резко критикуется».
Речь 17 января рассеяла надежды интеллигенции на возможность конституционных преобразований сверху. В этом отношении она послужила исходной точкой для нового роста революционной агитации, на которую снова стали находить средства.
На четвертом месяце нового царствования скончался министр иностранных дел Н. К. Тирс. Вокруг освободившегося поста началась закулисная борьба, сторонники тесного союза с Францией боялись перемен. Государь назначил министром князя Лобанова-Ростовского, русского посла в Вене, только что назначенного в Берлин. Человек уже немолодой, новый министр был представителем старой аристократической культуры, знатоком-любителем старинных книг. Наиболее горячие сторонники союза с Францией при дворе отнеслись без сочувствия к этому назначению.
Положение на Дальнем Востоке к тому времени сильно осложнилось. Япония после зимней задержки военных операций разгромила остатки китайского флота у Вей-Ха-Вея, заняла Ляодунский полуостров с Порт-Артуром и Южную Маньчжурию. Весною она легко могла захватить Пекин. Китай вынужден был просить мира.
Для России, для других европейских государств факт быстрого усиления Японии свидетельствовал о пробуждении азиатских народов. «Недвижный Китай» и еще более слабая Корея были, конечно, много более приятными соседями, чем возродившаяся воинственная Японская империя, усвоившая в совершенстве западную военную технику. Поэтому Россия взяла на себя инициативу попытки противопоставить японским завоеваниям единый фронт европейских держав. На участие Англии рассчитывали мало, и она действительно тотчас же отказалась от предложенного вмешательства в японо-китайские переговоры. Зато и Германия, и Франция присоединились к этому выступлению. Мир в Симоносеки был подписан 17 (5) апреля: Китай уступал Японии Формозу, Пескадорские острова и Ляодунский полуостров с Порт-Артуром, отказался от своих прав в Корее и должен был уплатить контрибуцию. Занятие Ляодунского полуострова давало Японии опорную точку на материке и ключ к Печилийскому заливу, подступам с моря к китайской столице. Европейские державы решили потребовать у Японии отказа от захвата территории на материке Азии, предоставляя ей в виде компенсации увеличенную контрибуцию.
23 апреля выступление трех держав в Токио состоялось. Посланники России, Германии и Франции предъявили свои требования министру иностранных дел Аоки. «Сопротивление трем великим державам было бы бесполезно», – подчеркнул при этом германский посланник. Князь Лобанов-Ростовский уже снесся с другими участниками выступления, чтобы в случае отказа соединенный флот трех держав прервал сообщение между Японией и ее войсками, находившимися на материке. Англия не сочувствовала этому шагу, но и не возражала против него. Япония уступила после долгих колебаний: она все же сохраняла большую часть приобретенного, и для «сохранения лица» ей было дано право объявить Симоносекский договор действительным, но затем, в виде «великодушного жеста», вернуть Китаю Ляодунский полуостров по получении первых взносов повышенной контрибуции. Покровительствуя слабому Китаю против сильной Японии, Россия, Германия и Франция в данном случае защищали общие интересы европейских держав. Объединение массивного Китая с технически сильной Японией переменило бы соотношение сил не только в Азии, но и во всем мире. Но Франция в этом участвовала только ради союза с Россией. Французскому правительству в этом вопросе приходилось выдерживать сильный внутренний натиск.
По настоянию государя Франция согласилась принять участие в международном торжестве открытия Кильского канала. К этому времени уже президент Казимир Перье ушел, горько жалуясь на связанность президентской власти; его сменил Феликс Фор; а вместо кабинета Дюпюи правил кабинет А. Рибо с министром иностранных дел Ганото.[13] Радикалы вели ожесточенную борьбу против этого кабинета и, по обыкновению, не преминули воспользоваться патриотическими доводами.
В парламенте и в печати начались протесты против отправки в Германию французской эскадры; а когда еще Франция оказалась вместе с Германией при выступлении против Симоносекского мира и стало известно, что теоретически допускалась возможность совместных боевых действий флотов трех держав, – все блюстители идеи реванша во главе с Деруледом забили тревогу. По соображениям внутренней политики им вторили радикалы. Идея примирения с Германией не встречала сочувствия в руководящих политических кругах. Правительство, считаясь с волей России, в известной мере к этому шло, но и то не особенно охотно.
10 июня в палате депутатов состоялась настоящая атака на кабинет. Что дает нам дружба с Россией? – говорили ораторы оппозиции. Каковы наши отношения с ней? Рибо и Ганото в ответе впервые решились произнести слово «союз». «Наш флот в Киле будет на своем месте – бок о бок с флотом наших союзников», – заявил Рибо. Это произвело сильное впечатление, и доверие кабинету было выражено огромным большинством.
Видный французский журнал[14] писал о выступлениях оппозиции: «Они говорят – к чему нам союз, который не начинается с возвращения Эльзаса и Лотарингии?.. Каковы бы ни были добрые намерения Санкт-Петербургского правительства в отношении нас, оно с первого же слова порвало бы переговоры, которые бы заведомо имели подобную цель». Тут вскрылось внутреннее противоречие франко-русского союза: тогда как Россия имела в виду сохранение европейского мира, во Франции союзом интересовались главным образом с точки зрения возможности возвращения Эльзаса – на что едва ли можно было рассчитывать без новой большой войны.
Чтобы облегчить французское участие в Кильских торжествах, русское правительство согласилось на следующий маневр: русская и французская эскадры встретились в датских водах и вместе прибыли в Киль. Торжества прошли благополучно. Германия, со своей стороны, любезно приняла гостей и даже убрала подальше с их глаз свои военные суда «Вейссенбург» и «Верт», напоминавшие о французских поражениях 1870 г.
Германское правительство в то время было настолько уверено в невозможности союза самодержавной России с республиканской Францией, что германский посол в Париже, граф Мюнстер, писал по поводу выступлений Рибо в палате: «Все равно, говорят ли «согласие» или «союз»: это все еще незаконное сожительство, лишенное формальной санкции императора. Большинство французов удовлетворяются выражением «союз» и русско-французской комедией при въезде в Кильскую гавань». Это писал германский посол в Париже через три года после подписания франко-русского союза: хорошо в то время хранились дипломатические тайны!
Но когда приезд генерала М. И. Драгомирова на французские осенние маневры совпал с пребыванием в Париже князя Лобанова-Ростовского и это явилось поводом для новых манифестаций в честь франко-русской дружбы, в Германии забеспокоились. Граф Эйленбург, принимая в своем имении возвращавшегося из Парижа князя Лобанова-Ростовского, всячески сетовал на дружбу России с «республиканцами». Русский министр в ответ говорил о миролюбивом настроении Франции и высказал мнение, что России следует поддерживать нынешнее умеренное правительство, раз восстановление монархии все равно невозможно. Этот разговор происходил в начале октября, а уже в конце того же месяца кабинет Рибо был свергнут, и к власти пришло радикальное министерство Леона Буржуа.
Из других фактов внешней политики в первый год царствования государя заслуживает внимания приезд болгарской делегации. Россия не имела с Болгарией дипломатических сношений и не признавала ее правительство законным. Со времени свержения Стамбулова болгары всячески старались снова завязать сношения с Россией. Летом 1895 г. в Санкт-Петербург приехала болгарская делегация с митрополитом Климентом во главе, встретившая у государя милостивый прием. Правда, тут же было объявлено, что прием этот оказывается болгарскому народу, в чувствах которого Россия никогда не сомневалась, а не «группе людей, именующей себя болгарским правительством». Тем не менее лед был пробит: признание состоялось в следующем году.
Во внутренней жизни России крупных новых фактов не было. Продолжались начинания прошлого царствования. С января 1895 г. вступили в силу: новый железнодорожный тариф – исключительно дешевый для едущих на дальние расстояния – и русско-германский торговый договор. Начал проводиться, сперва только в четырех губерниях, закон о винной монополии. Усиленно продолжалась постройка Великого сибирского пути; вообще 1895 г. был снова рекордным в железнодорожном строительстве.[15]
Наметились, однако, и некоторые новые черты. Государь проявил интерес к женскому образованию; на докладе тульского губернатора о желательности более широкого привлечения девочек в народные школы он поставил пометку: «Совершенно согласен с этим. Вопрос этот чрезвычайной важности». Было утверждено положение о женском Медицинском институте (в начале царствования императора Александра III женские медицинские курсы были закрыты за царивший на них революционный дух). Кредиты на церковно-приходские школы были значительно увеличены (почти вдвое).
Весною в Санкт-Петербурге, в Соляном городке, состоялась Первая Всероссийская выставка печатного дела, в которой приняли участие все периодические издания и все книгоиздательства.
В литературе этот год ознаменовался первыми выступлениями московских «декадентов» с Валерием Брюсовым во главе, жестоко осмеянных всей печатью. В толстых журналах разгоралась полемика между народниками и марксистами относительно значения капитализма для России. 21 февраля умер Н. С. Лесков, и радикальный «Мир Божий» по этому поводу написал: «Мы считаем за лучшее не высказывать своего мнения, следуя правилу: о мертвых или хорошо, или ничего». Но даже и «Русская мысль», в которой Н. С. Лесков сотрудничал, только решилась написать, что «для всесторонней и беспристрастной оценки не наступило еще благоприятного времени». Такова была в те дни сила интеллигентского остракизма!
В экономической области, где государь оставил распоряжаться С. Ю. Витте, были сделаны первые шаги для проведения валютной реформы. Были разрешены сделки на золото по курсу дня, иными словами, было официально признано расхождение между кредитным и золотым рублем (монету в 10 рублей разрешалось продавать за 15). Опубликован был закон о производстве Первой Всенародной переписи (на 1 января 1897 г.).
Истолковывая русскую внутреннюю политику для иностранного общественного мнения, А. А. Башмаков писал во влиятельном французском журнале:[16]
«Строй этот содержит идеал… Этот идеал, несмотря на многие противоречия и бесчисленные недочеты, – это представление о сильном неограниченном Царе, справедливом как Бог, доступном каждому, не принадлежащем ни к какой партии, обуздывающем аппетиты сильных, высшем источнике власти, который судит, карает и исцеляет социальную несправедливость.
Люди наиболее преданные благу страны сейчас проникнуты величайшим скептицизмом в отношении этих спасительных лекарств, этих всемирных панацей, которыми во всех странах полагают исцелить все недуги и покончить со всеми затруднениями. В сущности, весьма мало интересуются вопросом о парламентаризме и в особенности не доверяют красивым словам».
Эти слова, конечно, характеризуют умонастроение власти, а не большинства общества. Но и в некоторых слоях интеллигенции стало замечаться известное смягчение вражды. «Русская мысль» сочла нужным следующими словами отметить годовщину восшествия государя на престол: «Император Николай II отметил первый год своего царствования особенною заботой о нуждах просвещения. В этот же год Высочайшее повеление вновь создало у нас и высшее женское образование. Каждый монарх, в особенности у нас, вносит в управление нечто новое, соответствующее духу самого государя, и русское общество исполняется надеждой, что царствование императора Николая II будет животворить нашу школу и нашу общественную самодеятельность».
В Британской энциклопедии[17] сэр Д. Маккензи-Уоллес, автор известной книги о России, так характеризует первые шаги царствования императора: «Бесшумно совершилась большая перемена в способах проведения законов и министерских циркуляров. Походя на своего отца во многих чертах характера, молодой царь имел более мягкие, гуманные наклонности и был в меньшей степени доктринером. Сочувствуя стремлениям своего отца – созданию из святой Руси однородной империи, – он не одобрял основывавшихся на этом репрессивных мер против евреев, сектантов и раскольников, и он дал понять без формального приказания, что применявшиеся дотоле суровые меры не встретят его одобрения».
Если император Николай II желал сохранить в своих руках всю полноту самодержавной власти, если он глубоко уважал и ценил своего отца, это еще не значило, что его правление должно было явиться только «прямым продолжением прошлого царствования».
Глава 3
1896 г. – Признание болгарского правительства. – Коронация. – Ходынская катастрофа. – Нижегородская выставка. – Торгово-промышленный съезд. Освящение Владимирского собора в Киеве. – Поездка государя за границу. – Его пребывание во Франции. – Инцидент с «Гражданином». – Проект занятия Босфора. – Забастовка на текстильных мануфактурах в Петербурге. – Студенческие беспорядки в Москве
1896 г. ознаменовался тремя заметными событиями: коронацией, Всероссийской выставкой в Нижнем Новгороде и поездкой государя за границу.
Произошедшая в самом конце 1895 г. замена И. Н. Дурново на посту министра внутренних дел И. Л. Горемыкиным лишь в слабой степени могла считаться изменением политического курса. И. Л. Горемыкин, сочетавший государственную службу с деятельностью земского гласного Новгородской губернии, в ту пору считался умеренным либералом, но у него не было своей ярко выраженной программы, и он всегда оставался глубоко лояльным, но несколько пассивным исполнителем воли монарха.
Первые месяцы 1896 г. были заполнены подготовкой коронационных торжеств в Москве и «смотра русского хозяйства» – Нижегородской выставки. В остальных отношениях продолжалась очередная работа. Винная монополия, введенная с 1895 г. в четырех губерниях, была распространена еще на двенадцать. Был создан государственный фонд, из которого на оказание помощи нуждающимся литераторам отпускалось по 50 000 рублей в год. В печати и в Императорском вольно-экономическом обществе начиналось обсуждение денежной реформы.
Примирение между Россией и Болгарией, наметившееся уже во время приезда в Санкт-Петербург болгарской делегации во главе с митрополитом Климентом, состоялось наконец по случаю перехода в правление малолетнего наследника болгарского престола, князя Бориса (3 (15) февраля 1896 г.). Крестным отцом королевича был сам государь. Русский представитель, граф Голенищев-Кутузов, официально присутствовал на крестинах и был встречен восторженными приветствиями болгарского населения, а князь Фердинанд воскликнул перед народной толпой: «Да здравствует император Николай II, покровитель болгар!» Окончательное признание состоялось немного позднее – князь Фердинанд приезжал для этого в Санкт-Петербург в начале апреля.
За эти месяцы японское влияние в Корее понесло тяжкий ущерб – корейский король бежал под защиту русской миссии в Сеуле. Итальянцы потерпели полный разгром под Адуей в Абиссинии. Во Франции сенат сверг радикальный кабинет Леона Буржуа, и снова образовалось умеренное правительство во главе с Мелином, причем, к большому удовольствию русских дипломатических кругов, министром иностранных дел стал опять Ганото. «Оглядка на Россию» сыграла не последнюю роль в таком разрешении французского министерского кризиса.
* * *
Венчание на царство – важное событие в жизни монарха, в особенности когда он проникнут такою глубокою верою в свое призвание, как император Николай II. Коронация – праздник восшествия на престол, когда по окончании траура по усопшем монархе новый царь впервые является народу среди пышного блеска церковных и государственных торжеств.
Задолго до назначенного дня в Москву, древнюю столицу, стали собираться гости со всех концов. К приезду государя – дню его рождения, 6 мая, – вся Москва украсилась флагами и цветными фонариками. 9 мая состоялся торжественный въезд в столицу из Петровского подмосковного дворца. Каждый день приносил новые зрелища: то прибывали чрезвычайные иностранные посольства; то происходили военные парады. 13 мая императорская чета переехала в Кремль. Русские коронационные торжества 1896 г. были, между прочим, первым большим государственным празднеством, которое осталось запечатленным на кинематографической ленте.[18] Газеты перечисляли высокопоставленных гостей: прибыла королева эллинов Ольга Константиновна; принц Генрих Прусский, брат Вильгельма II; герцог Коннаутский, сын английской королевы; итальянский наследный принц Виктор-Эммануил; князь Фердинанд Болгарский; князь Николай Черногорский; наследный принц Греческий Константин; наследный принц Румынский Фердинанд; германские великие герцоги и принцы. По словам «Нового времени», на коронации присутствовали: одна королева, три великих герцога, два владетельных князя, двенадцать наследных принцев, шестнадцать принцев и принцесс… Не последнее место занимала на торжестве и чрезвычайная китайская делегация во главе с Ли Хунчаном.
14 мая, в день коронации, в карауле был Преображенский полк. К 9 часам утра в Успенском соборе собрались почетные гости. От крыльца Большого дворца к паперти собора были постланы ковры. На паперти государя встретило духовенство, и московский митрополит Сергий обратился к нему со словами: «Благочестивый государь! Настоящее твое шествие, соединенное с необыкновенным великолепием, имеет цель необычной важности. Ты вступаешь в это древнее святилище, чтобы возложить здесь на себя царский венец и восприять священное миропомазание. Твой прародительский венец принадлежит тебе единому, как царю единодержавному, но миропомазания сподобляются все православные христиане, и оно неповторяемо. Если же предлежит тебе восприять новых впечатлений этого таинства, то сему причина та, что как нет выше, так нет и труднее на земле царской власти, нет бремени тяжелее царского служения. Чрез помазание видимое да подастся тебе невидимая сила, свыше действующая, к возвышению твоих царских доблестей озаряющая твою самодержавную деятельность ко благу и счастью твоих верных подданных».
В соборе государь и государыня заняли места на троне под балдахином напротив алтаря; отдельный трон был воздвигнут для вдовствующей императрицы Марии Феодоровны. Митрополит Санкт-Петербургский Палладий, взойдя на верхнюю площадку трона, предложил государю прочесть Символ веры.
Император Николай II громким, отчетливым голосом повторил слова Символа веры. Облачившись в порфиру и венец, взяв в руки державу и скипетр, он затем прочел коронационную молитву, начинающуюся словами: «Боже Отцов и Господи милости, Ты избрал мя еси царя и Судию людям Твоим…»
После этого молитву от лица всего народа огласил митрополит Палладий: «Умудри убо и поставь проходити великое к Тебе служение, даруй Ему разум и премудрость, во еже судити людям Твоим во правду, и Твое достояние в тишине и без печали сохранити, покажи Его врагом Победительна, злодеем Страшна, добрым Милостива и Благонадежна, согрей Его сердце к призрению нищих, к приятию странных, к заступлению нападствуемых. Подчиненное Ему правительство управляя на путь истины и правды, и от лицеприятия и мздоприимства отражая, и вся от Тебе державы Его врученныя люди в нелицемерной содержи верности, сотвори Его отца о чадах веселящегося, и удивиши милости Твоя от нас… Не отврати лица Твоего от нас и не посрами нас от чаяния нашего…»
Хор грянул «Тебе Бога хвалим».
После литургии, которую государь выслушал стоя, сняв с себя венец, он восприял миропомазание. В этот миг колокольный звон и салют из 101 выстрела возвестили городу, что таинство совершилось. Митрополит Палладий ввел государя в алтарь через Царские врата, и там он приобщился Святых Тайн «по царскому чину» под обоими видами.
С этой минуты, исключительной и высокоторжественной для государя, он почувствовал себя подлинным помазанником Божьим; чин коронования, такой чудный и непонятный для большинства русской интеллигенции, был для него полон глубокого смысла. С детства обрученный России, он в этот день как бы повенчался с ней.
Последующие празднества – на тринадцатый день коронационных торжеств, 18 мая, – омрачены были катастрофой на Ходынском поле. На этом обширном пространстве, служившем для парадов и учения войск, собралась толпа свыше полумиллиона человек, с вечера ждавшая назначенной на утро раздачи подарков – кружек с гербами и гостинцев. Ночь прошла спокойно; толпа все прибывала и прибывала. Но около 6 часов утра – по словам очевидца – «толпа вскочила вдруг как один человек и бросилась вперед с такой стремительностью, как если бы за нею гнался огонь… Задние ряды напирали на передние, кто падал – того топтали, потеряв способность ощущать, что ходят по живым еще телам, как по камням или бревнам. Катастрофа продолжалась всего 10–15 минут. Когда толпа опомнилась, было уже поздно».
Погибших на месте и умерших в ближайшие дни оказалось 1282 человека; раненых – несколько сот.
В день несчастия был назначен прием у французского посла, и государь (по представлению министра иностранных дел князя Лобанова-Ростовского) не отменил своего посещения, чтобы не вызывать политических кривотолков. Но на следующее утро государь и государыня были на панихиде по погибшим и позже еще несколько раз посещали раненых в больницах. Было выдано по 1000 рублей на семью погибших или пострадавших, для детей их был создан особый приют; похороны приняты были на государственный счет. Не было сделано какой-либо попытки скрыть или приуменьшить случившееся – сообщение о катастрофе появилось в газетах уже на следующий день 19 мая, к великому удивлению китайского посла Ли Хунчана, сказавшего Витте, что такие печальные вести не то что публиковать, но и государю докладывать не следовало!.. Печать оживленно обсуждала причины катастрофы; общественное мнение стало искать ее виновников. Левые органы печати кивали на «общие условия», писали между прочим, что если бы у народа было больше разумных развлечений, он не рвался бы так жадно к «гостинцам»… Было назначено следствие, установившее отсутствие какой-либо злой воли; указом 15 июля за непредусмотрительность и несогласованность действий, имевших столь трагические последствия, был уволен заведовавший в тот день порядком и. о. московского обер-полицмейстера, и понесли различные взыскания некоторые подчиненные ему чины.
Печаль о погибших не могла, однако, остановить течение государственной жизни, и уже 21 мая на том же Ходынском плацу дефилировали стройные ряды войск. Коронационные торжества закончились 26 мая. Они сопровождались, по традиции, изданием манифеста со всевозможными льготами – понижением налогов и выкупных платежей, а также прощением недоимок на общую сумму до 100 миллионов рублей, смягчением наказаний, различными пожертвованиями (в том числе 300 000 рублей на студенческое общежитие) и рядом милостивых высочайших рескриптов, обращенных к старейшим заслуженным духовным и государственным деятелям – всем трем митрополитам, фельдмаршалу И. В. Гурко, генералу Ванновскому и др.
Французский кабинет Мелина – Ганото, стремившийся всячески подчеркнуть свою связь с Россией, отпустил на день коронации русского царя учеников всех школ; президент Феликс Фор и члены правительства явились на торжественное богослужение в русской церкви на улице Дарю. Париж был украшен русскими и французскими флагами. Солдатам дали добавочную порцию вина, сложили с них многие взыскания… Германский посол недовольно писал о «культе России», «насаждаемом сверху» французским правительством.
В манифесте 26 мая государь выразил удовлетворение по поводу приема в Первопрестольной. «Народные чувства, – говорилось в нем, – с особенной силой выразились в день народного праздника и послужили Нам трогательным утешением в опечалившем Нас посреди светлых дней несчастии, постигшем многих из участников празднества».
На второй день по окончании коронационных торжеств, 28 мая, в Нижнем Новгороде открылась Всероссийская выставка. Намеченная еще при императоре Александре III, подготовленная главным образом Министерством финансов, эта выставка должна была показать достижения русского хозяйства за последние четырнадцать лет.
* * *
Выставка занимала обширное пространство – около 60 десятин – на левом берегу Оки, близ территории ежегодной ярмарки. К ее началу были готовы еще не все павильоны. На открытие съехалось большинство министров и кое-кто из коронационных гостей (в том числе Ли Хунчан). С. Ю. Витте произнес речь, объясняя выбор Нижнего – «средоточия нашей внутренней торговли, расположенного недалеко от Первопрестольной столицы, на главнейшей реке Русского государства и на историческом пути в азиатские страны».
* * *
«Наша задача, – говорил министр финансов, – наглядно представить России и всему миру итоги того духовного и хозяйственного роста, которого достигло ныне наше отечество со времени Московской выставки 1882 г. Последние годы отмечены чрезвычайным ростом нашего отечества. Перед лицом этой правды, наглядно показанной здесь, на песчинке обширной русской земли, не может не охватывать патриотическая радость».
Витте в заключение подчеркнул «глубокую государственную мудрость» системы промышленного протекционизма.
Плата за вход на выставку была установлена в 30 копеек, а для фабричных рабочих и для учащихся вход был бесплатный; им, кроме того, предоставлялся даровой проезд по железным дорогам до Нижнего и обратно.
Несмотря на тщательную подготовку целого ряда отделов, в частности Русского Севера или художественного отдела, которым заведовал художник А. Н. Бенуа, выставка сначала привлекала мало публики – за первые пять недель число посетителей в среднем составляло 5000 человек в день; при обширности выставки она казалась почти пустой, и критики из толстых журналов злорадно писали: «Посетителей сотни, а рассчитывали на тысячи и миллионы…»
С другой стороны, выставка производила внушительное впечатление. «Обойдя витрины отделов, – говорил председатель Нижегородского ярмарочного комитета С. Т. Морозов, – вы невольно убеждаетесь, что Россия быстрыми шагами идет вперед, что целые отрасли промышленности у нас могут с успехом заменить иностранцев. Вы чувствуете совершенно невольно прилив сил, энергии, приобретаете сознание, что время даром не ушло, не потеряно…»
Но газеты, и не только левые, в один голос отмечали отсутствие увеселительной стороны. Такой поклонник развития промышленности, как всемирно известный ученый Д. И. Менделеев, писал в «Новом времени» 5 июля 1896 г., сравнивая Нижегородскую выставку с происходившей одновременно в Лондоне индийской выставкой, которую он называл «балаганом»: «В Нижнем все взято с серьезной, даже, может быть, чересчур серьезной стороны, без расчета на средние вкусы и нравы, чем объясняется малое число посетителей. Смотреть нашу выставку значит узнавать, учиться, мыслить, а не просто «гулять»… Д. И. Менделеев в то же время подчеркивал, что выставка показала (с 1882 г.) рост железных дорог с 22 500 до 40 000 верст, добычи каменного угля с 230 до 500 миллионов пудов, нефти с 50 до 350 миллионов, выплавки чугуна с 28 до 75 миллионов и т. д.
С. Ю. Витте в своей речи 16 июля при открытии ярмарки (происходившей параллельно с выставкой) заявил с некоторым высокомерием: «Мне предлагали оживить выставку публикой, падкой до развлечений, ресторанов и кафешантанов. Но десять человек, которые чему-нибудь научились, важнее двадцати тысяч прогуливающихся. О важности многих дел судят напрасно по числу голосов за и против, тогда как настоящее дело делает не масса, а отдельные лица». Однако на увеселительную сторону было впоследствии обращено внимание: в Нижнем открылись театры, появился балет, начали устраиваться народные увеселения.
Государь и государыня приезжали в Нижний Новгород 17–20 июля. В самый момент их приезда на выставку пошел сильнейший град, выбивший стекла во многих отделах, люди суеверные увидели в этом плохое предзнаменование. Государь остался доволен выставкой, дававшей яркое и наглядное представление о производительных силах его страны.
В июле посещаемость поднялась уже до 8000 в день, а в августе, в самый разгар сезона, достигла 15 000.
С 4 по 17 августа заседал в Нижнем так называемый торгово-промышленный съезд, вокруг которого возгорелась борьба между купеческими и промышленными кругами, с одной стороны, «интеллигенцией» и сельскохозяйственными кругами – с другой.
Нижегородская газета «Волгарь» выступила (6 июля) с необычной по русским условиям статьей: «Купечество наиболее всех других сословий сохранило в себе самобытный русский дух, – стояло в ней, – и национальные чувства нигде не проявляются с такой силой, уверенностью и широтою, как в этом сословии». Оно единственно сильное в наше время и своей зажиточностью. «Оно все может», – заявлял нижегородский орган, напоминая дворянам, что «многие сословия, в силу изменившихся социальных условий, не могут, как во время былой старины, проявлять свою силу…».
Эта статья вызвала резкую отповедь столичной печати, как левой, так и правой. На «торгово-промышленном» съезде, включившем в свой состав также профессоров технических учебных заведений, представителей ученых и технических обществ и просто «лиц, известных своими трудами на пользу промышленности и торговли», неожиданно сложилось большинство, отрицательно относившееся не только к стремлению промышленников добиться усиления государственной поддержки, но и ко всей протекционистской политике С. Ю. Витте.
Сначала в секции, потом в общем собрании съезда по вопросу о пошлинах на сельскохозяйственные орудия была вынесена резолюция, требующая понижения таможенного тарифа. Д. И. Менделеев отстаивал хотя бы сохранение этих пошлин при широком развитии кредита на покупку сельскохозяйственных орудий и машин; но съезд, большинством 140 против 63 голосов, принял резолюцию профессора Ходского о желательности снижения.
Председатель съезда, сенатор Д. Ф. Кобеко, в заключительной речи (17 августа) мотивировал это решение интересами сельского хозяйства: «Уже в Новороссии, на Волыни, в Прибалтийском крае надвигается волна иностранной колонизации, – говорил он. – Хорошо, чтобы землю вспахивал русский плуг, но еще важнее, чтобы на ней работал русский человек…» Отвечая на довод «пусть идут в город», Д. Ф. Кобеко продолжал: «Земледелец, помещик или крестьянин, это безразлично – не может расстаться с легким сердцем с землей, потому что в этой земле сложены кости его предков, что эта земля была его колыбелью, что с владением ею связаны лучшие минуты его жизни… Духовная связь с землей составляет великую силу русского населения, которая заслуживает глубокого уважения и требует мер охраны и поддержки…»
Торгово-промышленные круги, крайне недовольные оборотом дела, хотели использовать ярмарочный комитет в противовес решениям съезда, но С. Ю. Витте их успокоил. С. Т. Морозов на банкете при закрытии ярмарки обратился к министру финансов с речью. Съезд, говорил он, не имеет особого кредита. Мы, промышленники, привыкли долго думать, прежде чем рискнем кому-нибудь оказать кредит.
С. Ю. Витте подтвердил, что его позиция неизменна: «Какое же это было бы правительство, если бы за указанием путей оно обратилось к съезду?.. Десять человек могут сказать умное, а тысячи – неразумное. Первое будет принято, второе нет… Пока с нас, извините за выражение, дерут шкуру, о сложении пошлин нельзя думать… Можно было бы подумать, что это говорили люди, присланные из-за границы!» Министр финансов решительно заявил, что понижение пошлин возможно только при одновременной перемене таможенной политики во всех странах – «если бы все народы сказали – зачем мы душим друг друга?».
Выставка продолжалась еще до 1 октября, но ее посещаемость в сентябре снова упала до 5000–6000. Всего ее посетило 991 000 человек: из них 282 000 по бесплатным билетам – рабочих и учащихся. Эта последняя цифра весьма значительна: Нижегородская выставка, несомненно, сыграла свою роль в самопознании России.
* * *
Вскоре после посещения Нижегородской выставки государь предпринял свою первую поездку за границу со времени восшествия на престол. Эта поездка существенно отличалась от всех предшествующих. Основным вопросом было посещение республиканской Франции.
Со времени Всемирной выставки 1867 г., бывшей еще при Наполеоне III, Париж не принимал в своих стенах коронованных гостей. Провозглашение республики, совпавшее с поражением во Франко-прусской войне, внешним образом изолировало Францию в тогда еще монархической Европе. Именно поэтому французское правительство придавало особенное значение приезду государя. Отказаться посетить страну, с которой Россия уже четыре года была связана союзом, хотя еще и тайным, и навестить в то же время тех, кого Франция считала своими врагами, значило бы резко повернуть руль, порвать с внешней политикой императора Александра III.
Государь, с первых дней своего царствования стремившийся превратить франко-русский союз из орудия «реванша» в орудие европейского замирения, решил обставить свою поездку рядом условий, смягчавших ее политический характер. В частности, он потребовал полного воздержания от каких-либо антигерманских выпадов и предварительного просмотра им всех речей, с которыми к нему будут обращаться. Французское правительство дало все нужные заверения.
Первый визит (15–17 августа) старейшему из правителей соседних держав, австрийскому императору Францу-Иосифу, был краток и лишен политического значения. При возвращении из Вены в Киев в дороге скоропостижно скончался сопровождавший государя министр иностранных дел князь А. Б. Лобанов-Ростовский. Преемник ему был назначен только через с лишком четыре месяца; в дальнейшем пути государя сопровождал товарищ министра, Н. П. Шишкин.
В Киеве государь присутствовал при освящении Владимирского собора, наиболее замечательного памятника русского церковного искусства в конце XIX в., – в росписи собора участвовали такие художники, как В. Васнецов и Нестеров, – и при открытии памятника императору Николаю I. «Собор Св. Владимира – целая эпоха в истории русской религиозной живописи, – писал о нем художественный журнал «Мир и искусство». – Русские художники, получившие высшее художественное образование, обыкновенно игнорировали нашу старинную иконопись… С появлением Васнецова и Нестерова все переменилось. Эти художники поняли народный дух религии, прониклись ею и благодаря этому создали такие произведения, которые близки народу… Оба этих художника ответили на запросы религиозного чувства, и заслуга их никогда не будет забыта. Васнецов выдвигает пышный, строгий, византийский характер православия, Нестеров его блаженную, наивную сторону».
Из «матери городов русских» государь проследовал в Бреславль и в Герлиц, где происходили маневры германской армии. Первая встреча с Вильгельмом II после вступления государя на престол прошла в дружественных тонах; но приходилось «лавировать между Сциллой и Харибдой»: надо было, с одной стороны, успокоить германские опасения по поводу поездки в Париж, с другой – не сделать жеста, задевающего чувства французов. Государь вышел из положения со свойственным ему тактом, предоставив говорить императору Вильгельму и ограничиваясь в своих тостах ссылкой на традиционные чувства дружбы – одушевлявшие и его отца.
Вильгельм II пытался внушить государю идею таможенного союза Европы против Америки; канцлер князь Гогенлоэ «позондировал» его чувства насчет Англии, предсказывая, что она может лишиться Индии. «Император при этом засмеялся, – пишет князь Гогенлоэ, – и спросил, почему же Англия станет терять Индию? Кто ее возьмет у нее? Мы не так глупы, чтобы пускаться в подобное предприятие». В то же время государь указал на значение Сибирской дороги для его дальневосточной политики и заметил, что, когда дорога будет готова, придется, очевидно, потягаться с японцами. Он уже тогда придавал большое значение усиленному вооружению Японии.
Десятидневное пребывание в Дании и две недели, проведенные в шотландском замке Балморал у королевы Виктории, бабки императрицы, имели характер семейных визитов. Между тем Франция лихорадочно готовилась к встрече.
Раймон Пуанкаре, молодой блестящий политик (так его назвал Temps), произнося речь в Коммерси, сказал: «Предстоящий приезд могущественного монарха, миролюбивого союзника Франции, будет видимым увенчанием усилий нашей мудрости и нашей настойчивости; он покажет Европе, что Франция вышла из своей долгой изолированности и что она достойна дружбы и уважения».
«Этот первый визит, такой парадоксальный в своей новизне, такой естественный по своим побуждениям, визит самого мощного, самого абсолютного монарха на земле – самой молодой из республик», – как писал в передовой статье Temps, – занимал в течение двух месяцев французское общество. К празднествам подготовлялись задолго. Для приезда в Париж на дни торжества давалась скидка в 75 процентов проездной платы; начало школьных занятий было отсрочено на неделю. На всем пути следования от вокзала в Пасси (куда должен был прибыть царский поезд) до русского посольства на улице Гренель внаймы сдавались окна, причем цена доходила до 5000 франков за одно окно.
23 сентября (5 октября) государь, государыня и великая княжна Ольга Николаевна (ей было десять месяцев) прибыли в Шербур, где их встретил президент Феликс Фор, – и началась «русская неделя», закончившаяся 27 сентября шалонским парадом.
Париж был переполнен. К 2 миллионам его населения прибавилось 930 000 приезжих. На улицах было сплошное народное гулянье. Все стало русским или псевдорусским: мыло Le Tsar, конфеты с русским гербом или флагом, посуда с царскими портретами, игрушки, изображавшие русского медведя, а также государя, государыню и даже великую княжну Ольгу; царя изображали масленичные «прыгающие чертики», известная игрушка «мужик и медведь» превратилась в царя и Феликса Фора; модой воспользовалась реклама, и «пилюли Пинк» рекомендовались, чтобы сохранить здоровье для дней приезда царя; а на оборотах его портретов, раздававшихся даром на улице, печатались объявления сапожников и перчаточников. «Подарок царя» – можно было прочесть на магазинах готового платья, рекламировавших дешевую распродажу костюмов… Появился и «франко-русский» голландский сыр… Во всем этом было немало безвкусицы, но увлечение было несомненно искренним.
Это же увлечение сказывалось в потоке приветственных писем и открыток в русское посольство, во всевозможных проектах различных газет. Такой серьезный орган, как «Журнал де Деба», выступил с предложением дать имя Ольга девочкам, родившимся в октябре 1896 г., в честь дочери царя. Другие предлагали выкупить дома против русской церкви, снести их и создать перед нею площадь с цветником. Было и предложение поднести имение русскому послу, барону Моренгейму, много потрудившемуся для приезда царя… всего не перечесть… Во всяком случае, бесспорно одно: парижское население было охвачено подлинным восторгом. Любовь к зрелищам соединялась с живущими в массах монархическими наклонностями, с чувством возросшей безопасности, с надеждами на реванш, и только немногие французы не поддались в эти дни искреннему увлечению государем и Россией. В то же время условие государя было выполнено: ни в речах, ни в манифестациях не сквозило антигерманских ноток, если не считать молчаливого возложения венков у статуи Страсбурга Лигой патриотов, и только карикатуры иностранных газет всячески подчеркивали эту сторону франко-русских отношений, на все лады склоняя слово «реванш».
В Париже государь проследовал от вокзала в посольство через шпалеры войск, за которыми теснилась миллионная толпа, под немолчные клики «Да здравствует царь! Да здравствует царица!», небывалые со стороны иностранной толпы. («Напоминает Москву… Наш гимн распевали французские солдаты на улицах… его даже играл орган в Нотр-Дам», – с неудовольствием отмечает радикальный обозреватель русского толстого журнала).
Из посольства, ставшего на эти дни императорским дворцом, государь первым делом проехал в русский храм на улице Дарю, а уже оттуда – в Елисейский дворец, к президенту.
Французская печать особенно подчеркивала визиты государя к председателям обеих палат – Лубе и Бриссону, обезоружившие даже последнего – старого радикала и ревностного хранителя республиканских традиций. После приема дипломатического корпуса у президента Фора был банкет, на котором государь, упомянув о «ценных узах», в особенности подчеркивал значение Парижа как «источника вкуса, таланта, света». Как можно меньше политики! – звучало в этой речи…
И действительно, парижские дни государя были заняты не политическими переговорами, а осмотром французской столицы. Первый вечер в Большой опере. На следующее утро, вместе с президентом, императорская чета посетила собор Нотр-Дам, где ее встретил кардинал Ришар, старинную Sainte Chapelle, где государю показывали древнее славянское Евангелие Анны Ярославны, Пантеон, могилу Наполеона в церкви Инвалидов.
За завтраком в посольстве собрались представители Бурбонов (герцог Омальский, герцог Шартрский), Бонапартов (принцесса Матильда, двоюродная сестра Наполеона III) и цвет французской аристократии.
Днем, под звуки «Боже, царя храни», состоялась в присутствии государя закладка моста императора Александра III (о чем и теперь можно прочесть на мраморной доске на правом берегу Сены). Артист Муне произнес при этом стихи известного поэта Ж.-М. Эредиа… «Пусть будущее навсегда укрепит за тобою – славное прозвание твоего предка Петра», – говорилось в них.
Мимо монетного двора, где государю вручили медаль в честь его пребывания в столице Франции, императорская чета проследовала во Французскую академию и присутствовала на заседании. Приветствуя гостей, председательствующий, академик Легуве, напомнил о приезде в Париж Петра Великого 5 мая 1717 г. (другие приезды русских монархов не были связаны с «приятными воспоминаниями»: приезд Александра I – со взятием Парижа русскими войсками, приезд Александра II – с покушением поляка Березовского). «Позвольте, – сказал Легуве, – заранее отпраздновать сегодня двухсотлетие сердечной дружбы между Францией и Россией». Прочитаны были также стихи Франсуа Коппе, обращенные к «славному сыну великодушного царя Александра Справедливого».
Все перемещения государя были известны заранее, и всюду его окружали огромные толпы. «Это не улицы, это гостиные!» – заметил он своим спутникам. Из Французской академии высокие гости направились в Парижскую городскую думу. Площадь перед нею была сплошь покрыта народом: город Париж чествовал русского императора. Второй день закончился спектаклем-попурри в «Комеди Франсез»; особенные восторги вызвали стихи Жюля Кларети: «И ныне с Севера нисходит к нам надежда…»
На третий день государь и государыня утром осматривали музеи Лувра. По выраженному ими желанию их провели в галерею итальянских примитивов, причем императрице особенно понравилось «Увенчание Богоматери» Фра Анджелико. «Я здесь в первый раз, но не в последний раз», – сказал государь, уходя. Этому пожеланию не суждено было сбыться…
Мимо Севрской мануфактуры, через парк Сен-Клу, где били все фонтаны, императорская чета на полдня проехала затем в Версаль. «Когда государь вошел в галерею Зеркал, – описывал Temps, – перед ним открылась поразительная картина: все фонтаны, от верхней террасы до Большого канала, искрились на солнце, а все площадки, дорожки, все пространство между деревьями было покрыто пестрой толпой народа…»
День закончился представлением в Салоне Геркулеса. Сара Бернар декламировала стихи Сюлли-Прюдома – беседу версальской нимфы с тенью Людовика XIV, который в заключение говорил о государе: «Мне нечему его учить – чтобы поступать правильно, он только должен следовать примеру своего отца». Такие постоянные ссылки на пример императора Александра III в устах французских республиканцев были для государя особенно «пикантными» при сравнении с отношением русских, даже умеренно либеральных, отнюдь не республиканских кругов, к политике предшествовавшего царствования. Они ярко свидетельствовали об относительности, о своекорыстии политических оценок…
Последний день пребывания государя во Франции был единственным «политическим» днем. Государь знал, что нельзя было побывать в гостях у союзников, ничем не отметив близости; но свои слова он приберег на последний день, чтобы избежать манифестаций, развитие которых не всегда поддается предвидению. Покинув Париж, он отправился на большой парад французской армии под Шалоном. На завтраке, в военной обстановке Шалонского лагеря, государь сказал: «Франция может гордиться своей армией… Наши страны связаны несокрушимой дружбой. Существует также между нашими армиями глубокое чувство братства по оружию».
Это было все – но это было много. Слова эти мгновенно разнеслись по войскам, у многих офицеров – отмечали газеты – были слезы на глазах. «Мы переживаем исторический момент», – говорили они. В тот же день императорская чета со свитой отбыла в Германию, где провела три недели в Дармштадте, у родных государыни.
Во Франции удовлетворение было всеобщим. Приезд государя «пробил лед», Франция «восстановила свой ранг среди держав», как писали «Нейесте нахрихтен». Она стряхнула с себя подавленность поражения, тяготевшую на ней двадцать пять лет, почувствовала себя полноправной великой державой. Приезд царя был знаменательным этапом в жизни Французской республики. Это отразилось в известной мере и на ее внутренней политике. Престиж умеренного правительства Мелина – Ганото возрос и укрепился; оно продержалось сравнительно долго – 26 месяцев – и пало только среди бурь дела Дрейфуса, в 1898 г. Французы были даже склонны в известной степени учиться у русского царя. Газеты обратили внимание, что государь постоянно спрашивал: «Как долго вы были министром?» – «Как давно вы председателем?» – «Три года, это долго!» – заметил он Констану. «Не содержится ли в этом невольное предостережение по нашему адресу? – спрашивал Temps. – Не были ли бы мы сильнее, если бы у нас было больше устойчивости и последовательности?»
В России крайние левые круги были возмущены тем приемом, который «свободная страна» оказала «деспоту»; это проявлялось косвенно в кратких, полуиронических описаниях торжеств («5 октября началось сердцебиение Франции… Истратили 8 миллионов франков, выпили 10 миллионов литров вина…» – кратко писал «Северный вестник»). Либеральные и умеренные круги были довольны, тогда как справа делались тоже некоторые оговорки. Французская печать шумно возликовала по поводу инцидента с «Гражданином». 7 (19) октября министр внутренних дел приостановил на месяц издание еженедельника князя В. П. Мещерского за нарушение циркуляра «о соблюдении приличий относительно правительств, состоящих в дружественных с Россией сношениях». Temps писал, что князь Мещерский – противник франко-русского союза, что, по мнению князя, этот союз сулит России войну и разорение ради возвращения Франции Эльзаса и Лотарингии, а также усиливает либеральные и конституционные тенденции в русской жизни; его запрещение поэтому весьма знаменательно.
Инцидент, однако, не имел столь сенсационного характера: «Гражданин» был закрыт не за принципиальную критику франко-русского союза, а за помещение «сатирических заметок насчет президента Фора», как разъяснил князь Мещерский, бывший в Париже одновременно с государем. Циркуляр Министерства внутренних дел предлагал вообще «воздерживаться от неприязненных суждений по адресу тех глав правительств, гостем которых будет государь». Через три недели издание «Гражданина» возобновилось, причем в виде особой льготы с него были сложены предшествующие взыскания.
В общем, однако, несомненно, что, несмотря на все попытки смягчить и затушевать факты, главным последствием поездки государя было «всенародное оповещение о франко-русском союзе», тогда как раньше (по словам русского левого обозревателя) «иные не смели надеяться, другие боялись верить».
«Хотя слово союз не сказано, хотя его обходили, – тем не менее он все же существует, и мы должны с этим считаться», – доносил на следующий день после смотра в Шалоне германский посол граф Мюнстер, и ему вторил германский военный атташе Шварцкоппен: «Непосредственной опасности нет… Но пока Франция и Россия держатся вместе так, как при царском посещении, мы никоим образом не можем рассчитывать на благожелательное к нам отношение одного из этих государств».
Когда государь после двухмесячного пребывания за границей возвратился в Россию, ему вскоре пришлось принять ответственное решение по важному, притом уже старому вопросу. Многим в 1896 г. начинало казаться, что агония «больного человека» – Оттоманской империи – приходит к концу. На Крите шло усиленное брожение, готовилось отделение острова от Турции, и в других частях империи происходили снова резни армянского населения – даже в Константинополе, на глазах у правительства и послов! Основным новым фактом положения было, однако, то, что Англия, так долго и упорно защищавшая Турцию, готова была в ней отчаяться и в дипломатических разговорах ставила открыто вопрос о ее разделе.
Россия издавна считала Константинополь и проливы одной из своих целей; со времени войны 1877–1878 гг. и особенно после разрыва с Болгарией она как бы «ушла с Балкан», но никогда не отказывалась по существу от своих планов. Теперь связь с Болгарией была восстановлена; распад Турции допускался даже Англией. России представлялась возможность определить момент этого раздела.
Русский посол в Константинополе, Нелидов, считал данный момент для этого подходящим. Он приехал в Петербург, и 23 ноября состоялось у государя совещание по турецкому вопросу. Начальник штаба, генерал Обручев, горячо поддерживал Нелидова, заведующий Министерством иностранных дел Шишкин не возражал; намечалось, что, как только в Константинополе возникнут новые инциденты, – а их можно было ждать в любой день, – русский флот войдет в Босфор, и русские войска займут северную часть пролива. В дальнейшем ожидалось, что султан отдастся под суверенитет России или будет низложен и начнутся переговоры с другими державами о «компенсациях». Против этого проекта возражал только Витте. Государь выслушал всех, но оставил окончательное решение за собой.
Были предприняты некоторые предварительные шаги, показавшие на возможность перемены политики в турецком вопросе: Россия отказалась принять участие в международной комиссии по оттоманскому долгу. Ганото, встревоженный, беседовал об этом с русским послом в Париже. «Взвесили ли вы все трудности?» – говорил он, доказывая, что занятие Босфора и Константинополя русскими привело бы к захвату Дарданелл англичанами и итальянцами.
В итоге государь не отдал приказа о занятии Босфора. Хотя обстановка и была сравнительно благоприятна, оставалось явное несочувствие Франции, в то время не видевшей для себя подходящих компенсаций, традиционно заинтересованной Ближним Востоком и бывшей крупным кредитором турецкого правительства; оставалась возможность протеста со стороны Тройственного союза. Государь не пожелал нанести удар, который рикошетом мог привести к большому европейскому столкновению. Он, кроме того, не желал «разбрасываться», он видел в будущем почти неизбежное столкновение в Азии, и если Константинополь еще не падал, как зрелый плод, если эта операция требовала усилий – он предпочитал от нее воздержаться.
* * *
Внутри России между тем начинали организовываться силы, враждебные государственной власти. Еще в конце 1895 г. возник социалистический Союз борьбы за освобождение рабочего класса, обращавший главное внимание на пропаганду среди рабочих. Это были непримиримые противники существующего строя, стремившиеся использовать всякое частичное недовольство в своих целях, – сторонники не реформ, а революции. В их числе были В. Ульянов (Ленин), недавно вернувшийся из-за границы, куда он ездил для установления связи с эмигрантами, Цедербаум (Мартов), Нахамкес (Стеклов), Крупская, Елизаров (муж сестры Ульянова) и другие, впоследствии хорошо известные лица.
В 1896 г. Ульянов-Ленин, арестованный в конце декабря предшествующего года за составление прокламаций (в том числе издевательской листовки по поводу рождения великой княжны Ольги Николаевны), сидел в предварительном заключении. «Брудер чувствовал себя отлично», – писал про него Елизаров. Свой «невольный досуг» Ленин использовал для составления книги «Развитие капитализма в России». Но другие его сотрудники продолжали действовать. Именно в этом году они перешли от «кружковщины» – «просветительных» кружков среди рабочих для внушения им своих идей – к действиям в более широком масштабе.
Поводом для этого выступления послужили забастовки на петербургских текстильных фабриках. Со стороны заводской администрации были допущены бестактности, возымевшие серьезные последствия. Все фабрики были закрыты – что было естественно – на три дня коронационных торжеств (14–16 мая); но платить фабриканты хотели только за один день. В течение недели шли переговоры; работы продолжались. 23 мая рабочие на Российской бумагопрядильной мануфактуре явились в контору и потребовали уплаты за коронационные дни; но хотя это требование было выполнено, они предъявили и другие условия, в том числе сокращение рабочего времени, и, не получив ответа, забастовали. Движение тотчас же перекинулось на другие мануфактуры, и в течение какой-нибудь недели стали все текстильные предприятия в Санкт-Петербурге под общим лозунгом сокращения рабочего дня на 2 1/2 часа. (В 90-х гг. рабочее время было везде – не только в России – значительно дольше, чем теперь. В Санкт-Петербурге оно достигало 13 часов – с 6 до 8 часов с часовым перерывом; рабочие требовали 10 1/2 часа – с 7 до 7 часов с полуторачасовым перерывом.)
Число бастующих, по официальным сведениям, достигло около 15 000 человек (сами они утверждали, что их вдвое больше). Почти с самого начала деятельное участие в забастовке принял Союз борьбы за освобождение рабочего класса, издавший за месяц 25 различных листовок, которые распространялись и на других заводах – даже в Москве. В своих воззваниях Союз сулил денежную помощь от иностранных рабочих. Тактика революционных кругов была довольно проста: пользуясь недовольством рабочих по конкретным поводам, толкать их на предъявление возможно более высоких требований, так как и неудачная забастовка, увеличивая нужду рабочих, способствовала росту недовольства в их среде.
Санкт-петербургские забастовки встревожили правительство своим быстрым развитием и своей организованностью, показывавшей планомерное руководство. Градоначальник Клейгельс не только издал воззвание к рабочим, но ездил на фабрики и вел беседы с бастующими. Министр финансов Витте, в ведении которого была промышленность, приехал в Санкт-Петербург из Нижнего, с выставки; он упрекал полицейские власти в непринятии своевременных мер. Но забастовка сама уже шла на убыль и продержалась дольше только на тех мануфактурах, где условия труда были лучше и где рабочие обладали более крупными сбережениями. «Помощь от германских рабочих» так и не пришла. Все движение длилось немного меньше месяца, но правительство сочло необходимым опубликовать о нем подробное сообщение.
Петербургские забастовки показали несомненную опасность. Они проистекали из двух причин: действительно тяжелых условий фабричного труда и революционной воли организованной социалистической группы. Власть приступила прежде всего к борьбе с этой группой; летом и осенью произведено было много арестов – свыше тысячи; «У нас большие эпидемии», – сообщали петербургские члены Союза своим заграничным товарищам. Но этим дело не ограничилось. Была создана особая комиссия по изучению более глубоких причин успеха забастовочного движения, а министр финансов, собрав представителей текстильной промышленности, обратился к ним 6 июля с гневной речью. «Вы вряд ли можете себе представить, – говорил С. Ю. Витте, – правительство более благосклонное к промышленности, чем настоящее… Но вы ошибаетесь, господа, если воображаете, что это делается для вас, для того, чтобы облегчить вам наибольшую прибыль; правительство главным образом имеет в виду рабочих; этого вы, господа, кажется, не поняли, иначе последняя стачка бы не случилась. Доказательство этому, что стачка пощадила те заводы, которых владельцы сумели установить отношения между рабочими и хозяевами приличнее и гуманнее…» И попытки возражать Витте резко оборвал: «То, что вы собираетесь сказать, не ново; я собрал вас не чтобы выслушать и научиться, а чтобы сказать вам свое мнение».
Враг Витте, правый публицист Цион, издававший в Париже брошюру за брошюрой против министра финансов, по этому поводу не преминул написать: «Во Французской республике осудили Жореса и редакторов газет за призывы к стачке. А в самодержавной России министр своими речами может безнаказанно поощрять рабочих к новой стачке!» Между тем трудно было обвинять Витте в пренебрежении интересами промышленности; он, однако, считал, что власть должна быть не стороной, а арбитром в этом споре, хотя и держался мнения, что во время забастовок, да еще с политической «подоплекой», никакие уступки недопустимы с государственной точки зрения.
Умеренно либеральный «Вестник Европы» писал: «Агитаторы выступили на сцену лишь тогда, когда стачки были уже совершившимся фактом… Ключ к забастовкам следует искать в положении рабочих» – и высказывался за сокращение рабочего времени, указывая, что оно на петербургских бумагопрядильнях «достигает 13 часов, то есть превышает обычный для большинства русских фабрик 12-часовой рабочий день, продолжительность которого почти всеми признается чрезмерной».
«Северный вестник» приводил таблицу прибылей бумажных фабрикантов – будто бы от 16 до 45 процентов в год, – не указывая, однако, источника, из которого почерпнуты эти сведения.
* * *
Революционные круги воспользовались также и Ходынской катастрофой как поводом для своей агитации. Казалось бы, полицейская неисправность не связана по существу с самодержавным строем; но тем не менее, когда осенью возобновились занятия в университете, со стороны левых кругов была пущена в ход идея демонстрации на Ваганьковском кладбище в полугодовой день катастрофы, 18 ноября.
В правительственном сообщении 5 декабря было указано, что в студенческой среде в Москве существует некий «союзный совет», объединяющий 45 «землячеств»; этот «совет» между прочим выражал еще во время тулонских празднеств французским студентам «свое негодование по поводу раболепства свободной нации перед представителями самодержавного режима». Этот «совет» был арестован в начале 1895 г., но возобновил свою деятельность в новом составе, пытаясь осенью этого года начать волнения – по какому угодно поводу. 21 октября союзный совет принял постановление, гласящее, что «главной целью союза землячеств должна быть подготовка борцов для политической деятельности», что «организованный активный протест в эпоху усиливающейся реакции будет иметь громадное и широкое воспитательное значение» и что необходима борьба «…против современного университетского режима как частичного проявления государственной политики. Борясь против насилия и произвола университетского начальства, студенчество будет закаляться и воспитываться для политической борьбы с общегосударственным режимом».
Выпущено было воззвание, призывающее к устройству панихиды по погибшим на Ходынке, чтобы выразить «протест против существующего порядка, допускающего возможность подобных печальных фактов». Человек пятьсот студентов двинулось 18 ноября на Ваганьково кладбище; их туда не пропустили, и они прошли по улицам города. За отказ разойтись участников демонстрации переписали и 36, замеченных в подстрекательстве, арестовали. В университете после этого три дня происходили сходки; каждый раз их участники арестовывались. В общем было задержано 711 человек. Из них было выделено 49 «зачинщиков», а остальные были исключены на год из университета (201 – с правом поступления с будущего учебного года в другой университет, и 461 – в тот же). Под стражей студенты оставались 3–4 дня.
Движение не ограничилось Московским университетом. «Во многих университетах и высших учебных заведениях, – говорилось в правительственном сообщении, – собирались в течение этих дней более или менее шумные сходки, но под влиянием увещаний учебного начальства сходки эти расходились, не вызывая необходимости обращения к мерам полиции».
Отношение печати к этим волнениям, не вызванным никакими реальными причинами (нельзя считать «непреодолимой потребностью» устройство демонстрации на Ваганьковском кладбище), было весьма характерно. «Московские ведомости» указали, что осведомленность правительства об агитации в студенчестве была «на высоте», но никаких энергичных мер оно принять не сумело. «Новое время» устами А. С. Суворина замечало: «Во всех этих волнениях, давно приготовлявшихся, есть вещи, ясно говорящие о невнимании взрослых к явлениям жизни или непонимании ими некоторых вещей… Правительство отнеслось гуманно – как к учащейся молодежи, а не как к бунтующим заговорщикам».
«Санкт-Петербургские ведомости», орган князя Э. Э. Ухтомского, писали: «Одни репрессивные «хирургические» меры не могут устранить это печальное явление» – и высказывали предположение, что главная причина волнений – в скуке, так как «в этом громадном губернском городе жизнь общественная, литературная и даже научная отличается вялостью и бесцветностью». Более левые органы по большей части молчали.
В пассивном сочувствии значительного большинства русского образованного общества была главная сила студенческих волнений. Студенты могли выступать нелепо, по ничтожным поводам – это не имело в глазах общества никакого значения. По-своему интеллигенция была последовательна: студенческие беспорядки 1896 г. – и в этом их огромное различие с забастовками того же года – были чисто политическим выступлением, направленным против всего существующего строя, они не вызывались никакими особыми нуждами и тяготами. Это было одно из периодических проявлений общего политического недовольства русской интеллигенции.
Глава 4
Внутренние преобразования: винная монополия. – Перепись 1897 г. – Денежная реформа. – Спор о значении урожаев и хлебных цен. – Закон 2 июня 1897 г. о рабочем дне. – Поездка государя в Варшаву. – Австро-русское соглашение 1897 г. – Визиты германского императора и французского президента. – Морское строительство. – Государь об англо-германских переговорах. – Нота 12 (24) августа 1898 г. о сокращении вооружений. – Отношение держав. – Нота 30 декабря и программа конференции. – Гаагская конференция 1899 г.; ее итоги и историческое значение
Император Николай II не задавался предвзятой целью переменить сверху донизу строение Русского государства. Он не стремился – применяя выражение «Московского сборника» – быть «архитектором» во что бы то ни стало и считал, что менять стоит на бесспорно лучшее. Но этот разумный консерватизм никогда не удерживал его от тех преобразований, которые представлялись ему целесообразными или необходимыми по общему ходу государственной жизни.
Он продолжал реформы, начатые при его отце, а также приступил к завершению некоторых учреждений, созданных еще при императоре Александре II. Винная монополия с каждым годом распространялась на большее число губерний; Судебные уставы 1864 г. были введены в Сибири и в Архангельской губернии в 1896 г., а за ближайшие годы и в остальных частях империи.
Винная монополия, как, впрочем, все мероприятия русской власти, подвергалась жестокой критике со стороны весьма широких кругов русского общества. Говорили, что правительство «спаивает народ». Между тем монополия не имела непосредственного отношения ни к развитию, ни к уменьшению пьянства. И старая «откупная» система, и взимание акциза со спиртных напитков – система, существовавшая в России до введения монополии, – создавали особый класс людей, заинтересованных в увеличении сбыта крепких напитков. Государственная монополия продажи водки не пыталась ограничить ее потребления, но и не занималась искусственным увеличением спроса путем рекламы, торговли в кредит и т. д. В то же время – и в этом была главная цель реформы – монополия давала государству более значительный доход, чем прежние системы обложения, – не за счет увеличения пьянства, а путем присвоения себе той доли, которая раньше составляла барыш «посредников». Этот косвенный налог – существующий во всех странах в том или ином виде – шел полностью в государственную казну. Конечно, это было некоторым стеснением сферы частной предприимчивости – но это стеснение было оправдано не только интересами казны, но также и устранением наиболее безобразных форм «распивочной» продажи водки и основанной на них эксплуатации потребителей. В то же время государству при этой системе было гораздо легче, буде оно этого пожелало бы, провести ограничение или даже запрещение спиртных напитков, чем при системе частной торговли.
* * *
28 января 1897 г. была произведена Первая Всероссийская перепись населения. Раньше – еще в период крепостного права – бывали только весьма несовершенные «ревизии» (последняя в 1858 г.). Оказалось, впрочем, что приближенный статистический учет населения правительственными органами лишь немного отставал от действительности: «официально» считали около 120 миллионов населения, оказалось 126,4 миллиона (не считая 2 с половиной миллионов жителей Великого княжества Финляндского). Перепись дала огромный материал о вероисповедном и племенном составе населения, о его занятиях, о распространении грамотности и т. д. Разработка этих материалов растянулась затем на долгие годы.
* * *
За введением казенной монополии министр финансов С. Ю. Витте приступил к проведению в жизнь задолго подготовлявшегося плана денежной реформы. Россия уже давно не имела устойчивой валюты. Размен бумажных денег на золото и серебро был приостановлен еще со времен Крымской кампании; курс кредитного рубля (на золото) снова сильно упал во время войны 1877–1878 гг.; он подвергался за 80-е гг. значительным колебаниям, спускаясь до 50 копеек и в редкие моменты поднимаясь до 80 копеек за рубль. Россия отвыкла от металлического обращения; счет велся обычно на кредитные рубли, к которым «приспособилась» и разменная монета (медь и неполноценное серебро). Не только золота, но и полноценного серебра почти не было в обращении. Только таможенные пошлины исчислялись в золотых рублях.
В конце XIX в., при широком развитии международного обмена товарами и капиталами, неустойчивая валюта, не имевшая точного соотношения с валютами других стран, представляла значительные неудобства. За иностранные товары и капиталы приходилось дороже платить, так как прибавлялась к нормальной цене еще премия на риск. В то же время колебания курса создавали осложнения и для русского вывоза: от цены кредитного рубля на иностранных биржах могли зависеть прибыльность или убыточность сделок по продаже русского хлеба и других товаров. На этом некоторые, более умелые, выигрывали; но в общем неустойчивость валюты служила тормозом для развития торговли и промышленности.
Еще при предшественнике С. Ю. Витте, А. Н. Вышнеградском, началось накопление золотого запаса, предназначенного для стабилизации рубля. Витте усиленно продолжал это накопление, используя для этого золото заграничных займов.
Чтобы прекратить игру на курсе рубля, Министерство финансов прибегло в начале 1895 г. к следующему приему: оно закупило на Берлинской бирже предлагавшиеся там на срок кредитные рубли (по курсу в 219 марок за 100 рублей), запретило вывоз кредитных рублей из России, указав местным банкам, что вывоз кредиток в данный момент будет сочтен участием в спекуляции против рубля. Берлинские биржевики, запродавшие большое количество рублей, оказались не в состоянии их добыть «в натуре», и, чтобы избежать несостоятельности, они вынуждены были обратиться к тому же Министерству финансов за разрешением приобрести по крайне невыгодной для них цене (234 марок за 100 рублей) нужное им количество рублей. Считают, что спекуляция потеряла на этом свыше 20 миллионов рублей, составивших прибыль русской казны и увеличивших свободную наличность казначейства. Попытки уронить курс рубля были радикально пресечены этой операцией; после этого Министерство финансов удержало уже без особых усилий курс рубля на двух третях его золотого паритета.
Но когда 15 марта 1896 г. в «Новом времени» появилось сообщение о предстоящей денежной реформе, с самых разных сторон начались протесты. Против стабилизации рубля на уровне двух третей возражали с самых противоположных точек зрения. Одни заявляли, что это злостное банкротство, что рубль можно менять на золото только 100 за 100 – хотя за последние сорок лет вся экономическая жизнь приспособилась к новому, более низкому курсу. Другие указывали на желательность введения одновременно золотой и серебряной валюты (биметаллизм); третьи утверждали, что реформа все равно обречена на провал и только грозит величайшими потрясениями; а некоторые вообще отрицали ее полезность.
Проект Министерства финансов обсуждался в пяти заседаниях Вольно-экономического общества (в марте и апреле 1896 г.); о нем было написано немало статей в газетах и журналах, причем критика явно преобладала над одобрением. Нашлись поклонники кредитного рубля, как С. Ф. Шарапов, доказывавший, что русское хозяйство с ним освоилось, что он служит дополнительной охраной русского производства, удорожая иностранные товары, и что он содействует русскому экспорту хлеба, внося в него элемент азарта. «В мой торговый расчет, – говорили С. Ф. Шарапову хлебные торговцы Калашниковской биржи, – входит элемент такой: авось, мол, выиграю! И благодаря этому я торгую. Это очень дурно может быть, но это факт».
Другие, признавая золотую валюту за благо, утверждали, что она в России не может удержаться. Страна слишком бедна, все золото из нее уйдет за границу, говорили одни. Русское население припрячет все золото в кубышки, оно исчезнет из оборота, и Государственный банк должен будет вскоре прекратить размен, заявляли другие.
Те же доводы, которые в Вольно-экономическом обществе выдвигались со стороны русской интеллигенции, были повторены против реформы и в Государственном совете. Члены Государственного совета Б. Мансуров и Д. фон Дервиз в обстоятельных записках доказывали недопустимость девальвации по соображениям государственного престижа.
На это С. Ю. Витте и другие представители его ведомства отвечали обстоятельно по всем пунктам. (В Вольно-экономическом обществе реформу защищали господа Гурьев и Касперов.) Против «морального» довода о недопустимости девальвации было легко указать, что рубль упал уже давно – сорок лет тому назад; что его повышение до золотого паритета вызвало бы величайшие затруднения во всех отраслях хозяйства: бремя всех долгов увеличилось бы в полтора раза, цены бы непомерно возросли и т. д. Кроме того – формально законной валютой был серебряный рубль, а цена на серебро за последние годы катастрофически упала: серебряный рубль был бы не в полтора раза, а вдвое дешевле старого золотого рубля.
Что касается опасений утечки золота за границу, то они неосновательны, так как расчетный баланс России в общем благоприятен; а думать, что русские граждане могут припрятать в «кубышки» сотни миллионов золотых рублей, – значит безмерно переоценивать зажиточность того самого населения, о бедственном положении которого так много говорилось, чтобы доказать неосуществимость той же реформы.
В основных чертах реформа сводилась к следующему: новый золотой рубль, признававшийся основной денежной единицей, приравнивался к полутора старым золотым рублям. Иными словами, он считался равным кредитному рублю, курс которого уже свыше года удерживался как раз на уровне 7 рублей 50 копеек за полуимпериал.[19]
В Государственном банке имелся запас золота около 1200 миллионов рублей (по новой оценке), а кредитных билетов в обращении было немногим более 1100 миллионов. Таким образом, восстановление свободного размена не представляло никаких затруднений. (Размер девальвации рубля – в полтора раза – был, кстати сказать, довольно скромный при известной реформе графа Канкрина в 1842 г., справедливо считающейся образцовой: давали 3 рубля 50 копеек ассигнациями за металлический рубль, а в наши дни при стабилизации франка, проведенной Пуанкаре в 1928 г., новый франк составлял всего одну пятую прежнего.)
Если в чем можно было упрекнуть Министерство финансов, то скорее в избытке осторожности, в чрезмерных затратах на накопление огромного золотого запаса, а также на закупку серебра для чеканки рублей и полтинников. Но полноценная серебряная монета считалась психологически необходимой для внедрения в население привычки к металлическим деньгам.
В апреле 1896 г. вопрос о денежной реформе обсуждался в общем собрании Госсовета; Витте в заключение своей защитительной речи сказал, что лично был бы рад, если бы проект провалился: тогда пришлось бы выпустить еще 300–400 миллионов кредитных рублей: «Отрезвляться придется лет через десять, когда наступит полное падение рубля; но нарекания будут обращаться тогда не к нынешним финансовым деятелям, на долю коих достанутся лишь похвалы за оживление народной торговли и промышленности». Госсовет отложил вопрос до осени.
Борьба против денежной реформы, однако, не прекращалась и принимала самые неожиданные формы; так, французский премьер Мелин во время пребывания государя в Париже пробовал внушить ему мысль о вредности золотой валюты для России. Французский посол граф Монтебелло вручил государю две обстоятельные записки по этому вопросу.
Стоит отметить, что московский либеральный орган «Русские ведомости» высказался определенно в пользу реформы, за что подвергся резким нападкам чуть не всей остальной печати, обвинявшей «Р. В.» в невежестве, «неуважении к финансовой науке» и т. д.
Старый враг Витте, его непримиримый критик справа И. Цион выпустил в Париже брошюры «Куда временщик Витте ведет Россию» и «Витте и его проект злостного банкротства», называя министра финансов «достойным учеником Карла Маркса». Агитация против реформы во второй половине 1896 г. еще усилилась, а Государственный совет затягивал ее рассмотрение.
Но государь не изменил своего положительного отношения к реформе. Французские записки он передал Витте, сказав: «Вот я вам отдаю записки, которые мне были поданы; я их не читал – можете оставить их у себя!» И 2 января 1897 г. было созвано особое заседание финансового комитета под председательством самого государя. На нем было постановлено приступить к осуществлению реформы; и указом 3 января было предписано начать чеканку новой золотой монеты, причем на империалах прежних веса и пробы означалось бы «15 рублей» вместо 10 рублей.
Характерно, что этот указ, означавший «переход через Рубикон» – признание девальвации по курсу двух третей, – был напечатан в газетах мелким шрифтом и не привлек к себе особого внимания публики. Денежная реформа вошла в жизнь незаметно; она не вызвала, вопреки мрачным предсказаниям ее критиков, никаких экономических потрясений. Курс был устойчивым уже года два; спекуляция на рубль прекратилась; золото по курсу 1 рубль 50 копеек за 1 рубль продавалось свободно, и обмен кредитных билетов на золото по тому же курсу не явился поэтому заметным новшеством. Золото за границу не ушло; сколько-нибудь значительной доли его в кубышки не припрятали, и Россия упрочила свое международное финансовое положение, безболезненно перейдя к золотой валюте, принятой к тому времени в большинстве великих держав (Япония последовала примеру России в марте 1897 г.). Момент для реформы был выбран крайне удачно, после четырех урожайных годов (1893–1896). Весьма возможно, что в случае новой отсрочки реформа бы вообще не осуществилась, так как 1897 и 1898 гг. были неурожайными, а затем начали разрастаться внутренние и внешние осложнения.
Виднейшие иностранные экономисты – немцы Адольф Вагнер и Лексис, англичанин Гошен – единодушно признавали своевременность и успешность русской валютной реформы. С. Ю. Витте в своих мемуарах со своей стороны пишет: «В сущности, я имел за себя только одну силу, но силу, которая сильнее всех остальных, – это доверие императора, а потому я вновь повторяю, что Россия металлическим золотым обращением обязана исключительно императору Николаю II».
Действительно, при той косности, которую в этом вопросе проявило русское общественное мнение, при заинтересованных иностранных влияниях, враждебных стабилизации, трудно себе представить, чтобы денежная реформа могла быть проведена иначе, как по предписанию императора, который заставил смолкнуть споры, определенно высказав свою волю на заседании финансового комитета 2 января 1897 г.
К концу 1897 г. было решено чеканить новые золотые монеты в 10 и 5 рублей. Они были на треть меньше старых империалов и полуимпериалов, и столичные острословы сначала их называли «матильдоры» (по супруге С. Ю. Витте) и «виттекиндеры». Но золотая монета быстро приобрела «права гражданства», к ней стали привыкать, и в течение пятнадцати лет – впервые во времена введения бумажных денег (кроме короткой эпохи между девальвацией 1842 г. и Крымской войной) – Россия обладала нормальным золотым обращением.
Толки о денежной реформе значительно усилили общий интерес к экономическим вопросам, и судьбы русского хозяйства обсуждались весьма оживленно и свободно на столбцах повременной печати и в различных обществах. Цензура, довольно строгая в вопросах «чистой политики», мало вмешивалась в обсуждение экономических проблем, и «марксистские» точки зрения, так же как и народнические, высказывались довольно свободно. Ленин (из ссылки) присылал свои статьи по земельному вопросу в «легальные» журналы.
Одна книга, вышедшая в начале 1897 г., вызвала ожесточенную полемику. По инициативе того же министра финансов несколько специалистов по экономическим вопросам, с профессорами А. И. Чупровым и А. С. Посниковым во главе, выпустили обстоятельное исследование под названием «Влияние урожаев и хлебных цен на некоторые стороны русского народного хозяйства». В этой книге они приходили к неожиданным выводам: вопреки мнению сельскохозяйственных кругов, считавших падение цен на русский хлеб (особенно резкое в 1894 г.) катастрофой для деревни, авторы исследования утверждали, что низкие цены на хлеб весьма полезны для огромного большинства населения России.
Они указывали, что большинство крестьян либо удовлетворяется своим хлебом, либо даже вынуждено прикупать. Высокие цены поэтому не приносят крестьянам барыша, а то и прямо убыточны. То же можно сказать и про город: естественно, что городской и фабричной части населения выгодно покупать хлеб как можно дешевле. Только 9 процентов крестьян, по исчислению авторов «Влияния урожаев и хлебных цен…», имеют избытки для продажи; только для них, а также для крупных землевладельцев выгодны высокие цены; но интересы огромного большинства страны требуют низких цен.
Эти выводы были сочувственно встречены министром финансов и положены им в основу всеподданнейших докладов о государственной росписи на 1895 и 1896 гг. Но в печати эта книга вызвала многочисленные протесты. Оспаривались как выводы, так и данные, по которым она была составлена. В марте 1897 г. в Вольно-экономическом обществе состоялись по этому поводу прения, показавшие, насколько различные воззрения на русское хозяйство царят среди интеллигенции.
Так называемые «марксисты» – П. Б. Струве и М. И. Туган-Барановский – выступили с резкой критикой книги. Они указали, что положительные черты, сопутствующие низким ценам, объясняются их совпадением с урожайными годами. Хорошие урожаи, конечно, выгодны деревне, но не благодаря низким ценам, а несмотря на них. Низкие цены на хлеб препятствуют развитию сельского хозяйства, а от них зависят в России и другие отрасли – ремесла и даже промышленность.
* * *
Авторы книги на это возражали с той же точки зрения, с которой обычно защищали общину: «Та форма экономических отношений, при которых человек потребляет то, что производит сам, владея землей и орудиями производства, предпочтительнее той, когда самостоятельный хозяин превращается в батрака и фабричного рабочего, – говорит профессор А. И. Чупров. – Натуральное хозяйство оказало России великие услуги; оно служит причиной того, почему землевладельческий кризис, охвативший всю Европу, нами переносится сравнительно легче. У нас есть огромное количество хозяйств, стоящих вне влияния низких хлебных цен. И кто знает, не должны ли мы в современных тяжких условиях в некоторой степени благословлять судьбу за сохранение у нас натурального хозяйства».
Противники возразили ему весьма резко. «Я считаю, что гимн, пропетый г. Чупровым нашему натуральному хозяйству, почти не заслуживает опровержения, – говорил П. Б. Струве. – Эти оптимистические фразы опровергаются всем нашим экономическим убожеством, так резко обнаружившимся в голодный год, всей нашей культурной и политической отсталостью. Связь этих сторон нашей жизни с натуральным хозяйством представляется мне неопровержимой».
В этой полемике оказались заодно, в причудливом сочетании землевладельческие круги и так называемые «марксисты» против «народников», очутившихся в одном лагере с Министерством финансов С. Ю. Витте. Не обошлось в пылу спора между этими группами русской интеллигенции без характерных взаимных обвинений: вы защищаете интересы помещиков, вы требуете высоких цен на хлеб, когда «прогрессивные партии на западе» стоят за низкие цены, говорили «народники». Вы опираетесь на авторитет министра финансов и подбираете нужные ему цифры, – не оставались в долгу «марксисты». Единого мнения по основным вопросам русского хозяйства в среде интеллигенции не было, но эта полемика, освещавшая спорные пункты с самых разнообразных сторон, иногда давала правительству полезный материал для законодательной работы.[20]
Не менее сложным по существу, хотя и менее спорным в интеллигентской среде был вопрос о положении рабочих. России нужна была промышленность, прежде всего для того, чтобы отстоять свою экономическую самостоятельность, с которой неразрывно связана в современных условиях внешняя мощь страны. Но сохранение натурального хозяйства в деревне, действительно освобождавшее от влияния мирового сельскохозяйственного кризиса (и зато усугублявшее разрушительное значение неурожаев), тормозило развитие внутреннего рынка и замедляло приток рабочих в города. Государство принимало различные меры, чтобы помочь развитию промышленности, – оно строило железные дороги, оно ввело покровительственные пошлины; но русских капиталов было мало, и промышленность только в последнее время – в конце 1880-х и в 1890-х гг. – стала развиваться более быстрым темпом.
Интеллигентская среда относилась к промышленности с большим подозрением (которое проявилось, между прочим, и на съезде в Нижнем Новгороде). «Народники» доказывали, что развитие капитализма в стране только ухудшает положение народа: наряду с казной появляется новый «эксплуататор», выжимающий соки из народа. Марксисты считали развитие промышленности явлением «прогрессивным», но стремились его использовать главным образом для создания из рабочих «революционного авангарда», и только умеренная часть их, как П. Б. Струве, считала, что русскому капитализму надо еще дать вырасти и окрепнуть, раньше чем вступать с ним в решительную борьбу.
Русские рабочие, несомненно, зарабатывали много меньше, чем пролетарии Западной Европы, и жили в более бедной обстановке. С другой стороны, они по большей части сохраняли связь с деревней, и потому безработица им была менее страшна; меньшему заработку соответствовала также меньшая производительность (и меньшая интенсивность) труда.
Средняя прибыль русского промышленника (в процентах к обороту) была выше, чем в Западной Европе; но с общегосударственной точки зрения эта прибыль была весьма ценной, так как была едва ли не единственным источником (наряду с притоком иностранных капиталов) для дальнейшего развития промышленности. Прибыль фабриканта в общем шла не на какие-либо «кутежи с шампанским», а на расширение производства, столь необходимое для России.
Интеллигенция, весьма мало считавшаяся с интересами производства, поддерживала, разумеется, самые крайние требования в смысле улучшения положения рабочих; в этом «народники» вполне сходились с «марксистами». Но государственной власти, сознававшей, что это улучшение означает удорожание производства, приходилось действовать крайне осмотрительно и выбирать среднюю линию между интересами рабочих и предпринимателей, памятуя прежде всего об интересах всей страны и ее будущего. После больших забастовок 1896 г. был предпринят ряд анкет о положении рабочих. Особое совещание пяти министров по изучению собранных новых данных пришло к выводу, что рабочие не находятся в худшем материальном положении, чем крестьяне, и что нет поэтому основания для принятия чрезвычайных мер, которые бы вызвали новые государственные расходы. Был, однако, издан закон 2 июня об ограничении рабочего времени. Этот закон не удовлетворил, конечно, левые круги. Был установлен максимальный предел рабочего дня для взрослых мужчин в 11 часов, с тем чтобы в субботу и в предпраздничные дни работали не более 10 часов, тот же 10-часовой предел вводился для работ, хотя бы отчасти производившихся в ночное время. В других странах, с которыми России приходилось конкурировать, законодательные нормы были не более благоприятными для рабочих: во Франции предел был установлен в 12 часов; в Англии, Германии, Соединенных Штатах, Бельгии вообще не существовало законодательных ограничений труда взрослых мужчин; в Италии 12-часовой рабочий день был введен только для женского труда. Норма ниже русской была в то время только в Австрии (11 часов) и в Швейцарии (10 1/2 часа). Фактически рабочий день во многих странах – например, в Англии – был несколько меньше, но это было результатом борьбы и соглашений между рабочими и фабрикантами, а не законодательной мерой.
В России правительство считало забастовки, так называемые «действия скопом», чрезвычайно нежелательными, опасаясь беспорядков и их использования со стороны революционных элементов. Поэтому оно не желало допускать открытой экономической борьбы фабрикантов и рабочих и вмешивалось в нее само путем законов и при помощи фабричной инспекции, наблюдавшей за их выполнением. Закон 2 июня 1897 г. предусматривал также значительное расширение кадров фабричной инспекции. Он был косвенным ответом на забастовки 1896 г., показывавшим, что правительство, борясь с нежелательными формами выступлений рабочих, в то же время заботилось о защите их интересов.
* * *
В конце лета 1897 г. государь посетил Варшаву. Этому предшествовало несколько мер, свидетельствовавших о его желании смягчить ту вражду, которая господствовала в русско-польских отношениях после восстаний 1830–1831 и 1863 гг. Был отменен в Западном крае особый налог с землевладельцев польского происхождения, введенный после восстания 1863 г. Был разрешен сбор на постановку памятника Мицкевичу в Варшаве (до того времени это имя считалось «крамольным» – великого польского поэта заслонял враг России, организатор польских легионов в Крымскую войну). Варшавским генерал-губернатором, на место занемогшего графа Шувалова, был назначен мягкий и обходительный князь Имеретинский. Отменено было обязательное посещение богослужений для учащихся инословных исповеданий (мера эта относилась, впрочем, не только к царству Польскому).
В польском обществе возникли «примиренческие» течения, получившие от своих противников презрительную кличку «угодовцев». Известную роль тут сыграл и франко-русский союз – поляки с давних пор привыкли «ориентироваться» на Францию. Польский публицист Багницкий выпустил брошюру, излагавшую условия, на которых польское общество могло бы примириться с Российской империей. Он писал, что поляки готовы удовлетвориться меньшими правами, нежели те, которыми обладает Финляндия: они не требуют ни отдельного войска, ни таможенной границы; они готовы отказаться от притязаний на Западный край и ограничиться административной автономией, введением выборного городского и земского самоуправления и прекращением обрусительной политики в польских губерниях. Правда, эта программа имела еще одну сторону: надежду на то, что Россия воссоединит с царством Польским австрийские и германские польские области (что вызвало со стороны «народнического» органа «Русское богатство» критическое замечание: «Примиряясь этой ценой с поляками, мы приобретаем в Германии заклятого и непримиримого врага»).
Императорская чета прибыла в Варшаву 19 августа. Местное население встретило государя так, как ни один русский монарх не был встречаем в Польше. Это было не только официальное торжество, с флагами, иллюминацией и шпалерами войск: во встрече приняло участие громадное большинство населения во главе с местной аристократией. «Мы прошли через тяжелую школу, – писала влиятельная польская газета, – и пришли к выводу, что можно быть хорошим поляком, оставаясь лояльным гражданином Русского государства… В нашем энтузиазме нет никаких иллюзий, никаких излишних надежд, ни мечтаний». «Русское богатство», выражая настроения левых кругов русской интеллигенции, отмечало «неожиданные для многих варшавские празднества».
Государь пробыл в Варшаве четыре дня; он ласково принимал представителей польского общества, благодарил население за выраженные чувства и в рескрипте на имя князя Имеретинского написал: «Мои заботы о благе польского населения – наравне со всеми верноподданными державы русской в неразрывном государственном единении». Эти слова показывали, что государь, смягчая репрессии, меняя тон в отношениях с поляками, не хотел никаких перемен по существу. Как император Александр III, как К. П. Победоносцев, государь стоял за сосредоточение власти в центре, против обособления отдельных частей империи. В то же время как раз известное обособление, некоторый отказ от централизации были в ту пору для населения Польши самыми минимальными условиями примирения с русской государственностью. Возможно, конечно, что уступки в этом отношении только оказались бы наклонной плоскостью, ведущей к полному отделению Польши? Во всяком случае, варшавские дни 1897 г. были шагом на пути, по которому история в дальнейшем не пошла…
В первую половину своего царствования император Николай II, подобно своему отцу, был «собственным министром иностранных дел» в гораздо большей мере, чем это думали современники. После смерти князя Лобанова-Ростовского, при его заместителе Шишкине, как и при его дальнейших преемниках, государь руководил внешней политикой России, направляя ее по путям, до конца известным только ему. Личные сношения с правителями других стран и непосредственные приемы послов позволяли ему иметь собственное осведомление, нередко иное и зачастую более достоверное, чем сведения, полученные обычными путями.
Назначение нового министра иностранных дел графа M. H. Муравьева (русского посланника в Копенгагене), состоявшееся 1 января 1897 г., не внесло ничего нового во внешнюю политику России. Перед тем как занять свой пост, граф M. H. Муравьев побывал в Париже (и на обратном пути в Берлине), чтобы заверить Францию в неизменности русской политики и Германию – в ее миролюбии.
Три главы государств приезжали в 1897 г. в Санкт-Петербург «отдать визит» государю: весной император Франц-Иосиф; в конце июля – император Вильгельм II; через недели две после него – президент Феликс Фор. Наибольшее политическое значение из этих трех посещений получило наименее нашумевшее из них: приезд австрийского императора.
Между Австро-Венгрией и Россией в 1897 г. было заключено соглашение, на целое десятилетие определившее ход событий на Ближнем Востоке. Интересы России и Австро-Венгрии на Балканах сталкивались не раз; примирить их было трудно, и австро-русская вражда учитывалась всеми правительствами как политическая аксиома. В конечном итоге это было, пожалуй, верно; однако почва для временного соглашения все же нашлась – к великой тревоге государственных деятелей Англии. Убедившись в том, что планы захвата Босфора, выдвигавшиеся русским послом в Константинополе и военными кругами, могут вызвать опасные осложнения, несмотря на некоторые «авансы» со стороны Англии (Ганото прямо говорил графу M. H. Муравьеву, что это привело бы к общей европейской войне), государь решил на более или менее долгий срок удовлетвориться сохранением существующего положения и для этого сговориться с государством, имевшим совершенно иные более отдаленные цели, но одинаково заинтересованным в том, чтобы балканский вопрос не был поставлен на очередь в ближайшее время.
Австро-русское сотрудничество сразу же сыграло значительную роль для безболезненной ликвидации греко-турецкой войны, вспыхнувшей весною 1897 г.: Грецию защитили от последствий ее военного поражения, а Крит был принят в заведование «концертом великих держав» при номинальном сохранении турецкого суверенитета.
* * *
Приезд императора Вильгельма был обставлен пышным церемониалом – встреча в Кронштадте, иллюминация в Петергофе, военные смотры в Красном Селе, пожалование звания адмирала русского флота. Во многом эта встреча была сходной со свиданием в Бреславле: германский монарх, опираясь на добрые личные отношения с государем, еще не оставил надежды оказывать на него политическое влияние; а государь в ответах на горячие тосты своего гостя по-прежнему проявлял осторожную сдержанность.
В такой же внешней обстановке был встречен через две недели и французский президент Феликс Фор. Государь выехал ему навстречу в Кронштадте; был иллюминован Петергофский парк; президент присутствовал на смотрах и учениях в Красном Селе. Эта параллельность вызвала даже некоторое неудовольствие во французских кругах – и в конце визита им было дано удовлетворение: за прощальным завтраком на крейсере Pothuau 14 (26) августа 1897 г. впервые было заявлено устами государя и французского президента, что франко-русский союз существует. Каждый при этом вложил в свою речь свой особый оттенок понимания целей этого союза; тогда как государь говорил о «дружественных и союзных целях, полных одинаковой решимостью содействовать всею своей мощью поддержанию мира», – в речи Феликса Фора было сказано, что союзные нации «руководствуются общими идеалами цивилизации, права и справедливости».
Население русской столицы приветливо встретило гостей. Петербургские обыватели шумно чествовали моряков французского флота и кричали «ура» под звуки «Марсельезы», причем известную роль для интеллигенции играла также сладость республиканского «запрещенного плода». Этот радушный прием, однако, не имел особого политического значения, и либеральный «Вестник Европы» по этому поводу предостерегал от чрезмерных увлечений. «Со стороны французских публицистов, – писал он, – вполне извинительно приписывать нашим народным массам такие ожидания и радости, о которых наш народ едва ли имеет точное представление. Если у нас образованные люди проникаются французскими восторгами до забвения здравого смысла – почему французам не принимать их за чистую монету?» И либеральный орган, на этот раз в согласии с политикой правительства, указывал, что «союз с Францией для нас может быть полезен, если только он не направлен специально против Германии», и что вообще «франко-русский союз имеет несравненно большее значение для Франции, чем для нас».
Хотя государю не удалось достигнуть примирения между Францией и Германией, все же период 1895–1898 гг., когда пост французского министра иностранных дел занимал Ганото, был временем некоторого смягчения этой старой вражды. В Англии это вызвало большую тревогу. Ее политика «блистательного одиночества» основывалась на предпосылке о неустранимости некоторых антагонизмов на материке Европы. Между тем Австрия и Россия заключили деловое соглашение; и франко-германская вражда при содействии той же России как будто грозила в свою очередь исчезнуть! На самом деле до этого было далеко, но у страха глаза велики. К тому же события на Дальнем Востоке – занятие Киао-Чао, а затем Порт-Артура[21] – показывали как будто, что державы Европейского материка, принадлежащие к обеим коалициям – «тройственной» и «двойственной», имеют какую-то общую колониальную политику и действуют в Азии, не спрашивая согласия Англии.
Со стороны кабинета Солсбери – Чемберлена был тогда предпринят ряд маневров, имевших целью предотвратить образование «концерта европейских материковых держав». (Об этих маневрах, происходивших за кулисами, широкой публике стало известно только на много лет позднее.)
Была и другая причина английской тревоги. Указом 24 февраля 1898 г. государь предписал отпустить из свободной наличности государственного казначейства 40 миллионов рублей на постройку военных судов, «независимо от увеличения ассигнований по смете морского министерства за 1898–1904 гг.». Россия, имевшая к тому времени в Балтийском море семь броненосцев и три бронированных крейсера не старше десяти лет, приступала к удвоению своего военного флота.[22] Почти в то же время германский рейхстаг принял новую судостроительную программу на 250 миллионов марок.
Англия, нотою 31 января (12 февраля) предлагавшая России раздел Китая и Турции на английскую и русскую сферы влияния (и встретившая отказ), в конце марта предложила Германии вступить с ней в формальный союз.
Германское правительство отнеслось, однако, с недоверием к этому предложению. Считая, что Англия и Россия сговориться никогда не могут, оно полагало, что Англии все равно не на кого больше рассчитывать – разве на англофильские элементы во Франции; а если бы Франция склонилась в сторону Англии, это бы компенсировалось сближением России с Германией. Не придавая особого значения английскому предложению, император Вильгельм II решил уведомить о нем государя личным письмом и при этом попытался добиться от государя каких-нибудь обещаний за эту «услугу».
«Раньше чем отвечать, – писал император Вильгельм 30 (18) мая, – я прямо и откровенно обращаюсь к тебе, мой кузен и уважаемый друг, и уведомляю тебя, потому что чувствую – это вопрос жизни и смерти». Вильгельм II указывал, что Англия хочет заключить договор вообще с Тройственным союзом:
«Япония и Америка, с которыми уже начаты предварительные переговоры, присоединятся к нам. Можешь сам себе представить все возможности, которые зависят от нашего отказа или нашего согласия.
Так вот, старый верный друг, я тебя спрашиваю: скажи, что ты можешь предложить и что ты сделаешь, если я откажусь. Твои предложения должны быть точными, откровенными и без всякой задней мысли… Не беспокойся о своей союзнице, она получит подобающее место в этой комбинации согласно твоему желанию, что бы ты ни предложил».
Государь, однако, правильно оценил положение: если бы Германия хотела сговориться с Англией, она бы не стала его запрашивать; очевидно, она только желала извлечь какую-нибудь выгоду из своего отказа. Государь ответил приветливо, но с нередко свойственной ему тонкой иронией. Он указал прежде всего, что Англия еще недавно делала России «весьма соблазнительные предложения». «Это доказывает, что Англии тогда была нужна дружба с нами, чтобы она могла втайне противодействовать росту нашего влияния на Дальнем Востоке». Слова о присоединении Японии и Америки к англо-германскому союзу вызывают у государя замечание:
«Как тебе известно, мы пришли с Японией к соглашению о Корее, и еще недавно у вас установились превосходные отношения с Сев. Америкой. По правде сказать, я не вижу, почему бы эта страна вдруг обратилась против своих старых друзей единственно ради прекрасных глаз Англии.
Мне очень трудно, а то и невозможно ответить на твой вопрос: полезно ли будет для Германии принять предложения Англии? Я не знаю, какая им цена. Ты должен сам принять решение, зная, что лучше и что необходимо для твоей страны».
Государь оказался прав: Германия все равно не заключила соглашения с Англией, и вскоре Вильгельм II снова писал государю: «Насколько я могу понять, англичане во что бы то ни стало хотят найти на материке армию, которая бы сражалась за их интересы. Думаю, им будет нелегко найти такую армию, во всяком случае, это будет не моя».
* * *
Тою же весной 1898 г. на военное и колониальное поприще выступила еще одна великая держава, с еще ничтожной армией, но уже сильным флотом. Разразилась война между Испанией и Соединенными Штатами, которые впервые приобрели в ней владения за пределами Северо-Американского материка.
В этой-то обстановке государем было задумано и предпринято его историческое выступление – с предложением положить предел росту вооружений, ведущему к войне неслыханных размеров.
Происхождение этой ноты до сих пор служит предметом споров. Одни приписывают ее влиянию Куропаткина, который как раз в марте 1898 г. докладывал государю проект соглашения с Австрией об отсрочке введения скорострельной артиллерии в русской и австрийской армиях; ссылаются на появившуюся в то время шеститомную книгу Блиоха, доказывавшую невозможность успешного ведения войн при современных условиях; говорили о влиянии графа M. H. Муравьева и даже Витте, хотя министр финансов никогда не принадлежал к числу «идеологов». Вернее всего, что эта инициатива принадлежала самому государю: чтобы высказать ее от имени великой державы, нужно было соединение смелости и простоты, свободных от рядовых дипломатических соображений.
Более четверти века длился в Европе мир; народы начинали к нему привыкать; они принимали исключительно долгое затишье между вулканическими извержениями за окончательное угасание вулкана. Но правительства знали, как непрочен этот мир, и вооружения росли с каждым годом. На русскую и на германскую судостроительную программу Англия отвечала морским бюджетом, превышавшим бюджеты обеих держав, только что резко повысивших свои кредиты на флот. Намечавшееся в ту пору австро-русское соглашение об отсрочке артиллерийского перевооружения было только частностью – однако и оно наталкивалось на большие трудности. Получалось, что долгая отсрочка военных столкновений только вела к небывалому накоплению военных сил и средств – и грядущая война должна была неизбежно принять невиданные, фантастические размеры. В народах это вызывало ощущение: значит, войны не будет. Но правители – конечно, не один государь – видели, что причины столкновений не уменьшаются, что способы мирного разрешения спорных вопросов по-прежнему отсутствуют. Попытки создать такую международно-политическую систему, которая исключала бы войну, приводили только к сложным шахматным ходам, минам и контрминам, к перегруппировкам и мнимым перегруппировкам, ярким образцом которых были английские предложения России, а затем Германии – имевшие целью разрушить будто бы намечавшееся объединение европейских материковых держав. Не мир сулил Европе и франко-русский союз, который был выгоден и России и Франции главным образом в случае новой большой войны.
Провидя опасность великой катастрофы – как ее провидели многие, – государь, как по своему положению, так и по своим личным свойствам, один оказался в состоянии во весь рост поставить перед миром вопрос о грядущих потрясениях. Нота об опасностях вооруженного мира была не практическим политическим ходом; это был вопрос, обращенный к государствам: вы видите опасность, хотите ли вы приложить усилия, чтобы ее предотвратить? И можете ли вы это сделать?
Если считать, что жизнь народов течет по своим законам, настолько же незыблемым, настолько же независимым от человека, как законы, управляющие движением светил, – такой вопрос должен казаться бесплодным и наивным. Но если верить, что не только у людей, но и у государств имеется свобода воли, – тогда надо признать, что императору Николаю II, который первый поставил вопрос о практических мерах для предотвращения войн и облегчения бремени вооружений, принадлежит исторический почин в великом деле и что один этот почин дает ему право на бессмертие.
Мысль о таком выступлении зародилась у государя, видимо, в марте 1898 г.; министр иностранных дел граф M. H. Муравьев составлял для него об этом записку, которую затем критиковал великий князь Алексей Александрович. Государь, однако, не отказался от этой мысли, и в августе она приняла окончательную форму.
31 июля (12 августа) был подписан мир между Испанией и Соединенными Штатами. 12 (24) августа граф M. H. Муравьев пригласил к себе послов иностранных держав (французского посла графа Монтебелло – на два часа раньше других, чтобы подчеркнуть особое отношение к союзнице). Текст обращения к державам был уже утвержден государем. «Каков бы ни был исход предполагаемой меры, – писал граф Муравьев в своем всеподданнейшем докладе, – уже одно то, что Россия, во всеоружии своей необоримой мощи, выступила первая на защиту вселенского мира, послужит залогом успокоения народов, осязаемо укажет на высокое бескорыстие, величие и человеколюбие вашего императорского величества, и на рубеже истекающего железного века запечатлеет августейшим именем вашим начало грядущего столетия, которое с помощью Божьей да окружит Россию блеском новой мирной славы».
Вот текст этого исторического документа:
«Охранение всеобщего мира и возможное сокращение тяготеющих над всеми народами вооружений являются при настоящем положении вещей целью, к которой должны бы стремиться усилия всех правительств.
Взгляд этот вполне отвечает человеколюбивым и великодушным намерениям Его императорского величества, августейшего моего государя.
В убеждении, что столь возвышенная цель соответствует существенным потребностям и законным вожделениям всех держав, императорское правительство полагает, что настоящее время весьма благоприятно для изыскания путем международного обсуждения наиболее действительных средств обеспечить всем народам истинный и прочный мир и прежде всего положить предел все увеличивающемуся развитию современных вооружений.
В течение последних двадцати лет миролюбивые стремления особенно твердо укрепились в сознании просвещенных народов. Сохранение мира поставлено было целью международной политики. Во имя мира государства сплотились в могучие союзы. Для лучшего ограждения мира увеличили они в небывалых доселе размерах свои военные силы и продолжают их развивать, не останавливаясь ни перед какими жертвами.
Однако все эти усилия не могли пока привести к благодетельным последствиям желаемого умиротворения.
Все возрастающее бремя финансовых тягостей в корне расшатывает общественное благосостояние. Духовные и физические силы народов, труд и капитал отвлечены в большей своей части от естественного назначения и расточаются непроизводительно. Сотни миллионов расходуются на приобретение страшных средств истребления, которые, сегодня представляясь последним словом науки, завтра должны потерять всякую цену ввиду новых изобретений. Просвещение народа и развитие его благосостояния и богатства пресекаются или направляются на ложные пути.
Таким образом, по мере того как растут вооружения каждого государства, они менее и менее отвечают предпоставленной правительствами цели. Нарушения экономического строя, вызываемые в значительной степени чрезмерностью вооружений, и постоянная опасность, которая заключается в огромном накоплении боевых средств, обращают вооруженный мир наших дней в подавляющее бремя, которое народы выносят все с большим трудом. Очевидным поэтому представляется, что, если бы такое положение продолжилось, оно роковым образом привело бы к тому именно бедствию, которого стремятся избегнуть и пред ужасами которого заранее содрогается мысль человека.
Положить предел непрерывным вооружениям и изыскать средства предупредить угрожающие всему миру несчастия – таков высший долг для всех государств.
Преисполненный этим чувством, государь император повелеть мне соизволил обратиться к правительствам государств, представители коих аккредитированы при Высочайшем дворе, с предложением о созыве конференции в видах обсуждения этой важной задачи.
С Божьей помощью, конференция эта могла бы стать добрым предзнаменованием для грядущего века. Она сплотила бы в одно могучее целое усилия всех государств, искренне стремящихся к тому, чтобы великая идея всеобщего мира восторжествовала над областью смуты и раздора. В то же время она скрепила бы их согласие совместным признанием начал права и справедливости, на которых зиждется безопасность государств и преуспеяние народов».
Нота была опубликована в «Правительственном вестнике» 16 (28) августа и в тот же день была распространена по всему миру.
Ответ последовал очень быстрый – и отрицательный.
* * *
Что мог означать на языке практической политики отказ от дальнейших вооружений? Прежде всего закрепление существующего положения вещей, так как вооружения необходимы главным образом для того, чтобы произвести те или иные перемены. Иными словами, те, кто не мирился с существующим положением, должны были высказаться против ограничения вооружений. Это в откровенной форме выразил «Вестник Европы». Особый интерес ноты, писал русский либеральный орган, в том, что она исходит от союзника Франции: «Трудно рассчитывать на успех предложенной конференции при отсутствии признаков поворота в политическом настроении Франции относительно завоеванных немцами провинций. Пока эльзас-лотарингский вопрос не исчезнет с горизонта и не будет признан разрешенным раз навсегда в пользу Германии, до тех пор не может быть и речи о прочном и действительном облегчении непосильных тягот вооруженного мира».
Между тем при первой же вести о русской ноте официозный Temps[23] недвусмысленно высказался как раз по этому пункту: «Право и справедливость… понесли в 1871 г. еще и поныне не исправленный ущерб. Пока скандал этого правонарушения не изглажен, потомки людей 1789 г., верные наследники той Революции, которая стяжала человеку его права, могут подписаться под принципами, упомянутыми графом Муравьевым… только обеспечив с самим существованием Франции исправление прошлого и выпрямление будущего».
Так как «исправление прошлого» – иными словами, возвращение Эльзаса и Лотарингии – было едва ли возможно без новой большой войны, ответ на русский вопрос был, таким образом, отрицательный. Но не одна Франция признала для себя неприемлемым предложение русского царя, хотя ей и пришлось, по положению союзницы России, первой поставить точку над i. Правда, английская и германская печать встретили ноту сочувственно, и Temps писал, что она «составит славу царя и Его царствования»; но английское правительство вообще не проявило склонности принять русскую инициативу всерьез, а Германия не на шутку встревожилась.
Если во Франции первой мыслью было – как бы нас не заставили признать Франкфуртский договор, – то в Германии задали себе вопрос: не хотят ли от нее потребовать, ради общего умиротворения, каких-нибудь уступок в эльзасском вопросе? И Бюлов писал германскому послу в Санкт-Петербурге, чтобы он заранее отверг такую возможность.
Необычайное раздражение проявил император Вильгельм, испещрявший гневными и насмешливыми примечаниями все донесения и записки по этому вопросу. «Все это словоизвержение порождено горькой нуждой… До сих пор Европа оплачивала русские вооружения… Гуманитарный угар довел до этого невероятного шага… Тут какая-то чертовщина», – писал германский император 28 (16) августа. Все же на следующий день он телеграфировал государю, что его нота «ярко освещает возвышенность и чистоту Его побуждений…». «Однако, – добавлял Вильгельм II, – на практике это затруднительно… Можно ли, например, представить себе монарха, распускающего полки, освященные веками истории?»
Так как в первый месяц положительные ответы поступили только от Италии и от Австрии, государь послал за границу для переговоров графа M. H. Муравьева и военного министра А. Н. Куропаткина. Государь при этом разрешил им давать следующие толкования ноты 12 августа: имеется в виду не разоружение, а ограничение дальнейших вооружений; на первой конференции следует хотя бы приступить к осуществлению этой идеи, не задаваясь целью сразу провести ее полностью.
Когда русские министры приехали в Париж, там как раз выдвигался на первый план конфликт с Англией из-за Фашоды: англичане, только что наголову разбившие под Омдурманом армию махдистов, заявляли претензии на всю долину Нила и грозили удалить силой небольшой французский отряд полковника Маршана, дошедший до Нила от Атлантического океана после долгого пути по неисследованным дебрям Экваториальной Африки. Англо-французские отношения приняли столь резкий оборот, что президент Феликс Фор и Делькассе – новый министр иностранных дел, сменивший летом Ганото, – говорили графу Муравьеву: «Наш враг не Германия, а Англия…»
Первые разговоры между союзными министрами имели не очень дружелюбный характер. «Правительственное сообщение 12 августа произвело на французскую армию тяжелое впечатление, – объяснял А. Н. Куропаткину новый французский военный министр генерал Шануан (в ту пору – это был самый разгар дела Дрейфуса – военные министры во Франции сменялись весьма часто). – Офицеры французской армии опустили головы. Разоружение после затраченных в течение 27 лет огромных усилий и средств отнимало у них надежду на возвращение Эльзаса и Лотарингии… Расстаться с этой надеждой французы не могут еще и потому, что она объединяет лучшие силы Франции независимо от принадлежности к различным политическим партиям… Возникали даже подозрения: не сделан ли этот шаг русским государем по соглашению с Вильгельмом?»
Французское правительство проявило некоторое неудовольствие по поводу того, что его не предупредили заранее. А. Н. Куропаткин дал следующее объяснение: «Дабы великое слово, раздавшееся с Царского трона, было принято всеми правительствами и народами как бескорыстное желание общего блага, необходимо было не выделять какую-либо из держав и сделать предложение об ограничении вооружений одинаково объективным для всех». Действительно, если бы Франция была уведомлена заранее, то государю пришлось бы либо отказаться от задуманного шага, либо предпринять его вопреки французским возражениям, либо, наконец, внести в свое предложение такие оговорки, которые отнимали бы у него его объективное, бескорыстное значение.
В общем, когда выяснилось, что нота 12 августа не имела в виду конкретных политических выводов, что это лишь принципиальная, теоретическая постановка вопроса, французские политические деятели сразу успокоились и согласились принять участие в конференции.
Генерал Шануан скоро настолько освоился с этой мыслью, что стал придумывать конкретные задачи для международной конференции: например, нейтрализацию судов-госпиталей или ограничение применения новых взрывчатых веществ. Конференция, по мнению французского военного министра, могла бы также заняться «…статистической разработкой вопроса о том, какие выгоды для земледелия, промышленности и торговли могли бы получиться от уменьшения вооружений».
Графу M. H. Муравьеву выпало на долю разъяснять русскую ноту также и германским политическим деятелям. Французы богаче нас с вами, говорил он графу Эйленбургу. Вы и мы гораздо скорее дойдем до предела. «Ложь! – пометил в докладе об этом разговоре Вильгельм II. – Русские уже дошли». Германский император упорно придерживался версии о том, что нота 12 августа вызвана острым недостатком денег в русской казне, тогда как именно в эти годы (1897–1900) внешний долг России не возрос, а даже несколько сократился.[24]
После заграничной поездки А. Н. Куропаткина и графа M. H. Муравьева можно уже было подвести итоги русской инициативы. Наиболее интересны оказались выводы русского военного министра (в его докладе государю 23 ноября): «Народы отнеслись восторженно, правительства – недоверчиво». С политической стороны уменьшение вооружений неприемлемо ни для Франции, которая «выносит бремя легче других, на приостановку ввиду Эльзаса не пойдет», ни для Германии, которая также «выносит легко», и, кроме того, «ни одна держава не поставлена в такую тяжелую необходимость отчаянной самообороны: Франция ждет минуты для реванша». Австрия и Италия были бы за («Австрия боится всех и каждого, сбыточного и несбыточного», – помечал в своем докладе граф Муравьев). Англия пошла бы на ограничение вооружения – кроме флота! Малые государства были бы рады – если им гарантируют неприкосновенность.
Военный министр намечал, какие вопросы должны быть разрешены раньше, чем станет осуществимым общее разоружение: оно будет возможно 1) когда распадется Австрия; 2) когда мы займем Босфор; 3) когда Франция получит Эльзас-Лотарингию, а Германия, в виде компенсации, немецкие провинции Австрии.
К этому времени франко-английский конфликт из-за Фашоды уже разрешился, но английское правительство усиленно флиртовало с Германией, стремясь создать впечатление, что в случае войны оно могло бы рассчитывать на германскую поддержку. Чемберлен произнес в Манчестере (3 ноября) резкую антифранцузскую речь. Обстановка, казалось бы, благоприятствовала соглашению материковых держав. Но германское правительство колебалось между Англией и Россией. Оно, во всяком случае, не сумело – или не пожелало – использовать англо-французский конфликт для улучшения отношений с Францией. Делькассе уступил: полковнику Маршану было приказано сдать Фашоду англичанам. Русская дипломатия склонялась при этом в пользу примирительной позиции.
«Если правда, что граф Муравьев посоветовал Франции совершить этот безумный поступок, – писал государю из Дамаска Вильгельм II, – это было крайне необдуманно с его стороны, так как это отступление нанесло здесь твоим amis et allies смертельный удар, от которого их престиж никогда не оправится».
В этом случае государь, однако, следовал принятой линии – избегать осложнений в Европе; а Делькассе, непримиримый противник Германии, подготовлял возможность англо-французского «сердечного согласия»: забыть Фашоду было все же легче, нежели Седан.
* * *
Что оставалось делать с планом международной мирной конференции? Было ясно, что больших перемен от нее ждать нельзя. Современный политический мир уже дал отрицательный ответ на вопрос, поставленный государем. Можно было открыто об этом объявить, подчеркнув причины неудачи русской инициативы; но это задело бы самолюбие дружественных держав и не способствовало бы целям умиротворения. Одно время предполагалось издать новую ноту, указывающую, что «при наличии явлений, столь противоречащих желанию мира» момент для конференции представляется неблагоприятным. В первоначальном проекте этой ноты содержались прямые обвинения против Англии. Но затем было признано, что нельзя делать одну Англию козлом отпущения. Нежелательно также было бы бросить начатое дело: недостижимость цели отнюдь не представлялась очевидной для широких кругов населения всех стран, восторженно встретивших призыв к общему миру; отказ от созыва конференции неминуемо вызвал бы недоумения и кривотолки.
* * *
Русское правительство поэтому в декабре 1898 г. разработало вторую ноту, основанную на опыте последних месяцев и сводившую общие предложения ноты 12 августа к нескольким конкретным пунктам.
«Несмотря на проявившееся стремление общественного мнения в пользу всеобщего умиротворения, – говорилось в этой ноте, – политическое положение значительно изменилось в последнее время. Многие государства приступили к новым вооружениям, стараясь в еще большей мере развить свои военные силы. Естественно, что при столь неопределенном порядке вещей нельзя было не задаться вопросом о том, считают ли державы настоящую политическую минуту удобной для обсуждения международным путем тех начал, кои изложены были в циркуляре от 12 августа…
В случае если бы державы признали настоящую минуту благоприятной для созыва конференции на указанных основациях, представлялось бы несомненно полезным установить между правительствами соглашения относительно программы занятий будущей конференции.
Само собою разумеется, что все вопросы, касающиеся политических соотношений государств и существующего на основании договоров порядка вещей, как и вообще все вопросы, кои не будут входить в принятую кабинетами программу, будут подлежать безусловному исключению из предметов обсуждения конференции».
Успокоив таким образом опасения Франции и Германии насчет возможности постановки политических вопросов, русское правительство выдвигало следующую программу:
1) соглашение о сохранении на известный срок настоящего состава сухопутных и морских вооруженных сил и бюджетов на военные надобности;
2) запрещение вводить новое огнестрельное оружие и новые взрывчатые вещества;
3) ограничение употребления разрушительных взрывчатых составов и запрещение пользоваться метательными снарядами с воздушных шаров;
4) запрещение употреблять в морских войнах подводные миноносные лодки (тогда еще только производились с ними первые опыты);
5) применение Женевской конвенции 1864 г. к морской войне;
6) признание нейтральности судов и шлюпок, занимающихся спасением утопающих во время морских боев;
7) пересмотр деклараций 1874 г. о законах и обычаях войны;
8) принятие начала применения добрых услуг посредничества и добровольного третейского разбирательства; соглашение о применении этих средств; установление единообразной практики в этом отношении.
В этой ноте первоначальная основная идея сокращения и ограничения вооружений уже оставалась только «первым пунктом» наряду с другими предложениями.
Русская программа для мирной конференции была, таким образом, сведена к нескольким положениям, вполне конкретным; через с лишком тридцать лет в Женеве на конференции по разоружению обсуждались те же вопросы и повторялись «зады» русских предложений 1898–1899 гг.
* * *
Вторая нота была встречена много холоднее, чем первая: одни увидели в ней отступление, другие смелее выражали свое отрицательное отношение к поставленным задачам. Temps, приветствовавший общую идею ноты 12 августа, называл программу 30 декабря неосуществимой утопией. Temps писал: «Существенно не отступать от обязательной вежливости в отношении России и не изменять гуманным идеалам нашего прошлого; в этих пределах мы сохраняем всю свободу действий».
Этот прием вызвал у государя в беседе с Куропаткиным возглас сожаления о том, что он взял на себя такой почин. Однако, несмотря на неблагоприятную атмосферу, мирная конференция все же состоялась. «Мир был уже поражен, – писал в своей книге о конференции Ж. де Лапраделль, – когда могущественный монарх, глава великой военной державы, объявил себя поборником разоружения и мира в своих посланиях от 12 (24) августа и 30 декабря. Удивление еще возросло, когда благодаря русской настойчивости конференция была подготовлена, возникла, открылась». Местом ее созыва была избрана Гаага, столица Голландии, одной из наиболее «нейтральных» стран (и в то же время не официально «нейтрализованной», как Швейцария и Бельгия).
Для того чтобы обеспечить участие всех великих держав, пришлось согласиться на то, чтобы не приглашать африканские государства (из-за обострившегося в ту пору конфликта Англии с бурами), а также Римскую курию (из-за Италии). Не были приглашены также государства Средней и Южной Америки. В конференции приняли участие все двадцать европейских государств (представители Болгарии – в составе турецкой делегации), четыре азиатских (Япония, Китай, Сиам и Персия) и два американских (Соединенные Штаты и Мексика).
Гаагская мирная конференция заседала с 18 (6) мая по 29 (17) июля 1899 г. под председательством русского посла в Лондоне, барона Стааля.
Борьба велась на ней вокруг двух пунктов – ограничения вооружений и обязательного арбитража. По первому вопросу прения состоялись в пленарном заседании первой комиссии (23, 26 и 30 июня).
«Ограничения военного бюджета и вооружений – главная цель конференции, – говорил русский делегат барон Стааль. – Мы не говорим об утопиях, мы не предлагаем разоружение. Мы хотим ограничения, остановки роста вооружений». Военный представитель России, полковник Жилинский, предложил:
1) обязаться не увеличивать в течение пяти лет прежнего количества войск мирного времени;
2) точно установить это число (без колониальных войск);[25]
3) обязаться в течение того же срока не увеличивать военные бюджеты. Капитан Шеин предложил на трехлетний срок ограничить морские бюджеты, а также опубликовать все данные о флотах.
Несколько государств (в том числе Япония) сразу заявили, что еще не получили инструкций по этим вопросам. Непопулярную роль официального оппонента взял на себя германский делегат, полковник Гросс фон Шварцгоф. Он иронически возражал тем, кто говорил о непосильных тяготах вооружения. «Позволю себе рассеять благожелательные опасения, – говорил он, – германский народ не изнемогает под бременем налогов; он не стоит на краю пропасти. Он богатеет, уровень его жизни повышается. Всеобщая воинская повинность для немцев не бремя, а священный долг. Кроме того, сила армий – не только в численности. Что касается войск в колониях, то для некоторых стран это значительная величина, для других – ничтожная; получается неравенство. Я утверждаю, что страна может увеличить свою боевую мощь, не увеличивая численности армии».
Вопрос был передан в подкомиссию из восьми военных (представителей Австро-Венгрии, Англии, Германии, Италии, России, Румынии, Франции и Швеции), которая, за исключением русского делегата Жилинского, единогласно признала, что: 1) трудно даже на пять лет закрепить численность войск, не регулируя одновременно другие элементы национальной обороны; 2) не менее трудно урегулировать международным соглашением другие элементы, разные в разных странах. Поэтому, к сожалению, русского предложения принять нельзя.
Эту точку зрения разделили и первая комиссия, и общее собрание конференции. Французский делегат Леон Буржуа, соглашаясь с техническими доводами германского делегата, предложил только добавить следующее, чисто платоническое, заявление: «Конференция полагает, что ограничение военных тягот, представляющих ныне тяжелое бремя для мира, крайне желательно для морального и материального преуспеяния человечества».
Что касается морских вооружений, то делегации сослались на отсутствие инструкций. «Вряд ли инструкции придут до конца конференции, – заметил тогда председатель первой комиссии ван Карнебеек. – Поступим с морскими вооружениями как с сухопутными».
Страстные споры возбудил еще только вопрос об арбитражном суде. Германская делегация заняла в этом вопросе непримиримую позицию. Она стояла на точке зрения, отчетливо формулированной закулисным руководителем германского министерства иностранных дел, советником фон Гольштейном: «Малые государства в качестве субъектов, мелкие вопросы в качестве объектов арбитражного разбирательства можно себе представить; большие государства и важные вопросы – никогда. Чем государство больше, тем оно более рассматривает себя как самоцель, а не как средство для достижения высших, вне его лежащих целей. Для государства нет более важной цели, нежели защита своих интересов. Но таковые для великой державы не обязательно тождественны с сохранением мира; они могут состоять в преодолении врага и конкурента при помощи умело составленной более могущественной группировки».
Компромисс был найден путем отказа от обязательности арбитража (даже в вопросах, не затрагивающих чести или жизненных интересов отдельных стран). Германская делегация согласилась, в свою очередь, на учреждение постоянного суда. Вильгельм II, впрочем, считал и это большой уступкой, сделанной им государю. «Чтобы он не оскандалился перед Европой, – написал германский император на докладе Бюлова об итогах Гаагской конференции, – я соглашаюсь на эту глупость. Но в своей практике я и впредь буду полагаться и рассчитывать только на Бога и на свой острый меч. И … мне на все эти постановления!» В менее резкой форме то же высказали и государственные деятели других стран.
Правда, из той программы, которая была выдвинута в ноте 30 декабря, только первый пункт был отвергнут целиком. Были приняты декларации о запрещении: 1) разрывных пуль (дум-дум); 2) метания взрывчатых снарядов с воздушных шаров; 3) употребления снарядов, распространяющих удушливые газы. Утверждены были соглашения о применении Женевской конвенции к морской войне (в нее входил и вопрос о судах-госпиталях), о пересмотре декларации о законах и обычаях войны и о мирном разрешении международных споров путем посредничества и третейского разбирательства. Плодом этой последней конвенции, разработанной русским делегатом профессором Ф. Ф. Мартенсом, явилось учреждение действующего и поныне Гаагского международного суда. Это, однако, было весьма мало по сравнению с первоначальным замыслом государя.
Русское общественное мнение в течение всего периода от ноты 12 августа до окончания Гаагской конференции проявляло довольно слабый интерес к этому вопросу. Преобладало, в общем, сочувственное отношение с примесью скептицизма и некоторой иронии. В кругах интеллигенции были удивлены этим шагом, резко расходившимся с ходячими представлениями об «империализме» и «милитаризме» русской власти. Старались как-нибудь объяснить ноту 12 августа практическими, мелочными соображениями, говорили об ее «неискренности». А к тому времени, когда конференция собралась, внимание русского общества было настолько поглощено событиями внутренней политики, что работа в Гааге не вызывала уже особого интереса.
Нота 12 августа 1898 г. и Гаагская конференция 1899 г. сыграли, однако, свою роль в мировой истории. Они показали, насколько далеко в тот момент было до общего замирения, насколько непрочно было международное затишье. Они в то же время поставили на очередь вопрос о возможности и желательности международных соглашений для обеспечения мира. Отсюда проистекли и все дальнейшие попытки – не только Вторая Гаагская конференция 1907 г., но и Женевские учреждения. «Идея эта пустила ростки», – сказал граф M. H. Муравьев, передавая послам держав циркулярную ноту 12 августа. Это предсказание, во всяком случае, оправдалось.
Те, кто считает войны неизбежными, необходимыми – а то и полезными, – назовут, быть может, эту попытку благородной, но бесплодной утопией, бесполезным, если не вредным, начинанием, только порождающим обманчивые иллюзии; те же, кто верит в возможность международного мира на основе взаимного соглашения всех стран, все те, кто затем приветствовал идею Лиги Наций и конференцию по разоружению, не могут не признать, что первый почин в постановке на очередь этого вопроса бесспорно принадлежит императору Николаю II; и этого не могли стереть со страниц истории ни войны, ни революции нашего времени.
Когда собралась 9 ноября 1921 г. Вашингтонская конференция по вопросу о морских вооружениях, североамериканский президент Гардинг в своей вступительной речи вспомнил, кому принадлежал первый почин в этом деле. «Предложение ограничить вооружение путем соглашения между державами – не ново, – сказал американский президент. – При этом случае, быть может, уместно вспомнить благородные стремления, выраженные 23 года назад в императорском рескрипте Его Величества императора Всероссийского». И, процитировав почти целиком «ясные и выразительные» слова русской ноты 12 августа, президент Гардинг добавил: «С таким сознанием своего долга Его Величество император Всероссийский предложил созыв конференции, которая должна была заняться этой важной проблемой».
Глава 5
«Будущее России – в Азии». – Идеи князя Э. Э. Ухтомского. – «Желтая опасность». – Резолюция государя от 2 апреля 1895 г. – Договоры 1896 г. с Китаем (о железной дороге) и с Японией (о Корее). – Притязания Германии на Киао-Чао; занятие этой бухты. – Размолвка государя с Вильгельмом II. – Занятие Порт-Артура. – Договор об аренде Ляодунского полуострова. – Россия и Англо-бурская война. Беседа государя с князем Бюловом в ноябре 1899 г. – Восстание «боксеров». – Отправка международного отряда в Китай. – Особая позиция России. – Занятие Маньчжурии русскими войсками. – Итоги первых лет азиатской политики. – Отмена ссылки в Сибирь
Любивший эффектные краткие формулы германский император Вильгельм II провозгласил, что «будущее Германии – на морях». Император Николай II, если бы он не отличался особой нелюбовью к громким словам и театральным жестам, мог бы сказать, в то же время выражая основную мысль своей политики: «Будущее России – в Азии».
Много было причин, указывавших России этот новый (в сущности, очень старый) путь. Целей, поставленных в XIX в., – балканских, австрийских и турецких – можно было достичь только в результате огромных общеевропейских войн. Притом даже в лучшем случае обладание проливами открывало для России только возможность участвовать в новой дальнейшей борьбе за преобладание в Средиземном море, которое, в свою очередь, было крепко заперто английскими засовами; а объединение западных и южных славян вокруг «старшего северного брата», этих форпостов, выдвинутых в Европу, не давало русскому народу такой несокрушимой, недоступной для внешних ударов основы, того неиссякаемого источника сил и средств, которые Россия могла приобрести, опираясь на преобладание в Азии.
Другие государства завладевали колониями во всех концах земного шара; для их защиты они создавали себе флоты; они вступали друг с другом в соревнование из-за клочков земли, расположенных у антиподов. Россия, продолжая дело первых завоевателей Сибири, создавала себе нечто много лучшее, нежели колонии; она сама врастала в Азию, раздвигая свои пределы. Это был органический рост, увеличение русской территории, а не завоевание далеких чужих земель. Этот рост продолжался и в последние царствования: Уссурийский край с Владивостоком были присоединены к России только в 1859 г., южная часть Сахалина – в 1873 г., среднеазиатские владения на рубежах английской Индии – уже в 1880-х гг., при императоре Александре III.
Но Азия была не Африкой, там существовали большие государства с древней, по-своему глубокой культурой; и Россия, завладевая северной каймою Азии (широкой, в сущности, только по карте из-за необитаемых пространств северной тайги и тундры), должна была найти свое решение для основного вопроса в Азии – китайского вопроса.
«Недвижный Китай» (который был так назван Пушкиным в 1831 г.) с середины XIX в. сотрясался внутренними взрывами. За 50, 60, 70-е гг. гражданская война, не затихая, свирепствовала – почти тридцать лет! – вспыхивая то в самом сердце Китая, в долине Голубой реки (тайпинги), то на крайнем западе (дунганское восстание в Китайском Туркестане), то на крайнем юге (в Юннани, у границ Индокитая). Европейцы уже начали использовать ослабление Небесной империи, и в 1860 г., в разгар гражданской войны, международный отряд дошел до Пекина и добился открытия 25 портов для иностранной торговли (за эти годы Россия без войны присоединила к себе Уссурийский край).
Маньчжурская династия теряла власть и влияние; но волею судеб среди ее представителей нашлась энергичная женщина, вдова императора Сян Фына, «железная» императрица Циси, которая в течение двух последующих царствований, с 1861 по 1908 г., была фактической правительницей Китая и восстановила если не внешнюю мощь Небесной империи, то, по крайней мере, ее внутреннее единство.
Россия, во время дунганского восстания в Китайском Туркестане занявшая в 1871 г. Кульджинский округ, чтобы предохранить его от разгрома и разорения, в 1880 г. вернула его Китаю, оставив себе «в награду» только небольшую часть его. В то время как другие державы строили свои расчеты на распаде и разделе Китая, политика России была в общем направлена на его сохранение, и это не только не противоречило «большой азиатской программе», а было прямым выводом из нее.
Постройка Сибирской железной дороги, решенная и начатая еще при императоре Александре III, показывала, что планы преобладания в Азии не были чужды и отцу государя, установление прямых сообщений с редко населенной окраиной едва ли оправдывало бы само по себе такие огромные затраты и усилия, но только при императоре Николае II азиатская «миссия» России была выдвинута с полной отчетливостью на первый план.
Князь Э. Э. Ухтомский, спутник государя при его поездке вокруг Азии, знаток и любитель буддийского Востока, собиратель ценных коллекций предметов восточного искусства, не играл, правда, решающей роли в русской внешней политике; но он, несомненно, оставался близок государю, которому его мнения были хорошо известны. Идеи, выражавшиеся в печати князем Э. Э. Ухтомским, сыграли свою роль в событиях на Дальнем Востоке.
Князь Ухтомский исходил из представления о глубоком духовном сродстве России и Азии. Между Западной Европой и азиатскими народами, говорил он, лежит пропасть; и чем они ближе соприкасаются, тем эта пропасть очевиднее; только между русскими и азиатами такой пропасти нет. «Там, за Алтаем и за Памиром, та же неоглядная, неисследованная, никакими мыслителями еще не осознанная допетровская Русь, с ее непочатой ширью предания и неиссякаемой любовью к чудесному, с ее смиренной покорностью посылаемым за греховность стихийным и прочим бедствиям, с отпечатком строгого величия на всем своем духовном облике».
«Чингизы и Тамерланы, вожди необозримых вооруженных масс, создатели непобедимых царств и крепких духом, широкодумных правительств, – писал князь Ухтомский, – все это закаливало и оплодотворяло государственными замыслами долгополую, по-китайски консервативную змиемудрую допетровскую Русь, образовавшую обратное переселению восточных народов течение западных элементов в глубь Азии, где мы – дома, где жатва давно нас ждет, но не пришли еще желанные жнецы».
Иные говорят: «К чему нам это? У нас и так земли много». Князь Ухтомский на это отвечал: «Для Всероссийской державы нет другого исхода: или стать тем, чем она от века призвана быть (мировой силой, сочетающей Запад с Востоком), или бесславно и незаметно пойти по пути падения, потому что Европа сама по себе нас в конце концов подавит внешним превосходством своим, а не нами пробужденные азиатские народы будут еще опаснее, чем западные иноплеменники».
Но на Азию был и другой взгляд, имевший не менее влиятельных сторонников. Еще в 1895 г. император Вильгельм II прислал государю свою известную символическую картину, где изображались народы Европы, с тревогой смотрящие на кровавое зарево на востоке, в лучах которого виднеется буддийский идол. «Народы Европы, оберегайте свое священное достояние» – стояло под этой картиной. Та же мысль тревожила русского философа и мыслителя В. С. Соловьева, которому представлялось новое нашествие монголов на Европу, первой жертвой которого опять должна была стать Россия. (В. С. Соловьев в своем известном стихотворении «Панмонголизм» в ту пору пророчествовал: «О Русь, забудь былую славу – / Орел двуглавый сокрушен, / И желтым детям на забаву / Даны клочки твоих знамен…»)
Французскому мыслителю графу Гобино, теория которого оказала такое влияние на развитие «расовой» идеи в Германии, грезилась, наоборот, царская Россия, ведущая народы Азии на приступ «арийской» Европы…
Но как ни смотреть на Азию – как на грозную опасность или как на источник русской мощи, основу нашего будущего, – несомненно было одно: Россия должна была быть сильной в Азии. Сибирская дорога была для этого необходимым условием, но еще недостаточным.
Еще в 1895 г., когда Россия вместе с Германией и Францией вмешалась в японо-китайскую борьбу и не дала Японии утвердиться на материке, государь начертал на докладе министра иностранных дел (2 апреля 1895 г.): «России безусловно необходим свободный в течение круглого года и открытый порт. Этот порт должен быть на материке (юго-восток Кореи) и обязательно связан с нашими прежними владениями полосой земли».
Обстановка момента не давала возможности немедленно достигнуть этой цели: русские силы на Дальнем Востоке были недостаточны, приходилось действовать совместно с другими державами. «Теперь-то представляется удобный случай разом и без хлопот покончить с Китаем, разделив его между главными заинтересованными державами», – писали в то время либеральные «Новости». Но русская политика была сложнее.
Россия не желала раздела Китая. Она стремилась сохранить его в целости, с тем чтобы утвердить в нем свое первенствующее влияние. Для этой цели с 1895 г., с Симоносекского мира, был взят курс дружбы с Китаем.
Во время коронационных торжеств китайская делегация во главе с Ли Хун Чаном пользовалась особым вниманием. С Китаем был заключен договор, по которому Россия обещала ему свою поддержку, а Китай разрешил провести Великий сибирский путь через Маньчжурию, вотчину китайского императорского дома (в то время еще почти незаселенную).
Еще более близкие отношения установились у России с Кореей. После японо-китайской войны японцы получили там преобладание и содействовали так называемой «партии реформ». Встречая сопротивление со стороны двора, особенно королевы, сторонники Японии 9 октября 1895 г. ворвались во дворец, убили королеву и захватили в плен короля. Но это вызвало в стране национальное движение протеста; «партия реформ» утратила популярность. Достаточно было того, что русский консул вызвал двести моряков для защиты здания миссии в Сеуле, чтобы в Корее – в конце января 1896 г. – произошел резкий поворот: король бежал из плена, укрылся в русской миссии и оттуда отдал приказ – казнить премьера и других министров-японофилов, – что и было сделано. Считая русских своими защитниками и покровителями, корейский король был готов согласиться на все их пожелания; но Россия не могла в то время – без флота, без Сибирской дороги – до конца использовать этот случайный успех. Она пошла на компромисс с Японией на основе признания независимости Кореи и суверенной власти корейского короля: Россия и Япония взаимно обязались держать в корейских пределах одинаковое число войск (около тысячи для охраны своих миссий и своих торговых интересов).[26]
Рост русского влияния на Дальнем Востоке беспокоил не только Японию, но и западные державы. Сибирская дорога, каждый год продвигаясь на несколько сот верст, была выстроена примерно на треть (около 2300 верст за Челябинск), когда в конце 1897 г. произошли события, сильно изменившие положение.
Когда император Вильгельм II гостил в Петергофе летом 1897 г., он поднял вопрос о предоставлении Германии стоянки для судов и угольной станции в Китае и спросил государя, не возражает ли он против того, чтобы для этой цели была избрана бухта Киао-Чао (Циндао), где русские суда имели право зимовать по соглашению с китайским правительством. Согласно записи Бюлова, сопровождавшего Вильгельма II, государь ответил, что «русские заинтересованы в сохранении доступа в эту бухту, пока они не заручились более северным портом…». На вопрос германского императора о том, не возражает ли император Николай II против того, чтобы германские суда в случае надобности, с разрешения русских властей, заходили в эту бухту, государь ответил отрицательно.
Осенью того же года два германских миссионера были убиты китайцами в провинции Шандунь, недалеко от Киао-Чао. Германия не замедлила воспользоваться этим поводом для активного выступления в Китае. Император Вильгельм потребовал отправки военных судов в Киао-Чао; канцлер Гогенлоэ посоветовал раньше запросить Россию. Вильгельм II телеграфировал непосредственно государю, спрашивал разрешения послать суда в Киао-Чао, чтобы покарать убийц двух миссионеров, «так как это единственный пункт, откуда можно достать до этих мародеров».
Государь ответил (7 ноября): «Не мне одобрять или осуждать отправку судов в Киао-Чао. Наши суда только временно пользовались этой бухтой. Опасаюсь, что суровые кары могут только углубить пропасть между китайцами и христианами».
Смысл этой телеграммы был ясен: государь не мог «разрешить» Германии посылать свои суда в порт суверенного государства – Китая; и он не советовал этого делать, чтобы не углублять вражды между белыми и китайцами. Министр иностранных дел Муравьев в дополнение к этой телеграмме указал, что советовал Китаю удовлетворить требования о наказании убийц, после чего отправка эскадры станет уже излишней.
При помощи «нажима на тексты» германское правительство истолковало телеграмму государя не только как разрешение отправить эскадру в Киао-Чао, но заодно и как согласие устроить там постоянную стоянку для германских судов!
Это вызвало первую крупную размолвку между государем и Вильгельмом II. Государь был возмущен превратным истолкованием телеграммы; русское правительство указало, что если уж говорить о правах на бухту, то Россия имеет на нее «право первой стоянки»; если она им сейчас не пользуется, это не значит, что она уступает его другим.
Но Германия решила действовать – независимо от желаний России. «Россия с Францией могут подстрекнуть Китай на сопротивление, и потребуются большие силы и затраты», – доносил из Лондона германский посол Гатцфельдт, – но эта перспектива Германию, видимо, не смущала. И хотя Китай согласился на все требования в инциденте с убийством миссионеров, германские суда заняли бухту Киао-Чао и высадили отряд на берегу. Это был «новый факт» огромного значения. Россия должна была определить свое отношение к этому факту. Крайним, быть может, наиболее последовательным решением (с точки зрения русско-китайской дружбы) была бы война с Германией за права Китая. Война с Германией означала бы притом войну со всем Тройственным союзом, при враждебном отношении Англии и Японии – едва ли и Францию могла прельщать перспектива войны в таких условиях. Такая возможность имелась в виду весьма недолго: уже 18 (30) ноября, после беседы с русским послом Остен-Сакеном, Бюлов писал: «По моему впечатлению, русские не нападут на нас из-за Киао-Чао и не захотят с нами в данный момент ссориться».
Сторонники китайской дружбы, как князь Ухтомский, предлагали выжидать и поддерживать Китай в пассивном сопротивлении. Через несколько лет, говорили они, когда Сибирская дорога будет готова, такая политика принесет свои плоды. Той же точки зрения, по-видимому, держался в то время и министр финансов Витте.
Но такая политика имела и оборотную сторону. Время – существенный фактор в международной жизни; где была гарантия, что оно будет работать в пользу России? Раздел Китая мог далеко подвинуться вперед за эти годы; маньчжурская династия, на дружбу с которой делалась ставка, легко могла оказаться свергнутой за эти годы; и Россия в борьбе за китайское наследство оказалась бы где-то далеко на севере, без незамерзающей базы для флота. Уравновешивалось ли это китайскими симпатиями? Да и существовало ли как реальная политическая величина это русско-китайское «сродство душ»?
Из этих противоречивых тенденций вытекло в итоге решение: заручиться в Китае опорным пунктом, по возможности не порывая дружбы с китайским правительством. Даже для защиты Китая от дальнейшего раздела такое решение представлялось целесообразным.
3 (15) декабря 1897 г. русские военные суда вошли в Порт-Артур и Талиенван, те самые гавани на Ляодунском полуострове, которые были отняты у Японии два с половиной года перед тем.
В течение двух-трех месяцев после этого велась сложная дипломатическая игра. Германский император с большой торжественностью напутствовал в Киле своего брата, принца Генриха, отправлявшегося с эскадрой на Дальний Восток. Англия неожиданным жестом предложила России вступить с ней в переговоры о разделе Турции и Китая. Государь, придерживаясь соглашения с Австрией насчет сохранения status quo на Балканах, уполномочил графа Муравьева вести переговоры только о Дальнем Востоке, и то в особой пометке указал, что «нельзя делить существующее независимое государство (Китай) на сферы влияния».[27]
В интересной статье китайского публициста в одной пекинской газете от конца декабря 1897 г.[28] доказывалось, что при самых лучших намерениях Россия будет владеть Порт-Артуром и Талиенваном, пока Китай не станет достаточно силен, чтобы защитить их без чужой помощи: «При таких условиях я опасаюсь, что никогда не наступит день возвращения их Китаю. Приняв на себя это тяжелое бремя, Россия даже если бы пожелала избавиться от него, то не могла бы это сделать… От этих двух бухт за Китаем останется одно только пустое имя».
Предсказывая мрачное будущее своей стране, китайский публицист далее писал: «Наше положение совершенно тождественно с тем, когда при вторжении разбойников в дом вся семья, сложив руки, ждет поголовного истребления. Конечно, пассивная ли смерть от рук злодеев, или же смерть после взаимной борьбы с ними, будет та же смерть, но смерть неодинаковая… Связанное животное и то борется, а тем более человек. В настоящее время Китай хуже всякого животного». И в заключение в этой статье Китаю предлагалось оказать Германии сопротивление: Германии, а не России, так как занятие Порт-Артура всеми рассматривалось только как ответный шахматный ход на десант в Киао-Чао.
Если бы в Китае нашлось достаточно энергии и решимости на борьбу, если бы он в тот момент не продолжал «быть хуже связанного животного», русские друзья Китая, вроде князя Ухтомского, могли бы в этом найти опору для своей политики. Но Китай пока оставался мертвым телом, и не без помощи крупных «комиссионных» руководящим китайским политикам во главе с Ли Хунчаном, 15 (27) марта 1898 г. в Пекине было подписано новое русско-китайское соглашение. В нем официально подтверждалась неизменность русско-китайской дружбы, и в качестве нового ее доказательства России предоставлялись на 25 лет в аренду «порты Артур, Талиенван, с соответствующими территориею и водным пространством, а равно предоставлена постройка железнодорожной ветви на соединение этих портов с великой сибирской магистралью».
«Обусловленное дипломатическим актом 15 марта мирное занятие русскою военно-морской силою портов и территории дружественного государства как нельзя лучше свидетельствует, что правительство богдыхана вполне верно оценило значение состоявшегося между нами соглашения», – говорилось в правительственном сообщении по этому поводу.
Занятие Ляодунского полуострова было сочтено естественным и неизбежным не только в Западной Европе, но и в значительной части русского общества. «Нельзя отрицать, – писал либеральный «Вестник Европы», – что момент для сделанного нами шага выбран удачно. Приобретение нами Порт-Артура и Талиенвана ни в чем не нарушает установившейся международной практики, а, напротив, вполне соответствует ей… Если Россия удовлетворяет свою действительную потребность в удобном и незамерзающем порте на берегах Тихого океана, она только исполняет свой долг великой державы».
Разумеется, более левые течения, хотя бы «Русское богатство» (осуждавшее и французскую колониальную политику в Индокитае), хранили по этому вопросу несочувственное молчание.
Протестующие, хотя и в осторожной форме, голоса раздавались только со стороны «китаефилов». В беседе с германским публицистом Рорбахом князь Э. Э. Ухтомский весною 1898 г. говорил: «Я сейчас в оппозиции нашему Министерству иностранных дел. Я против занятия Порт-Артура. Я осуждал занятие немцами Киао-Чао. Мы должны делать все возможное для укрепления престижа пекинского правительства. Если в Китае разразятся беспорядки, маньчжурская династия будет свергнута, и ей на смену явится фанатичная национальная реакция… В сущности, – продолжал князь Ухтомский, – в Пекине уже нет правительства. При таких условиях можно без сопротивления добиться заключения на бумаге любых договоров. Но когда династия падет – иностранцев вырежут».
Заключая договор об аренде Порт-Артура, Россия в то же время сделала некоторую уступку Японии в корейских делах: в марте 1898 г. были отозваны из Кореи русские военные инструкторы и финансовый советник. «Россия может отныне воздерживаться от всякого деятельного участия в делах Кореи в надежде, что окрепшее благодаря ее поддержке юное государство будет способно самостоятельно охранять как внутренний порядок, так и внешнюю независимость», – стояло в правительственном сообщении по этому поводу. Тут же, впрочем, добавлялось: «В противном случае императорское правительство примет меры к ограждению интересов и прав, присущих России как сопредельной с Кореей великой державе».
В Японии занятие Порт-Артура – так недавно у нее отобранного – вызвало большое озлобление. Впрочем, Япония уже с 1895 г., со своей легкой победы над Китаем, преследовала цели, несовместимые с русской политикой первенства в Азии, и конфликт уже с этого времени представлялся неизбежным – разве только Россия была бы настолько сильнее, что Япония не решилась бы на нее напасть.
Сибирская дорога строилась одновременно на нескольких отрезках, но к тому времени, как на Дальнем Востоке развернулись новые события, сплошное движение было открыто по ней только до Байкала. Вслед за Германией и Россией Англия также заручилась морскою базой в Китае, переняв от Японии порт Вей-Ха-Вей (который японцы занимали в качестве залога для обеспечения уплаты китайской контрибуции за войну 1894–1895 гг.). Английское правительство всячески добивалось от России признания принципа сфер влияния в Китае; оно заключило соглашение с Германией о принципе открытых дверей в долине Янцекианга; с Россией после двух переговоров было подписано в конце 1899 г. соглашение, по которому Россия обещала не добиваться железнодорожных концессий на юг от Янцекианга, а Англия обещала то же насчет Северного Китая. Вопрос об уже начавшей строиться на английские деньги железной дороге Пекин – Мукден остался при этом открытым.
После того как Гаагская конференция – и в особенности отношение держав к русской ноте 12 августа – наглядно показала, что при данном международном положении нельзя рассчитывать на упразднение войны, Россия, как и другие державы, должна была принять меры для утверждения своего положения в мире – таком, как он есть. И это не только не стояло в противоречии с инициативой государя – как инсинуировали потом враги русской власти (вплоть до графа Витте), – это было логическим выводом из неуспеха Гаагской конференции: в мире, где все строится на силе, где вопрос об ограничении вооружений встречает только недоверие и вражду, Россия должна была быть сильной – и для сохранения мира, и на случай войны. Но государь, считаясь с тем, что на Дальнем Востоке борьба почти неизбежна, в то же время сохранял неизменное миролюбие и с точки зрения поклонников «превентивных войн», быть может, даже упустил «удобный момент» для нанесения удара Англии.
Со второй половины 1899 г. Англия ввязалась в южноафриканскую войну, которая оказалась много труднее, чем думали все. Народ в несколько сот тысяч человек, почти без артиллерии, оказался в состоянии связать почти на три года военные силы Британской империи. Непопулярность Англии во всех европейских государствах была так велика, что отовсюду к бурам стремились десятки, сотни добровольцев. Государь разделял общее отношение к этой борьбе «Давида с Голиафом», как тогда говорили, – то отношение, которое побудило гласного Московской городской думы А. И. Гучкова отправиться добровольцем в Южную Африку. В письмах к близким он не скрывал своих чувств и писал великой княгине Ксении Александровне, насколько ему приятна мысль о том, что он бы мог решить исход этой борьбы, двинув войска на Индию. Но государь сознавал, что это было бы трудным и рискованным начинанием, которое могло бы вылиться в общеевропейскую войну. Дальше замечаний в частных письмах он не пошел, хотя некоторые министры и склонялись к желательности использовать английские затруднения.
Англия, со своей стороны, делала некоторые шаги навстречу России и (31 августа 1899 г.) впервые согласилась на учреждение должности русского консула в Бомбее, в той Индии, которую так старательно оберегали от русских влияний.
В ноябре 1899 г. германский статс-секретарь по иностранным делам Бюлов (который вскоре после этого был назначен канцлером) имел с государем крайне знаменательную беседу в Потсдаме, где государь на шестом году своего царствования в первый раз остановился проездом из Гессена.
Государь говорил с Бюловом прямо и определенно. Отозвавшись с сочувствием о бурах, он сказал, что Россия не будет вмешиваться в африканские дела. Россия хочет мира. Она не желает и конфликта между Англией и Францией. Если бы она этого хотела, конфликт бы разразился уже год назад (государь этими словами подтвердил распространенное мнение о роли русской дипломатии при разрешении англо-французского конфликта из-за Фашоды).
«Нет никакого вопроса, – сказал далее государь, – в котором интересы Германии и России находились бы в противоречии. Есть только один пункт, в котором вы должны считаться с русскими традициями и бережно к ним относиться, – а именно на Ближнем Востоке. Вы не должны создавать впечатления, будто вы хотите вытеснить Россию, в политическом или экономическом отношении, с того Востока, с которым она веками связана многими узами национального и религиозного характера. Даже если бы я сам относился к этим вопросам более скептически или равнодушнее, я бы должен был все-таки поддерживать русские традиции на Востоке. В этом отношении я не могу вступить в противоречие с заветами и чаяниями моего народа».
Эти предостерегающие слова – полная сила которых сказалась через без малого пятнадцать лет в 1914 г. – были произнесены в момент, когда русско-германские отношения были вполне дружественными, когда русский министр иностранных дел, отрицая приписанные ему слова о желательности возвращения Эльзаса к Франции, воскликнул: «За дурака меня, что ли, считают?» Беседа с Бюловом показывает, что государь, занятый в то время дальневосточными планами, не забывал и о русских интересах на Ближнем Востоке и не хотел идти дальше русско-австрийского соглашения о временном сохранении status quo.
Первые два года после занятия Порт-Артура и Киао-Чао (начало 1898 г. – начало 1900 г.) прошли на Дальнем Востоке без заметных событий. Китай, казалось, продолжал «дремать»; Россия сохраняла прежний политический курс, поддерживая добрые отношения с китайским правительством. Появление Америки на Дальнем Востоке (занятие Филиппин) прошло почти незамеченным, а между тем оно имело большое значение, так как закрывало Японии путь к расширению на юг, к созданию островной империи. Присоединение «ничьих» Гавайских островов к Соединенным Штатам (в 1899 г.) не вызвало протестов ни с чьей стороны.
Россия усиленно развивала строительство своего военного флота. Франко-русские отношения стали несколько более прохладными, чем во времена Ганото. Франция не особенно сочувствовала русским дальневосточным планам, успех которых сделал бы Россию независимой от каких-либо западноевропейских влияний. Дело Дрейфуса выдвигало к тому же на первый план левые круги, менее увлеченные надеждами на русскую поддержку. Ни с той ни с другой стороны, однако, не появлялось и мысли о расторжении союза.
Весною 1900 г. в Китае начала усиливаться агитация против иностранцев; но державы, привыкшие к полной пассивности китайцев, мало обращали на это внимания. Смутные слухи о Союзе большого кулака, руководившем агитацией против «заморских чертей», стяжали этому движению ироническое прозвище «боксеров».
Восстание, однако, разразилось повсеместно и с огромной силой, точно из-под почвы всюду хлынула вода. Пекинский дипломатический корпус был застигнут врасплох стихийной силой движения. Еще 8 (21) мая китайскому правительству была предъявлена нота, требовавшая ареста всех членов общества «боксеров» и всех домовладельцев, допускающих у себя их собрания, а также казни лиц, виновных в покушении на жизнь и имущество, и казни «лиц, руководящих действиями боксеров и снабжающих их денежными средствами». Еще 13 (25) мая русский посланник M. H. Гирс сообщал в Санкт-Петербург, что иностранные представители «не видят оснований считать центральное правительство бессильным подавить восстание «боксеров», и распорядился отослать обратно в Порт-Артур присланную оттуда в Таку русскую канонерку. Для защиты миссий были все же вызваны десанты, но только по 75 человек на миссию. Еще 31 (18) мая 1900 г. Бюлов запрашивал германского посланника в Пекине, не означает ли возникающая смута начало окончательного раздела Китая; в восстании видели только один элемент: ослабление власти маньчжурской династии!
Еще 20 мая (2 июня) русский посланник сообщал, что с приходом десантов в Пекине стало спокойнее… Но уже «не далее как через неделю д[ействительный] с[татский] с[оветник] Гирс телеграфировал не без тревоги (говорится в правительственном сообщении от 25 июня), что роль посланников окончена и дело должно перейти в руки адмиралов. Только быстрый приход сильного отряда может спасти иностранцев в Пекине». Но было уже поздно: Пекин оказался отрезанным от моря, а посольский квартал – осажденным китайскими войсками. Когда посланники предъявляли требования о «наказании виновных», когда они еще чего-то добивались у китайского правительства – извне уже было ясно, что власть в данном случае заодно с «восставшими». Китай, так долго молчавший и покорявшийся, перестал быть «мертвым телом», «связанным животным»: он восстал на иностранцев; и правительство, хотя и не вполне убежденное в целесообразности этого восстания, поддалось народному движению. Говорили – наверное, никто этого не знал, – что принц Туан, родственник императора, захватил власть, что вдовствующая императрица Циси бежала… Говорили тоже, что она сама отдала приказ истреблять иностранцев… Молва, как обычно, умножала «китайские зверства»; но несомненно, что сотни белых, в том числе немало женщин и детей, мелкими группами разбросанных по Китаю, погибли при этом внезапном пробуждении китайского национализма.
Сообщение с Пекином было прервано – беспроволочного телеграфа тогда еще не существовало, – и в Европе были получены известия о том, что все дипломаты с их семьями погибли в страшных мучениях…
В то же время китайцы, обычно столь мало воинственные – даже презиравшие военное ремесло, – вдруг оказались бесстрашными; шли на смерть почти безоружные, и английский отряд адмирала Сеймура, двинувшийся на выручку миссий, не только не пробился до Пекина, но еле-еле при поддержке русских моряков отступил обратно к Тяньцзиню.
В самый разгар этих событий, 8 (21) июня 1900 г., скоропостижно скончался министр иностранных дел граф M. H. Муравьев; его преемником был назначен товарищ министра граф В. Ю. Ламздорф; это, впрочем, ни в каком отношении не повлияло на курс русской внешней политики.
Все, кто предсказывал «желтую опасность», громко заговорили, что она уже стоит у ворот. Западные державы, перед угрозой их миссиям, сплотились и решили послать в Китай свои войска, и прежде всего обратились к наиболее близким державам – России и Японии – с просьбой об оказании вооруженной поддержки.
Опять Россия стояла перед трудным выбором: стать ли ей в ряды европейских держав и вместе с ними взяться за сокрушение и раздел Китая – или же не отступать от плана дружбы с Китаем и по мере возможности тормозить выступления других держав?
Китайцы в своем движении против иностранцев не делали различия между русскими и «прочими». Но сторонники дружбы с Китаем объясняли это тем, что Россия, заняв Порт-Артур, приобщилась к политике раздела Китая. Они по-прежнему верили, что русско-китайское сотрудничество было бы возможно. Князь Э. Э. Ухтомский издал книгу «К событиям в Китае».
«Мы стоим, – писал он в предисловии к этой книге (в июле 1900 г.), – накануне великих катастроф. Движение, пока охватившее лишь часть Китая и, конечно, всею тяжестью обрушивающееся сейчас на Россию за ее, надо надеяться, временное и случайное отождествление своих интересов с интересами других, хищнически настроенных и лукаво действующих держав, – это движение грозит разрастись до небывалых размеров… Нам необходимо лишь держаться исторического пути и ни на одно мгновение не терять из виду своих прямых задач в родной и близкой нам по духу Азии». Князь Ухтомский не скрывал своего сочувствия к китайскому национальному движению и говорил даже, что китайцы «дают Западу хороший урок».
В том же духе составил свою записку «Европа и Китай» один из главных русских деятелей Гаагской конференции, профессор международного права Ф. Ф. Мартенс (в том же июле 1900 г.). В ней стояло: «Китайцы будут побеждены, но никакая победа не уничтожит народа в 430 миллионов. Это восстание против всех иностранцев имеет глубокие корни. В 1880 г. я писал: «Чем китайское правительство слабее, чем оно более имеет врагов в своей стране, тем более цивилизованные державы должны помнить, что всякая неуместная пропаганда, равно и всякое вмешательство в дела внутреннего управления могут привести только к двум результатам: или вызвать падение нынешнего правительства в Пекине, или принудить последнее открыто примкнуть к народу для истребления всех иностранцев. При первой гипотезе нет никакой гарантии, чтобы новая династия более благоприятствовала сношениям с внешним миром. При второй – в случае истребления или изгнания иностранцев – будет весьма трудно обратно завоевать утраченное положение».
Профессор Мартенс следующим образом формулировал принципы русской политики в Китае: 1) совершенно особое преобладающее положение России; 2) неприкосновенность Китая; 3) за избиения иностранцев можно требовать только морального и денежного возмещения; 4) необходимо существование устойчивого китайского правительства. («Если ныне царствующая маньчжурская династия оказалась негодною, необходимо поставить другого китайского императора и в случае надобности поддерживать его».)
Между тем китайское национальное движение захватило и редко населенную Маньчжурию, там начались нападения на русских инженеров и рабочих вдоль линии строящейся железной дороги. Это движение явно поддерживалось местными китайскими властями. Сообщение по суше между Порт-Артуром и Сибирью было прервано.
На Западе под впечатлением вестей о резне иностранцев разрасталась кампания против Китая. Император Вильгельм II, провожая отряд, отправляющийся на Дальний Восток, с обычной экспансивностью произнес речь, в которой пестрели слова о «бронированном кулаке» и о том, что «пощады не давать». На эту речь откликнулся своим предсмертным стихотворением Владимир Соловьев, живший под нараставшим кошмаром «желтой опасности». «Христов огонь в твоем булате, и речь грозящая свята, – писал он. – …Перед пастью дракона – ты понял – крест и меч – одно!»[29]
Русское общество сравнительно слабо откликнулось на китайские события, не сочувствуя ни Вл. Соловьеву, ни князю Ухтомскому («От прогрессирующей безличности и некультурности нашего живущего миражами интеллигентного слоя мы теряем политическое чутье в восточных делах», – писал по этому поводу автор «К событиям в Китае»).
Но русское правительство старалось выдержать среднюю линию. Оно не могло не принимать участия в действиях против «боксеров» – хотя бы уже потому, что русские дипломаты вместе с другими были осаждены в Пекине, что в Маньчжурии удары китайцев непосредственно падали на русские начинания. Но в то же время Россия отстаивала в дипломатическом отношении несколько искусственную позицию: движение – это мятеж, а с китайским правительством мы хотим оставаться в дружбе.
Япония, со своей стороны, поспешила предложить европейским державам свои услуги в деле подавления китайского восстания. В районе Тяньцзиня в июле стал формироваться большой международный отряд: 12 000 японцев, 8000 русских (переброшенных по морю из района Порт-Артура); по 2000–3000 других. Командование над этими отрядами после долгих дипломатических переговоров решено было поручить германскому фельдмаршалу графу Вальдерзее: Германия была наиболее обиженной стороной – подтвердились к тому времени слухи об убийстве германского посланника в Пекине; а Россия сама не пожелала возглавлять карательную экспедицию против Китая.
В это время на самой русско-китайской границе возникла паника. Русский пограничный город Благовещенск подвергся продолжительному ружейному обстрелу с китайского берега Амура; стреляли, несомненно, китайские «регулярные» солдаты. Русские войска были ненадолго перед тем уведены вниз по Амуру. Благовещенск был почти без защиты, и паника, охватившая местных жителей и местные власти, выразилась в жестокой расправе с местными китайцами: боясь, что проживающие в городе китайцы устроят восстание в тылу, наслышавшись о зверствах, происходящих в Китае, благовещенские власти собрали всех «желтых» на берег Амура и велели им вплавь переправляться на маньчжурский берег. Только меньшинству удалось переплыть широкую реку, несколько сот китайцев потонуло. Этот трагический инцидент, понятный в тревожной атмосфере момента (местная интеллигенция – с возмущением отмечала либеральная печать более отдаленных от границ мест – одобряла эти панические репрессии), показывал, насколько трудно было выдерживать на практике линию «русско-китайской дружбы».
Еще задолго до прибытия фельдмаршала Вальдерзее международное войско, выдержавшее в течение месяца встречные бои у Тяньцзиня, двинулось (5 августа н. ст.) вперед, и уже 15 (2) августа русские войска под командой генерала Линевича заняли столицу Китая. В то же время русский отряд генерала Ренненкампфа походным порядком пересекал Маньчжурию с севера на юг, почти не встречая сопротивления.
Посольский квартал в Пекине оказался нетронутым: он был, в сущности, только блокирован китайскими войсками в течение двух месяцев. Тотчас же Россия, возвращаясь к политике доброжелательства к Китаю, поспешила отмежеваться от остальных держав.
8–21 августа государь, считая военную экспедицию оконченной, распорядился приостановить дальнейшую отправку русских войск в Китай. 12–25 августа Россия обратилась к державам с циркулярной нотой, рекомендуя не только увести из Пекина международное войско, но и переселить миссии в более безопасный Тяньцзинь: в Пекине сейчас все равно нет китайского правительства, указывалось в ноте. Больше того – оно и не может вернуться в Пекин, пока в нем стоят иностранные войска; и даже если бы оно и вернулось, его бы не стали слушаться в стране, считая его пленным.
Германия особенно резко восстала против этой точки зрения. Россию обвинили в том, что она нарушает единый фронт держав. Однако вскоре и другие государства убедились в том, что русская точка зрения при создавшихся условиях была обоснованной.
С кем вести переговоры? Китайское правительство было неизвестно где; не знали в точности, из кого оно состоит. Международный отряд, опиравшийся на линию Пекин – Тяньцзинь – Таку, занимал китайскую столицу; европейские мародеры грабили дворцы запретного города; но это был только маленький островок во враждебном желтом море. Китай не сдался. Державы предъявили китайцам (15 сентября) требование о выдаче «виновников восстания», в том числе принца Туана; в ответ пришло известие, что 25 сентября тот же принц Туан назначен председателем Государственного совета!.. Отчаянное предложение тяньцзиньского консульского корпуса – угроза разрушить в виде наказания могилы предков маньчжурской династии – не встретило сочувствия и у западных правительств. Русские войска между тем заняли всю Маньчжурию от русской границы до Ляодунского полуострова. Работы по постройке железной дороги возобновились.
Державы стали разрабатывать проект условий ликвидации «боксерского инцидента» (в конце концов была принята фикция, что с Китаем не было войны). Россия в этих переговорах старалась отстоять возможно более выгодные условия для Китая. В частности, она упорно боролась против требования о выдаче и о предании смертной казни высших китайских сановников, считавшихся сторонниками движения против иностранцев. В конце года нота была наконец вручена отыскавшемуся китайскому правительству, которое не замедлило на все согласиться; и международный отряд покинул Пекин.[30]
В результате двух событий, вызванных не Россией, – занятия Киао-Чао немцами и восстания «боксеров» – Россия таким образом получила в руки незамерзающий порт на Тихом океане и полосу – широкую полосу – территории, соединяющей этот порт с прежними русскими владениями, о чем писал государь в своей резолюции от 2 апреля 1895 г. Эти цели были достигнуты, хотя владение территорией было еще не оформлено; однако обстановка во многом осложнилась. Авторитет китайского правительства, на добрых отношениях с которым основывалась первоначальная «большая азиатская программа», был сильно подорван; оно еще могло поддерживать внутреннее единство государства, но во внешней политике вынуждено было все время оглядываться на весьма ревнивое национальное движение, для которого все иностранцы были равны, и всякая уступка им казалась государственной изменой.
Следует, впрочем, отметить, что не действия России ослабили этот авторитет маньчжурской династии: поражение в войне с Японией, беспрепятственное занятие немцами Киао-Чао, а для некоторой части интеллигенции, начинавшей «европеизироваться», также решительный отказ от внутренних реформ – все это создавало китайской власти растущее число врагов совершенно независимо от занятия русскими Порт-Артура. Если бы Россия окончательно отстранилась от китайских событий и не закрепила за собой соседних областей – это едва ли бы создало для нее лучшее исходное положение при борьбе за преобладание на Дальнем Востоке: весьма вероятно, что это было бы только сочтено признаком слабости; китайский народ все равно не стал бы выделять русских из общей массы «белых чертей», а благоволение слабеющей маньчжурской династии весило уже весьма немного.
Маньчжурия в ту пору была весьма редко населена – на ее огромном пространстве около миллиона квадратных верст было всего 3–4 миллиона жителей. Эта провинция, вотчина китайского императорского дома, была тогда еще закрыта для поселенцев. Во многих местностях вдоль строящейся Восточно-Китайской дороги китайское население почти отсутствовало. Маньчжурия была как бы прямым продолжением Сибири – в лучших, наиболее плодородных ее частях.
* * *
На Дальнем Востоке Россия встречала наступление XX в. при благоприятной обстановке. Сибирь находилась в периоде быстрого роста. Организованное в начале царствования императора Николая II Переселенческое управление направляло широкие потоки «ходоков» и переселенцев из Европейской России в наиболее пригодные для ведения сельского хозяйства местности. Сибирская дорога доходила непрерывной колеей до Иркутска и действовала на нескольких других участках (например, в Уссурийском крае). Население Сибири за 5–6 лет увеличивалось с возрастающей быстротой. На сибирские губернии еще в 1896 г. было распространено действие судебных уставов 1864 г.
Указом 12 июня 1900 г. государь провел важную реформу – об отмене ссылки на поселение в Сибирь. Мера эта, упразднявшая так хорошо – понаслышке – известную всюду за границей «сибирскую ссылку», отнюдь не была отменой жестокой системы репрессий, которую в таких мрачных красках представляли себе в Западной Европе под «страшным» именем Сибири: это была мера предохранения ценной русской окраины против ее «засорения» нежелательными элементами. Не Сибирь была слишком плоха для ссыльных – ссыльные были недостаточно «хороши» для Сибири! Государь, как говорится в указе, решил «снять с Сибири тяжелое бремя местности, в течение веков наполненной людьми порочными».[31]
В качестве места ссылки был оставлен только остров Сахалин; кроме того, разумеется, не были упразднены существовавшие в Сибири (и не только в Сибири) каторжные тюрьмы. «Вестник Европы» вполне основательно сопоставлял отмену ссылки в Сибирь с развитием событий в Китае: «В будущем, более или менее близком, следует ожидать или действительного преобразования Китая, или соперничества держав на его развалинах. И в том и в другом предположении такая обширная часть нашей империи, как Сибирь, непосредственно примыкающая к древнему Китаю, не должна являться только узкою железнодорожной полосой, служащей к соединению Европейской России с берегами Тихого океана; надобно желать Сибири быстрого и широкого развития местных сил, что, в свою очередь, будет иметь последствием привлечение в нее из метрополии всего, что в ней есть лучшего и предприимчивого, – в противность тому, чем европейская Россия награждала Сибирь до настоящего времени и чему теперь, весьма и весьма своевременно, положен конец».
Глава 6
Русская литература и искусство к концу XIX в. – Организация революционных сил. – Вопрос о продолжении земской реформы 1864 г. – Манифест 3 февраля 1899 г. о Финляндии. Студенческие волнения 1899 г.; события 8 февраля; комиссия Ванновского; временные правила 29 июля. – Полемика князя С. Н. Трубецкого с князем Д. Н. Цертелевым. «Самодержавие и земство». – Правый курс; назначение Д. С. Сипягина. – Кончина наследника; болезнь государя. – Отъезд духоборов в Канаду и отлучение графа Л. Н. Толстого. «Россия накануне XX столетия». – Убийство Н. П. Боголепова. – Демонстрация 4 марта 1901 г. – Назначение генерала Ванновского министром народного просвещения
Конец XIX в. – «чеховские годы» в русской литературе. Один за другим сошли в могилу А. Н. Майков (1897), Я. П. Полонский (1898), Д. В. Григорович (1899). На первое место выдвинулся А. П. Чехов, этот тонкий психолог и меткий наблюдатель, которому радикальная критика прощает «отсутствие положительных общественных взглядов» за его «тоску по идеалу», выражающуюся в изображении серости и скуки русской провинциальной жизни. Среди новых имен выделился в эти годы Максим Горький, ставший знаменитым почти вдруг (1898); его рассказы о «босяках», у которых ничего нет, но которым ничего и не надо, казались чем-то новым на фоне перепевов «гражданской скорби».
«Северный вестник», отражавший новые течения в литературе, закрылся, но «декадентство», как называли тогда представителей символизма и духовных исканий, нашло ряд новых представителей: Д. С. Мережковский создал свою трилогию «Христос и Антихрист»; З. Н. Гиппиус – книги рассказов и стихов, Федор Сологуб – первые книги стихов и роман «Тяжелые сны»; стал выдвигаться К. Д. Бальмонт; Валерий Брюсов выпустил свои первые сборники, жестоко осмеянные Вл. Соловьевым.
Новые течения еще ярче проявлялись в живописи, чем в литературе. Стараниями группы художников, объединенных вокруг С. П. Дягилева, возникли (в конце 1898 г.) сначала выставки, а потом и журнал «Мир искусства». В нем участвовали Александр Н. Бенуа, К. Сомов, М. Добужинский, Л. Бакст, К. Коровин, В. А. Серов (получивший на Парижской всемирной выставке 1900 г. первый приз за портрет великого князя Павла Александровича). Левый шаблон в живописи начинал приедаться; выставки передвижников казались тусклыми и меньше привлекали публику. «Мир искусства» вступил в борьбу с толстыми журналами, защищая чистое искусство.
«Нас назвали детьми упадка, – писал С. П. Дягилев, – и мы хладнокровно и согбенно выносим бессмысленное и оскорбительное прозвище декадентов. Что должны мы считать нашим расцветом? Где наши Софоклы, Леонардо, Расины, которые могут презрительно видеть в нас лишь немощное извращение созданного ими искусства? У нас модно царили такие силы, как Чернышевский, Писарев, Добролюбов». И, презрительно отозвавшись об учениях, «отводивших искусству роль послушных школьников на помочах у противохудожественной теории социализма», редактор «Мира искусства» писал: «Великая сила искусства заключается в том, что оно самоцельно, самополезно, а главное – свободно».
Примечательно, что лозунг «свобода искусств» в России был направлен не против царской власти, отнюдь на него не посягавшей, а против морального гнета радикальной интеллигентской критики. Русская императорская власть, следуя лучшим монархическим традициям всех времен, оказывала широкую поддержку изобразительным искусствам: А. Н. Бенуа заведовал художественной частью Нижегородской выставки; Л. Бакст и др. работали в императорских театрах или художественном издательстве при Красном Кресте (Община святой Евгении); среди произведений В. А. Серова видное место занимают портреты царской семьи, в особенности лучший и наиболее известный из портретов государя, написанный в 1900 г. для императрицы Александры Феодоровны.[32] Ему же принадлежат картины коронационных торжеств.
7 марта 1898 г. был открыт в Санкт-Петербурге, в помещении Михайловского дворца, Русский музей имени императора Александра III; туда были перенесены произведения русских художников и скульпторов из Эрмитажа; музей далее неизменно пополнялся новыми приобретениями лучших картин с современных русских художественных выставок.
В области театра, кроме расцвета императорского балета, наблюдались новые искания: в Москве открыли в 1897 г. Художественный театр, который, под руководством К. С. Станиславского, создал себе затем громкое имя в России и за границей. В. Ф. Комиссаржевская, появившаяся в конце 90-х гг. на сцене, быстро завоевала горячую симпатию публики.
Быстро распространилась «живая фотография» – в то время далекая от искусства. Уже в 1898 г. было издано распоряжение, запрещающее показывать на экране Спасителя, Богоматерь или святых угодников.
Неизменно, из года в год, росли ассигнования на народное образование; особенно быстро развивалась сеть церковно-приходских школ; Министерство финансов, в свою очередь, создало свой особый тип средней школы «коммерческие училища» и подготовляло открытие Политехнического института в Санкт-Петербурге.
В экономическом отношении два неурожайных года (1897 и 1898), а также кризис, распространившийся по всей Европе, несколько замедлили быстрый темп роста русского хозяйства; но самый рост промышленности и развитие железнодорожной сети продолжались, несмотря на эти затруднения. Поступление косвенных налогов и сбора с увеселений и зрелищ неуклонно возрастало. «Как видите, нам живется веселее», – иронизировал, сообщая этот факт, либеральный журнал.
* * *
За этот же период росли и «нелегально» организовывались также и силы противников существующего строя. Вслед за Польской социалистической партией, возникшей в начале 90-х гг. (среди ее учредителей стоит отметить Иосифа Пилсудского), за еврейским Бундом на съезде в Минске (в 1898 г.) была учреждена Российская социал-демократическая рабочая партия, в которую влились Союз освобождения рабочего класса и несколько других групп. Съезд был застигнут полицией; большинство участников арестовано; но все же эту дату как «день рождения» своей партии празднуют и большевики, и меньшевики. Много позже организационно объединились революционные элементы народнического направления (социалисты-революционеры), но отдельные их группы, ведшие свою «родословную» от пресловутой «Народной воли», действовали вместе с «марксистами». Вообще в эту раннюю пору между революционными и даже оппозиционными элементами, при всяческих теоретических разногласиях, на деле царило значительное единодушие.
«В свирепой трудной борьбе с самодержавием, – провозглашал заграничный нелегальный орган,[33] – необходимы все наличные силы, несмотря на то, какого цвета или формы их отличительные ярлыки и какую именно кличку они для себя почему-либо выбрали. Единственным символом веры, единственным условием sine qua non мы признаем только враждебность принципу самодержавия. Вы – наш союзник, раз Вы искренне верите в этот тезис; а как Вы считаете наилучшим уязвить и уничтожить его – это дело Вашей собственной совести и понимания».
Тайные революционные организации были наиболее распространены в студенческой среде. В частности, в Киевском университете были сильные группы Бунда и польских социалистов. Конечно, только незначительное меньшинство входило в эти организации; но другие направления оставались вовсе неорганизованными.
Последовательный консерватор «аристократического» толка, князь В. П. Мещерский, писал на новый 1898 г.: «Раздаются новые голоса, рождаются новые мысли, являются новые желания и стремления, чуются новые воли; из мутной тины осадков давнего прошлого восстают какие-то новые государственные допросы… из всей этой мути слагается нечто вроде настроения… Наружность, платья такие же, и вид один и тот же, но дорожащие только этим сходством настоящего с прошлым не замечают, что платье это понемногу расползается по швам… Наши друзья французы нередко говорят в беседах с нами: «Вы, вы счастливее нас, у нас 500 волей распоряжаются Францией, а у вас одна воля управляет Россией; у вас Бог есть главная жизненная потребность, у нас Он только роскошь…» Признаюсь, я предпочел бы, чтобы не французы нам это говорили с завистью, а чтобы мы это говорили французам с гордостью…»
Государь знал, разумеется, что городская интеллигенция относится враждебно к существующему порядку; но он глубоко верил, что отношение народных масс – совершенно иное. В беседе с московским губернским предводителем дворянства князем П. Н. Трубецким (летом 1898 г.) государь коснулся вопроса об ограничении самодержавия и сказал, что он готов был бы поделиться с народом властью, но сделать этого не может: ограничение царской власти было бы понято как насилие интеллигенции над царем, и тогда народ стер бы с лица земли верхние слои общества. (Судьба интеллигенции и «буржуазии» после свержения царской власти показала, что в этом представлении было немало верного.)
Не желая непрестанно ломать и строить сызнова, государь в то же время продолжал «достройку» и «ремонт» здания Российской империи и постепенно окружил себя сотрудниками по своему выбору. К концу века восемь (из двенадцати) министров, которых государь застал при своем восшествии на престол, были уже заменены другими (трое вследствие смерти).[34] Из министров эпохи императора Александра III оставались только К. П. Победоносцев, С. Ю. Витте и назначенные в последний год царствования Н. В. Муравьев (юстиции) и А. С. Ермолов (земледелия).
На место скончавшегося на 79-м году жизни министра народного просвещения графа И. Д. Делянова (занимавшего этот пост свыше 16 лет) был назначен в начале 1898 г. профессор римского права Н. П. Боголепов. «Я сознаю, – сказал он в речи к чинам своего ведомства при вступлении в должность, – что во всех областях народного образования жизнь выставила требования усовершенствований и нововведений. Но я держусь того мнения, что и те и другие должно производить с большой осторожностью и постепенностью. Я не сторонник радикальной ломки».
Министерство внутренних дел, в котором с 1897 г. к И. Л. Горемыкину присоединился товарищ министра князь Алексей Дмитриевич Оболенский, включило в список мер, соответствующих принципу «достройки и ремонта», распространение земских учреждений на те губернии, где их еще не было. Прецедентом служила такая же мера, принятая в отношении судебных уставов 1864 г.
Этот проект вызвал сразу же неодобрение правой печати. «Московские ведомости» сначала даже опровергли слух о нем. «Гражданин» как раз вел резкую кампанию против земства, доказывая, что оно и бесполезно, и не по силам земским плательщикам. «До десяти земств проворовалось», – сказал мне мой знакомый (писал князь Мещерский). «Слава Тебе Господи», – сказал я с просиявшей физиономией и перекрестился. Об одном грущу, что не все 34 проворовались. Теперь не будут вводить земства там, где их нет, не будут топить дворянство в земской луже…»
Тем не менее И. Л. Горемыкин, с одобрения государя, внес в Государственный совет проект введения земства в девяти губерниях Западного края и в Архангельской, Астраханской, Оренбургской и Ставропольской губернии. (В стороне были пока оставлены три Прибалтийские губернии и Область войска Донского.) В то же время тифлисское дворянство ходатайствовало о введении земства в Закавказье. Внесению проекта предшествовал опрос губернаторов и губернских предводителей дворянства; все они высказались в пользу введения земств. Ввиду особых местных условий – преобладания польского элемента среди землевладельцев Западного края – существовали опасения, что земство может быть использовано в антирусских целях. Поэтому предположено было на первых порах не создавать выборных уездных учреждений и в губернские собрания ввести некоторое число назначенных гласных (от четверти до трети общего числа). Тут же указывалось, впрочем, что в некоторых уездах, где имеется достаточное число русских землевладельцев, могут быть введены теперь же и уездные земства.
Параллельно с этим проектом, но независимо от него в Министерстве внутренних дел обсуждался вопрос объединения всего учебного дела в руках государства, с тем чтобы впредь не было особых земских школ. Но считалось необходимым, прежде чем проводить эту меру, значительно усилить кредиты на народное образование, чтобы реформа эта сопровождалась общим подъемом школьного дела; а Министерство финансов не находило возможным значительно увеличить кредиты, особенно ввиду неурожайных годов и промышленного кризиса.
* * *
Вопрос о «достройке» сети земских учреждений был, однако, оттеснен на задний план общественного внимания новыми осложнениями, возникшими в начале 1899 г. Одно из них, в сущности, относилось формально к той же области – установлению большего единообразия учреждений Российской империи; только, в отличие от земского проекта, расширявшего пределы самоуправления, в этом случае речь шла о его ограничении.
Вопрос о пределах компетенции Финляндского сейма был унаследован государем от его отца, учредившего по этому поводу особую комиссию. Император Александр III поручил этой комиссии разработку проекта приведения закона о воинской повинности в Финляндии в соответствие с русским законодательством. Спорным представлялся вопрос о том, требовалось ли для этого согласие Финляндского сейма.
Финские юристы, с ссылками на слова императора Александра I на сейме в Борго и на ряд заявлений императора Александра II, доказывали, что основные законы Великого княжества Финляндского, торжественно подтвержденные государем при его восшествии на престол, не допускают проведения нового проекта воинской повинности без согласия местного сейма. Видные русские ученые, как профессора Н. М. Коркунов и Н. С. Таганцев, полагали, что общеимперская власть сохраняет за собою учредительные права и может отменять решения, принятые ею ранее.
Когда генерал-губернатором Финляндии, на место графа Ф. Л. Гейдена, летом 1898 г. был назначен генерал Н. И. Бобриков, финское общество насторожилось, и пошли слухи о предстоящей отмене финской конституции (в этом вопросе из русских газет умеренное «Новое время» было настроено гораздо решительнее «Гражданина»).
Финляндский сейм собрался в январе 1899 г.; ему был представлен законопроект, распространяющий на Финляндию, с некоторыми видоизменениями, русский воинский устав. Финляндское войско насчитывало около 10 000 человек и по местным законам должно было служить только в пределах края; по новому проекту численность войска увеличивалась примерно в полтора раза, и финские граждане могли быть отправлены к отбыванию воинской повинности в другие части империи (в России, как, впрочем, и во Франции, было принято, чтобы призывные отбывали воинскую повинность не в тех губерниях, из коих они родом). Сейм передал проект в комиссию.
Вопрос об увеличении численности имперских вооруженных сил на 5000–6000 человек не представлял сам по себе чрезвычайной важности. На этом вопросе, однако, столкнулись два различных юридических воззрения на природу отношений между Россией и Финляндией.
Государь не отрицал того, что по прежнему установленному порядку согласие Финляндского сейма считалось необходимым, но он полагал, что обладает учредительной властью, дающей ему право изменить этот порядок. «Получили мы с Вами наследство в виде уродливого, криво выросшего дома, – писал государь генералу Н. И. Бобрикову, – и вот выпала на нас тяжелая работа – перестроить это здание или, скорее, флигель его, для чего, очевидно, нужно решить вопрос: не рухнет ли он (флигель) при перестройке? Мне думается, что нет, не рухнет, лишь бы были применены правильные способы по замене некоторых устаревших частей новыми, по укреплению всех основ надежным образом».
3 (15) февраля 1899 г. был издан высочайший манифест. «Независимо от предметов местного законодательства, вытекающих из особенностей ее общественного строя, – говорилось в нем, – в порядке государственного управления возникают по сему краю и другие законодательные вопросы, каковые по тесной связи с общегосударственными потребностями не могут подлежать исключительному действию учреждений Великого княжества… Оставляя в силе существующие правила об издании местных узаконений, исключительно до нужд Финляндского края относящихся, Мы почли необходимым предоставить Нашему усмотрению ближайшее указание предметов общеимперского законодательства».
Одновременно с манифестом были изданы «Основные положения о составлении, рассмотрении и обнародовании законов, издаваемых для Империи с включением В. К. Финляндского». Законы эти должны были издаваться императорской властью, причем, в отличие от законов, к Финляндии не относящихся, требовались предварительные заключения высших административных органов Финляндии, а также и Финляндского сейма; эти заключения носили, однако, лишь совещательный характер. Разграничение сферы общегосударственного законодательства и местных узаконений, требующих согласия сейма, предоставлялось также императорской власти.
«Новое время», приветствуя издание манифеста, писало: «Новый закон при всей своей многообъемливости не коснулся автономии края и ни на одну йоту не уменьшил так называемой финляндской конституции. Что в вопросах общеимперских местный сейм не может иметь решающего голоса – это должны понять самые притязательные из финляндских государственников…»
В Финляндии этот манифест вызвал, однако, чрезвычайное волнение. Даже сенат, состоящий из лиц, назначенных государем, едва не отказался распубликовать его – 10 голосов было против, 10 голосов за, и только голос председателя дал перевес в пользу распубликования. В то же время и сенат, и сейм постановили обратиться к государю с ходатайством об отмене манифеста 3 февраля.
«Финский народ, – говорилось в обращении сейма, – без различия, как высшие, так и низшие, вынужден видеть в этом пренебрежение его конституционными правами, которого, насколько известно народу, он не заслужил какими-либо действиями».
Среди финского населения тотчас же начался сбор подписей под массовой петицией государю с тою же просьбой. В несколько дней было собрано свыше 500 000 подписей. Депутация в пятьсот человек должна была отвезти петицию в Санкт-Петербург; для участия в ней были выбраны большею частью старики пасторы или крестьяне. В Гельсингфорсе и других городах происходили демонстрации протеста, принявшие форму поклонения памяти императора Александра I: его портреты в траурных рамках выставлялись в окнах; у подножия его статуи на площади перед Сенатом в Гельсингфорсе нагромождались горы венков.
Сейм, которому было предложено, по новому закону, дать свой отзыв о воинском уставе, поручил своим комиссиям продолжать его обсуждение на основе прежних законов, внося поправки в правительственный проект.
Государь был возмущен проявленной оппозицией и счел сперва, что, как и в России, протесты исходили только от «политиканствующего меньшинства».
«Объявите участникам депутации в 500 человек, – писал он (5 марта) статс-секретарю по делам Финляндии, Прокопе, – что Я их, разумеется, не приму, хотя и не сердит на них, потому что они не виноваты… Я вижу в этом недобрые поползновения со стороны высших кругов Финляндии посеять недоверие между добрым народом Моим и Мною».
В своих инструкциях Н. И. Бобрикову государь указывал, что не предполагает никакой ломки местного уклада жизни; нужно некоторое расширение власти генерал-губернатора, переустройство жандармерии и полиции: «Разрешив эти дела – покончив с военным законом, – мне кажется, можно будет удовлетвориться достигнутыми результатами: Финляндия будет достаточно закреплена за Россией».
Но конфликт получил принципиальный характер; дело было не в том, какие законы будут изданы, а в порядке их издания: население Финляндии привыкло за несколько десятилетий считать законным определенный порядок вещей; этот порядок был подтвержден тремя последними императорами – даже если отрешиться от первоначальных обещаний императора Александра I (при императоре Николае I сейм не был ни разу созван). Государь, быть может, впервые почувствовал трагичность этого конфликта, когда статс-секретарь Прокопе (в личной преданности которого он не сомневался) разрыдался в его кабинете и стал умолять, чтобы государь не запрещал финляндскому населению присылать петиции на высочайшее имя. Государь внял этой просьбе Прокопе, но общее направление политики в финляндском вопросе осталось прежним.
Дальнейший ход событий показал, что попытка установить более тесное единство между Россией и Финляндией при помощи внешнего сближения учреждений на практике привела к обратным результатам: она создала единение между финскими и шведскими элементами края и породила сепаратизм, которого ранее не было. Если юридическая сторона вопроса осталась спорной, и отмена конституции, дарованной свыше, едва ли может почитаться незаконным актом в случае возникшей государственной необходимости, – то со стороны целесообразности этот шаг, во всяком случае, оказался пагубным и вместо закрепления Финляндии за Россией способствовал ее отчуждению.
Финляндский вопрос явился за границею поводом для газетной кампании против России, причем иные даже утверждали, что проект увеличения финского войска (на 5000) противоречит принципам ноты 12 августа о сокращении вооружений. В царстве Польском, где возникали после приезда государя в Варшаву некоторые надежды на самоуправление по образцу Финляндии, манифест 3 февраля также произвел расхолаживающее впечатление.
Русское общество, по своему обыкновению, стало и в финляндском вопросе на оппозиционную точку зрения. Но эти события весьма скоро отступили для него на задний план перед внезапно вспыхнувшими студенческими волнениями до сих пор еще невиданной силы и длительности.
По своему составу русское студенчество было всегда гораздо «демократичнее», нежели в демократиях Западной Европы. В университеты поступали тысячами представители несостоятельных кругов. Государство широко этому содействовало. Так, произведенное в 1899–1900 гг. обследование материального положения студенчества Московского университета, наиболее многолюдного и едва ли беднейшего по составу слушателей, показало, что на 4000 студентов здесь было около 2000 неимущих, которые освобождены от платы за учение, а около 1000 человек из них, кроме того, получает стипендию различного размера; всего в год на это тратилось около полумиллиона рублей.[35]
В других университетах картина была примерно та же. Такой состав студенчества, с преобладанием «интеллигентного пролетариата» (а то и полуинтеллигентного), отличался природной склонностью к радикальным течениям, и никакие внешние меры, вроде свидетельства о благонадежности или строгого надзора со стороны полиции, не изменяли этого основного факта. Отсутствие легальных студенческих организаций только оставляло свободную почву для нелегальных, а развитое в учащейся молодежи естественное чувство товарищества создавало значительные затруднения для власти при борьбе с революционными элементами в университетах.
После вспышки осенью 1896 г. пять семестров прошли в университетах спокойно, и только в Киеве к концу 1898 г. происходили небольшие волнения в связи с протестами польских студентов против торжеств открытия памятника в Вильне M. H. Муравьеву, подавившему Польское восстание 1863 г. в Западном крае (тому самому, которого интеллигенция с польских слов называла «вешателем» и о ком великий русский поэт Ф. И. Тютчев написал: «Не много было б у него врагов – когда бы не твои, Россия»). Но ничто вовне не предвещало тех событий, которые внезапно разразились по случайному поводу.
8 февраля 1899 г. в Санкт-Петербургском университете происходил обычный торжественный акт. Ректор, профессор В. И. Сергеевич, вывесил перед тем объявление, в котором указывалось, что в другие годы студенты несколько раз по окончании акта учиняли беспорядки, врываясь группами в рестораны, в театры и т. д., нередко в пьяном виде; ректор ставил студентам на вид, что такие поступки недопустимы, и предупреждал их, что полиция прекратит всякое нарушение порядка «во что бы то ни стало». Многие студенты сочли это воззвание оскорбительным. В то же время ходили смутные слухи о готовящихся демонстрациях.
Во время акта студенты освистали ректора, не дав ему говорить, а затем стали расходиться. Полиция заградила проходы к Биржевому и к Дворцовому мосту, и студенты, волей-неволей, направились толпой по набережной к Николаевскому мосту. Когда конные полицейские хотели разделить толпу, студенты их не пропустили и стали в них бросать снежками и разными случайными предметами; один снежок попал прямо в лицо полицейскому офицеру. Тогда полицейские двинулись на толпу и рассеяли ее ударами нагаек. Сколько-нибудь серьезно пострадавших при этом столкновении не было.
Не только среди студентов, но и у многих очевидцев получилось впечатление, что весь инцидент был создан неумелыми полицейскими распоряжениями, вызвавшими то самое скопление студентов, которое затем пришлось рассеивать силой. Для революционных организаций возникшее по этому поводу возмущение было желанным предлогом для начала серьезной борьбы. Вечер 8 февраля и состоявшиеся в тот день студенческие вечеринки прошли спокойно. Но со следующего дня в Университете стала развиваться усиленная агитация. Доказывали, что студенчеству нанесено оскорбление; приравнивали разгон толпы на улице к телесному наказанию (к которому русское общество питало болезненное отвращение); говорили о необходимости протеста. На сходке, затянувшейся на два дня (9–10 февраля), присутствовало около половины всех студентов (до 2000 человек). Отвергнуты были предложения о принесении жалобы в суд на действия полиции, а также о подаче петиции на высочайшее имя: эти решения не давали бы дальнейшей пищи для беспорядков. Восторжествовало предложение о прекращении занятий. В резолюции говорилось о «насилии, унижающем достоинство, которое преступно даже в применении к самому темному и безгласному слою населения». «Мы объявляем, – заявлялось далее, – Санкт-Петербургский Университет закрытым и прекращаем хождение на лекции, и, присутствуя в Университете, препятствуем кому бы то ни было их посещать. Мы продолжаем этот способ обструкции, пока не будут удовлетворены наши требования: 1) опубликование во всеобщее сведение всех инструкций, которыми руководствовались полиция и администрация в отношении студентов, и 2) гарантии физической неприкосновенности нашей личности». Эти требования были составлены весьма умело: в них как будто не было ничего «политического», и в то же время всегда было возможно сказать, что они не выполнены. Ибо что могла значить «гарантия?» Если речь шла о неосновательном, беззаконном насилии – оно запрещалось и без того; против него надлежало обращаться в суд. Если же речь шла о противодействии запрещенным деяниям – какое правительство могло бы дать гарантию, что полиция впредь будет стоять пассивно под градом – уже не снежков, а, скажем, камней?
Ректор В. И. Сергеевич мужественно явился 10 февраля на сходку. «Я буду обвинять вас, – говорил он, – перед вашим здравым смыслом. Действовать можно только надеясь на успех. Требовать можно чего угодно – хотя бы райских птиц, только они не выживут в нашем климате. Вы объявили, что будете мешать чтению лекций. Начальство, таким образом, упраздняется. В университете создается временное правительство. Все возмущены этим поводом. Случается, что полиция перехватит через край в своем служебном усердии. Но революция в закрытом помещении – нелепость. Вы читали правила при поступлении в университет, вы дали слово их исполнять».
На слова ректора внимания не обратили. 11 февраля в университете началась обструкция на лекциях некоторых профессоров, не пожелавших подчиниться постановлению сходки. На следующий день, 12 февраля, движение перекинулось на другие учебные заведения. Был брошен лозунг: «Студентов, ваших товарищей, избивают!» В один день забастовали Высшие женские курсы, Военно-медицинская академия, Горный, Лесной, Электротехнический институты, Академия художеств, и только в недавно открытом Женском медицинском институте нашлось смелое меньшинство, не пожелавшее подчиниться насилию. Всюду выставлялось то же туманное, но эффектное требование «гарантий». Создан был организационный комитет для руководства забастовкой. 15 февраля движение распространилось на Москву, где прекратились занятия во всех высших учебных заведениях, 17-го – Киев, Харьков, – движение захватило все русские университеты. Быстрота распространения забастовки была тем более примечательна, что в печати до 21 февраля об этом не появилось ни строки. Газеты писали о скоропостижной кончине президента Ф. Фора, о попытке Деруледа вызвать военный переворот, но о забастовке писать не разрешалось.
Местами не обходилось без борьбы. «В Киеве, – сообщалось в бюллетенях Организационного комитета, – обструкция приняла резкий характер благодаря упорному противодействию меньшинства»…[36]
Общество в большинстве стало на точку зрения студентов. Ряд видных профессоров Санкт-Петербургского университета обратился к министру народного просвещения с протестом против действий полиции в день 8 февраля. Но и в правительственной среде царили разногласия. Действия полиции даже некоторые министры называли «не вполне тактичными». Академики А. С. Фаминцын и H. H. Бекетов (старый учитель государя) добились высочайшей аудиенции и осведомили императора, со своей точки зрения, о причинах возмущения студентов, утверждая, что политика тут ни при чем. Государь запросил мнения министров, и большинство высказалось в пользу создания особой следственной комиссии. Возражали, впрочем, как раз наиболее заинтересованные министры – Н. П. Боголепов, И. Л. Горемыкин, А. Н. Куропаткин. Военный министр, который лично беседовал со студентами Военно-медицинской академии, говорил им, что забастовку проводит «та темная, чуждая науке политическая сила, которая, сама оставаясь в стороне, быть может, руководит всем».
21 февраля в газетах появилось сообщение: «Государь император повелеть соизволил генерал-адъютанту Ванновскому произвести всестороннее обследование причин и обстоятельств беспорядков, начавшихся 8 февраля в императорском Санкт-Петербургском университете и затем распространившихся на другие учебные заведения, и о результатах сего расследования представить на Высочайшее благовоззрение. Вместе с тем Его императорскому Величеству благоугодно было указать, что принятие мер к восстановлению в упомянутых учебных заведениях обыденного порядка остается на обязанности главных начальников сих заведений».
Значение этого шага еще увеличивалось тем, что генералу Ванновскому, бывшему военному министру, молва приписывала весьма резкие отзывы о действиях полиции в деле 8 февраля. Государь пожелал отнестись к учащейся молодежи с доверием, поручил расположенному к ней человеку разбор причин ее недовольства и возлагал восстановление порядка в высшей школе на учебное начальство, обычно более мягкое, а не на внешние административные органы.
Казалось бы, студенты добились большего, чем сами могли ждать. Организационный комитет тем не менее решил продолжать забастовку, заявляя, что назначение расследования «не дает еще никаких гарантий». В Киевском университете бастующие студенты обратились с воззванием к рабочим, заявляя, что уже «добились уступок», но будут продолжать борьбу.
Общество никак не отозвалось на примиряющий шаг государя. Забастовке продолжали сочувствовать. Против нее отважился выступить только редактор «Нового времени» А. С. Суворин, написавший: «Если бы правительство предоставило настоящую стачку молодежи ее естественному течению, то есть сказало бы «не хотите учиться – не учитесь», то оно не себе бы повредило и не своей высшей школе, а поставило бы учащуюся молодежь в печальное положение, оставив ее без образования и без того поприща общественной деятельности, на которое она рассчитывала». На «Новое время» за эти строки обрушились чуть не все прочие органы печати; многолетние подписчики газеты отказались от ее получения; не без гордости А. С. Суворин потом писал, что отвлек на себя все громы общества.
Забастовка вступила в новую фазу. В учебных заведениях велась внутренняя борьба за ее прекращение. Администрация, ввиду перемены обстановки, разрешила вернуться почти всем высланным за участие в беспорядках. Военно-медицинская академия с 21 февраля действительно приступила к занятиям и более их не прерывала. Когда после масленичных каникул университеты снова открылись, в Санкт-Петербурге, в Москве, в Одессе большинством голосов было решено прекратить забастовку. В Харькове и Казани забастовка также окончилась. Но в Киеве «союзный совет» постановил в резких выражениях выразить порицание петербургским студентам; обструкция продолжалась; во главе борьбы с нею стала организованная русскими студентами «партия националистов». Крайние элементы, раздраженные сопротивлением, прибегли к физическому насилию. 9 марта в Киевском университете произошло настоящее побоище; сражались мебелью и лабораторными принадлежностями. Тогда 10 марта было решено уволить всех студентов и принимать их обратно с известным разбором (принято было 2181 человек из 2425).
Киевские события и воззвания «союзного совета» дали новый толчок забастовке. Крайние снова апеллировали к чувству товарищеской солидарности – «товарищей избивают, товарищей исключают». В Санкт-Петербурге 18 марта собралась сходка, постановившая возобновить обструкцию. То же произошло в Москве, в Одессе. Этот последний период забастовки был самым острым и озлобленным. Обструкция принимала резкие формы. Ее сторонники не считались с волей большинства: в Горном институте, например, большинство на сходке высказалось против обструкции, но она все-таки применялась. В столовой Санкт-Петербургского университета обосновался забастовочный центр, дававший инструкции и печатавший бюллетени о ходе забастовки.
К концу марта выяснилось, что учебное начальство и умеренные элементы студенчества совершенно бессильны перед организованной обструкцией. Полиция в дело не вмешивалась. Движение распространилось на Варшавский и Рижский политехнические институты. Увольнение и обратный прием по прошениям ни к чему не приводили: забастовочный комитет дал приказ подписывать все что угодно, но продолжать обструкцию. К концу марта почти все высшие учебные заведения были закрыты до осени, и только экзамены – также объявленные под бойкотом – кое-где все-таки производились. Правительственное сообщение 2 апреля подвело итоги этих бурных двух месяцев.
Опыт этой забастовки произвел большое впечатление на государя. Он начал с того, что пошел студентам навстречу, но должен был убедиться в наличии злой воли, в бесспорно политической подкладке движения. Комиссия генерала Ванновского, возникшая на предпосылке законных требований студенчества, продолжала свои работы – но окончила она их уже в совершенно новой обстановке. Она признала, что полиция действовала правильно 8 февраля; но этот повод был теперь почти забыт; она вынесла ряд предложений о предоставлении студентам большей свободы – но университеты были закрыты вследствие насилия радикальных элементов и пассивности умеренных.
24 мая было опубликовано правительственное сообщение, отчасти основанное на работах комиссии генерала Ванновского. В ней указывалось, что события 8 февраля – столкновение, сопровождавшееся обоюдными насильственными действиями, начатыми студентами и вызвавшими отпор небольшого отряда конной полиции (38 человек) «посредством применения без особой необходимости одной из крайних мер воздействия на толпу». Объясняя дальнейшие беспорядки влиянием крайних, на сходках увлекших за собой толпу, сообщение далее гласило: «Исследование показало, что и в самом строе высших учебных заведений существуют общие причины, содействующие развитию беспорядков». Причины эти перечислялись: разобщенность студентов между собою и с профессорами, скученность студентов в одном и том же учебном заведении, отсутствие надзора за учебными занятиями.
Но в резолютивной части уже проявлялись выводы из второго периода забастовки: государь соизволил 1) объявить неудовольствие ближайшему начальству и учебному персоналу; министры должны принять меры внушения и, если нужно, – строгости; 2) чинам полиции – поставить на вид неумелые и несоответственные предварительные распоряжения; 3) «не подлежит извинению поведение студентов и слушателей, забывших о долге повиновения и соблюдения предписанного порядка… Никто из них не может и не должен уклоняться от обязанности трудиться и приобретать познания, нужные для пользы отечества».
«К прискорбию, – говорилось в заключение, – во время происходивших смут местное общество не только не оказало содействия усилиям правительственных властей, но во многих случаях само содействовало беспорядкам, возбуждая одобрением взволнованное юношество и дозволяя себе неуместное вмешательство в сферу правительственных распоряжений. Подобные смуты на будущее время не могут быть терпимы и должны быть подавлены без всякого послабления строгими мерами правительства».
Чествование 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина – состоявшееся как раз на следующий день после опубликования этого сообщения – много проиграло если не во внешнем блеске, то в задушевности и искренности оттого, что оно попало в момент такого острого политического расхождения между властью и обществом. «Почему на празднике почти отсутствовала литература и почему общество проявило недостаточно много воодушевления? – спрашивала «Русская мысль» и дипломатично отвечала: – Ответ – в условиях развития общественности за последнее двадцатилетие».
По случаю пушкинского юбилея был учрежден разряд изящной словесности при Императорской Академии наук, имевший право избирать почетных академиков из числа выдающихся русских писателей.[37]
Летом 1899 г., в глухое каникулярное время, были опубликованы те меры, которые возвещались правительственным сообщением 24 мая. Были приняты во внимание и предложения комиссии генерала Ванновского – но также и выводы из упорной обструкции. Циркуляром министра народного просвещения от 21 июля для устранения разобщенности студентов рекомендовалось общение на почве учебных потребностей, устройство практических занятий на всех факультетах, учреждение научных и литературных кружков под руководством преподавателей и открытие студенческих общежитий; наоборот, всякие реформы общестуденческого представительства – курсовые или факультетские старосты – признавались не только излишними, но и вредными.
В то же время совещание шести министров[38] выработало «временные правила» об отбывании воинской повинности студентами, исключенными из учебных заведений за участие в беспорядках. Эта мера была выдвинута С. Ю. Витте; в защиту ее указывалось, что воинская дисциплина должна оказать воспитывающее действие на студентов. Всего энергичнее возражал А. Н. Куропаткин: ему не нравилась мысль о том, что армия как бы превращалась в арестантские роты.
Согласно этим «временным правилам» особые совещания под председательством попечителя учебного округа должны были решать вопрос о том, кто из студентов должен быть исключен, на какой срок (один, два или три года). На это время исключенные определялись в войска, хотя бы они и не подлежали призыву; физически непригодные зачислялись на нестроевые должности. За исправную службу в рядах войск срок ее мог быть сокращен; студенты затем могли вернуться в свое учебное заведение.
Принимая во внимание указания комиссии генерала Ванновского о переполнении некоторых университетов, для первого курса всех университетов и факультетов были установлены комплекты, сверх которых студенты не могли приниматься. Комплекты эти были исчислены в соответствии со средней цифрой общего числа поступлений; увеличивалось число вакансий в провинциальных университетах за счет столичных.
Наконец, министр народного просвещения отрешил от преподавания в Санкт-Петербургском университете нескольких профессоров, оказавших, по его мнению, попустительство студенческим волнениям. Во всех этих мерах отразилось глубокое разочарование, вызванное у государя отношением студенчества и общества к его великодушному жесту, назначению комиссии генерала Ванновского.
* * *
Считая, что обсуждение этого вопроса в печати только разжигает страсти, правительство строго следило за периодической печатью, и только консервативные органы имели возможность более открыто высказать свое мнение. Это вызвало со стороны князя С. Н. Трубецкого своеобразный отклик в философском журнале. Князь приводил цитату из Книги пророка Исаии о запустении в земле Эдемской[39] и заключал: «Завывание шакалов и цырканье коршунов, крики филинов и диких кошек, карканье ворон и змеиное шипение – вот что сплошь да рядом заменяет разумное человеческое слово. Мнение этих зверей по вопросам внутренней политики достаточно известно… Они говорят о тишине и порядке, как будто та распущенная звериная вольница, в которой шакалы и дикие кошки перестают бояться человека и бросаются на случайных прохожих, есть порядок и как будто тишина пустыни, населенной зверьми, есть спокойствие благоустроенного общества».
На эту статью в «Санкт-Петербургских ведомостях», игравших в ту пору трудную роль «центра», отозвался поэт-философ князь Д. Н. Цертелев. «Печать, – писал он, – давно перестала быть орудием просвещения и превратилась в способ наживы и неразборчивой борьбы политических партий… Много ли слышится во французской печати человеческих голосов среди концерта шакалов и диких кошек? Полная свобода печати была бы гарантией против цензурного произвола, но искать в ней возможности слышать человеческие голоса вместо звериной какофонии – все равно что из страха дождя бросаться в реку. Никакой Демосфен не в силах перекричать ни дикой кошки, ни домашнего осла, когда они находят публику, желающую их слушать».
Слова князя С. Н. Трубецкого о «шакалах и диких кошках» с одобрительными примечаниями обошли всю русскую печать.
В этой быстро изменившейся обстановке суждено было выпасть решению по важному вопросу русской внутренней политики об отношении власти к земскому самоуправлению. Проект введения земства в Западном крае и других четырех губерниях, выдвинутый Министерством внутренних дел, был взят «под усиленный обстрел» в высших правительственных кругах.
Было естественно, что отрицательный отзыв о проекте дал К. П. Победоносцев, написавший: «Нетрудно представить себе, какой отсюда последует вред для русского дела и для существенных интересов русской власти в Северо-Западном и Юго-Западном крае». Но не менее определенным образом против проекта высказался и министр финансов С. Ю. Витте, роль которого в этом вопросе представляется несколько загадочной.
Этот принципиальный спор, эта «тяжба перед престолом», арбитром которой явился государь, заслуживает серьезного внимания. Она показывает, на каком высоком государственном уровне велась эта историческая полемика; она интересна и по существу.
Министр внутренних дел И. Л. Горемыкин, в соответствии с общим направлением политики первых годов царствования императора Николая II, считал, что «надлежит, не торопясь и не увлекаясь внешней логичностью той или иной предлагаемой системы, идти прежним, хотя и медленным, но несравненно более верным путем постепенного совершенствования существующих учреждений». В ряду «существующего» не последнее место занимало и земство, хорошо знакомое И. Л. Горемыкину по личному опыту.
«Сомнения в соответствии начал местного самоуправления основаниям государственного уклада России, краеугольным камнем коего является политическое самодержавие, сосредоточенное в лице царя, ни с кем не разделяющего полноты своей власти, равносильно сомнению в правомерности всего почти административного строя России», – писал министр внутренних дел. Ссылаясь на русских мыслителей-славянофилов и на иностранные авторитеты, он доказывал, что местное самоуправление вполне совместимо с неограниченной монархической властью, что Россия искони привыкла к различным видам самоуправления, от сельских сходов до инородческих учреждений, что противоречия между властью и органами местного самоуправления могут быть устраняемы в порядке частных поправок; в отношении земств уже многое было сделано законом 1890 г., а для Западного края возможны и дальнейшие поправки.
Но по существу И. Л. Горемыкин открыто исповедовал идею полезности земских учреждений. Самоуправление, писал он, развивает в народе самодеятельность, дает ему «навык и инстинкт организации, который является единственно следствием долгой привычки к самоустройству и самоопределению»; полное же подавление в обществе самодеятельности, полное упразднение всех видов самоуправления обратит его в «обезличенные и бессвязные толпы населения», в «людскую пыль».
В ответ на эту записку С. Ю. Витте летом 1899 г. представил свой известный трактат о «Самодержавии и земстве».[40] В нем он стремился доказать, что никакое выборное местное самоуправление несовместимо с самодержавным строем. Уже очень рано было замечено, что доводы Витте представляются обоюдоострыми и что, доказывая несовместимость общественной самодеятельности с неограниченной монархической властью, он давал сильный довод в руки оппозиционным кругам: недаром записка Витте была впервые опубликована в Штутгарте редакцией «Освобождения», заграничного органа конституционалистов.
Но записка, во всяком случае, построена так, точно догмат незыблемости самодержавия стоит вне спора, и с этой точки зрения доказывается, что всесословные органы самоуправления во всех странах сочетаются с народным представительством. С. Ю. Витте было нетрудно найти в истории русского земства от первых его дней по данный момент целый ряд примеров, свидетельствующих о неизменном желании земства расширить свои права, о последовательной борьбе правительства с этой тенденцией.
«Я не составляю обвинительного акта против земств на основании собранных против них улик и доказательств», – писал С. Ю. Витте, но в дальнейшем приводил целый ряд земских адресов с конституционными пожеланиями – в 1878, в 1880 гг.; конституцию Лорис-Меликова; отказ самарского земства поднести императору Александру III адрес по случаю его восшествия на престол, неудачу славянофильских проектов графа Игнатьева и, наконец, те земские адреса 1895 г., на которые государь ответил своей речью 17 января.
«Если даже просто подсчитать все те земства, которыми прямо или косвенно заявлялись ходатайства о допущении их к участию в законодательстве, то получится не несколько уездов, а не менее половины всех земских губерний… Земское движение в пользу земского собора много серьезнее «пустой, шумливой оппозиции губернскому начальству. Во главе движения шли, конечно, вожаки (крикуны и политиканы, как их характеризует Ваша записка), но если за этими «политиканами» так дружно шло огромное большинство самых благородных, самых благонамеренных земцев, то не служит ли уже это одно доказательством, что в самой постановке земского дела что-то неладно, что в нем есть какая-то несообразность, какое-то политическое несоответствие всему государственному строю?»
В заключение С. Ю. Витте переходит в наступление. «Вы и сами, – говорил он министру внутренних дел, – ведете с земством борьбу, вы урезываете его права, вы его «выхолащиваете». Зачем же тогда его не только охранять, но и распространять на новые губернии? Лучше вместо этого провести административную реформу. «Как республиканский, так и монархический режим, как правительственная администрация, так и органы самоуправления могут быть и хорошим, и плохим средством управления. Каждое учреждение хорошо в строе, ему соответствующем, и непригодно в строе, ему не отвечающем. В конституционном государстве земства могут быть превосходным средством управления: там они составляют звено в цепи, скованной из одного металла… Совершенно в ином положении стоит и всегда будет стоять земство в государстве самодержавном.
Не следует ставить свою ставку одновременно на черный и красный квадрат, не следует с одной стороны говорить о развитии самодеятельности общества и начале самоуправления, проектировать территориальное его расширение, а с другой – подавлять всякую самодеятельность, ограничивать самоуправление. Нельзя создавать либеральные формы, не наполняя их соответствующим содержанием». Это только ведет к запрещениям и репрессиям, заканчивал С. Ю. Витте, а «ничто в такой мере не подрывает престижа власти, как частое и широкое принятие репрессивных мер».
С. Ю. Витте препроводил свою записку К. П. Победоносцеву, указывая, что хотел изобличить «положение, основанное на неискренности и на желании согласить несогласимое – и популярность приобрести, и невинность соблюсти». Обер-прокурор Синода в ответ указал, что критика Витте основательна, но что министр финансов не делает из нее надлежащих выводов. «Какое там искоренять, когда желают наградить им всю Россию? – оправдывался С. Ю. Витте. – Откровенно говоря, укажите мне наверху хотя одно лицо, которое по тем или иным соображениям не питает сердечное влечение к самоуправлению. Большинство льнет к земству, уверившись, что, где есть земство, хозяйственная жизнь идет лучше, а меньшинство, может быть, полагает, что, идя по пути самоуправления земского, можно заставить государя незаметно перейти заветную черту от самодержавия к самоуправлению».
Слухи о кампании против земства проникли в общество и в печать; в толстых журналах появился ряд статей о заслугах земства; профессор Б. Н. Чичерин в «Санкт-Петербургских ведомостях» выступил на его защиту, доказывая, что «Россия, более нежели какое-либо другое государство, нуждается в бережном отношении к общественным силам, ибо это ее самая слабая сторона… Подобное направление со стороны владычествующей бюрократии может только поселить неисцелимую рознь между правительством и обществом. Врагам государства такая политика идет совершенно на руку; но отечеству она сулит смуту и раздор».
Принять решение предстояло государю. Убедившись во враждебности общества, интеллигенции, на примере студенческих волнений, на примере Финляндии увидев, как трудно отменить однажды предоставленные права, признавая основательность обвинений Витте против земства, – государь не счел возможным в данный момент продолжать завершение земской реформы 1864 г. После пяти лет внутренней политики, совмещавшей традиции двух последних царствований, государь в 1899 г. вернулся на путь своего отца. Для проведения «большой азиатской программы» было необходимо сохранить свободу решений и престиж неограниченной власти. Все шаги навстречу обществу были либо отвергнуты, как комиссия генерала Ванновского, либо неминуемо были бы истолкованы как обещания более решительных перемен, которых государь не желал.
Проект распространения земства на дальнейшие губернии был оставлен. Более того, его автор, министр внутренних дел И. Л. Горемыкин, указом 20 октября был назначен членом Государственного совета – почетная форма отставки, – а управляющим министерством был назначен Д. С. Сипягин, заведующий канцелярией по приему прошений на высочайшее имя.
Министерство внутренних дел, ведающее, в числе прочих дел, и полицией, не пользовалось симпатией общества; этой непопулярности «по должности» не избежал и Горемыкин, отставка которого была встречена с некоторым сдержанным злорадством.
Что значили эти смены? – спрашивали в то же время газеты. «Новое время» писало, что «министры у нас не делают политики» и «совершившаяся перемена не дает оснований говорить о ее программной подкладке». Наоборот, «Гражданин» вкладывал в произошедшую перемену большой политический смысл: «Тот факт, что назначение обнародовано в день кончины покойного государя, придает этому назначению весьма важное политическое значение: оно является как бы свидетельством того, что минувшие 5 лет царствования убедили государя в необходимости прочнее и тверже, чем когда-либо, закрепить связь своего царствования с заветом царствования своего возлюбленного всею Россиею Родителя».
«Гражданин» был в этом прав: в лице Д. С. Сипягина министром внутренних дел стал идейный консерватор, преданный идее неограниченной власти, человек редкий в те времена, и его назначение имело определенный охранительный смысл. С. Ю. Витте, старавшийся в эту эпоху принять на себя роль блюстителя заветов императора Александра III, мог показаться либералом по сравнению с новым министром; ему приходилось вступать с ним в принципиальную полемику по вопросу о формах осуществления царской власти.
«Вы говорите, – писал Витте Д. С. Сипягину, – царь самодержавен – Он создает законы для подданных, а не для себя; я – ничто, я только докладчик. Царь будет решать, ergo никаких правил не нужно; тот, кто требует правил, желает ограничить царя; тот, кто сомневается, что царь, а не я, будет решать, полагает, что, значит, царь сам не может решать; тот, кто хочет ограничить число и форму решений, хочет отделить царя от подданных… Ваша теория, дорогой, милый, крепко любимый Дмитрий Сергеевич, имеет много общего с непогрешимостью папы…»
Не только министр внутренних дел всецело и сознательно подчинялся воле царя; граф Ламздорф, назначенный министром иностранных дел в середине 1900 г., так определял свои задачи: «Моя обязанность заключается в том, чтобы сказать государю, что я о каждом предмете думаю, а затем, когда государь решит, – я должен безусловно подчиниться и стараться, чтобы решение государя было выполнено».
В противоположность весьма распространенному мнению о том, что на государя было легко влиять, факты свидетельствуют о том, что все главные решения принимались им самим, а министры, в том числе и Витте, сами так или иначе приспособлялись к его воззрениям.
* * *
В том же знаменательном 1899 г., видевшем поворот вправо курса внутренней политики и неудачу Гаагской конференции, скончался брат государя, великий князь Георгий Александрович, и наследником был объявлен великий князь Михаил Александрович. Когда год спустя государь перенес тяжелый недуг – тиф – единственную серьезную болезнь за время царствования, в высших правящих кругах был поднят вопрос о том, не дают ли основные законы возможность объявить наследницей престола великую княжну Ольгу Николаевну. Выздоровление государя сделало эти споры ненужными.
* * *
В конце XIX в. среди духоборов, секты, распространенной главным образом среди русского населения Кавказа, воспреобладали крайние течения, требовавшие между прочим отказа от выполнения воинской повинности. Это привело к естественному конфликту с властями: какое правительство могло невозбранно допустить проповедь уклонения от исполнения обязанностей перед государством? На положение духоборов обратили внимание родственные им по взглядам толстовцы, и при их заграничных связях им удалось найти выход из положения: Канада согласилась принять духоборов к себе, освободив их от воинской повинности и отведя им земли в пустынных пространствах своей западной части.
Русское правительство не ставило препятствий для эмиграции. Духоборы получили возможность ликвидировать свои хозяйства; для них были собраны в России и за границей крупные суммы денег. Граф Л. Н. Толстой в этом случае отступил от своего решения – не брать денег за опубликование им новых своих писаний – и продал право на издание своего нового романа «Воскресение» в России журналу «Нива»; за границей тот же роман появился в ином, несокращенном издании; всю выручку Толстой отдал духоборам на отъезд их в Америку.
За 1899 г. несколько партий духоборов отбыло в Канаду; общее число выселившихся достигло примерно 15 000 человек.
В заграничном издании «Воскресения» содержались глумления над православными церковными таинствами; это побудило Синод принять свое столь нашумевшее решение об отлучении графа Л. Н. Толстого от церкви. «Известный всему миру писатель, – говорилось в определении от 22 февраля 1901 г., – русский по рождению, православный по крещению граф Толстой, в пресыщении гордого ума своего, дерзко восстал на Господа и Христа Его и на святое Его достояние… В своих сочинениях и писаниях, во множестве рассеиваемых им и его учениками по всему свету, в особенности же в пределах дорогого отечества нашего, он проповедует, с ревностью фанатика, ниспровержение всех догматов православной церкви и самой сущности веры христианской… Он… не содрогнулся подвергнуть глумлению величайшее из таинств, святую Евхаристию… Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею».
Это решение, разумеется, явилось поводом для новых нападок на русскую власть и на русскую церковь со стороны всех ее обычных противников. Никаких репрессий со стороны светской власти за этим, однако, не последовало, а едва ли возможно отрицать за церковью право определять свое отношение к фактам явного поношения ее святынь. Положение графа Л. Н. Толстого в дореволюционной России вообще свидетельствует о таком умении самодержавной власти проявить широкую терпимость, которое едва ли присуще многим современным правительствам.
* * *
1900 г. – если не считать событий в Китае – прошел в общем спокойно, без какого-либо изменения общего положения в России. Закон о воинской повинности в Финляндии был проведен на основе манифеста 3 февраля. При открытии очередной сессии Финляндского сейма Н. И. Бобриковым были сказаны предостерегающие слова о том, что действия предыдущего сейма «внесли в умы населения тягостные и напрасные опасения; повторение их поселит сомнения относительно соответствия сеймового законодательства современным обстоятельствам».
В порядке общегосударственного законодательства был издан указ 7 июня 1900 г. о постепенном введении русского языка в делопроизводство Великого княжества Финляндского (полностью эта мера должна была войти в силу с 1 октября 1905 г.).
Что касается вопроса о воинской повинности, явившегося поводом конфликта с населением Финляндии, то законопроект, не принятый сеймом, был издан в порядке общегосударственного законодательства только летом 1901 г. В то же время, ввиду оппозиции в стране и в войсках, решено было постепенно расформировать финские войсковые части (сначала – стрелков, а потом и драгунский полк). «Мы признали за благо облегчить финскому народу переход к иному порядку отбывания воинской повинности», – говорилось в манифесте 29 июня. Первый призыв по новому закону был назначен на осень 1903 г. Фактически население Финляндии было освобождено от военной службы, если не считать нескольких сот человек, служивших в гвардейском финском батальоне. Государь надеялся, что с течением времени финляндцы примирятся с новым порядком вещей, и не желал на первых порах прибегать к резким репрессивным мерам.
Между Францией и Россией замечалось растущее охлаждение. Приход к власти левых, избрание президентом Лубе, кабинет Вальдека-Руссо и правый курс в России – все это относилось, конечно, к области внутренней политики, но не могло не влиять на тон отношений. Государь не приехал на Парижскую всемирную выставку 1900 г. и на открытие моста Александра III, при закладке которого он присутствовал. Это сильно огорчило французов. Причин было несколько: участившиеся в Западной Европе выступления анархистов (убийство короля Гумберта, австрийской императрицы Елизаветы, покушение на Вильгельма II), состояние здоровья государя, наконец, выпады некоторых органов парижской печати, показывавшие, что французские левые элементы весьма мало считаются с франко-русским союзом.
Между тем враждебные правительству настроения, всегда существовавшие в обществе, начинают проявляться более активно. «У нас на сотню либеральных изданий едва шесть консервативных, и на одного консерватора в земстве – двадцать либералов, – писал князь В. П. Мещерский. – Для блага России, для спасения ее будущности от страшных катастроф монархическая власть призвана, чтобы обеспечить государству в его ходе вперед главное – равновесие, – принимать на себя роль консервативного элемента, так как либеральный элемент, с его неразлучным контингентом равнодушных, слишком велик, а консервативный элемент в людях слишком мал…» Власть с 1899 г. приняла снова на себя роль консервативного начала; но это, с другой стороны, углубило рознь между нею и умеренными элементами общества.
Такой далекий от революционных кругов человек, как Б. Н. Чичерин, издал в 1900 г. за границей анонимный памфлет «Россия накануне двадцатого столетия». Самый этот факт был значительнее, чем содержание этой книги, придирчиво критиковавшей все главнейшие акты царствования императора Николая II: «легальная оппозиция» становилась на нелегальный путь! По этой книге видно, что написана она человеком по существу умеренным, решительным врагом социализма. «Многие доселе причисляют, – стояло в ней, – Чернышевского, Добролюбова и K° к деятелям эпохи преобразования. Их можно считать деятелями разве только наподобие мух, которые гадят картину великого художника. Но следы мух смываются легко, тогда как социалистическая пропаганда, ведущая свое начало от петербургской журналистики, отравляла и доселе отравляет значительную часть русского юношества».
Автор обращает внимание на своеобразный факт, характерный для цензуры того времени: «Более или менее значительной свободой пользовались социалисты. Либерализм казался правительству опасным; но социализм, пока он являлся в теоретической форме, представлялся безвредным. Вследствие этого учение Маркса в книгах и брошюрах получило широкое распространение среди учащейся молодежи».
Б. Н. Чичерин считал, что перед императором Николаем II не было таких крупных задач, как перед императором Александром II: «Величайшие преобразования были уже совершены. Нужно было прежде всего восстановить их в полной силе, сделать их истиной… Это не было бы неуважением к памяти отца, а просто сознанием того, что разные времена и царствования имеют разные задачи… Если бы молодой царь, даже не делая шага вперед, пошел по пути, указанному дедом, то благоразумные русские люди были бы довольны». Однако первое пятилетие царствования государя, к неудовольствию таких последовательных консерваторов, как К. П. Победоносцев или князь В. П. Мещерский, именно соответствовало этим условиям Чичерина, – но «благоразумные русские люди» либо оказались бессильными, либо гораздо более требовательными, чем известный ученый, писавший от их имени…
Все же государь, приостановив «достройку» реформ императора Александра II, не пошел и на их ломку; и наиболее существенной мерой, ограничивающей права земства, был закон 12 июня 1900 г. о предельности земского обложения. Считая, что налогоплательщики и так переобременены, власть ограничила повышение ставок Земского сбора с недвижимых имуществ тремя процентами в год (если налоги несколько лет не повышались, можно было затем повысить их сразу – после пяти лет на 15 процентов и т. д.). Если земство желало более значительного повышения налога, оно должно было получить разрешение правительства. Эта весьма скромная мера (вызванная главным образом тяжелым положением сельского хозяйства) произвела некоторое впечатление только на фоне толков о предстоящем полном упразднении земства.
Пропаганда врагов строя между тем усиливалась. «Революционная партия, – писал в 1899 г. одесский градоначальник граф Шувалов, – построила свои дальнейшие планы на привлечении к движению рабочих… С целью заручиться сочувствием масс она построила свою пропаганду на изучении и указании ему недочетов в средствах удовлетворения его духовных и материальных нужд…»
«В последние три-четыре года, – констатировал весной 1901 г. виленский генерал-губернатор князь П. Д. Святополк-Мирский, – из добродушного русского парня выработался своеобразный тип полуграмотного интеллигента, почитающего своим долгом отрицать семью и религию, пренебрегать законом, не повиноваться власти и глумиться над ней… Эта ничтожная горсть террористически руководит всей остальной инертной массой рабочих».
В высшей школе, после массовых исключений и зачисления исключенных на военную службу, три семестра прошли спокойно. Волнения возникли снова в конце 1900 г. – опять началось с Киевского университета. Повод был самый нелепый: два студента попались в уголовном деле (они вымогали деньги у танцовщиц). По этому поводу была собрана сходка (таковая по закону не допускалась), и ораторы доказывали, что для борьбы с «подобными явлениями» необходимо ввести автономию университетов. Вместе с протестом студентов против не угодившего им профессора Эйхельмана (который заменял уехавшего в отпуск князя Е. Н. Трубецкого) это привело к новым столкновениям с учебной администрацией.
Но революционная сила готовила на этот раз выступление в новой форме: его ареной должна была явиться улица. Полиция знала о готовящемся выступлении, но срок его оставался неопределенным.
14 февраля бывший студент П. Карпович, дважды исключавшийся из университета за участие в беспорядках, выстрелом из револьвера смертельно ранил министра народного просвещения Н. П. Боголепова. Это был первый террористический акт после многих лет. Он знаменовал переход к новой тактике революционных кругов. Жертвою ее стал министр, никакой личной неприязни никому не внушавший: выстрел был направлен против императорского правительства как такового.
Н. П. Боголепов еще боролся со смертью, когда – 19 февраля, в день сорокалетия освобождения крестьян, – произошла первая уличная демонстрация на площади перед Казанским собором. Но полиция приняла своевременные меры; большого скопления народа не оказалось; толпу человек в двести – триста, двинувшуюся по Невскому с пением революционных песен, оттеснили во двор городской думы и там переписали: в ней на 244 человека оказалось 148 женщин, в большинстве курсисток.
В тот же день в Харькове происходили уличные демонстрации, повторившиеся вечером. Полиция разогнала толпу. «Было подано восемь заявлений о нанесенных ударах, медицинское освидетельствование подтвердило только одно из них», – говорилось по этому поводу в правительственном сообщении.
Более серьезные волнения возникли в Москве, где они продолжались пять дней (22–26 февраля). Уличная толпа пыталась освободить задержанных студентов; на Большой Никитской и Страстном бульваре разбивали фонари. Но наиболее серьезный характер имела демонстрация 4 марта перед Казанским собором в Санкт-Петербурге. Собралась толпа в несколько тысяч человек. Полиция на этот раз не предотвратила этого скопления (за что ее потом обвиняли в «провокации»). Толпа встречала конную полицию враждебными возгласами, бросала в нее всевозможные предметы; один офицер был ранен молотком в голову. Когда толпу начали разгонять, часть ее хлынула в собор. Участников демонстрации оцепили и группами уводили в участки. В течение нескольких часов движение по Невскому между Садовой и Мойкой было остановлено. Из демонстрантов было задержано 760 человек, в том числе около половины женщин. В свалке между толпой и силами порядка было ранено, согласно правительственному сообщению, два офицера, 20 полицейских, четыре казака и 32 демонстранта. Убитых не было.
Разгон толпы конными отрядами – всегда удручающая картина; для России это было явлением новым; на Невском и на площади Казанского собора было много любопытных, много случайных прохожих; это создавало благоприятную почву для агитации революционных элементов, изображавших участников демонстрации как невинных «жертв полицейского произвола». Эта агитация впервые по этому поводу проявилась во всей полноте. Союз писателей опубликовал пламенный протест, призывая на помощь русское и иностранное общественное мнение. Среди подписавшихся, правда, было всего два писателя, создавшие себе имя в литературе (М. Горький и Е. Чириков); остальные были либо профессора, либо более или менее известные сотрудники радикальных журналов. Но за границей это воззвание наделало немало шуму; французская левая печать занялась этим делом, и в Aurore, газете Клемансо, начали печататься заявления виднейших писателей Западной Европы, присоединяющихся к «воззванию русских писателей» и протестующих против «смертоубийственного безумия» русского «царизма». (Примечательно, что все это писалось по поводу столкновения, в котором убитых вообще не было, а полиция имела почти столько же раненых, как демонстранты!)
Государь, однако, не ответил на эти выступления новым усилением репрессий. Конечно, министр внутренних дел издал циркуляр, запрещающий скопление на улицах и указывающий полиции, что необходимо предотвращать, а не только прекращать беспорядки. Союз писателей, выступивший с упомянутым воззванием, был закрыт; некоторые организаторы выступления были арестованы.
В то же время министром народного просвещения на место Н. П. Боголепова (скончавшегося 2 марта) был назначен генерал П. С. Ванновский, самое имя которого после работ его комиссии в 1899 г. стало символом примирительного отношения к требованиям студентов. «Опыт последних лет указал, – говорилось в высочайшем рескрипте 25 марта, – на столь существенные недостатки нашего учебного строя, что Я признал благовременным безотлагательно приступить к коренному его пересмотру и исправлению… Твердо уверен, что Вы строго и неуклонно будете идти к намеченной Мною цели и в дело воспитания русского юношества внесете умудренный опытом разум и сердечное о том попечение».
И хотя правые газеты приветствовали его как «человека военной дисциплины», удовлетворение либеральных органов было более обоснованным. Генерал П. Ванновский (ему было 78 лет) продолжал питать симпатии к учащейся молодежи и верил, что с нею можно «поладить добром». Одним из первых актов генерала Ванновского было разрешение сходки в Санкт-Петербургском университете. Эта легальная сходка состоялась 9 апреля и прошла совершенно мирно.
В то время как Министерство внутренних дел выдерживало «твердый курс» в борьбе с беспорядками и строго применяло цензуру печати («Было раньше равенство в молчании, а теперь писать по университетскому вопросу могут только правые», – жаловался либеральный «Вестник Европы»), Министерство народного просвещения делало новую политику умиротворения. Были смягчены кары для студентов, участвовавших в волнениях последних лет. Советам профессоров было предложено обсудить меры для оздоровления университетской жизни, и некоторые из них принялись за устройство обстоятельных анкет по этому вопросу. Наконец, ввиду значения связи между средней и высшей школой, был поставлен вопрос о реформе средней школы (намеченной еще покойным Н. П. Боголеповым), о некотором сокращении гимназического курса (главным образом за счет древних языков). Это была попытка излечить высшую школу, выделяя чисто политические причины беспорядков и по мере возможности устраняя все остальные причины.
Трудность была в том, что именно политические причины были основой студенческих волнений; та «темная, чуждая науке политическая сила», о которой говорил А. Н. Куропаткин, та «тайная организация студенчества», существование которой признала комиссия профессоров Московского университета, преследовала чисто политическую цель борьбы с существующим строем. Однако, писал князь Е. Н. Трубецкой, ничем нельзя прекратить пропаганду известного сорта, но можно сделать студенчество менее к ней восприимчивым. Назначив генерала Ванновского, государь предпринял еще раз попытку в этом направлении. Он не переоценивал могущества революционных сил и желал бороться с ними не только одними репрессиями.
Та же политика – отделения политических требований, посильного удовлетворения остальных – была применена и в отношении рабочих. Эту попытку враги правительства затем окрестили «зубатовщиной» по имени начальника московской тайной полиции Зубатова, игравшего видную роль в организации легальных «аполитичных» профессиональных союзов среди рабочих – «русских тред-юнионов».[41]
Глава 7
Кризис сельского хозяйства; его причины. – Упадок дворянского землевладения. – Комиссия В. И. Ковалевского об оскудении центральных губерний. – Вторая комиссия (В. Н. Коковцова). – Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности. – Местные комитеты. – Убийство Д. С. Сипягина. – Крестьянские волнения в Полтавской и Харьковской губерниях. – Слово государя к дворянам и крестьянам в Курске. – Выводы местных комитетов: против общины, против неотчуждаемости крестьянских земель. – Манифест 26 февраля 1903 г. – Отмена круговой поруки. – Письмо графа Л. Н. Толстого к государю. – Конец работы «коковцовской» комиссии о центре
Экономическое положение России на рубеже XX в. могло бы считаться в общем удовлетворительным, если бы к тому времени не начал проявляться все отчетливее глубокий внутренний недуг, подтачивавший сельское хозяйство, которым жило свыше четырех пятых населения страны. Промышленность, хотя и переживала кризис после периода бурного роста, продолжала развиваться; доходы государства увеличивались; железнодорожная сеть разрасталась, Сибирская дорога строилась с исключительной быстротой. Но все громче раздавались голоса, указывавшие на угрожающее положение русской деревни.
Россия считалась житницей Европы. Широкая полоса ее земли – черноземная область – отличалась исключительным плодородием. Русское хозяйство в целом сделало за последнее десятилетие огромные шаги вперед. И тем не менее в центральных областях России, в самой сердцевине государства, каждый неурожай грозил вызвать голод, требующий широкой помощи от государства. В Западной Европе таких явлений не было уже давно; а если в Индии, в Китае бывало много хуже, – это не могло никак служить «утешением»: ведь во всех других отношениях Россия стояла неизмеримо выше «азиатских» условий.
За границей зачастую были склонны приписывать эти угрожающие явления русским земельным порядкам, причем упорно держалась легенда о том, будто в России вся земля принадлежит помещикам, которые, мол, отбирают у крестьян чуть ли не весь урожай! На самом деле картина была совершенно иная – едва ли не прямо противоположная.
В 50 губерниях Европейской России – где проживало свыше 3/4 населения империи – было огромное преобладание крестьянского землевладения и землепользования. На бумаге крестьяне имели около 40 процентов всей площади; в действительности их доля была еще несравненно больше, так как казне принадлежали главным образом леса и неудобные земли, и, если их отбросить, у казны оставалось всего несколько миллионов десятин удобной земли. Удельные земли составляли заметную величину только в одной губернии (Симбирской). Уже при отмене крепостного права к крестьянам отошло более половины всех удобных земель; за сорок лет неуклонно продолжался переход земель от дворян к крестьянам и лицам других сословий. В начале XX в. крестьянам принадлежало свыше 160 миллионов десятин земли – более чем на три четверти удобной; дворяне имели 52 миллиона (около половины – леса и неудобные земли); а все другие владельцы (купцы, иностранцы, города, акционерные кампании и т. д.) – около 30 миллионов (преимущественно удобных земель).
В 22 губерниях – почти во всей черноземной полосе – более половины всей земельной площади принадлежало крестьянам, местами до 80 процентов. К этому надо еще прибавить, что казенные и удельные удобные земли и значительная доля частновладельческих находились в аренде у крестьян. Подобного преобладания мелкого крестьянского хозяйства над крупным не было ни в Англии, ни в Германии, ни даже в послереволюционной Франции. Россия была страной мелкого крестьянского хозяйства. Большие имения были островками в крестьянском море. Только в царстве Польском, в Прибалтийском крае (и в Минской губернии) дворянское землевладение преобладало над крестьянским.
Государственная власть оберегала крестьянское землевладение путем целого ряда законодательных мер. Земли, попадавшие в руки крестьянских обществ, становились их неотчуждаемой собственностью: крестьянские владения могли только расти, и действительно росли из года в год. Существовал даже особый государственный орган, Крестьянский банк, целью которого была скупка земель у частных владельцев для перепродажи их крестьянам на льготных условиях платежа.
Между тем крестьянское землевладение было в хозяйственном отношении наименее производительным. Даже средний уровень урожайности на частновладельческих землях был примерно на 1/3 выше, чем на крестьянских; в отдельных, более культурных имениях урожайность была еще много выше. Во время диспута о «влиянии урожаев и хлебных ценах» указывалось, что огромное большинство крестьянских хозяйств (говорили о 91 проценте, но эта цифра была преувеличена) не имеет хлеба для продажи; следовательно, прокормление городов, фабрик и даже крестьянства тех губерний, где своего хлеба не хватает, зависело преимущественно от частновладельческих земель; эти же земли давали тот избыток, который вывозился за границу и являлся главной статьей русского торгового баланса; из того же избытка в голодные годы кормилось крестьянство пострадавших от неурожая местностей.
Заслуживает внимания, что в общем наиболее страдали от неурожаев как раз те губернии, где был наибольший процент крестьянского землевладения: Казанская, Самарская, Уфимская, Воронежская, Пензенская, Тамбовская, Рязанская и т. д. Все это были плодороднейшие, обильные земли; и тем не менее все яснее становилось, что сельское хозяйство в этих местностях переживает тягчайший кризис.
Сами крестьяне обычно усматривали причину этого кризиса в малоземелье или в переобременении налогами. Но и соляной налог, и подушная подать были отменены еще в 1880-х гг.; земельный налог составлял ничтожную величину, и, собственно, единственным серьезным прямым налогом, лежавшим на крестьянстве, были выкупные платежи за землю, полученную при освобождении.[42]
Основная причина сельскохозяйственного кризиса была в условиях крестьянского хозяйства и прежде всего в условиях землепользования. Огромное большинство крестьянских земель принадлежало общинам. Крестьяне владели землею не единолично, а коллективно – земля считалась принадлежащей «миру», который не только мог перераспределять ее между своими членами, но и устанавливать правила и порядок обработки земель.
Община господствовала во всей Центральной, Северной, Восточной и Южной России и на Северном Кавказе, тогда как лишь в Западном крае (главным образом в губерниях, принадлежавших Польше до конца XVIII в.) преобладала крестьянская частная собственность на землю в виде подворного владения. (К востоку от Днепра подворное владение господствовало только в Полтавской губернии и в частях Черниговской и Курской губерний.)
Знаменательным был тот факт, что ни одна из западных губерний с подворным владением не знала того голода вследствие неурожаев, который становился периодическим бедствием Центральной и Восточной России, – хотя крестьянские наделы в западных губерниях были много меньше, а процент крестьянского владения много ниже, чем в остальных частях России.
Власть «мира» в общине заменила собою при освобождении крестьян власть помещика. Община имела много сторонников; ее отстаивали при этом не столько по экономическим, сколько по социальным соображениям; ее считали особым русским способом разрешения социальных вопросов. Указывали, что благодаря общине, связь с которой даже при уходе в город не то что легко было сохранить, но и при желании было трудно порвать, в русской деревне почти не было безземельного пролетариата. Каждый крестьянин был совладельцем надельной земли. Когда семья увеличивалась, она могла рассчитывать на прирезку за счет других, менее многочисленных семей. Крестьянин, ушедший на фабрику, мог оттуда вернуться домой и снова приняться обрабатывать землю. Община имела несомненные преимущества и для казны: она коллективно отвечала за уплату налогов благодаря круговой поруке; поэтому-то она неохотно отпускала своих членов «на волю»: каждый уход увеличивал налоговое бремя для оставшихся.
Поклонники социалистических форм хозяйства долго считали общину «своей», рассматривая ее как выработанное жизнью практическое приложение социалистических принципов к русской деревне. Правда, их не могло не смущать, что при этом хозяйство велось все же на единоличных началах; артельная обработка земли была исключением. Все же социалисты-народники и вслед за ними либеральная интеллигенция горой стояли за общину; за нее же высказывались и славянофилы, и представители того «демофильского» направления русских правящих сфер, наиболее ярким представителем которого был К. П. Победоносцев. Из левых течений против общины высказывались только марксисты, считавшие, что она тормозит развитие капитализма – необходимой предпосылки социалистического строя.
Но недостатки общины становились все очевиднее с течением времени: община, спасавшая слабых, тормозила деятельность крепких, хозяйственных крестьян; она способствовала уравнению, но препятствовала повышению общего благосостояния деревни. Численность населения росла несравненно быстрее, чем доходность надельных земель, и этот процесс уже сам по себе, помимо каких-либо других причин, приводил к понижению экономического уровня. 90-е гг. в этом отношении были переломными: сельское хозяйство стало явно отставать от общего хозяйственного роста страны; застой местами превращался в упадок.
Еще в середине 90-х гг. это многими оспаривалось; и народники даже могли утверждать, что крестьянство, пребывающее на уровне натурального хозяйства, тем самым избавляется от бедствий сельскохозяйственного кризиса. Этот кризис – выразившийся главным образом в резком падении хлебных цен – действительно сперва наиболее резко отразился на частновладельческих имениях.
Конкуренция заморского хлеба на европейских рынках нанесла тяжелый удар и без того пошатнувшемуся дворянскому землевладению. Только самые крупные владения могли выдержать это новое испытание. Задолженность землевладельцев Дворянскому банку перевалила далеко за миллиард рублей. Характерным проявлением упадка духа, который в то время обозначился среди поместного дворянства, было выступление Екатеринославского губернского предводителя дворянства А. П. Струкова (еще в 1896 г.) с предложением о временном секвестре задолженных дворянских имений.
Указывая, что в одной Екатеринославской губернии дворянские владения за 35 лет сократились с 2,9 миллиона десятин до 1,4 миллиона, А. П. Струков писал, что доходы от имений сплошь и рядом не покрывают процентов по долгам, и предлагал, чтобы Дворянский банк взял такие имения в управление, разрешив владельцам остаться жить в усадьбах и выдавая им пособие на воспитание детей. Такой проект, конечно, был порожден крайним отчаянием, и против него резонно возражали, что едва ли чиновник управляющий, назначенный Дворянским банком, извлечет из имения больший доход, нежели его исконный владелец…
Весною 1897 г. было учреждено, указом на имя председателя Комитета министров И. Н. Дурново, особое совещание о нуждах поместного дворянства. Оно существовало почти пять лет, но почти никаких реальных мер содействия дворянству не придумало. На основании его работ был издан в 1899 г. закон о временно-заповедных имениях: дворяне получали право на два поколения объявлять свое имение неделимым и неотчуждаемым и завещать его любому из своих сыновей. Летом 1901 г. был издан закон, разрешающий частным лицам покупать (а дворянам – и арендовать) на льготных условиях казенные земли в Сибири. Но этим и ограничились меры в пользу поместного дворянства. Государственная власть, руководясь исключительно соображениями о пользе целого, не сочла возможным оказать дворянству сколько-нибудь широкую поддержку из общих средств.
Интеллигенция смотрела на тяжелое положение дворянского землевладения с нескрываемым злорадством. Противополагая друг другу интересы крестьян и помещиков, интеллигенция искренно воображала, что ухудшение положения дворян в какой-то мере должно было принести улучшение крестьянам. И когда падение хлебных цен больно ударило по сельскому хозяйству, значительная часть общества легко успокаивалась на мысли о том, что страдают только помещики и «кулаки», а крестьянская масса чуть ли не в выигрыше от низкого уровня цен! Между тем упадок крупного землевладения еще более понижал общий хозяйственный уровень деревни; он лишал землевладельцев возможности подавать пример более совершенных форм хозяйства; лишал крестьянство побочных заработков; наконец, понемногу иссушал те «резервуары хлеба», из которых в неурожайные годы могли на месте, без подвоза издалека, получать пропитание крестьяне, пострадавшие от неурожая. Оскудение дворянского землевладения, наряду с влиянием общинного землепользования, только способствовало нарастанию сельскохозяйственного кризиса в деревне.
Когда вслед за грозным предостережением 1891 г. неурожай, со всеми его пагубными последствиями, постиг снова (хотя и в меньшей степени) те же пострадавшие местности в 1897 и 1898 гг., оптимистические голоса умолкли, и понемногу стало общепризнанным, что во всем русском сельском хозяйстве нечто серьезно неблагополучно.
Тот государственный деятель, который в первые годы царствования императора Николая II играл роль министра народного хозяйства, – С. Ю. Витте – при всем его разностороннем уме имел весьма слабое ощущение потребностей сельского хозяйства и питал определенное нерасположение к поместному дворянству. С. Ю. Витте проводил с большой энергией план «индустриализации» русского народного хозяйства; его симпатии принадлежали скорее городу и фабрике, нежели деревне. И если ему случалось провозглашать: «По моему глубокому убеждению, нет на Руси более важного экономического вопроса, более охватывающего все стороны нашей хозяйственной жизни, как именно вопрос о коренном улучшении хозяйственного быта нашего сельского населения в строгом смысле этого слова»[43] – это было для министра финансов только доводом в пользу протекционизма и развития промышленности как рынка для русского сельского хозяйства. Эту политику – сперва промышленность, потом сельское хозяйство – критиковал И. В. Гурко, писавший в «Новом времени»,[44] что везде промышленность вырастала на почве спроса: «Неужели же мы в состоянии опрокинуть этот порядок: сначала создать промышленность, а лишь затем обеспечить сбыт ее произведений путем повышения благосостояния народных масс?»
Сам государь, хотя и принимал близко к сердцу интересы деревни (как он это высказал, между прочим, при коронации, обращаясь к депутациям дворян и крестьян), за первые годы своего правления почти не вмешивался в сложные и спорные вопросы экономики.
Голоса, свидетельствовавшие об упадке деревни, раздавались громче всего из дворянской среды. Известный деятель саратовского дворянства Н. А. Павлов, князь В. Кудашев (в «Новом времени»), Н. А. Энгельгардт и другие выступали уже в 90-х гг. с указанием на оскудение центральных губерний России, на падение количества скота и т. д. «Нет, – говорил еще в 1897 г. граф А. А. Бобринский, петербургский предводитель дворянства, – мы не «известная группа землевладельцев»! Мы – представители интересов землевладения всей России, представители нужд и наших, и крестьянских, и общегосударственных!» И хотя пропитанная «классовыми» предрассудками интеллигенция этого не сознавала – поместное дворянство действительно отстаивало не столько групповые интересы, сколько интересы деревни в целом.
Интересно отметить, что по совершенно другим соображениям на кризис сельского хозяйства обращали внимание марксисты, считавшие «пролетаризацию» крестьян необходимой предпосылкой развития капитализма в России: «марксистский» журнал «Начало» отмечал (еще весною 1899 г.) «парадоксальное на первый взгляд явление»: крестьянская масса страдает больше всего в тех губерниях, где у нее больше всего земли (притом – наилучшего качества) и где господствует община…
Сознать, что налицо серьезный кризис, – еще не значило найти из него исход. Так, русская народническая интеллигенция была склонна считать, что главное – это предоставить крестьянам политические права, распространить в деревне знания, отдать крестьянам казенные, монастырские[45] и помещичьи земли, – и кризис будет устранен.
Но даже либеральные экономисты сознавали, что уничтожение среднего и крупного землевладения в России может оказаться весьма пагубным хотя бы уже потому, что урожайность владельческих земель была много выше крестьянской, вследствие чего эти земли давали тот избыток хлеба для вывоза за границу, который играл столь видную роль в русском финансовом хозяйстве. Известный земский конституционалист Ф. И. Родичев еще во время спора о «влиянии урожаев и хлебных цен» говорил: «Прибавка земли крестьянам не поможет… Всякие разговоры об увеличении наделов – не более как абстрактная фантазия… Тут не в малоземелье беда, земли не мало, но она скверно обрабатывается».
Весною 1899 г. по почину товарища министра финансов В. И. Ковалевского была учреждена небольшая комиссия из сведущих лиц по вопросу об оскудении центрально-черноземных губерний. Этот факт обратил на себя внимание печати: правительство открыто признавало факт неблагополучия. Народники по этому поводу писали, что оскудение, конечно, есть, но не только в центральных губерниях, а во всей стране, из-за общих политических условий. В более правых кругах высказывали мнение, что такое положение объясняется слишком большими расходами в интересах окраин и чрезмерным обложением великорусских губерний. Против общины в тот момент высказывались почти только «марксисты». «Это – массовое крушение мелкого землевладельческого самостоятельного хозяйства, – в 1899 г. писало «Начало». – Это, во-первых, вопрос не только центра, а во-вторых – это не оскудение всего центра, а только известной части хозяйства… Снова теперь в нашей житнице производитель хлеба сам остался без хлеба. И это в той общине, над которой мы долго задумчиво останавливались, как над ребенком в колыбели, гадая об ее будущем. Теперь уже почти никто не спорит, что современная община быстро разрушается».
В то время такое мнение было одиноким. За правление императора Александра III был взят решительно курс в пользу общины; еще в последний год его царствования 14 декабря 1893 г. был издан ряд законов, укреплявших ее: раньше крестьянин, погасивший свой долг за землю, мог свободно выйти из общины; по новому закону для этого нужно было согласие двух третей ее членов. Община считалась одним из устоев государства. Ее отстаивала власть; ее защищало и большинство противников власти; на этом сходились противоположности…
Даже князь В. П. Мещерский только косвенно, как бы приводя чужое мнение, подходил к этому вопросу, когда он цитировал «голые и резкие мысли» о желательности разделения сельского населения на землевладельцев и батраков, «как во всем мире». Но для этого не было достаточно одной отмены общины; нужно было бы еще отменить также и законы, запрещающие продажу крестьянской земли «на сторону», не только крестьянам.
Особое совещание 1899–1901 гг. собрало интересный материал о положении центральных губерний, подтверждавший мнение относительно упадка сельского хозяйства в этом районе. Но оно, в сущности, не наметило никаких путей для выхода из положения. Оно признало, что одной из причин кризиса является дальнейшее дробление земли в пределах общины, но сочло, что это неизбежное зло: «Относительное уменьшение количества земли, находящейся во владении крестьян, как естественное последствие роста населения, не требует доказательств, оно вытекает из самой природы вещей», – фаталистически заявлялось в сводке работ особого совещания.[46]
В 1901 г. – после двух благополучных годов – снова повторился неурожай, и опять в тех же центральных и восточных районах (в 42 губерниях урожай ниже среднего). Этот неурожай сделался, между прочим, предметом полемики между либеральными органами и правой печатью, так как это был первый случай применения новой организации продовольственного дела, которое, по закону 1900 г., было передано из рук земства в руки администрации. Но государственная власть сделала из этого нового бедствия вывод о необходимости принятия срочных мер для улучшения положения деревни.
«Теперь все чаще можно встретиться с мнением, – писало «Новое время» на 1902 Новый год, – что это явление – не простая случайность, а последствие во всех отношениях неудовлетворительной обстановки у нас земледелия». Но общество, поскольку оно представляло собою нечто организованное, в этом отношении не могло помочь власти. Оно рассматривало сельскохозяйственный кризис только как одно из проявлений общей несостоятельности «самодержавия»; либеральная и социалистическая печать регистрировала признаки этого кризиса, ставя их на одну доску с задержкой роста промышленности. Сами крестьяне, которые не могли учесть общих условий народного хозяйства, либо мечтали о «прирезке» земли, либо искали исход в переселении (за период 1894–1901 гг. в Сибирь переселилось свыше 1 200 000 крестьян).
Но власть знала, насколько ограниченным является земельный фонд; знала, какое большое экономическое значение для всего народного хозяйства имеют частновладельческие земли с их более высокой урожайностью. Что касается переселения, то емкость Сибири была не столь велика, как можно было думать по карте; Средняя Азия требовала огромных оросительных работ, а Маньчжурия еще не была закреплена за Россией.
12 ноября 1901 г. было объявлено об учреждении новой, более обширной комиссии «для всестороннего обсуждения вопроса об экономическом упадке центра в связи с условиями хозяйственной жизни других частей империи». В программу этой комиссии входило исследование условий землевладения и землепользования, условий податного порядка, отхожих промыслов, доходности частного и крестьянского хозяйства и т. д. Председателем этой комиссии был назначен товарищ министра финансов В. Н. Коковцов; к участию в ней были приглашены, наряду с представителями ведомств, специалисты-теоретики и земские деятели из числа сельских хозяев.
Но эта комиссия, целью которой было только всестороннее обследование части сельскохозяйственной проблемы, не могла дать быстрого ответа на поставленные вопросы; она занялась собиранием обширного статистического материала и только через два года – в октябре 1903 г. – собралась на пленарную сессию для подведения итогов своих работ.
В январе 1902 г. государь принял важное принципиальное решение, чтобы сдвинуть с мертвой точки аграрный вопрос. 23 января было утверждено положение об особом совещании о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Это учреждение имело целью не только выяснить нужды сельского хозяйства, но и подготовить «меры, направленные на пользу этой отрасли народного труда».
Под председательством министра финансов С. Ю. Витте – хотя он и был всегда далек от нужд деревни, – при ближайшем участии Д. С. Сипягина и министра земледелия А. С. Ермолова, это совещание состояло из двадцати сановников, причем наряду с членами Госсовета был привлечен и председатель Московского общества сельского хозяйства, князь А. Г. Щербатов.
В первом же заседании, 2 февраля, были определены рамки работ. С. Ю. Витте указал, что совещанию придется коснуться и вопросов общегосударственного характера, за разрешением которых затем надо обратиться к государю. Д. С. Сипягин отметил, что «многие из вопросов, существенных для сельскохозяйственной промышленности, не должны, однако, разрешаться исключительно с точки зрения интересов сельского хозяйства»; возможны иные, общегосударственные соображения.
Затем совещание решило обратиться к заинтересованным кругам населения с запросом о том, как они сами понимают свои нужды. Такое обращение было смелым шагом; в отношении интеллигенции оно едва ли могло бы дать практические результаты; воззрения интеллигенции были достаточно известны и сводились к требованию политических преобразований всего государственного строя в духе самых радикальных современных теорий. Но в данном случае вопрос задавался не городу, а деревне – тем слоям населения, дворянам и крестьянам, в лояльности которых государь был убежден.
Не находя ответа на вопрос о нуждах деревни ни в традиционной политике, унаследованной от отца, – политике всемерной защиты крестьянского землевладения и общины, – ни в теориях, господствовавших в русском обществе, государь обратился к людям практики, к «земле», чтобы услышать их мнение по самому сложному вопросу русской жизни.
Но как было определить этих представителей «земли»? Земские собрания, пополнявшиеся путем выборов, в ту пору – зачастую основательно – подозревались в принципиальной оппозиционности. Между властью и земством были натянутые отношения. Какие-нибудь два года перед тем С. Ю. Витте доказывал несовместимость земства с самодержавием, и Д. С. Сипягин также не питал симпатий к выборным учреждениям. Выход был найден в широкой децентрализации опроса.
Во всех губерниях Европейской России были учреждены губернские комитеты по выяснению нужд сельскохозяйственной промышленности. Затем были также организованы комитеты на Кавказе и в Сибири. Председательствовал губернатор; входили в них по должности представители дворянства со всей губернии, председатели и члены земских управ, несколько высших чинов губернской администрации, а также все лица, участие коих председатель комитета сочтет полезным. Такие же комитеты создавались и во всех уездах; только председателем уездного комитета являлся уездный предводитель дворянства. В неземских губерниях комитеты пополнялись лицами из среды местных сельских хозяев. По всей России было образовано около 600 комитетов.
Широкие полномочия, предоставленные председателям, были использованы неодинаково в разных случаях. В общем, уездные комитеты получили более самостоятельный, «общественный» характер, тогда как губернские были более «казенными». В ряде случаев в состав уездных комитетов бывали приглашены все члены местного земского собрания; получились многочисленные и разносторонние коллегии. Так как комитетам были заданы практические вопросы, разрешение которых заботило правительство, им был сначала дан большой простор для суждений. Среда, из которой пополнялись комитеты, была в общем мало затронута политической пропагандой, и комитеты, за весьма немногими исключениями, не воспользовались своими правами для выставления политических требований. Предложение Д. С. Сипягина о составе комитетов оказалось удачным: они оказались авторитетными в своей области и деловыми учреждениями.
Д. С. Сипягин, однако, не дожил до окончания работ совещания: в самый разгар работ, 2 апреля 1902 г., он был сражен пулею социалиста-революционера Балмашова, который явился к нему в Мариинский дворец, где шло заседание Государственного совета, в адъютантской форме, заявив, что привез пакет от великого князя Сергея Александровича, и выстрелом из револьвера смертельно ранил министра. Д. С. Сипягин скончался через час, в полном сознании. «Я верой и правдой служил государю императору и никому не желал зла», – сказал он перед смертью. В лице Д. С. Сипягина государь потерял убежденного и преданного сотрудника, труднозаменимого человека. Как и Н. П. Боголепов, так и Д. С. Сипягин погиб в качестве представителя государственного строя, ненавистного революционным кругам; человек мягкий и глубоко честный, он ни в ком не мог вызывать личной неприязни.
Убийство Д. С. Сипягина сыграло роковую роль в русской жизни. Оно создало пропасть между государем и оппозиционным обществом. Государь был глубоко потрясен и возмущен этим убийством. Он назначил министром внутренних дел через два дня после убийства статс-секретаря по делам Финляндии В. К. Плеве, который был известен как сторонник крутых репрессивных мер. Убийцу Д. С. Сипягина, Балмашова, было решено судить военным судом – это означало смертную казнь, так как гражданский суд не мог выносить смертных приговоров, и убийца Н. П. Боголепова был приговорен к 20 годам каторжных работ (он вскоре бежал с каторги). Балмашов держал себя мужественно и корректно на суде; он сказал своей сестре, что все слухи о том, будто его истязали, – ложны; он не имеет оснований жаловаться на обращение. Когда смертный приговор был вынесен, Балмашов отказался подать просьбу о помиловании. Его казнь в мае 1902 г. была первой казнью по политическому делу за царствование императора Николая II.
Рознь углублялась: для государя мучеником долга был Д. С. Сипягин, для интеллигенции героем стал Балмашов.
С этим убийством почти совпали по времени крестьянские беспорядки, внезапно возникшие в Полтавской и части Харьковской губернии. С середины марта в Полтавском и Константиноградском уездах Полтавской губернии крестьяне стали являться в помещичьи усадьбы с просьбами о даровой выдаче хлеба и корма для скота. Чрезвычайно участились кражи средь бела дня. Грабители говорили: «Все равно скоро наше будет». 28 марта толпа крестьян явилась с подводами в имение Карловка (герцога Мекленбург-Стрелицкого) и забрала со складов весь картофель. В течение ближайших трех дней всюду повторялась та же картина: толпа крестьян с обозом в 300–400 телег обходила имения и забирала себе продукты. «Берите, вы должны сделать, как в книгах написано», – кричала толпа. Полтавский губернатор с тремя батальонами пехоты отправился в район беспорядков и 1 апреля столкнулся с толпой, грабившей мельницу в 10 верстах от Полтавы. Сначала толпа, вооруженная кольями и вилами, пыталась сопротивляться, но после первого же залпа разбежалась. Было 3 убитых и 4 раненых. В отдаленных частях губернии беспорядки длились еще дня два.
В Харьковской губернии (Валковский и Богодуховский уезды) беспорядки приняли более ожесточенный характер: не только увозили хлеб, но и уносили инвентарь, угоняли скот, поджигали усадьбы; при ограблении больницы из-под больных вырывали тюфяки; одну усадьбу всю растаскали по бревнам. Волнения и здесь продолжались всего несколько дней. В Полтавской губернии было ограблено 64 имения, в Харьковской – 27.
В деревнях была найдена противоправительственная литература на малороссийском языке с призывами к восстанию и к завладению имуществом помещиков. Вожаков движения арестовали; менее видных участников подвергли телесному наказанию и отпустили на свободу.
Пострадавшим владельцам было выдано пособие от казны, и на деревни, участвовавшие в грабежах, был наложен дополнительный налог. Беспорядки, вспыхнувшие в четырех уездах с малороссийским населением, были вызваны умелой пропагандой, нашедшей благодарную почву в особых местных условиях. В этом районе было много крестьян, получивших «дарственные» наделы при освобождении, – они не платили выкупных платежей, но зато имели очень малые участки земли. Налицо было действительно малоземелье; благодаря подворному владению местное крестьянство было более зажиточным, чем в Центральной и Восточной России, но вражда к помещикам, «панам», была, пожалуй, заметнее, чем в великорусских областях.
Когда государь 29 августа того же 1902 г. посетил Курск, ему представлялись депутации от крестьян окрестных губерний. Обращаясь к ним, государь сказал: «Весною в некоторых местностях Полтавской и Харьковской губерний крестьяне разграбили экономии. Виновные понесут заслуженное наказание, и начальство сумеет, Я уверен, не допустить на будущее подобных беспорядков… Помните, что богатеют не захватами чужого добра, а от честного труда, бережливости и жизни по заповедям Божиим. Действительные нужды ваши Я не оставлю своим попечением».
В речи к дворянам на том же Курском вокзале государь коснулся предстоящих реформ. «Я знаю, – сказал он, – что сельская жизнь требует особого попечения. Дворянское землевладение переживает тяжелое время; есть неустройства и в крестьянском; для устранения последних по моему повелению в Министерстве внутренних дел соображаются нужные меры. К участию в этих мерах будут привлечены в свое время губернские комитеты с участием дворянства и земства. Что касается поместного землевладения, составляющего исконный оплот порядка и нравственной силы России, то его укрепление будет моей непрестанной заботой».
Летом 1902 г. приступили к работам местные комитеты о нуждах сельскохозяйственной промышленности – сначала губернские, потом уездные. Работа была поставлена в широкие рамки. Рассылая уездным комитетам перечень вопросов, по которым желательно было иметь ответы, особое совещание отмечало, что оно «не имело в виду стеснить суждения местных комитетов, так как этим последним будет поставлен общий вопрос о нуждах нашей сельскохозяйственной промышленности, дающий им полный простор в изложении своих взглядов».
В одном отношении правительство выдерживало принципиальную позицию: оно отметало выборное начало при составлении комитетов; председатели могли приглашать в них хотя бы всех земских гласных, но выборов от земских собраний в эти комитеты не допускалось.
Комитеты были составлены по-разному: в одних, как, например, в Орловском губернском комитете, кроме тех, кто участвовал в нем по закону, были приглашены только два маклера хлебных бирж; в Лохвицком уезде (Полтавской губ.) были, наоборот, приглашены не только все гласные, но свыше 60 «сведущих лиц»; в Арзамасе в комитет пригласили 25 крестьян из всех волостей. В большинстве случаев участие было активным; комитеты при этом заседали публично (случаи закрытия дверей были редкими исключениями); в шестистах центрах одновременно обсуждались нужды русского сельского хозяйства.
Ставились самые различные вопросы: о народном образовании, о реорганизации суда; «о мелкой земской единице» (волостном земстве); в нескольких (впрочем, весьма редких) случаях говорилось и о желательности политических преобразований; о создании той или иной формы народного представительства. С обширной запиской, критиковавшей политику власти, выступил сын известного славянофила, крестник Гоголя Н. А. Хомяков. «Нужды земледелия в России – в полном пренебрежении, – писал он, – с ним вразрез и железнодорожные тарифы, и казенная монополия, и покровительственные тарифы для промышленности».
Работы уездных комитетов закончились в начале 1903 г.; вслед за тем губернские комитеты подводили итоги. При этом в некоторых, например в Харьковском, Тверском и Тамбовском, председатель снял с обсуждения ряд вопросов, поступивших из уездных комитетов (в этих губерниях наиболее проявлялись земские либеральные течения). В других, особенно в неземских губерниях, где не было такого антагонизма между губернатором и выборными учреждениями, губернские комитеты еще дополнили и расширили работу уездных.
В общем, однако, окончание работ комитетов протекло в совершенно иной обстановке, чем их начало. За эти восемь – десять месяцев вражда между властью и обществом, вплоть до весьма умеренных кругов, резко усилилась, и со стороны Министерства внутренних дел в нескольких случаях были применены репрессии к отдельным членам комитетов, обвинявшихся в противоправительственной агитации. Это сказалось на работах губернских комитетов; губернаторы, боясь осложнений, не допускали оглашения некоторых докладов; так, харьковский губернатор снял с обсуждения доклад H. H. Ковалевского, о тоне которого можно было судить по одной из заключительных фраз: «Нельзя начинать бороться с комарами, не устранив предварительно вампиров… Сельскохозяйственная промышленность страны не может быть сколько-нибудь заметно улучшена без устранения главных причин, которые привели к настоящему положению деревни…» В нескольких губернских комитетах (Тамбовском, Тульском) значительная часть членов отказалась участвовать в дальнейших работах, ссылаясь на стеснение со стороны председателя (действовавшего по инструкциям Министерства внутренних дел). В Московской губернии произошел раскол в комитете: большинство отвергло предложение либерального меньшинства, которое тогда покинуло собрание.
К счастью, основная работа на местах, в уездных комитетах, была проделана в более спокойной атмосфере, без политических разногласий и репрессивных мер. Задача, возложенная государем на особое совещание, в основных чертах была выполнена.
Каковы же были итоги этой большой работы, этого обращения к сельской России? Труды комитетов занимали много десятков томов. Можно было найти в этих трудах выражения самых различных взглядов; интеллигенция, более подвижная и активная, поторопилась извлечь из них то, что казалось ей политически благоприятным для нее. Еще официальное издание трудов комитетов не появилось в свете, а группа земских либералов уже выпустила – пользуясь рукописными материалами около трети комитетов – свою сводку под названием «Нужды деревни»,[47] с предисловием П. Н. Милюкова. По всем вопросам об «основах правопорядка», о самоуправлении, о правах крестьян, о народном образовании из суждений комитетов было извлечено все, что соответствовало направлению составителей; все несогласное было либо отброшено, либо вкратце отмечено как уродливые исключения. Таким образом, хотя всего два-три десятка комитетов коснулись, хотя бы косвенно, политических тем – в «Нуждах деревни» изображали дело так, точно сельская Россия выставила все требования, да еще добавила «если нет – нет»: если их не выполнить – нет спасения сельскому хозяйству.
Конечно, в суждениях 600 комитетов можно было найти почти все, что угодно; были в них, конечно, и заявления земских либералов, напоминающие адреса при восшествии государя на престол. Было почти единогласие в пользу земских учреждений (в неземских губерниях очень многие комитеты высказались за их введение). Требования уравнения крестьян в правах с другими сословиями, и в особенности пожелание о широком распространении народного образования, были, в сущности, общепризнанными – не только в обществе, но и в правительственных кругах: работы по пересмотру законодательства о крестьянах были возобновлены еще 15 января, за неделю до создания особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности.
Но в суждениях комитетов было и нечто иное, о чем либеральная печать почти умалчивала, о чем только вскользь упоминалось в толстых журналах: значительная часть комитетов подошла к самой сути земельной проблемы – к вопросу о крестьянской общине. И еще замечательнее, что значительное большинство этих комитетов высказалось против общины или, во всяком случае, за свободный выход из нее отдельных крестьян.
Согласно сводке, опубликованной под редакцией А. А. Риттиха для 49 губерний Европейской России (кроме Донской обл.), вопрос об общине обсуждали 184 комитета. Из них 125 высказались против ее сохранения (были все оттенки мнений – от принудительной ликвидации до облегчения выхода отдельных членов); 42 – за сохранение, с теми или иными поправками и 17 – уклонились от ответа (решив «предоставить течению жизни» или «нужно дополнительное расследование»). Преобладание противников общины оказывается еще значительнее, если взять только уездные комитеты: 113 и 32 (в губернских больше проявлялось влияние администрации, и только 12 высказались против общины; 10 – за, и 6 воздержались). Эти цифры становятся, однако, еще красноречивее, если принять во внимание, что в губерниях, где общины не было, этот вопрос вообще не ставился: никому и в голову не приходило вводить общину для уврачевания недугов сельского хозяйства! На всем западе России только в Уманском уезде Киевской губернии вспомнили про общину, и то, чтобы высказать пожелание: «упразднить общинное владение, сохранившееся в 55 селениях уезда». Далее, в десяти смешанных губерниях, где имелись оба вида крестьянского землепользования, все комитеты высказались против общины, и только в двух из таких губерний меньшинство комитетов (4 из 18) высказались в ее пользу.
Большинство комитетов высказалось за общины только в шести губерниях.[48] Сторонники общины преобладали в Московской, Нижегородской, Тамбовской, Вологодской губерниях и были сильно представлены также во Владимирской, Вятской, Тверской. По-видимому, сказывалось влияние либеральных земств, стоявших за общину по соображениям социальной политики.
Только один комитет (Сарапульский в Вятской губернии; в этом уезде известный Боткинский завод) высказался за дальнейшее развитие общины в коллективное хозяйство с артельной обработкой земли. Остальные, даже отстаивая общину, предлагали к ней различные поправки: затруднение переделов, оставление прежних участков за теми хозяевами, которые хорошо их обрабатывали, установление предела дробимости земли и т. д.
С другой стороны, противники общины далеко не все высказывались за ее полную ликвидацию. Вообще только 52 из 125 комитетов предлагали отмену общины в законодательном порядке или полное воспрещение переделов; остальные 73 стояли либо за облегчение перехода к подворному владению, но без принудительных мер, либо за предоставление права выделения из общины отдельным крестьянам с переходом земли в их собственность.
Другим существенным вопросом, вытекавшим из признания крестьянской частной собственности на землю, был вопрос о праве продажи этой земли. Крестьянские земли по русским законам стали своего рода «владениями мертвой руки»: фактически их не могли продавать, и если это, с одной стороны, препятствовало обезземелению крестьянства, то с другой – это лишало крестьян нормального сельскохозяйственного кредита. 83 комитета обсуждали этот вопрос; и только 7 высказались за сохранение неотчуждаемости крестьянских земель; 27 высказались за допущение распоряжения надельной землей на праве полной собственности, а 49 – с некоторыми ограничениями (по большей части – с правом продажи только другим крестьянам).
Доводы в пользу свободного оборота земли были наиболее отчетливо выражены в заключении Киевского уездного комитета.
«Киевский уездный комитет, – говорилось в нем, – не мог не обратить внимания на высказывавшиеся часто опасения, что свобода отчуждения крестьянской собственности может повести к скупке земель более состоятельными лицами и к образованию безземельного пролетариата, но не разделяет таких опасений по следующим соображениям.
Во-первых, выделение из крестьян безземельного класса представляется при всяких условиях совершенно неизбежным явлением, так как население растет, а поземельная собственность имеет определенные и довольно узкие границы.
Во-вторых, если государство будет стремиться сохранить за всем сельским населением право владения землею, то возникает опасность гораздо большая: опасность превращения массы населения в малоземельный пролетариат и раздробление земли на такие клочки, на которых нельзя вести сельское хозяйство (пульверизация земли)».
Киевский комитет далее указывал, что запрещение продажи крестьянской земли лицам других сословий будет выгодно только «кулакам», а не продавцам земли. Но в этом отношении большинство комитетов за ним не последовало.
Те же мысли о последствиях сохранения общины ярко выражал А. Воскресенский, податной инспектор, автор книги по земельному вопросу, вышедшей в 1903 г.: «Если у крестьян не хватит здравого смысла, чтобы прекратить переделы, и если правительство будет держаться политики невмешательства… все неравномерности общинного землевладения сгладятся. Переделы сравняют всех крестьян; никому не будет хватать хлеба до нового урожая; никто не будет в состоянии держать на надельной земле ни лошади, ни коровы. Неужели же порядок, ведущий крестьян к подобному положению, нужно удерживать всеми зависящими средствами? Неужели его можно хотя бы оставить в неприкосновенности?»
Выводы комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности были в значительной мере затушеваны печатью: они не соответствовали взглядам, господствовавшим в обществе. Они и для правительства явились некоторой неожиданностью.
Н. А. Павлов, энергичный участник работы комитетов, пишет по этому поводу: «По почину государя созывается особое совещание… до 600 комитетов говорят одно дело (о «конституции» проговорилось всего 8 комитетов). Комитеты консервативны; просят: уничтожения общины, перехода к единоличному владению, кредита, расселения, переселения и проч. На величайший акт государя – призыв местных людей – сельская Россия дает решающий и продуманный ответ… Полно или неполно созванная, но страна, в числе до 50 тысяч местных людей и крестьян, ответила государю, показав свой разум и верность». Н. А. Павлов добавляет с горечью: «Исторический и важнейший акт государя сорван!.. Община была накануне конца, а бюрократия и общество ее опять отстояли…» Действительно, обострение политической борьбы временно отодвинуло этот важнейший вопрос на второй план. Но все же работа комитетов не пропала даром: она принесла свои плоды через 3–4 года. Общая сводка работ еще не была готова, а издание трудов местных комитетов, составивших 58 томов, заняло около года. Но, не желая из-за этого задерживать принятие первых мер, государь издал манифест 26 февраля 1903 г., основанный отчасти на предварительных итогах работы комитетов.
«К глубокому прискорбию нашему, смута, посеянная отчасти замыслами, враждебными государственному порядку, отчасти увлечением началами, чуждыми русской жизни, препятствует общей работе по улучшению народного благосостояния», – говорилось в начале манифеста, но затем все же перечислялся ряд намеченных преобразований. На первом месте стояло предписание властям неуклонно соблюдать заветы веротерпимости. Как отметила даже оппозиционная печать, это слово впервые появилось в императорском манифесте. Государю всегда была свойственна религиозная терпимость, и он уже не раз, хотя и менее открыто, выражал свою волю в этом отношении.
Труды по пересмотру законодательства о сельском состоянии предписывалось «передать на места для дальнейшей их разработки и согласования с местными особенностями в губернских совещаниях, при ближайшем участии достойнейших деятелей, доверием общественным облеченных. В основу их трудов положить неприкосновенность общинного строя крестьянского землевладения, изыскав временно способы к облегчению отдельным крестьянам выхода из общины. Принять безотлагательно меры к отмене стеснительной для крестьян круговой поруки».
Из остальных положений манифеста наиболее существенным было указание на преобразование местного управления «для изыскания способов удовлетворения многообразных нужд земской жизни трудами местных людей, руководимых сильной и закономерной властью». Это была та самая реформа администрации, которую С. Ю. Витте еще в своей записке о «Самодержавии и земстве» противополагал планам расширения деятельности местного самоуправления. Для ее разработки в начале 1903 г. была образована комиссия под председательством профессора С. Ф. Платонова, известного историка; она получила название «комиссии о децентрализации», так как имела целью усиление власти на местах.
Может показаться странным, что в ответ на пожелания местных комитетов в манифесте 26 февраля говорилось о неприкосновенности общины. Это объясняется тем, что власти было нелегко переменить свой курс в вопросе, в котором как раз, в виде исключения, почти все общественное мнение стояло за сохранение существующего порядка; не так легко было, отказывая в реформах, которых требовали, проводить именно ту реформу, против которой возражали. Для этого нужна была полная уверенность в ее необходимости; а сводка трудов комитетов была еще не закончена; к тому же решительных и немедленных мер против общины требовало только меньшинство.
Все же власть учла критику общины, обещав облегчить из нее выход отдельным крестьянам; а главное, она отказалась от собственной своей заинтересованности в сохранении общины, упраздняя круговую поруку, при помощи которой исправные крестьяне-налогоплательщики могли отвечать за своих неисправных однообщинников. (Закон об отмене круговой поруки был издан через две недели после манифеста 12 марта.)
Государю было трудно преодолевать в этом вопросе инерцию государственной машины. Но задача была поставлена; пересмотр отношения к общине начался… Каким беспомощно наивным наряду с продуманными ответами деревенской России должно было показаться государю письмо графа Л. Н. Толстого, полученное им около того же времени (в начале 1902 г.). «Пишу Вам, – писал граф Толстой, – как бы с того света, в ожидании близкой смерти… Самодержавие есть форма правления отжившая… Стомиллионный народ скажет, что желает свободы пользования землей, то есть уничтожения права земельной собственности. Думаю, что ее уничтожение поставит русский народ на высокую степень независимости, благосостояния и довольства». И это было написано в ту пору, когда, в значительной мере из-за отсутствия частной земельной собственности на большую часть удобных земель в России, сельское хозяйство находилось в застое и упадке.
Последним звеном той большой работы, которая в первые три года XX в. была проделана русской властью для подготовки разрешения земельного вопроса, явилась заключительная сессия основанной еще в ноябре 1901 г. комиссии по вопросу об упадке центра. В течение двух лет, через департамент неокладных сборов, были собраны обильные статистические данные о положении центральных губерний в сопоставлении с другими частями империи. Общая обстановка была еще много напряженнее, чем в момент окончания работ особого совещания.
С 10 по 24 октября 1903 г., под председательством В. Н. Коковцова, комиссия подводила итоги двухлетней работы. В комиссию входили: 14 представителей ведомств (финансов, земледелия, внутренних дел и уделов) и 18 земских деятелей. В первом же заседании был поднят вопрос о том, можно ли вообще говорить об упадке центра? Земские представители утверждали, что речь идет о явлении общерусском. Наконец большинством голосов было признано, что в центральном районе «упадок выразился наиболее резко».
На работах этой комиссии неблагоприятно сказывалось обострение противоречий между властью и обществом. Земские деятели, сговорившись между собой, подали записку, в которой утверждали, что бесцельно прибегать к чисто экономическим мерам; нужно изменить правовое и социальное положение, в первую очередь – произвести реформу крестьянского правопорядка, ограничить власть земских начальников, отменить телесные наказания; указывалось также на желательность развития народного образования, облегчения выхода из общины и перехода к подворному владению; наконец – и для того момента это было требованием весьма политическим, – земцы требовали разрешения районных земских съездов и передачи законопроектов, касающихся местной хозяйственной жизни, на заключение земских собраний.
Председатель комиссии, В. Н. Коковцов, в ответ предложил держаться установленных рамок: это, сказал он, комиссия по вопросу о хозяйственном оскудении центра. «Едва ли правильно объяснять общими причинами упадок данной местности… Это значит отрицать возможность мер для удовлетворения местных нужд». После этого комиссия вынесла несколько «безобидных» пожеланий: о финансовой помощи земствам, о развитии кустарной промышленности, об упорядочении переселенческого дела, о сокращении выкупных платежей – и закончила свои работы.
Записка земцев вызвала отклики в печати – весьма осторожные, так как это был период цензурных строгостей. Социалистическое «Русское богатство» писало с некоторым злорадством: «Судьба, постигшая заявление земцев, – нечто поучительное… Можно пожелать, чтобы данный урок был оценен по достоинству теми сферами, которых он ближе всего касается». Справа «Московские ведомости» писали, что земцы предложили крестьянину «книгу вместо хлеба».
Глава 8
Легенда и правда о государе. – «Зубатовские» профессиональные союзы и рабочее законодательство. – Реформы в учебном деле. – Литературные течения. – Борьба с властью: социал-революционеры и террор; II съезд социал-демократов; «Освобождение». – Политика В. К. Плеве. – Беспорядки в Златоусте. – Кишиневский погром. – Убийство Богдановича. – Рабочие волнения. – Армянские волнения. – Беспорядки в Гомеле. – Саровские дни. Русско-французские отношения. – Принц Генрих Прусский о государе. – Россия и Австрия; македонские события; Мюрцштегская программа. – Бюлов об «антирусском течении». – На Дальнем Востоке: миссия маркиза Ито; англо-японский союз 1902 г. – Отставка С. Ю. Витте. – Наместничество Дальнего Востока. – Японские требования о Маньчжурии. – Репрессии против тверского земства. – Разрыв сношений между Россией и Японией
«Значение переживаемого можно определить словами: нравственный момент, подготовляющий перелом экономической политики в пользу сельского хозяйства, поворот руля этой политики в сторону интересов деревни», – писало «Новое время» в новогоднем номере 1903 г.
Действительно, за предшествующий год внимание власти было обращено преимущественно на положение деревни. Этот поворот, весьма знаменательный после десяти лет экономической политики Витте, направленной в другую сторону, после длительного периода стремлений сохранить в деревне существующее положение, не мог быть произведен никем, кроме самого государя.
На девятом году царствования личность императора Николая II оставалась едва ли не настолько же загадочной для общества и народа, как в момент его восшествия на престол. Вернее, ее уже заслоняла легенда, созданная кругами, враждебными власти. Было ли это сознательным маневром или просто результатом непонимания, недооценкой противника (ибо государь, конечно, был противником революционных течений!), – но отношение к императору Николаю II существенно отличалось от той вражды, смешанной со страхом и невольным уважением, которую враги русской власти питали к его державному предшественнику.
Мягкость обращения, приветливость, отсутствие или, по крайней мере, весьма редкое проявление резкости – та оболочка, которая скрывала волю государя от взора непосвященных, – создали ему в широких слоях страны репутацию благожелательного, но слабого правителя, легко поддающегося всевозможным, часто противоречивым внушениям. Утверждали также, будто на государя можно всегда повлиять формулой: «Так делалось при покойном царе».[49]
А когда принималось какое-нибудь неожиданное, новое решение – сейчас же начинали искать «закулисных влияний».
Между тем такое представление было бесконечно далеко от истины; внешнюю оболочку принимали за сущность. Император Николай II, внимательно выслушивавший самые различные мнения, в конце концов поступал сообразно своему усмотрению, в соответствии с теми выводами, которые сложились в его уме, часто – прямо вразрез с дававшимися ему советами. Его решения бывали порою неожиданными для окружающих именно потому, что свойственная ему замкнутость не давала никому возможности заглянуть за кулисы его решений. Но напрасно искали каких-либо тайных вдохновителей решений государя. Никто не скрывался «за кулисами». Можно сказать, что император Николай II сам был главным «закулисным влиянием» своего царствования!
Можно даже сказать больше: за первый период своего царствования государь понемногу «подчинил себе» министров – едва ли не в большей степени, чем император Александр III, бывший только «собственным министром иностранных дел». Поворачивая руль экономической политики в сторону деревни, государь распространял свое непосредственное влияние и на область народного хозяйства.
Основные вехи и внешней, и внутренней политики были поставлены самим государем: вовне – проведение в жизнь «большой азиатской программы», при всемерном охранении мира в Европе; внутри – выпрямление того крена в пользу города, который получился в результате быстрого роста промышленности и отставания сельского хозяйства; проведение преобразований – при непременном условии сохранения неприкосновенности проводящей их самодержавной царской власти, которая представлялась государю необходимым условием великодержавной мощи и внутреннего процветания России.
После того как в 1899 г. государь отказался от расширения местного самоуправления, опасаясь, что этим он бы усилил стремление к ограничению царской власти, он как бы проводил в жизнь новую формулу: по мере возможности удовлетворял все те требования реформ, которые не влекут за собою политических последствий.
В карикатурном виде заграничный журнал «Освобождение» изображал эту тенденцию как стремление «подкупить все сколько-нибудь влиятельные слои населения»: купечество, дворянство, рабочих; к этому списку следовало бы причислить и крестьянство, улучшение быта которого было выдвинуто в 1902 г. на первый план. Заграничный журнал, того не сознавая, делал власти высший комплимент, отмечая, как она поочередно стремится удовлетворить потребности всех слоев населения!
* * *
Еще с конца XIX в. особое внимание было обращено на рабочих. Их потребность в общении, в самообразовании, в организованной защите их интересов сталкивалась, с одной стороны, с опасениями развития революционных организаций, с другой – с экономическими возможностями страны, где промышленность еще находилась в периоде развертывания. Почин смелой попытки удовлетворить потребности рабочих при одновременном соблюдении интересов власти взял на себя умный и активный представитель администрации С. В. Зубатов, занимавший одно время пост начальника Московского охранного отделения.
Зубатов исходил из совершенно правильной мысли о том, что интересы государственной власти отнюдь не тождественны узко понимаемым интересам предпринимателей; что рабочие могли улучшить свое положение совершенно независимо от каких-либо политических преобразований. Рабочие организации до тех пор создавались только социалистами, настроенными революционно и стремившимися использовать рабочих в качестве орудия борьбы с существующим строем. Поэтому рабочие организации преследовались властью. Зубатов решил рискнуть предоставить тем рабочим, в «благонамеренности» которых он был уверен, создать вокруг себя профессиональные объединения.
Министерство внутренних дел отнеслось с недоверием к этой «затее»; но Зубатов нашел поддержку у великого князя Сергея Александровича, занимавшего пост московского генерал-губернатора. В Москве поэтому был произведен первый опыт легальной рабочей организации. Начали с кассы взаимопомощи. Затем те же организаторы из рабочей среды обратились к ряду профессоров Московского университета с просьбой взять на себя устройство лекций и собеседований на общеобразовательные темы, причем в первую очередь освещались вопросы о положении рабочих в России и о тех способах, которыми рабочие на Западе добились улучшения условий своей жизни. Английские – в то время еще аполитичные – тред-юнионы, рабочее законодательство Бисмарка стали предметом обсуждения в московской рабочей среде. Известные ученые, как историк П. Г. Виноградов, профессора Ден, Озеров, Вормс, Мануйлов, охотно приняли участие в этом общении с рабочими.
Из Москвы движение распространилось также на западный край. Была основана, в противовес социалистическому Бунду, Еврейская независимая рабочая партия, главные деятели которой не были «подкупленными агентами», а действительно считали, что для улучшения быта рабочих полезнее сотрудничество с государственной властью, нежели борьба с нею. Шаевич в Одессе, Мария Вильбушевич в Минске были главными руководителями этого движения.
19 февраля 1902 г. московские рабочие под руководством так называемых «зубатовских» организаций устроили внушительную монархическую манифестацию; в Кремль, к памятнику Александру II, с пением «Боже, царя храни» собралась толпа свыше 50 000 рабочих для совершения молебствия в день освобождения крестьян.
Почти в то же время новая организация приняла активное участие в забастовках на нескольких московских заводах. Против «зубатовской затеи» тогда был предпринят натиск с самых противоположных сторон. Московские фабриканты во главе с французом Гужоном обратились к министру финансов Витте с жалобой – на московскую полицию, «поощряющую забастовки». В то же время в интеллигентской среде шли яростные кампании против какого-либо участия в «полицейских» рабочих организациях. Пускались слухи, что лекторы, выступающие в рабочей среде, подкуплены правительством, что эти организации – только ловушка для вылавливания «неблагоприятных» рабочих элементов. «У нас нет уважения к мнению, отличному от нашего, – писал по этому поводу профессор И. Х. Озеров, подвергавшийся сугубым нападкам. – Ответом служит клевета, грязная клевета…» Моральное давление оппозиционной среды возымело успех: большинство лекторов поспешило отказаться от дальнейшей деятельности, и вместо профессоров Московского университета рабочим организациям пришлось удовольствоваться чтениями духовных лиц и немногих случайных лекторов, например председателя Московского цензурного комитета В. В. Назаревского.
Тогда же, весною 1902 г., со смертью Д. С. Сипягина и приходом к власти В. К. Плеве, несколько изменилось и отношение власти: новый министр внутренних дел был противником «рискованных опытов» и предпочитал прибегать к старым испытанным приемам простого запрета.
Организации тем не менее остались; и хотя в Москве их влияние пошло на убыль, в Западном крае они продолжали успешно бороться с Бундом; в Санкт-Петербурге возникло на тех же основаниях Общество фабрично-заводских рабочих.
Правительство, со своей стороны, приняло и новые законодательные меры в интересах рабочих. В 1903 г. были изданы: закон 2 июня об установлении ответственности предпринимателей за несчастные случаи с рабочими и затем закон 10 июня о создании фабричных старост, выборных представителей для сношений с «хозяевами» и с властями. До закона 2 июня 1903 г. фабриканты отвечали только по суду; нужно было доказать их вину; по новому закону фабриканты освобождались от ответственности, только если могли доказать вину рабочего. Пострадавшим в случае утраты трудоспособности причиталась пенсия в размере двух третей заработка; на лечение выдавалось пособие в половинном размере заработной платы. Число рабочих к тому времени превысило 2 с половиной миллиона.[50]
Еще больше усилий было приложено властью для улучшения постановки учебного дела. С назначением генерала П. С. Ванновского министром народного просвещения (в марте 1901 г.) ускоренным темпом стали разрабатываться проекты школьной реформы на всех ступенях обучения. Правда, радикальные проекты «единой школы» (о полезности которых еще и сейчас идут споры в западноевропейских странах) были в конце концов отвергнуты государем, а генерал Ванновский после годовой деятельности был уволен в отставку и заменен Г. Э. Зенгером – классиком и переводчиком Пушкина на латинский язык; но, несмотря на это «замедление темпа», в учебном деле были проведены серьезные реформы. В области средней школы произошел разрыв с системой графа Д. А. Толстого, основанной на первенствующем значении древних языков: с осени 1901 г. была отменена обязательность греческого языка и сильно сокращено преподавание латыни (сохранено было только пять гимназий со старой программой). Были также приняты меры для устранения переобремененности учебными занятиями. В высшей школе были разрешены научные и литературные общества и (уже при Г. Э. Зенгере) было также создано студенческое самоуправление в лице курсовых старост.
Советы профессоров по предложению правительства деятельно обсуждали планы дальнейших реформ, в частности упразднения инспекции.
Кредиты на народное образование все время неуклонно росли; с 1894 по 1904 г. они более чем удвоились: бюджет Министерства народного просвещения увеличили с 22 до 42 миллионов рублей, тогда как кредиты на церковные школы выросли с 2,5 до 13 миллионов; а одни казенные ассигнования на коммерческие училища (которых раньше вообще не было) достигли 2–3 миллионов в год. Примерно в такой же пропорции увеличились за десять лет земские и городские ассигнования на нужды просвещения: к 1904 г., если соединить учебные расходы всех ведомств[51] и местного самоуправления, сумма ежегодных расходов на народное образование уже превышала 100 миллионов рублей.
Наряду с начатыми в 1902 г. обширными работами по подготовке нового крестьянского законодательства закончено было – к 1903 г. – составление нового уголовного уложения; по общему мнению, много более «либерального», чем действующие законы; оно было опубликовано, но срок его введения в действие не был пока установлен.
Хороший урожай 1902 г. облегчил положение деревни; промышленный кризис начинал в 1903 г. сменяться новым подъемом.
За первые годы нового века в русской литературе почувствовалось оживление; появился ряд новых имен. Наряду с А. П. Чеховым, обратившимся на новое поприще драматурга, и М. Горьким, в котором «деятель» начинал уже заслонять писателя, появились Леонид Андреев, бесспорно талантливый писатель со склонностью к болезненным, мучительным переживаниям; Бунин, Куприн (особенный успех имела его повесть из быта армейского офицерства «Поединок»). Кроме этих писателей, группировавшихся вокруг «марксистского» издательства «Знание», значительно выросло и усилилось «модернистское», «декадентское» течение: вслед за «Миром искусства» появились журналы «Новый путь» (с 1903 г.) и «Весы» (с 1904 г.). Еще ранее было основано издательство «Скорпион»; Бальмонт, Брюсов, Гиппиус, Мережковский, Ф. Сологуб издали за эти годы едва ли не лучшие свои сборники стихов; Андрей Белый выступил со своей первой «симфонией»; А. Блок начал печатать стихи в «Новом пути».
Необычный для русской интеллигенции интерес к религиозным вопросам вызвал с зимы 1901/02 г. к жизни религиозно-философские собрания в Санкт-Петербурге, в которых – необычайное сочетание – участвовали представители церкви и духовного ведомства, профессора богословия, «последние славянофилы» вроде генерала Киреева наряду с писателями и журналистами, близкими к журналу «Новый путь». Обсуждались вопросы о христианском догмате, о свободе совести, о браке, об учении Толстого. Д. С. Мережковский, смело признавший, что Священный синод был прав, отлучая от церкви графа Л. Н. Толстого, подвергся за это резким нападкам в среде интеллигенции. «В России, – писал он по этому поводу, – образовалась вторая цензура, более действительная, более жестокая, чем первая, – цензура «общественного мнения».
Эта вторая цензура распространялась даже и на область художественной критики. «Что мне делать? – писал в «Новом пути» Антон Крайний.[52] – Литература, журналистика, литераторы – у нас тщательно разделены надвое и завязаны в два мешка; на одном написано «консерваторы», на другом «либералы». Чуть журналист раскроет рот – он уже непременно оказывается в котором-нибудь мешке. Есть сугубо жгучие вопросы, имена, о которых совсем нельзя высказывать собственных мыслей. Мыслей этих никто не услышит – слушают только одно: одобряешь или порицаешь. Порицаешь – в один мешок, одобряешь – в другой, и сиди и не жалуйся на неподходящую компанию. Сам виноват… Великое несчастие – эта наша литературная теснота, недостойная даже и такого малокультурного человека, как наш современный «литератор»!»
(Эти мысли служили вступлением к меткому отзыву о значении творчества Горького: «…Жить и дышать все-таки еще можно, и человек еще человек. Нужен резкий толчок, чтобы выкинуть людей сразу в бескислородное пространство, прекратить их человеческие мучения. Этот толчок, несущий человеку окончательное смертное освобождение, фонтан углекислоты – проповедь Максима Горького и его учеников».)
В этих протестах немногих, остававшихся вне борьбы, ярко сказывается трагическое раздвоение исторического момента. Все русское образованное общество, за весьма малыми исключениями, находилось в состоянии резкой, непримиримой, слепой оппозиции к власти. Именно в эти годы был выдвинут и стал ходячей фразой краткий и категорический боевой клич «Долой самодержавие», принимавший в легальных изданиях форму нападок на «бюрократию».
Среди организованных, революционных сил выделялись два главных течения: социалисты-народники, мечтавшие о крестьянском восстании (а то и военном бунте – ведь армия в большинстве из крестьян) и действовавшие путем террора; социалисты-марксисты, делавшие ставку на рабочее движение и рассчитывавшие пропагандой и забастовками «раскачать» город на более активные выступления.
Боевая организация социалистов-революционеров поставила себе целью при помощи убийства непопулярных представителей власти терроризовать правительство и вызвать «подъем духа» в обществе. Ее первыми жертвами были Н. П. Боголепов и Д. С. Сипягин. Она же в 1902 г. организовала покушения на виленского губернатора фон Валя, на харьковского губернатора князя И. М. Оболенского. Она открыто выносила «смертные приговоры». «Боевая организация, – гласила революционная листовка, – находит себя вынужденной выполнить лежащий на ней гражданский долг и сместить князя Оболенского единственным оставшимся в ее распоряжении средством – смертью». А на револьвере, из которого был произведен выстрел в харьковского губернатора, стояла мелодраматическая подпись «Смерть царскому палачу и врагу народа».
Социал-демократы – так назвали себя марксисты еще в 1898 г. – имели за границей регулярно выходивший периодический орган «Искра». Их учение было определеннее, чем у народников, и вообще кадры их были многочисленнее. Летом 1903 г. в Брюсселе они созвали свой второй партийный съезд, в котором приняли участие представители примерно двадцати местных нелегальных комитетов из России, а также деятели эмигрантских центров. В съезде принимал участие и еврейский Бунд, но его делегаты, не желая отказываться от своей особой «национальной» программы, затем ушли со съезда (перекочевавшего из Бельгии в Лондон). На этом же съезде произошло разделение на «большевиков» и «меньшевиков». После ухода делегатов Бунда на съезде получилось преобладание крайней революционной группы, лидером которой был Ленин (Ульянов). При этом случае его поддержал «ветеран» движения, известный эмигрант Г. В. Плеханов, тогда как другие лидеры – Мартов (Цедербаум), Аксельрод, Вера Засулич, Троцкий (Бронштейн), тогда еще «начинающий», и т. д. – оказались в меньшинстве.
Суть разногласия была в том, что Ленин хотел превратить партию в строго централизованную организацию, повинующуюся воле центра, – пусть менее многочисленную, но зато более крепко спаянную, – тогда как «меньшевики», по образцу западноевропейских социалистов, стремились к возможно широкому привлечению рабочих масс в ряды партии и возражали против слишком широкой власти центрального комитета.
Ленин, впрочем, вскоре разошелся и с Плехановым, ушел из редакции «Искры» и основал свой собственный – тоже заграничный – орган «Вперед».
Эти организованные революционные течения были бы, однако, бессильны, если бы общественное мнение русской интеллигенции не склонилось в то время к революционным путям борьбы. Предзнаменованием такого оборота было появление в 1900 г. нелегальной книги «Россия на рубеже XX столетия», написанной некогда враждебным всякой «нелегальщине» профессором Б. Н. Чичериным. В июне 1902 г. оппозиционные несоциалистические круги сделали более решительный шаг: в Штутгарте, под редакцией П. Б. Струве, начало издаваться «Освобождение».
Та широкая оппозиционная среда, органом которой явился новый журнал, простиралась от умеренных социалистов до земской легальной оппозиции; разнородная по своим положительным идеалам, она была объединена общей враждою к власти, к «самодержавию», к «бюрократии». Ее основным требованием была конституция. «Широких финансовых и экономических реформ, в которых так нуждается страна, нельзя ждать и нелепо требовать от г. Витте, – говорилось в передовой статье первого номера «Освобождения». – Их может дать России только хорошо организованное народное представительство». Эти слова звучат почти иронически теперь, когда даже парламентарная демократия для проведения экономических и финансовых реформ вынуждена прибегать к чрезвычайным полномочиям; но тогда в это верили.
В отличие от социалистических органов, представлявших собою смесь теоретических рассуждений с боевыми лозунгами, «Освобождение» поставило своей целью освещение – со своей точки зрения – всех событий русской жизни. Его «сила» была в хронике, в «корреспонденциях с мест». Обладая связями в самых разнообразных кругах – не только в земствах, но и на верхах той же «бюрократии», – «Освобождение» занялось печатанием разных секретных записок, протоколов, циркуляров, подбирая их, разумеется, в «обличительных» целях и отводя в своих корреспонденциях широкое место политическим сплетням. В первую очередь появились в свет записки Витте о «Самодержавии и земстве» и материалы о студенческих волнениях. Редакция в известной мере старалась выдерживать более умеренный тон и даже порою протестовала против «фельдфебельского тона» социалистов. Значительное число экземпляров печаталось на тонкой бумаге и посылалось в Россию в запечатанных конвертах под видом частных писем.
* * *
«Освобождение» вышло в свет уже после убийства Д. С. Сипягина. Новый министр внутренних дел В. К. Плеве, назначенный государем как бы в ответ на убийство его предшественника, был человеком умным и энергичным. Но он, по-видимому, сам не верил в те начала, которые был призван защищать; в частных беседах он не раз это высказывал. Считая, что самодержавная власть себя «изжила», и в то же время приняв на себя обязанность ее защищать, В. К. Плеве не мог придумать ничего, кроме новых репрессивных мер. Охранение без творчества было основной чертой его политики. Будь то совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности, или «зубатовские» профессиональные союзы, или земства, или профессорские коллегии университетов – В. К. Плеве видел во всем прежде всего опасную, отрицательную сторону. Трагедия власти была в том, что зачастую он бывал прав: все эти органы могли быть использованы врагами власти, и, конечно, эти враги не упускали ни одного удобного случая! Всякое движение поэтому требовало двойных усилий, но и отказ от движения приносил власти только мнимое облегчение.
«Беспрерывно и бесконечно возрастающая административно-бюрократическая опека, превзошедшая все примеры, бывшие дотоле, приводит общественные силы к расслаблению… Так воспитываемая нация не может не терять постепенно политического смысла и должна превращаться все более в «толпу». В толпе же непременно возобладают демократические понятия о верховенстве», – писал об этом времени Л. А. Тихомиров в своей книге «Монархическая государственность».
В самом начале деятельности В. К. Плеве, 6 июня 1902 г., было издано распоряжение о прекращении статистических работ по исследованию деревни в 12 земских губерниях. Было установлено, что на эти работы шли главным образом люди «неблагонадежные». «Постоянное общение с крестьянами дает широкое поле для противоправительственной пропаганды, бороться с которой при слабости полицейского надзора в селениях представляется крайне затруднительным», – говорилось в правительственном сообщении. Приводился также любопытный факт: при 20–25 постоянных статистиках на губернию штат «временных» достигал 30–70 человек, а в Полтавской губернии, где как раз произошли крестьянские волнения, «временных» статистиков было до шестисот!
«Политическая неблагонадежность земской статистики есть, конечно, несомненный факт, – отзывалось на это «Освобождение», – и было бы жалкой уловкой отрицать или замалчивать ее… Вся идеалистически настроенная интеллигенция неблагонадежна».
Этот эпизод весьма характерен: репрессии, несомненно, имели серьезные основания; в то же время В. К. Плеве, в сущности, как бы признавал, что «благонадежных» людей почти нет и что только и можно прекратить работы, хотя бы по существу и полезные. Дальнейшая подготовка реформ, намеченных государем, конечно, продолжалась; но дух пессимизма исходил от нового министра внутренних дел. Казалось, он был согласен с революционными кругами в том, что существующий строй не выдержит никакой серьезной реформы. Он старался убедить государя отложить преобразования ввиду роста смуты в стране. Но смута углублялась; вражда к политике власти проявлялась все сильнее. Выработался целый ряд условных понятий: на вечерах, на концертах декламировали стихи о «ночи» и о «заре», которая должна ее сменить, о грозе, которая должна грянуть… «Лес рубят! молодой, еще зеленый лес», – звучало с эстрады, и публика бурно аплодировала, понимая, что речь идет о студенческих волнениях…
В начале 1903 г. деятельность особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности начала замирать. «Плеве испрашивает повеление остановить работы Совещания – и на них ставится крест», – пишет по этому поводу Н. А. Павлов. Это не вполне точно: работы по ряду вопросов (о мелком кредите, о путях сообщения) продолжались еще весь год. Но наиболее серьезные вопросы были сняты с обсуждения.
* * *
В начале марта в Златоусте разразились серьезные рабочие волнения, возникшие из-за недовольства новыми расчетными книжками, но быстро принявшие угрожающий характер. Полиция оказалась бессильной в борьбе с толпой рабочих, осаждавших здание заводского управления и квартиры начальствующих лиц. На четвертый день с начала волнений, 13 марта, на завод был приведен отряд войска. Но и речи военного начальства не подействовали: толпа начала наступать на солдат. После троекратного сигнала в толпу был произведен первый залп; рабочие сперва легли на землю, но потом поднялись и снова двинулись вперед; и только после трех залпов бросились бежать. Убито было 45 человек и ранено 83. Такого кровопролитного столкновения еще не было за все царствование государя. И хотя действия власти были вынуждены горькой необходимостью, в обществе эти события вызвали громкие протесты; в Петербургском университете состоялась снова неразрешенная сходка.
* * *
В начале 1903 г. произошло событие, весьма значительное по своим последствиям: кишиневский погром. О нем сложилось немало легенд, и поэтому необходимо тщательно восстановить основные факты. Кишинев – город со значительным еврейским меньшинством; остальное население представляет собою пеструю смесь молдаван, русских, цыган и т. д. Революционного брожения в городе не замечалось; между евреями и другими группами населения, как в большей части южнорусских городов, бывали некоторые трения, но резких вспышек вражды до 1903 г. не бывало. В городе издавалась антисемитская газета «Бессарабец» (П. Крушевана),[53] но особого влияния в неграмотной, да и в большинстве нерусской массе населения она не имела. Эта газета, между прочим, поместила в марте 1903 г. сообщение о ритуальном убийстве в селении Дубоссары, но это известие было в ней же опровергнуто местными властями.
6 апреля, в первый день Пасхи, на городской площади возникли инциденты между евреями и христианами – показания об этих инцидентах так и остались противоречивыми, – и затем в каких-нибудь полчаса значительная часть города была охвачена беспорядками: громили и грабили еврейские магазины, а затем и дома. Полиция, застигнутая событиями врасплох, растерялась; губернатор фон Раабен, благодушный старик, отставной генерал, метался по губернаторскому дому, телефонировал в участки, в казармы – где большинство офицеров и часть солдат были в отпуске из-за праздника Пасхи. В течение нескольких часов в городе царил хаос. К вечеру беспорядки затихли, но волнение не улеглось. В громившей толпе царило сильное возбуждение и озлобление, рассказывали всевозможные басни о жестокости евреев; на следующий день с утра беспорядки возобновились; слабые попытки к сопротивлению со стороны евреев только увеличили ожесточение нападавших, и началось избиение евреев, в некоторых домах чуть не поголовное: озверевшая толпа не щадила порою ни женщин, ни детей. К середине дня на улице появились вызванные из казарм войска и начали рассеивать толпы громил; те стали разбегаться, бросая награбленное имущество. Когда порядок восстановился, выяснилось, что 45 евреев было убито, 74 – тяжело ранено, а легко пострадало около 350 человек. Разгромлено было 700 жилых домов и 600 магазинов. Из «христиан» было убито 3–4 человека; это показывало, насколько слабо было сопротивление.
Такого погрома в России не было свыше двадцати лет. Беспорядки в Шполе (1897), в Николаеве (1899) сводились к разграблению еврейских лавок; тут же была пролита кровь… Было несомненно, что местные власти не проявили достаточной энергии и расторопности и только на второй день с помощью войск овладели положением. Об этой нерасторопности властей говорилось и в циркуляре министра внутренних дел.
Кишинев был объявлен на положении усиленной охраны. За участие в погроме арестовано было около тысячи человек. Губернатор Раабен был уволен от должности; вице-губернатор и полицмейстер переведены были в другие города. «Государь император Высочайше соизволил подтвердить начальникам губерний и городов, что им вменяется в долг, за личной их ответственностью, принимать все меры к предупреждению насилий и успокоению населения, дабы устранить поводы к проявлению к какой-либо его части опасений за жизнь и имущество», – гласил циркуляр Плеве от 24 апреля.
Помощь пострадавшим была оказана в первую очередь за счет правительства; затем широкой рекой стали притекать пожертвования в значительной мере из-за границы.
В первый момент возмущение было всеобщим. Не только левые, но и правые органы печати громко его высказывали. «Человеческих жертв сотни, как после большого сражения, – писал «Киевлянин», – а между тем и драки-то не было. Били смертным боем людей безоружных, ни в чем не повинных». «Такого погрома, как Кишиневский, не было еще в новейшей истории, и дай Бог, чтобы он не повторился никогда… Невежество, дикость всегда одинаковы, и злоба во все времена ужасна, ибо она будит в человеке зверя», – стояло в передовой статье «Нового времени». «Самый факт остается гнусным и постыдным не только для среды, в нем участвовавшей, но и для тех, кто должен был предупредить и возможно скорее прекратить безобразие», – писал «Русский вестник».
Епископ Антоний Волынский (Храповицкий) в Житомирском кафедральном соборе произнес 20 апреля резкое слово о громилах. «Под видом ревности о вере, – говорил владыка, – они служили демону корыстолюбия. Они уподоблялись Иуде: тот целованием предавал Христа, омраченный сребролюбия недугом, а эти, прикрываясь именем Христа, избивали его сродников по плоти, чтобы ограбить их стяжания… Так поступают людоеды, готовые на убийство, чтобы насытиться и обогатиться».
Признавая, что одной из причин обострившейся племенной вражды было вынужденное скопление евреев в городах черты оседлости, правительство (22 мая) опубликовало указ об открытии для поселения евреев еще около 150 городов и местечек.
Если бы прискорбный факт погрома произошел в иной общей атмосфере, эта вспышка племенной злобы была бы единодушно осуждена; полиция, отвыкшая от борьбы со стихийно возникающими волнениями, подтянулась бы, выработала бы более быстрые приемы прекращения беспорядков. Виновные понесли бы наказание по суду; потерпевшие, в меру возможного, получили бы возмещение убытков; и эта печальная страница закрылась бы.
Но в отравленной политической атмосфере 1903 г. кишиневский погром был использован врагами русской власти как сильнейшее средство политической борьбы. Бездействие и растерянность местных властей были тотчас же истолкованы как пособничество. Больше того: была выдвинута версия, будто этот погром был сознательно допущен – а затем уже прямо говорили: организован – министром внутренних дел!
В иностранную печать было пущено якобы «перехваченное» письмо Плеве к бессарабскому губернатору, предупреждавшее о готовящемся погроме и указывавшее на нежелательность применения оружия против толпы. И хотя это «письмо» было тут же опубликовано в русской печати с категорическим заявлением о его подложности, а корреспондент Times Брахам, явившийся передатчиком этой клеветы за границу, был выслан из России, – «навет» на русскую власть пустил глубокие корни.
Князь С. Д. Урусов, назначенный губернатором на место уволенного Раабена, приобретший в Кишиневе репутацию юдофила (впоследствии – оппозиционный член Первой думы), пишет в своих мемуарах, что он должен «решительным образом восстать против обвинения Раабена в сознательном допущении погрома и разрушить легенду о письме, будто бы написанном ему по этому поводу министром внутренних дел». Князь Урусов указывает, что Плеве был слишком умен, чтобы желать погрома, а Раабен, кроме того, совершенно не подходил по всему своему характеру для выполнения подобных замыслов.
Тем не менее легенда укоренилась и нанесла огромный вред Русскому государству; она имела самые разнообразные последствия. Она усилила приток денег в кассы революционеров, в особенности Бунда, под предлогом организации защиты от погромов. Она сильно повредила престижу русской власти за границей. Если верить известному деятелю охранного отделения Л. Ратаеву, она же толкнула еврея Азефа, верно служившего двенадцать лет «осведомителем» власти в революционных организациях, на ту страшную двойную роль охранника-террориста, с которой навсегда осталось связанным его имя…
Насколько превратные представления о русских порядках сложились за границей, рассказывает тот же князь Урусов: летом 1903 г. в Кишинев приехал для наведения справок один англичанин, который был крайне поражен, убедившись, что участники погрома сидят в тюрьме, ожидая суда, что ведется нормальное следствие. В результате английское правительство на основе консульских донесений представило обеим палатам доклад о положении в Кишиневе, опровергнувший фантастические слухи. Но еще в декабре 1903 г. в Кишиневе появился американский корреспондент, прибывший взглянуть на «рождественский погром»!
Все лето разбирались «малые» дела о погроме (о расхищении имущества): судилось 566 человек; из них 314 было присуждено к тюремному заключению. В ноябре началось разбирательство процесса 350 обвиняемых в убийствах и грабежах. Чтобы не возбуждать племенных страстей пространными и неизбежно тенденциозными отчетами в газетах, было решено разбирать его при закрытых дверях; отчеты, впрочем, в тот же день переправлялись в Румынию и печатались во всей иностранной печати. Князь С. Д. Урусов, присутствовавший на процессе, отмечает две его черты: это стремление представителей «гражданского иска», левых адвокатов, использовать суд для «обличения» правительства, тогда как они не проявляли никакого интереса к уличению обвиняемых; и характерная недостоверность свидетельских показаний о народных смутах: «Свидетели, сидевшие во время погрома в подвалах, видели то, что происходило за две улицы от них; свидетели убийств показывали на разных обвиняемых…» Процесс тянулся чуть не год и закончился рядом обвинительных приговоров.
* * *
6 мая был убит в уфимском городском саду местный губернатор Богданович, «доблестной смертью запечатлевший свою службу Престолу и отечеству», как писал государь его семье. Убийца на этот раз скрылся. В этом деле была рука Азефа; его заведомая причастность к охране, по-видимому, и породила нелепые толки о том, будто этого убийства желало Министерство внутренних дел.
Убийство Богдановича было планомерным осуществлением плана социалистов-революционеров: «карать смертью» всех представителей власти, проявляющих энергию в борьбе с волнениями. В князя Оболенского стреляли за подавление крестьянских беспорядков в Харьковской губернии; в Богдановича – за прекращение волнений в Златоусте. Попытка запугать представителей власти осталась, правда, бесплодной: едва ли нашлись такие губернаторы, которых от исполнения долга удержала угроза убийства от рук революционеров! Но в интеллигенции сложилось представление о «революционном правосудии»;[54] и с «готтентотской моралью», столь характерной для периодов острой политической борьбы, общество оправдывало, а то и одобряло эти самочинные «казни» за неугодное направление и возмущалось, когда правительство в некоторых случаях отвечало на убийства смертными казнями.
Следующая волна беспорядков возникла в июле. В Одессе началась забастовка служащих трамвайной компании и портовых рабочих. Видное участие в ней приняла независимая рабочая партия, и полиция поэтому не считала нужным вмешиваться. 17 июля была устроена грандиозная рабочая демонстрация. «Был момент, когда весь город был во власти рабочей массы», – писало об этом «Освобождение». Дело клонилось ко всеобщей забастовке сочувствия бастующим трамвайным рабочим. Были случаи насилия над лицами, не желавшими подчиниться бастующим. Командующий войсками округа, генерал Каульбарс, перепугался не на шутку; полиция была уже бессильна; были вызваны из окрестностей войска, которые к вечеру заняли город. Столкновений не было. Беспорядки на следующий же день прекратились. Однако, решив, что такие выступления при участии «зубатовских» организаций – опасная игра с огнем, власти выслали из Одессы, к большому удовольствию социал-демократов, руководителя независимой рабочей партии Шаевича.
Менее мирно сошли рабочие выступления в Киеве (21–25 июля). Там во время забастовки в железнодорожных мастерских рабочие останавливали поезда, кидали камнями в полицию и войска; толпа била стекла в некоторых кварталах. Войска, появившиеся на сцене только на третий день беспорядков, дважды вынуждены были прибегать к оружию. В общем было убито 4 человека и ранено несколько десятков. Происходившие в том же июле (27–29) беспорядки в Елизаветграде, в Николаеве (август) были прекращены без человеческих жертв.
Другую значительную группу волнений, наряду с выступлениями рабочих, представляли собою протесты армянского населения против передачи имущества армяно-григорианской церкви в ведение властей. Мера эта была выдвинута В. К. Плеве по следующим основаниям: армянские церковные имущества, управлявшиеся лицами, назначенными армянским патриархом (католикосом), проживавшим в монастыре Эчмиадзине, давали крупные доходы, часть которых, по агентурным сведениям, шла на поддержку армянских национально-революционных организаций в России и в Турции. Желая это прекратить, В. К. Плеве представил государю проект передачи этих имуществ в управление казны (с тем, чтобы все выдачи на законные церковные и культурные потребности армянского населения удовлетворялись по-прежнему – но только под контролем власти). 12 июля был издан соответствующий высочайший указ.
Армянское население восприняло этот указ как попытку отобрать в казну его церковные имущества, как посягательство на его священные права, и во всех городах, где было много армян, наблюдались сцены, сильно напоминавшие то, что можно было видеть во Франции примерно в те же годы при описях церковного и монастырского имущества: толпы собирались вокруг церквей, не допускали совершения описей, бросали камнями в представителей власти. В Александрополе, Елисаветполе, Эривани, Баку, Тифлисе, Карсе, Шуше происходили (в июле – сентябре) столкновения, порою кровавые (так, в Елисаветполе было 7 убитых, 27 раненых). В итоге эти меры едва ли сильно повредили армянским революционным организациям, но восстановили против власти лояльную «толщу» армянского населения.
Особое место в ряду волнений 1903 г. занимают беспорядки в Гомеле (29 августа – 1 сентября). В этом городе евреи составляют большинство населения и уже и раньше проявляли умение постоять за себя. Так, еще в апреле 1897 г., вследствие слухов о готовящемся погроме, толпы евреев высыпали на улицы; и в результате получился процесс – об избиении нескольких русских солдат еврейской толпой. Суд признал, что произошла драка, виновников которой трудно определить, но приговорил 5 евреев к тюремному заключению за сопротивление полицейскому патрулю.
Вести о кишиневском погроме, рост революционного движения в рабочей среде, влияние Бунда, начавшего побеждать в Западном крае Независимую рабочую партию, – все это создавало нервное настроение и в Гомеле. 29 августа на рынке возникли пререкания между еврейскими и русскими рабочими, быстро перешедшие в драку. «В этой первой драке перевес был на стороне евреев», – отметило «Освобождение». 31 августа группы русских рабочих, желая «отомстить за поражение», направились в еврейский квартал и начали бить стекла и громить дома; пострадало 140 домов. Еврейская самооборона выступила, в свою очередь, энергично отбиваясь и отстреливаясь.
В город как раз возвращались войска из летних лагерей; до них дошли слухи о том, что «евреи режут русских», и первые их удары были направлены против тех домов, из которых отстреливались евреи. Это затем навлекло на власть обвинение в пристрастии. Волнения, впрочем, были быстро подавлены. Число жертв достигало: со стороны русских – 4 убитых, 5 раненых; со стороны евреев – 2 убитых, 9 раненых. Гомельские беспорядки, в отличие от кишиневского погрома, носили «встречный» характер, что отразилось и на составе подсудимых соответствующего процесса: евреев и русских было примерно поровну.
* * *
В тот самый день 17 июля, когда в Брюсселе открывался съезд социал-демократов, а в Одессе происходили массовые рабочие демонстрации, застигнувшие врасплох местные власти, – на другом конце России совершались события совершенно иного порядка: государь прибыл в Саровскую пустынь на перенесение мощей святого Серафима Саровского.
Саровские дни были значительным событием в жизни государя. Он живо интересовался личностью преподобного Серафима (старца-подвижника, скончавшегося в 1833 г.); когда Синод объявил о причислении Серафима Саровского к лику святых, государь пожертвовал большие средства на украшение обители, на сооружение раки для хранения мощей святого и на устройство торжественных празднеств по этому случаю.
Приготовления к торжествам длились более чем полгода; левая «легальная» печать по-своему выражала к ним свое отношение, храня полное молчание; заграничные издания, в том числе и «Освобождение», иронизировали по поводу готовившихся празднеств и доказывали, между прочим, будто канонизация преподобного Серафима незаконна, так как его тело не осталось нетленным…
Саровская пустынь расположена среди густых лесов, на рубеже Нижегородской и Тамбовской губерний, в сотне верст от ближайшей железной дороги. Около монастырской ограды, в предвидении большого числа паломников, были построены временные бараки на несколько десятков тысяч человек. Молва о торжествах разнеслась по всей России, и с самых разных концов стали собираться в Саров богомольцы и больные, жаждущие исцеления. Вместе с населением окрестных уездов, массами повалившим в пустынь – отчасти на богомолье, отчасти чтобы увидеть царя, – в Саров собралось не менее 300 000 человек.
Государь, обе императрицы, великие князья Сергей Александрович, Николай Николаевич и Петр Николаевич, другие члены царской семьи, митрополит Санкт-Петербургский Антоний, епископы Нижегородский, Казанский, Тамбовский прибыли в Саров к вечеру 17 июля. На следующее утро государь отправился пешком в скит, куда удалялся временами святой Серафим. Вдоль всей дороги теснились паломники, главным образом крестьяне, громко приветствовавшие царя. Днем, после богослужения в Успенском соборе, шествие проследовало в Зосимо-Савватиевскую церковь, где стоял гроб святого Серафима; государь, великие князья и архиереи подняли гроб и понесли его на носилках в собор. Это было уже вечером; по обе стороны шествия стояли ряды молящихся с зажженными свечами.
«Выйдя из церкви, – пишет участник торжеств, – мы очутились поистине в другом храме. Наполнивший монастырскую ограду народ стоял в благоговейном молчании; у всех в руках горящие свечи. Многие, стоя на коленях, молились по направлению к собору. Вышли за монастырскую ограду – там та же картина, но еще величественнее, еще грандиознее: там стоят еще большие толпы народа и также со свечами, иные держат целые пуки их. Было так тихо, что пламя свечей не колыхалось.
Тут был в буквальном смысле стан паломников. Среди масс народа стояли телеги и разных видов повозки с привязанными к ним лошадьми… Из разных мест доносилось пение. То кружки богомольцев и богомолок пели разные церковные песнопения. Не видя поющих, можно было подумать, что звуки пения несутся с самого неба… Минула полночь, а пение не умолкало».
На третий день торжеств, после литургии, говорил проповедь архиепископ Казанский Димитрий. «Уединенная подвижническая обитель превратилась в многолюдный город, – говорил он. – Всегда пустынный молчаливый лес Саровский полон ныне волнения и говора, движения и шума. Но это – не шум житейской суеты… Это могучий подъем и неудержимо сильное проявление сильного и здорового духа благочестия, которым живет и дышит православная Русь».
За Саровские дни государю также представлялись нижегородские дворяне с их предводителем А. Б. Нейдгардтом и тамбовские с предводителем князем Чолокаевым. Государь разделял братскую трапезу монахов обители. Когда на четвертый день, 20 июля, настал момент отъезда, епископ Тамбовский Иннокентий, служивший молебен в часовне барачного поселка паломников, указал на великое значение тесного общения царя со своим народом, пережитое за эти памятные дни.
Саровские торжества укрепили в государе веру в его народ. Он видел вокруг себя, совсем близко, несчетные толпы, охваченные теми же чувствами, как и он, трогательно выражавшие ему свою преданность. Он видел и крестьянство, и духовенство, и дворянство, и невольно ему казалось, что та смута, которая тревожила его последний год и казалась такой грозной его министрам, – что эта смута наносное, внешнее, чисто городское явление, тогда как сердце России еще здорово и бьется заодно с сердцем ее государя.
* * *
В этом убеждении, игравшем большую роль во всех действиях государя, были и доля правды, и доля самообмана. Та часть населения, которой не было в Сарове, которая в эти самые дни все более углублялась в упорную, предвзятую враждебность к власти, была необходимым звеном в строении государства. Между государем и массой не хватало промежуточных звеньев; не хватало исполнителей его воли «не за страх, а за совесть».
Попытки вызвать к жизни идейные правые организации делались, но не имели большого успеха. В Санкт-Петербурге возобновило деятельность «Русское собрание». Среди студенчества получили некоторое распространение союзы «академистов», восстававших против засилья политики. В Харькове – профессор А. С. Вязигин, в Санкт-Петербурге – приват-доцент Б. В. Никольский организовали правые кружки, читали доклады. Интеллигенция применяла против таких отдельных «смельчаков» орудие морального террора и клеветы: рядовой интеллигент был глубоко убежден, что те, кто не разделяют его воззрений, либо подкупленные, бесчестные личности, либо, в лучшем случае, люди не совсем нормальные…
* * *
За границей первые три года XX в. не принесли заметных внешних перемен. Во Франции правил левый блок Вальдека-Руссо; в Германии – Бюлов, в Англии еще держался консервативный кабинет. Не было ни новых войн (Англо-бурская закончилась в начале 1902 г.), ни революций в больших странах. На этом бледном фоне выделился переворот 29 мая 1903 г. в Сербии, убийство короля Александра Орбеновича с супругой и приближенными. Это убийство вызвало в Европе глубокое возмущение; заговорили о возможности разрыва сношений с Сербией. Однако новая династия Карагеоргиевичей сумела приобрести авторитет и популярность в стране; и – что было особенно существенно для России – с этой переменой австрийская ориентация сербской политики сменилась снова ориентацией русской. Семья Карагеоргиевичей имела давние связи с Россией; сыновья князя Петра, Георгий и Александр, воспитывались в Санкт-Петербурге, первый в Александровском корпусе, второй – сначала в Императорском училище правоведения, потом в Пажеском его величества корпусе. Мать их была сестрой русских великих княгинь Анастасии Николаевны и Милицы Николаевны.
Между Россией и Францией поддерживались корректные союзные отношения, несмотря на явное взаимное несочувствие в вопросах внутренней политики. В сентябре 1901 г. государь во второй раз посетил Францию. Он присутствовал на маневрах французского флота в Дюнкерке и на маневрах армии в Реймсе. В Париже государь не был, к великому разочарованию парижан. Но тон отношений с Францией при новом правительстве был несколько иным: сам государь не высказал желания посетить столицу, да и французское правительство на этом не настаивало… «Приходится сказать, что этот второй приезд русской царской четы не вызвал прежнего общего порыва народной радости», – отмечала Revue des deux mondes.
Весною следующего года (7–9 мая 1902 г.) отдавать визит приехал в Петербург французский президент Лубе. В тех речах, которыми при этом обменялись государь и французский президент, не было ничего, кроме общих слов о неизменности союза.
* * *
Отношения с Германией за этот период были несколько сложнее. Германское правительство отвергло английские попытки завязать с ним союз, длившиеся почти три года (1898–1901). Ошибочно считая интересы Англии абсолютно несовместимыми с интересами Франции и России, Германия с некоторой тревогой наблюдала за первыми шагами в сторону англо-французского «сердечного согласия». Император Вильгельм II старался поддерживать связь с Россией, главным образом путем личной переписки с государем.
Хотя царская семья за первое десятилетие царствования государя несколько раз гостила в Германии у родственников императрицы, эти приезды не имели характера политических визитов. Но независимо от этого оба монарха имели за 1901–1903 гг. три серьезных «деловых» свидания: в Данциге (сентябрь 1901 г.), Ревеле (август 1902 г.) и Висбадене (конец октября 1903 г.).
Брат императора Вильгельма, принц Генрих Прусский, гостил у государя в Спале осенью 1901 г. и вынес из этого длительного общения с ним совершенно иные представления о русском монархе, нежели те, которые господствовали в германских правящих кругах. «Царь благожелателен, любезен в обращении, но не так мягок, как зачастую думают, – докладывал принц Генрих германскому канцлеру. – Он знает, чего хочет, и не дает никому спуску (lasst sich nichts gefallen). Он настроен гуманно, но желает сохранить самодержавный строй. Свободно думает о религиозных вопросах, но никогда публично не вступит в противоречие с православием. Хороший военный». Принц Генрих далее отметил, что государь «не любит парламентов» и что он сказал об Эдуарде VII: «Он в своей стране ровно ничего не может делать».
* * *
Отношения с Австрией продолжали оставаться в рамках соглашения 1897 г. о поддержании status quo на Балканах. В 1903 г. эти отношения подверглись испытанию вследствие волнений в Македонии, вызвавших жестокие репрессии со стороны турок и заступничество за повстанцев со стороны Болгарии. Дело еще осложнилось убийствами двух русских консулов – Г. С. Щербины в Митровице, в марте, и А. А. Ростковского в Битоле, в июле 1903 г. Отправка русского флота к турецким берегам (в августе) быстро заставила Турцию принять энергичные меры для наказания виновных.
В сентябре 1903 г. государь в сопровождении министра иностранных дел Ламздорфа прибыл в Вену, и там, во время охоты около горного курорта Мюрцштег, он имел беседу с императором Францем-Иосифом при участии обоих министров иностранных дел (графов Ламздорфа и Голуховского).
«С самого начала волнений, возникших в Македонии, – писал по этому поводу официальный Journal de St. Petersbourg (19.IX.1903), – обе соседних и дружественных империи, верные соглашению, которое с 1897 г. служило основой для их балканской политики, не переставали деятельно работать в целях замирения». Стремясь к сохранению status quo, Россия и Австрия действовали так же и против македонских повстанцев, поддерживаемых Болгарией. «Комитеты эти, – говорилось в русском правительственном сообщении 17 сентября, – в своекорыстных целях добиваются изменения административного строя провинции в смысле образования «Болгарской Македонии» в ущерб правам и интересам других христианских народностей, интересы коих одинаково дороги православной России».
«Мюрцштегская программа» реформ в Македонии сводилась к следующему: в управлении Македонией должны были участвовать прикомандированные к губернаторам представители России и Австро-Венгрии; в жандармерию должны были быть введены иностранные инструкторы; в судах должно было быть поровну христиан и мусульман. Турция приняла эти требования, но их выполнение и в дальнейшем оставляло желать лучшего.
* * *
Не будет преувеличением сказать, что ключом к внешней – и в известной степени к внутренней – политике первого периода царствования императора Николая II следует считать вопросы Дальнего Востока, «большую азиатскую программу». Во время Ревельского свидания государь сказал императору Вильгельму, что он питает особый интерес к Восточной Азии и рассматривает укрепление и расширение русского влияния в этих областях как задачу именно своего правления.
Государь и в ревельской, и в данцигской беседах соглашался в принципе, что всякая ссора между Россией и Германией была бы только в интересах революции. Его, однако, в первую очередь интересовало другое: какую позицию займет Германия в делах Дальнего Востока? А в этом отношении Вильгельм II избегал принимать на себя какие-либо определенные обязательства. «Адмирал Атлантического океана приветствует адмирала Тихого океана» – таким сигналом прощался в Ревеле германский император с русским царем. В этом приветствии было больше заносчивости, чем лести: Россия была в ту пору близка к первенству на Тихом океане, тогда как германский флот в 1902 г. не мог равняться не только с английским, но и с французским флотом.
Рост русской мощи тревожил все другие державы, в том числе и Германию. «Если Англия и Япония будут действовать вместе, – писал Бюлову (5.III.1901) Вильгельм II, – они могут сокрушить Россию… Но им следует торопиться, иначе русские станут слишком сильными».
Еще определеннее выражался Бюлов в любопытном меморандуме от 12 февраля 1902 г.: «Бесспорно, к самым примечательным явлениям момента принадлежит постепенное выявление антирусского течения, даже там, где этого меньше всего ожидаешь… Для меня растущая русофобия – установленный факт, в достаточной мере объясняющийся событиями последней четверти века». Бюлов указывает затем на быстрый рост русской мощи в Азии, на ожидающийся распад Турции… Действительно, при обеспеченном азиатском тыле Россия могла бы и на Ближнем Востоке заговорить по-новому. Линия России шла вверх; со страхом и завистью смотрели на нее другие.
* * *
Примечательно – и трагично, – что «большая азиатская программа», оцененная по достоинству иностранной дипломатией, встречала полное непонимание в русском обществе, которое что-то лепетало о «маньчжурской авантюре» и готово было искать причины русской политики на Дальнем Востоке, единой в течение всего первого периода царствования государя, в материальной заинтересованности каких-то «царских адъютантов»… в лесных концессиях на территории Кореи. Это поняли задним числом и представители русского «марксизма». «Нет более убогого взгляда на вопрос, чем взгляд буржуазных (?) радикалов, сводивших все дело к концессионной авантюре на Ялу», – пишет коммунистический «Красный архив» (№ 52) и повторяет в другом месте: «Концепция об авантюризме различных придворных клик является не только недостаточной, но и убогой».
Главным препятствием на пути к русскому преобладанию на Дальнем Востоке была, конечно, Япония. Столкновение с нею предвиделось государем уже давно, хотя всегда была надежда, что страх перед силой России удержит Японию от нападения. Государь учитывал, что близость к театру возможной войны и отсутствие удобных сообщений между Европейской Россией и Дальним Востоком даст Японии на первых порах преимущество, и не желал столкновения и вообще, а особенно пока не был закончен Великий сибирский путь.
«Я не хочу брать себе Корею, – говорил государь принцу Генриху (в октябре 1901 г.), – но никоим образом не могу допустить, чтобы японцы там прочно обосновались. Это было бы casus belli. Столкновение неизбежно; но надеюсь, что оно произойдет не ранее чем через четыре года, – тогда у нас будет преобладание на море. Это – наш основной интерес. Сибирская дорога будет закончена через 5–6 лет».
Поздней осенью 1901 г. видный японский государственный деятель, маркиз Ито, приезжал в Россию, для того чтобы попытаться заключить соглашение о размежевании сфер влияния. В основе его предложение сводилось к тому, чтобы за Россией осталась Маньчжурия, а Япония бы получила свободу действий в Корее. В то время Россия уже владела Маньчжурией, а Япония еще искала возможности найти опорную точку на Азиатском материке. Соглашение не давало России ничего нового. «Полный отказ от Кореи составит слишком дорогую цену для соглашения с Японией», – высказался по этому поводу военный министр А. Н. Куропаткин, государь пометил на докладе о переговорах с маркизом Ито: «России никак нельзя отказаться от прежнего ее права держать в Корее столько войск, сколько там находится японских». Трудно сомневаться в том, что Япония, укрепившись в Корее, заявила бы дальнейшие притязания; не следует также забывать, что лишение покровительства Кореи, полагавшейся на русскую защиту против Японии, нанесло бы тяжкий удар престижу России в Азии.
Следующим ходом в дипломатической игре на Дальнем Востоке было заключение англо-японского союза – 30 (17) января 1902 г. Англия и Япония обещали друг другу дружественный нейтралитет в случае войны против одной державы и военную поддержку – в случае борьбы с двумя.
Русская дипломатия тотчас же учла значение этого шага и приложила большие усилия для того, чтобы побудить Францию и Германию на «контрвыступление». Германское правительство, однако, уклонилось от участия, вопреки настояниям германского посла в Санкт-Петербурге Альвенслебена, указывавшего, что государь придает этому выступлению большое значение и что отказ может сильно повредить русско-германским отношениям. Франция, со своей стороны, корректно выполнила свой долг союзницы: 16 (3) марта была опубликована франко-русская декларация, отвечающая на англо-японский союз, хотя и несколько расплывчатая по содержанию: в случае «агрессивных действий третьих держав» или «беспорядков в Китае» Россия и Франция оставляли за собою право «применить надлежащие средства».
Корея сохраняла между тем формальную независимость, а корейское правительство еще с ранних времен русско-корейской дружбы выдало лесные концессии нескольким русским военным. Ввиду надвигавшейся опасности столкновения с Японией эти концессии, расположенные преимущественно в районе пограничной (между Маньчжурией и Кореей) реки Ялу, открывали возможность не только изучить местность, но и подготовить некоторую передовую оборонительную линию, «заслон» перед маньчжурской границей. Об этих стратегических задачах, разумеется, нельзя было открыто писать, и в русском обществе сложилось превратное представление, будто речь шла о каких-то исключительно выгодных концессиях, которые «жадная придворная клика» никак не хочет отдавать Японии, хотя бы это грозило России войной.
* * *
В 1902 г. С. Ю. Витте совершил поездку на Дальний Восток и вынес из нее весьма пессимистические впечатления. Он склонялся к мнению, что русское дело там проиграно, и готов был советовать самые крайние уступки. Государь, со своей стороны, посылал от себя на Дальний Восток «разведчиков» (из которых наибольшую известность получил статс-секретарь А. М. Безобразов). Считая азиатскую политику «задачей своего правления», государь не мог согласиться с пессимистическими выводами Витте; если многое еще не доделано – необходимо удвоить усилия; если сейчас соотношение сил невыгодно – следует «лавировать», но никоим образом нельзя отказываться от выполнения исторической миссии России.
На опасность положения указывал и командующий русскими вооруженными силами на Ляодунском полуострове адмирал Алексеев; но он требовал принятия срочных мер по усилению обороны на Дальнем Востоке, а не давал совета «свертываться».
Япония энергично готовилась к войне; она построила себе в Англии значительный флот и вела переговоры о покупке некоторых южноамериканских судов. Наступал опасный момент: Сибирская дорога была не вполне закончена (сквозное движение открылось в августе 1903 г., но не хватало Круго-Байкальской дороги, а переправа через Байкал на судах-паромах создавала пробку посреди пути); а из русских броненосцев новейшего образца был готов только один («Цесаревич»).
Государь считал, что в 1905–1906 гг. Россия будет достаточно сильна на Дальнем Востоке, чтобы более не бояться Японии. Но был еще 1903 г. Ближайшие полтора-два года были периодом наибольшего риска. Война становилась реальной возможностью, причем ее повод, конечно, нельзя было угадать заранее.
25 января 1903 г. в особом совещании по делам Дальнего Востока обсуждалось создавшееся положение. Русский посланник в Токио барон Р. Р. Розен указывал, что риск столкновения существует. Япония готовит захват Кореи – «иначе к чему японские вооружения?». Посланник в Пекине, Лессар, сообщил о новой политике китайского правительства, поощряющего колонизацию Маньчжурии китайцами. Военный министр А. И. Куропаткин заявил, что именно стихийный характер китайской колонизации Маньчжурии «должен побудить к решительным мерам, иначе в короткий срок вся местность до Амура окажется заселенной, и тогда трудно будет сдержать наплыв желтой расы в Приамурье».
Витте на этом совещании отстаивал политику непротивления и доказывал, что никакой реальной опасности войны нет, что с Японией вполне можно сговориться. А на чрезвычайном военном совете 26 марта Витте утверждал, что предположения русского военного агента на Дальнем Востоке генерала Вогака «могут и не сбыться» и что вообще положение там «вовсе не столь угрожающее»!
Было ли это тактическим приемом из нежелания резко разойтись с планами государя или действительным непониманием положения на Дальнем Востоке, – но С. Ю. Витте вообще занял своеобразную позицию: он предлагал уступать, не принимать военных мер, говоря, что в будущем Маньчжурия или должна присоединиться к России, или стать от нее в полную зависимость, но что нужно «предоставить совершение этого процесса историческому ходу дела, не спеша и не насилуя естественного течения событий».[55] Между тем этот «естественный ход» – в случае отступления России – вел прямо к закреплению Японии на материке, в Корее, и к быстрой колонизации Маньчжурии китайцами. Та пассивность, которую проповедовал Витте, вела к вытеснению России с Дальнего Востока. Это понимали даже столь далекие от власти люди, как некоторые сотрудники «Освобождения».
Князь Г. М. Волконский, возражая другому автору в «Освобождении» (№ 49), писал: «Я бы согласился с мнением г. Мартынова, если бы мне доказали, что при нашем экономическом и политическом бездействии в Маньчжурии Япония не заняла бы по порядку Корею, Порт-Артур, Маньчжурию, Приморскую область и Приамурский край». Сопротивление, даже в случае неудачи, было все-таки менее рискованным, нежели пассивность.
То отношение к самому ответственному вопросу момента, которое проявилось у С. Ю. Витте, привело бы к его немедленной отставке, если бы в России в ту пору существовал объединенный кабинет. В данном случае, однако, «разнобой» – умеряемый, но не устраняемый воздействием государя – продолжался почти год; и, можно думать, нежелание С. Ю. Витте считаться с потребностями активной политики на Дальнем Востоке сыграло известную роль в недостаточной подготовленности России к войне. Ведь противодействие Витте не уменьшало шансов войны: оно только уменьшало шансы русской победы.
Вернувшись из Сарова с возросшей верой в силы русского народа, государь принял две меры, имевшие целью упрочить положение на Дальнем Востоке и устранить в этом вопросе колебания: 30 июля было учреждено наместничество Дальнего Востока; 16 августа С. Ю. Витте был уволен с поста министра финансов.
Учреждение наместничества (причем наместником был назначен адмирал Алексеев, уже начальствовавший несколько лет в Квантунской области) должно было объединить все органы русской власти на Дальнем Востоке для общей цели противодействия ожидавшемуся нападению. Наместнику подчинялись войска, флот и администрация (включая полосу Китайско-Восточной дороги).
Отставка С. Ю. Витте была, по-видимому, для него неожиданной, хотя теперь, на расстоянии, скорее трудно понять, что она не имела места раньше. Хотя была избрана весьма почетная форма отставки – назначение председателем Комитета министров (на место скончавшегося в начале лета И. Н. Дурново), – Витте воспринял ее как личную обиду, и не будет преувеличением сказать, что с этой минуты он сделался личным врагом государя, хотя, по обстоятельствам момента, и старался временами это скрывать.
Русская печать была озадачена отставкой Витте; существо дальневосточных вопросов было ей чуждо и неясно; газеты указывали на недочеты экономической политики Витте, но выражались сдержанно. И даже «Освобождение» не могло сразу решить – «опала» ли это или повышение?
«Гражданин» писал: «В результате, наряду с развитием фабрики, у нас стало замечаться падение сельского хозяйства, что обрушилось всею тяжестью на два важнейших сословия – дворянство и крестьянство». «Новое время» в передовой статье осторожно смешивало похвалы с критическими замечаниями.
Во время свидания в Висбадене (в конце октября 1903 г.) государь говорил императору Вильгельму, что внутреннее положение Франции ему не нравится; абсолютное безверие его отталкивает; виною этому масоны, которые сильны и в Италии. Но он должен поддерживать связь с Францией, чтобы та не перешла в лагерь Англии.
Царь хочет избежать войны с Японией, отметил при этом Бюлов, если только сами японцы не нападут на Владивосток или Порт-Артур. Это значит: он не хочет войны, но готовится к ней.
В это время уже начал вырисовываться и повод войны: не Корея, как думали долгое время, а сама Маньчжурия. Россия после «боксерского» восстания помогла Китаю выйти из затруднений без особого урона и хотела заключить с ним договор об особых преимуществах России в Маньчжурии. Этот вопрос был снят с очереди, так как все другие державы в тот момент (начало 1901 г.) этому воспротивились. Русские, однако, занимали Маньчжурию; и хотя в соглашении 1902 г. говорилось, что область будет постепенно передана китайским властям (за исключением полосы отчуждения Китайско-Восточной железной дороги), державы фактически примирились с русским господством в Маньчжурии. Германия открыто объявила о своей незаинтересованности в этом вопросе; Франция была с Россией в союзе; Япония, через маркиза Ито, попыталась получить «компенсацию» в Корее. Англия и Америка интересовались преимущественно вопросом об открытых дверях (равных условиях торговли) в Маньчжурии.
Но когда приблизился «критический момент», Япония начала выступать в качестве защитницы прав Китая и настаивать на том, чтобы Россия выполнила русско-китайское соглашение 1902 г. и эвакуировала Маньчжурию в установленный им срок (к концу 1903 г.). Россия в ответ указывала, что условия эвакуации не выполнены Китаем. Одновременно Япония протестовала против русских предприятий в Корее.
Переговоры тянулись почти весь 1903 г. Россия готова была на значительные уступки в Корее, но она не могла признать за Японией права становиться арбитром русско-китайских отношений. В сущности, Япония только искала повод для сведения счетов в благоприятный для нее момент, и она выбрала повод довольно удачно – англосаксонское общественное мнение сочувствовало требованию об уходе русских из Маньчжурии, тогда как его едва ли пленила бы перспектива японского захвата Кореи.
Отдельные перипетии переговоров не имеют особого значения. Япония требовала; Россия в основном не могла уступить. От Японии зависело, в какой момент прервать переговоры, так как Россия вообще не имела желания вступать в конфликт и нападать бы не стала. России оставалось только одно: деятельно готовиться к отпору. В конце 1903 г. на Дальний Восток были отправлены только что выстроенный в Тулоне броненосец «Цесаревич» и броненосный крейсер «Баян»; вслед за ними вышли броненосец «Ослябя» и несколько крейсеров и миноносцев.
В западноевропейских столицах все более проникались представлением о неизбежности войны. Германский поверенный в делах в Лондоне граф Бернсторф писал, что Японии необходимо действовать теперь же: в Англии назревает охлаждение к англояпонскому союзу, да и русские силы в Восточной Азии растут с каждым днем.
Французское правительство сочло нужным разъяснить, что франко-русский союз относится только к европейским делам. Германия заверяла и Россию, и Японию в дружественном нейтралитете.
* * *
Русская внутренняя борьба между тем шла своим чередом. Ярким фактом на рубеже 1904 г. были репрессии против тверского земства. Это всегда было одно из наиболее либеральных земств, и как раз в декабре губернское земское собрание вступило в конфликт с тверским уездным земством, высказавшимся в пользу передачи земских школ в ведение Синода. Губернское земство решило прервать с уездным всякие сношения и в меру возможности лишить его кредитов. В это время для ревизии общего положения в губернию был прислан из Санкт-Петербурга директор департамента общих дел Б. В. Штюрмер. На основании его доклада Плеве испросил у государя высочайшее повеление о чрезвычайных мерах против тверского земства.
17 января 1904 г. в газетах появилось сообщение о том, что выборная Тверская земская управа (и уездная Новоторжская) устраняются от должности; созыв губернского земского собрания отменяется; новая управа назначается правительством; министру внутренних дел предоставляется право «удалить из губернии лиц, вредно влияющих на ход земского управления».
Эти чрезвычайные меры, не предусмотренные в законах о земстве, мотивировались тем, что среди земских служащих, и особенно в народных школах Новоторжского уезда, распространены революционные течения. Доказательством этому служили данные о характере преподавания в школах, об антирелигиозных чтениях, о «туманных картинах», изображавших Пугачевский бунт с сочувственными комментариями, и т. д.
Опять-таки, как в вопросе о мерах против земской статистики, эти обвинения были, в сущности, обоснованны. Среди народных учителей было немало социалистов – особенно там, где земство бывало либеральным. Социалисты, со своей стороны, даже рискуя увольнением, считали своим долгом распространять свои учения.
Получался заколдованный круг: непротивление поощряло пропаганду – репрессии восстанавливали против власти весьма широкие, даже и умеренные круги. Земскую статистику еще можно было, пожалуй, просто «сократить», но как поступить со школами? Нельзя же было их закрыть – и где было найти заместителей? Как во всех других вопросах, власть и тут наталкивалась на трагичное для нее явление: нехватку лояльно настроенных представителей – интеллигенции и полуинтеллигенции. То же было с земской статистикой; то же с рабочими организациями…
Легальная печать не имела возможности отозваться на меры против тверского земства и только «красноречиво молчала» (включая «Новое время»).
* * *
В эти самые дни, не выждав даже последнего русского ответа на свою ноту, Япония заявила о разрыве дипломатических сношений.
«Японский посланник передал ноту о решении Японии прекратить дальнейшие переговоры и отозвать посланника, – говорилось в русской циркулярной ноте 24 января 1904 г. – Подобный образ действий токийского правительства, не выждавшего даже передачи ему отправленного на днях ответа императорского Правительства, возлагает на Японию всю ответственность за последствия».
26 января (8 февраля) русский посол в Лондоне, граф Бенкендорф, еще обращался к английскому министру иностранных дел лорду Лэнсдоуну с просьбой о посредничестве для предотвращения конфликта. С той же целью явился к лорду Лэнсдоуну французский посол, крайне взволнованный. Английский министр отказался что-либо сделать; он сказал, что поздно; кроме того, «Япония не желает ничьего посредничества».
Момент разрыва сношений (который, по существу, был предрешен давно) был выбран с большой точностью: купленные в Италии (точнее, перекупленные у Аргентины) броненосные крейсера «Ниссин» и «Кассуга» только что миновали Сингапур, и их уже не могли нигде задержать в пути; тогда как последние русские подкрепления («Ослябя», крейсера и миноносцы) еще находились в Красном море.
Вечером 26 января (8 февраля) Япония, без официального объявления войны, начала под Порт-Артуром военные действия.
Книга вторая Переломные годы 1904–1907
Николай II. Русско-японская война 1905 г.
Глава 1
Значение Русско-японской войны. – Подготовка и силы сторон. – Отклики на войну: патриотические манифестации. – Отношение других держав. – Назначение Куропаткина. – Морские операции под Порт-Артуром; адмирал Макаров. – Англо-французское соглашение 30.III (12.IV) 1904. Бой на Ялу. – Циньчжоу и начало осады Порт-Артура. – Генерал Куропаткин и адмиралы Алексеев; Вафангоу. – Убийство Бобрикова и Плеве. – Морской бой 28 июля. – Рождение наследника. – Ляоян. – «Весна» князя Святополк-Мирского. – Бои на Шахэ. – Рост пораженчества. Выход 2-й эскадры и инцидент на Доггербанке. – Проект русско-германо-французского соглашения. – «Земский съезд» 6–9 ноября 1904 г. – Манифест 12 декабря. – Сдача Порт-Артура. – Приказ по армии и флоту на 1 января 1905 г.
С тех дней, когда Петр Великий «прорубал окно в Европу», ни одна война не была в такой мере борьбой за будущее России, как Русско-японская война. Решался вопрос о выходе к незамерзающим морям, о русском преобладании в огромной части света, о почти незаселенных земельных просторах Маньчжурии.
Иначе как поставив крест над всем своим будущим в Азии, Россия от этой борьбы уклониться не могла. О «двух несогласимых судьбах» говорит американский летописец Русско-японской войны С. Тайлер. «Россия, – пишет он, – должна была прочно утвердиться на Печилийском заливе и найти свой естественный выход в его свободных гаванях, иначе все труды и жертвы долгих лет оказались бы бесплодными, и великая сибирская империя осталась бы только гигантским тупиком».
«Только неразумное резонерство, – писал Д. И. Менделеев, – спрашивало: к чему эта дорога? А все вдумчивые люди видели в ней великое и чисто русское дело… путь к океану – Тихому и Великому, к равновесию центробежной нашей силы с центростремительной, к будущей истории, которая неизбежно станет совершаться на берегах и водах Великого океана».
Государь в полной мере сознавал все историческое значение «большой азиатской программы». Он верил в русское будущее в Азии и последовательно, упорно прокладывал пути, «прорубал окно на океан» для Российской империи. Преодолевая сопротивление и в своем ближайшем окружении, и в сложной международной обстановке, император Николай II на рубеже XX в. был главным носителем идеи имперского величия России.
Государь не любил войну; он даже готов был отказаться от многого, если бы этой ценой действительно удалось достигнуть «мира во всем мире». Но он также знал, что политика капитуляций и «свертывания» далеко не всегда предотвращает войну.
С давних пор – еще с 1895 г., если не раньше, – государь предвидел возможность столкновения с Японией за преобладание на Дальнем Востоке. Он готовился к этой борьбе как в дипломатическом, так и в военном отношении. И сделано было немало: соглашением с Австрией и восстановлением «добрососедских» отношений с Германией Россия себе обеспечивала тыл. Постройка Сибирской дороги и усиление флота давали ей материальную возможность борьбы.
Но если основные вехи русской политики были поставлены правильно, то практическое исполнение оставалось весьма несовершенным. В частности, для укрепления русских позиций на Дальнем Востоке было сделано недостаточно. Постройка Порт-Артурской крепости продвигалась крайне медленно, средства на нее отпускались скудно, в то самое время как на оборудование огромного порта в Дальнем на том же Ляодунском полуострове истрачено было до 20 миллионов. В этом едва ли была чья-либо сознательная злая воля – тут сказывалась характерная черта С. Ю. Витте: на то, что было в его непосредственном ведении, всегда находились средства из бюджетных «остатков», тогда как требования других ведомств, в том числе военного, подвергались строгой предварительной урезке.
Но и Военное министерство в лице генерала А. Н. Куропаткина не проявляло подлинного живого интереса к дальневосточным начинаниям. Военный министр еще в 1903 г. упорно доказывал невозможность отправки значительных подкреплений на Дальнем Восток, утверждая, что это слишком ослабило бы Россию на западной границе. С этим сопротивлением «ведомств», никогда, разумеется, не принимавшим форму прямого неповиновения, а только всевозможных оттяжек и отговорок, государю было нелегко бороться. Все значение столь не любимых министрами и столь вообще непопулярных «квантунцев», как их называли, – А. М. Безобразова, адмирала Абазы, отчасти и наместника Е. С. Алексеева – в том и было, что они должны были сообщать государю обо всем, что не доделано; они являлись как бы «государевым оком», наблюдавшим за исполнением его велений; «орудием, которым государь колол нас», «горчичником», не дававшим министрам уснуть, как выразился Куропаткин в своем дневнике. Но конечно, творили «большую политику» не эти люди: основные вехи были поставлены государем, и уже давно.
За весь 1903 г., когда военные агенты на Дальнем Востоке сообщали в один голос об энергичных приготовлениях Японии, русские силы в Приамурье и в Порт-Артуре были увеличены на каких-нибудь 20 000 человек, хотя, например, статс-секретарь Безобразов настаивал на сосредоточении в Южной Маньчжурии армии хотя бы в 50 000 человек. Военный министр всячески от этого уклонялся. «Я не переставал в течение двух лет ему говорить, – писал государь в апреле 1904 г. императору Вильгельму, – что надо укрепить позиции на Дальнем Востоке. Он упорно противился моим советам до осени, а тогда уже было поздно усиливать состав войск».
Если в высших правительственных кругах относились холодно к дальневосточным начинаниям, то в обществе преобладало равнодушное, а то и прямо отрицательное отношение к ним.
Япония в то же время готовилась к этой борьбе с отчаянной энергией. Престиж неодолимой силы европейских держав стоял в то время очень высоко. Япония быстро усваивала европейскую технику и многие внешние формы; старалась заручиться поддержкой среди «белых», приноравливаясь умело к их понятиям.
Идея войны с Россией возникла в японской народной психологии задолго до 1904 г. Так, известный англо-японский писатель Лафкадио Хирн, описывая возвращение японских войск после войны с Китаем (в 1895 г.), отмечает, как нечто обычное, естественное, слова старого японца о мертвых, которые вернутся: «Из Китая и из Кореи они придут, и те, кто покоятся в морских глубинах… Они услышат зов и в тот день, когда воинства Сына Неба двинутся против России…» Японский народ сжился с этой мыслью.
С 1895 по 1903 г. японская армия мирного времени была увеличена в два с половиной раза;[56] число орудий – более чем утроилось; были, кроме того, подготовлены кадры, давшие возможность выставить армию гораздо более многочисленную, чем рассчитывали военные агенты всех стран. На эти сооружения были истрачены поступления по китайской контрибуции за войну 1894–1895 гг., а отчасти за «боксерское» восстание, причем, по иронии судьбы, Россия в свое время была поручительницей за исправную уплату Китаем своего военного долга!
Еще значительнее было увеличение флота. Он был прямо создан наново, преимущественно на английских верфях; вместо флота, который был количественно слабее китайского или хотя бы голландского, возникла боевая сила великодержавного масштаба.
Все эти усилия делались ввиду серьезной борьбы наступательного характера, борьбы за первенство на Дальнем Востоке, и Япония выбрала для начала войны наиболее удобный для нее момент. Было бы лицемерием укорять ее за то, что она преследовала с железной последовательностью свои цели; но в то же время следует признать, что в конфликте 1904 г. она и по существу, и по форме была нападающей стороной. Россия могла бы избежать борьбы только путем капитуляции, путем самоустранения с Дальнего Востока. Никакие частичные уступки – а их было сделано много, и в их числе была задержка отправки подкреплений в Маньчжурию, – не могли не только предотвратить, но и отсрочить войну.
* * *
Русско-японская война была – после перерыва в несколько десятков лет – первой большой войной с применением современного оружия – дальнобойной артиллерии, броненосцев, минного флота. Но тогда еще не было ни аэропланов, ни дирижаблей; а беспроволочный телеграф и подводные лодки еще только-только начинали применяться и почти не играли роли в этой борьбе.
Хотя русская армия мирного времени и насчитывала около миллиона бойцов, в январе 1904 г. вооруженные силы России на всем Дальнем Востоке не достигали 100 000 человек. Из них около 20 000 составляли гарнизон Порт-Артура; до 50 000 было сосредоточено в Уссурийском крае, менее 20 000 стояло гарнизонами по Маньчжурии. Сообщение с Россией поддерживалось одноколейной Сибирской дорогой, только что достроенной и пропускавшей всего четыре пары поездов в день. Круго-Байкальская дорога еще заканчивалась; а местное население русского Дальнего Востока, откуда могли в первую очередь прибыть призванные под знамена запасные, не достигало и миллиона. Япония в момент мобилизации могла выставить, по расчетам военных агентов, армию в 375 000 человек (потом оказалось, что мобилизовано было свыше 500 000). И она обладала достаточным транспортным флотом, чтобы одновременно перевозить две дивизии со всем необходимым оборудованием. А от японских портов до Кореи было меньше суток пути.
Но самая возможность японских операций на материке всецело зависела от того, за кем останется господство на море. Русский флот на Дальнем Востоке представлял собою значительную силу: 7 эскадренных броненосцев, 4 бронированных крейсера, 7 легких крейсеров (в том числе быстрейший в мире крейсер «Новик» с 25–26-узловым ходом), 25 миноносцев новейшего образца и немалое количество канонерок, посыльных судов и более старых «номерных» миноносцев. Русское морское ведомство даже считало, что преобладание России на море уже обеспечено. Это, однако, было «предвосхищением». Действительно, к началу или середине 1905 г., когда были бы готовы суда, строившиеся в Балтийском море, русский флот достиг бы внушительной по тому времени силы 15 эскадренных броненосцев.[57] Но в момент начала войны Япония имела и в отношении флота заметное численное преобладание: шесть эскадренных броненосцев, шесть бронированных крейсеров, к которым присоединились в первый же месяц еще два – те самые «Ниссин» и «Кассуга», которые миновали Сингапур в момент разрыва дипломатических сношений. В отношении легких крейсеров, миноносцев, вспомогательных судов преобладание Японии было еще заметнее.
Япония также имела огромное преимущество в обилии морских баз. У России их было всего две. Русский флот стоял почти весь в Порт-Артуре. Эта гавань с внутренним рейдом, защищенным со всех сторон высокими холмами, в свое время была идеальным убежищем для флотов; но при размерах современных судов она уже становилась недостаточно просторной и глубокой; а главным ее недостатком был узкий вход на внутренний рейд, суда могли выходить из него только поодиночке. Дальний, с его великолепной бухтой, был совершенно не укреплен. Другая база – Владивосток – была несколько месяцев в году закрыта льдами. Четыре крейсера – в том числе три бронированных – тем не менее находились во Владивостоке; а легкий крейсер «Варяг» стоял в корейском порте Чемульпо, в распоряжении русского посланника в Корее.
Порт-артурская эскадра производила частые учения и стояла под парами на внешнем рейде. Когда последовал разрыв дипломатических сношений, наместнику на Дальнем Востоке была дана инструкция: лучше, если военные действия начнут японцы; их высадке в Корее – кроме северо-западного побережья – поэтому не следует препятствовать; и, только если они зайдут севернее 36-й параллели, надо остановить их флот. Русская власть, видимо, еще сохраняла некоторую надежду на то, что японцы не решатся напасть первыми; она также полагала, что Япония не отступит от старого международного обычая – торжественного объявления войны, – забывая, что и войну с Китаем в 1894 г. Япония начала внезапным нападением.
* * *
Когда японские миноносцы атаковали в ночь на 27 января стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура русскую эскадру, они застали ее врасплох, и первые же мины сильно повредили лучшие броненосцы «Цесаревич» и «Ретвизан», а также крейсер «Паллада». Но русские моряки быстро овладели положением, тут же начали давать отпор; японские миноносцы были отогнаны; поврежденные суда направились на внутренний рейд; паники в городе удалось избежать. И когда на следующее утро 27 января под Порт-Артуром появилась японская эскадра, русский флот вышел ей навстречу и, поддержанный береговыми батареями, быстро заставил ее удалиться.
Известие о начале войны поразило, всколыхнуло Россию. Почти никто ее не ждал; огромное большинство русских людей имели самое смутное представление о Маньчжурии. Но всюду почувствовали: на Россию напали. В первый период войны это настроение преобладало: на Россию напали, и надо дать отпор врагу.
В Петербурге, а затем и в других городах возникли сами собой давно не виданные уличные патриотические манифестации. Их необычной чертой было то, что в них участвовала и учащаяся молодежь. В университете состоялась сходка, завершившаяся шествием к Зимнему дворцу с пением «Боже, царя храни». Те, кто не сочувствовал, – а их было немало – в этот день примолкли, стушевались. Только Высшие женские курсы выделились на общем фоне; курсистки на бурной сходке заявили чуть не единогласно протест против молебна о даровании победы, который хотел отслужить в здании курсов совет профессоров; по-видимому, в связи с этим возник не подтвержденный и не опровергнутый слух о приветственной телеграмме, посланной курсистками микадо. В Баку армянскими революционерами была брошена бомба в армянское духовенство, служившее молебен о победе; было два убитых и несколько раненых.
Оппозиционные круги, в начале января 1904 г. устроившие в Петербурге первый нелегальный съезд Союза освобождения и выбравшие тайный руководящий комитет, оказались застигнутыми врасплох этими настроениями. Земские и дворянские собрания, городские думы принимали верноподданнические адреса. Земские конституционалисты, собравшиеся 23 февраля на совещание в Москве, приняли решение: ввиду войны всякие провозглашения конституционных требований и заявлений прекращаются, по крайней мере на первые месяцы; это решение мотивировалось патриотическим подъемом в стране, вызванным войной.
«Вестник Европы» писал: «Война, вызвавшая подъем духа во всех слоях русского народа, раскрывшая всю глубину их преданности государственному благу, должна – мы этому глубоко верим – рассеять множество предубеждений, мешавших широкому размаху творческой мысли. Общество, добровольно разделяющее правительственную заботу, будет признано созревшим и умственно и нравственно. С такой надеждой легче переносить потери и жертвы, неразрывно связанные с войной». «Русское богатство», не высказывая своего мнения, иронически назвало эти слова «любопытной тирадой»: «Конечно, с надеждой жить легче… но самый факт войны, – замечал социалистический орган, – еще не дает никаких гарантий…»
В сложном положении оказалось «Освобождение», связанное и с земцами, и с более левыми кругами. «Кричите: да здравствует армия, да здравствует Россия, да здравствует свобода!» – писал П. Б. Струве в «письме к студентам»; но ему на страницах того же журнала отвечали: «Не будем мешать наших криков с их криками… Останемся во всяком случае самими собой, и к крику «да здравствует Россия» не забудем всякий раз прибавлять «свободная». А так как это слишком длинно для уличного крика, лучше всего эти три слова заменить испытанными двумя – долой самодержавие»…
В литературных кругах, по признанию З. Н. Гиппиус, «война произвела мало впечатления… чему помогала, вероятно, и ее далекость. К тому же никаких внутренних перемен от нее не ждали – разве только торжества и укрепления самодержавия, потому что в первое время держалась общая уверенность, что японцев мы победим». Только Брюсов отозвался сильными стихами «К Тихому океану».
Настроение масс отчасти проявилось в усиленном спросе на лубочные военные картинки, на портреты героев войны. Революционеры-террористы, скрывавшиеся под видом странствующих торговцев, вынуждены были сами торговать этими картинками. «Гонят народ как на бойню – и никакого протеста, – со злобным раздражением говорил террорист Каляев своему товарищу Сазонову. – Всех обуял патриотизм… Повальная эпидемия глупости… На героев зевают, разинувши рот…»
Министру внутренних дел Плеве по поводу начала войны приписываются слова о том, что «маленькая победоносная война» была бы только полезна… Такое суждение было обоснованным: война короткая и победоносная, конечно, могла оздоровить внутреннюю атмосферу 1904 г. (нет, конечно, оснований выводить из этих слов Плеве, что война, начатая Японией в наиболее подходящий для нее момент, была в какой-либо мере вызвана русским министром внутренних дел!).
Но война не могла быть «короткой и победоносной». Она начиналась при неблагоприятных для России условиях; только время и упорные усилия могли их исправить. А первый порыв – желание дать отпор врагу – при полном непонимании значения войны не только в массах, но и в образованных слоях скоро стал заменяться совершенно иными настроениями.
За границей к войне отнеслись очень по-разному. Англия и Америка определенно стали на сторону Японии. «Борьба Японии за свободу» – так назвалась еженедельная иллюстрированная летопись войны, начавшая выходить в Лондоне. Президент Рузвельт «на всякий случай» даже предупредил Германию и Францию, что, буде они попытаются выступить против Японии, он «немедленно станет на ее сторону и пойдет так далеко, как это потребуется». Тон американской печати, особенно еврейской, был настолько враждебен России, что Меньшиков в «Новом времени» воскликнул: «Вся нынешняя война есть чуть не прямое содействие еврейской агитации в тех странах, где печать и биржа в руках евреев… Нет сомнения, что без обеспечения Америки и Англии Япония не сунулась бы с нами в войну». Это было, во всяком случае, значительным преувеличением одного из факторов сложного международного положения.
Франция, без сомнения, была очень недовольна этой войной; Россия ее интересовала прежде всего как союзница против Германии. И хотя французская печать, кроме крайней левой, выдерживала корректный союзнический тон, правительство Комба – Делькассе повело в спешном порядке переговоры о соглашении с Англией. В Германии левые газеты были против России, правые – в большинстве за нее. Существенное значение в этот момент имело личное отношение германского императора к возникшему конфликту. «Tua res agitur! Русские защищают интересы и преобладание белой расы против возрастающего засилья желтой. Поэтому наши симпатии должны быть на стороне России», – пометил Вильгельм II на секретном докладе германского посланника в Японии графа Арко.
Китай поспешил объявить нейтралитет: этим он надеялся обеспечить себя от репрессий победившей стороны.
* * *
Для борьбы с великой державой – каковой оказалась Япония – нужны были величайшие усилия. Между тем ее предположено было вести как «колониальную войну». «Мы, начиная войну с Японией, – пишет Куропаткин в своих «Итогах войны», – признавали необходимым сохранить в готовности на случай европейской войны свои главные силы, и потому для отправления на Дальний Восток была предназначена лишь небольшая часть сил, расположенных в Европейской России. Войска Варшавского военного округа, наиболее многочисленные, не выделили ни одного корпуса на Дальнем Восток». Отношения с Австрией и Германией не давали в то время оснований опасаться нападения с их стороны. Но по-видимому, принятое решение объяснялось франко-русским союзом, не позволившим России заключить с Германией конвенцию о нейтралитете: Россия, по договору 1892 г., была обязана выставить от 700 000 до 800 000 человек в случае германского нападения на Францию – а таковое не считалось исключенным.
Главнокомандующим маньчжурской армией в самом начале войны, 7 февраля, был назначен военный министр А. Н. Куропаткин. Его назначение соответствовало настроению общества: Куропаткина помнили как начальника штаба у Скобелева. Человек осторожный и не слишком решительный, новый главнокомандующий менее подходил на первые роли («Куропаткина назначили – хорошо, а где же Скобелев?» – выразился о нем генерал М. И. Драгомиров). Рассчитав потребное количество войск и провозоспособность дороги, учитывая неизбежность огромного перевеса японцев за весь первый период войны, Куропаткин внутренне склонялся к «тактике 1812 г.», к постепенному отступлению в глубь Маньчжурии, до Харбина, если не дальше. «Прошу быть только терпеливыми, – говорил он депутации Петербургской городской думы 27 февраля, – и спокойно, с полным сознанием мощи России, ожидать дальнейших событий. Первые наши шаги связаны с передвижением войск через громадные пространства… Терпение, терпение и терпение, господа!»
Но в то же время А. Н. Куропаткин не имел ни должной «крепости нервов», ни достаточно широких полномочий для того, чтобы последовательно сыграть роль Барклая де Толли. Свою внутреннюю тягу к отступлению ему даже приходилось скрывать. Уже на следующий день после слов о «терпении», при проводах на вокзале, главнокомандующий обещал «в скором времени обрадовать добрыми вестями царя и матушку Русь».
Командование флотом было возложено на адмирала С. О. Макарова, одного из лучших русских моряков, пользовавшегося огромной популярностью во флоте. Адмирал Макаров тотчас же выехал на Дальний Восток и 24 февраля уже был в Порт-Артуре.
Общее руководство военными действиями оставалось за наместником Дальнего Востока, адмиралом Е. С. Алексеевым. В случае разногласий между высшими инстанциями решающий арбитраж принадлежал государю. В отношении флота двоевластие почти не проявилось; но между Куропаткиным и Алексеевым не замедлило возникнуть разногласие, так как наместник стоял за иной, более активный, более рискованный образ действий, нежели командующий армией.
* * *
За первые два с половиной месяца войны операции сосредоточивались почти исключительно вокруг Порт-Артура. Японские суда, правда, показались 22 февраля перед Владивостоком; в свою очередь, русская крейсерская эскадра из этого порта совершила набег на северное побережье Японии. У берегов Кореи японская эскадра атаковала 27 января крейсер «Варяг» и канонерку «Кореец», еще не знавшие о начале войны, но мужественно принявшие неравный бой, в котором они нашли гибель. После этого японцы начали высаживать войска в Западной Корее; они захватили власть в Сеуле, посадив под стражу корейского императора. Русские передовые отряды, проникшие для разведки в северную часть Кореи, медленно отходили по мере усиления противника. Но центром борьбы оставался Порт-Артур.
В первые дни после начала войны там царила подавленность. На собственных минах взорвались небольшой крейсер «Боярин» и минный транспорт «Енисей». Поврежденные ночной атакой суда были введены в порт, но починка их требовала много времени. 12 февраля японцы предприняли первую попытку использовать слабую сторону Порт-Артурской гавани – заградить выход из внутреннего рейда, затопив в нем «брандеры».
С приездом адмирала С. О. Макарова дух во флоте поднялся. Новый командующий флотом поднял флаг на быстроходном крейсере «Аскольд», постоянно выходил в море, вступал в перестрелку с японским флотом, когда тот показывался перед Порт-Артуром, и даже предпринял вылазку в поисках ближней базы вражеской эскадры. С. О. Макаров был высокого мнения о качестве русского флота и не давал себя парализовать неблагоприятным численным соотношением (хотя в то время русский флот насчитывал всего 6 боеспособных бронированных судов, а японский – 14); он не боялся идти на риск, учитывая, что японцы едва ли отважатся на решительный бой, так как им больше неоткуда ждать подкреплений, а в Балтийском море уже готовилась новая русская эскадра, численно равная первой.
Но 31 марта адмирал С. О. Макаров погиб вместе с броненосцем «Петропавловск», затонувшим в каких-нибудь двух минутах от взрыва мины. Гибель С. О. Макарова была роковым ударом для русского флота. Она произвела во всей стране угнетающее впечатление. «Тяжелое и невероятно грустное известие… Целый день не мог опомниться от этого ужасного несчастья. Во всем да будет воля Божия, но о милости Господней к нам, грешным, мы должны просить…» – написал в этот день государь, обычно не выражавший чувств в своей повседневной записи.
Так как от мины в этот день пострадал еще один броненосец («Победа»), русская эскадра фактически сошла со сцены на целых два месяца. Преемником адмирала Макарова был назначен адмирал Скрыдлов; но ему так и не удалось достигнуть эскадры. Только владивостокский крейсерский отряд сохранял свободу действий и в течение первого полугодия войны несколько раз переходил в наступление, то спускаясь к югу до Корейского пролива, то проникая в Тихий океан и крейсируя у берегов Японии. Ему удалось потопить несколько японских транспортов с войсками, а также с тяжелыми орудиями, предназначенными для осады Порт-Артура (это на два-три месяца задержало обстрел крепости). Но конечно, три бронированных крейсера[58] не могли вступить в открытую борьбу со всем японским флотом.
* * *
30 марта (12 апреля), за день до катастрофы с «Петропавловском», подписано было англо-французское соглашение, установившее «сердечное согласие» между этими странами на основе отказа Франции от притязаний на Египет, в обмен за признание ее прав на (в ту пору еще независимое) Марокко. Значение этого соглашения было огромно. Это оно положило начало «Антанте». Сближение Франции, союзницы России, с Англией, союзницей Японии, вызвало известное недоумение. Но формального противоречия с союзными договорами не было – соглашение касалось как будто только конкретных вопросов. Французская печать утверждала, что Россия только от этого выиграет – явится возможность оказывать на Англию «умеряющее влияние». Русские круги почти не реагировали на этот важный дипломатический акт, хотя в «Новом времени»[59] промелькнула фраза «Почти все почувствовали веяние холода в атмосфере франко-русских отношений…».
Англо-французское соглашение вызвало толки о готовящемся посредничестве между Россией и Японией, которые были пресечены решительным циркуляром русского правительства: Россия сочтет недружественным актом всякое вмешательство в навязанную ей войну.
* * *
Во второй половине апреля выпал следующий удар – на суше. Японская армия, сосредоточиваясь в Северной Корее, имела перед собою, за широкой долиной реки Ялу, немногочисленные русские части, которые генерал Куропаткин, по своей теории глубокого отхода, именовал «арьергардом». Им было поручено возможно дольше задерживать противника, не вступая, однако, в серьезный бой.
Между тем первое столкновение на суше имело большое психологическое значение. Японцы с особой тщательностью готовились к нему. Они приняли все меры для того, чтобы обеспечить себе бесспорное преобладание. У них было около 45 000 человек; у русских на всем фронте Ялу – около 18 000, а у Тюренчена, где фактически произошел бой, японцы имели пятикратный численный перевес.
Русские войска (которыми командовал генерал Засулич) занимали хорошую позицию на возвышенном правом берегу реки. Но японцы, переправившись через Ялу выше русских позиций, 18 апреля атаковали их с фланга; сибирские стрелки оказали мужественное сопротивление, но перевес противника был слишком велик; двум батальонам пришлось пробиваться сквозь кольцо японских войск, чтобы избежать плена. От этого боя остался образ полкового священника Щербаковского, который с крестом в руках вел русский отряд во время прорыва. Русские потеряли 2268 человек убитыми и ранеными, а также несколько орудий; потери японцев были вдвое меньше.
В Британской энциклопедии говорится, что этот бой – как сражение при Вальми в 1792 г. – был «началом новой эпохи» – первой победой над «белыми». Но, конечно, сам по себе Тюренченский бой не получил бы такого значения, если бы война в дальнейшем пошла иначе…
18 апреля японцы с боем перешли Ялу; в ночь на 20-е была сделана новая попытка заградить «брандерами» вход в Порт-Артурскую гавань, причем на этот раз это отчасти удалось им. 21-го японские войска начали высаживаться у Бицзиво, в северной части Ляодунского полуострова. 23 апреля наместник успел еще проехать из Порт-Артура в Мукден; но в тот же вечер железнодорожное сообщение с Квантуном было прервано. Оно еще было восстановлено на два дня русскими разъездами; удалось пропустить на юг два поезда со снарядами; затем в ночь на 30-е оно окончательно прервалось. С этого времени Порт-Артур общался с внешним миром только при помощи судов, изредка прорывавших блокаду.
Эти события, в их быстрой последовательности, вдруг заставили русское общество почувствовать, что положение серьезнее, чем думали. Порт-Артур был отрезан от маньчжурской армии; флот почти целиком выведен из строя. Нельзя было даже предвидеть начала поворота. «У нас, – писал Суворин о медленном прибытии подкреплений, – даже не ручеек, а капли…» «Терпение!» – гласила передовая статья «Нового времени», напоминавшая слова Куропаткина при его отъезде.
* * *
В начале мая военное счастье повернулось на мгновение против Японии: два броненосца натолкнулись на мины перед Порт-Артуром. «Хатцусе» затонул на месте, в 50 секунд, на глазах русских, а «Яшима» был уведен на буксире и затонул в пути; в течение года японцы успешно скрывали его гибель. В тот же день столкнулись два японских крейсера – один из них затонул – и на мине взорвалось посыльное судно. Японский флот после этого «реванша» за «Петропавловск» уже не решался близко подходить к Порт-Артуру.
Японские войска, высадившиеся у Бицзиво, оставив заслон на севере против маньчжурской армии, направились прежде всего на юг. Квантунский полуостров в одном месте суживается; получается как бы естественная крепость – Цинь-Чжоуская позиция. Она была наскоро укреплена и снабжена тяжелой артиллерией. Но командующий войсками Квантунского района генерал А. М. Стессель счел, что эта позиция слишком далека от Порт-Артура, что на охрану побережья между ними не хватает сил гарнизона, и дал генералу Фоку, защищавшему позицию, такой же приказ, какой был дан генералу Засуличу на Ялу: задерживать противника, но не слишком рисковать.
13 мая японцы двинулись штурмовать Цинь-Чжоуские высоты. Они несли огромные потери, наступая без прикрытия под огнем; позицию защищал только 5-й Восточно-Сибирский стрелковый полк, поддержанный с моря огнем одной канонерки «Бобр». После шестнадцати часов боя русские отступили, бросив тяжелые орудия, приведенные в негодность. Японские потери в этом бою были по крайней мере втрое больше русских (до 5000 человек). Но главная естественная преграда на пути к Порт-Артурской крепости была преодолена, и японцы без боя овладели портом Дальний с его драгоценными портовыми сооружениями, которые они тотчас же использовали как базу для высадки целой армии.
Начиналась осада Порт-Артура. В отрезанном от армии крепостном районе было три власти: командующий войсками генерал А. М. Стессель, комендант крепости генерал Смирнов и командующий флотом (за отсутствием адмирала Скрыдлова) адмирал В. К. Витгефт. При затрудненности сообщений с внешним миром отсутствие единого бесспорного начальства могло бы иметь опасные последствия, если бы среди командного состава не нашлось генерала Р. И. Кондратенко, который с редким умением и тактом сумел согласовать в интересах общего дела противоречивые взгляды отдельных начальников; он справедливо считался душою обороны Порт-Артура.
Но из последних порт-артурских впечатлений и из тревожных донесений генерала Стесселя наместник вынес впечатление, что крепость не готова и не может продержаться сколько-нибудь долго. А в Порт-Артуре находился флот – взятие крепости означало бы верную гибель эскадры. Наместник поэтому потребовал от генерала Куропаткина наступления на юг, на выручку осажденной крепости.
Генерал Куропаткин считал, что период отступления еще далеко не закончился. С востока, из Кореи, через горные перевалы уже наступала во фланг армия генерала Куроки; между Ляодуном и Кореей, у Дагушаня, начиналась высадка еще одной японской армии. При таких условиях движение на юг казалось Куропаткину опасной нелепостью, «стратегической авантюрой».
Из столкновения двух противоположных мнений, переданных на решение государя, получилась половинчатая, нерешительная операция, нехотя проделанное Куропаткиным движение на юг на каких-нибудь 15–20 верст с недостаточными силами; бой 1–2 июня у Вафангоу и отход на прежнюю линию под японской контратакой. «Куропаткина следовало бы повесить!» – говорили в штабе наместника. Все же эта операция недели на две отдалила начало осады Порт-Артура.
Инициатива действий после этой попытки опять перешла к японцам, но на север они двигались, только очень медленно.
10 июня порт-артурская эскадра, впервые после гибели адмирала Макарова, вышла в море в полном составе: починены были все суда, пострадавшие за первые два месяца войны. Конечно, японский флот оставался сильнее, несмотря на гибель «Хатцусе» и «Яшимы», но силы были все же опять «соизмеримы».[60] Но адмирал Витгефт, вышедший в море с намерением попытаться без боя уйти во Владивосток из угрожаемого Порт-Артура, вернулся к ночи обратно, так как встретил японскую эскадру.
Частные мобилизации сперва касались только немногих округов; и Россия очень мало ощущала войну. Внутренняя жизнь после первой встряски продолжала двигаться как бы по инерции. Сенатор Зиновьев ревизовал московское губернское земство; Д. Н. Шипов не был утвержден при своем переизбрании председателем Московской губернской управы. В печати много места уделялось работам орфографической комиссии при Академии наук, обсуждавшей (с 12 апреля) проект реформы правописания. Левые круги злорадствовали по поводу военных неудач, но пока еще не считали, что положение серьезно. В обывательской массе, не имевшей никакого представления об огромных трудностях войны, считавшей японцев ничтожным врагом, «макаками», отсутствие русских успехов вызывало досаду и нарекания на власть.
Государь неоднократно выезжал к войскам, отправляющимся на фронт; он за 1904 г. буквально исколесил Россию, считая своим долгом проводить тех, кто шел умирать за родину. Он также навещал судостроительные заводы, где спешно заканчивались корабли 2-й Тихоокеанской эскадры. Новый министр финансов В. Н. Коковцов (назначенный в первые дни войны) успешно выпускал внешние займы на французском и отчасти на германском рынке для покрытия военных расходов, не вводя новых налогов и сохраняя свободный размен банковых билетов на золото. Провозоспособность Сибирской дороги летом возросла вдвое – до восьми пар поездов в день.
Глухая агитация против войны велась на верхах из ближайшего окружения С. Ю. Витте. Бывший министр финансов упорно твердил, что России Маньчжурия не нужна, что война – результат интриг «Безобразовых», и прямо заявлял, что не желает победы России, – не только в письмах к А. Н. Куропаткину, с которым сохранил приятельские отношения, но и в беседе с германским канцлером Бюловом. «Как политик, – говорил Витте в начале июля 1904 г., – я боюсь быстрых и блестящих русских успехов; они бы сделали руководящие Санкт-Петербургские круги слишком заносчивыми… России следует еще испытать несколько военных неудач».
* * *
3 июня молодой финский швед, сын сенатора Евгений Шауман выстрелами из револьвера смертельно ранил финляндского генерал-губернатора Н. И. Бобрикова и тут же покончил с собой. Государь болезненно ощутил утрату человека, шесть с лишним лет проводившего в жизнь его веления. «Огромная, труднозаменимая потеря», – отметил он в своем дневнике. Преемником генерала Бобрикова был назначен харьковский губернатор князь И. М. Оболенский.
На шесть недель позже, 15 июля, был убит министр внутренних дел В. К. Плеве, взрывом бомбы Е. Сазонова, разнесшей в щепы его карету, убившей кучера и ранившей десять человек, в том числе трехлетнюю девочку. Это было выступление боевой организации социалистов-революционеров, уже давно «охотившейся» за министром.
Смерть Плеве произвела огромное впечатление. «Строго посещает нас Господь гневом Своим», – писал государь. Среди интеллигенции радость была всеобщей. Оппозиционные круги молчали: то, что могли сказать они, еще не было согласимо с цензурой. «Либералы и постепеновцы, несомненно, были заодно с динамитчиками в систематической вражде к В. К. Плеве и в сочувствии если не организации катастрофы, то ее результатам», – не без основания писали «Московские ведомости». Но и в правых кругах вдруг послышались голоса, отрекавшиеся от погибшего министра. Князь Мещерский первым решился выступить с осуждением политики Плеве, говоря, что в его лице «атрофирующий дух петербургской бюрократии… уничтожал в зародыше свободу инициативы и самодеятельности». «Пройдет год, и о В. К. Плеве как о государственном деятеле будут, пожалуй, помнить лишь немногие», – двусмысленно замечало «Новое время». Сурово отзывался о Плеве Л. И. Тихомиров в своем дневнике: «Все было: ум, характер, честность, деловитость, опытность… Множество людей, преданных государю, России и порядку, предлагали ему свои силы… Он всех слушал, лгал, морочил всех… Постепенно всех честных людей устранял, а сам только душил и больше ничего… Убийц ругали, – отмечает тот же Тихомиров свои впечатления от поездки по Волге, – но о самом Плеве я не слышал ни одного слова сожаления».
* * *
В Маньчжурии все еще продолжался постепенный отход русских войск к северу. Японцы наступали тремя армиями: одна – вдоль железной дороги; другая, преодолевая горные хребты, шла с востока, из Кореи; третья поддерживала между ними связь, держась ближе к той, которая шла вдоль железнодорожной линии. Четвертая высаживалась беспрепятственно в Дальнем; она предназначалась для осады Порт-Артура.
Арьергардные бои с короткими русскими контратаками (при одной из них погиб в бою генерал граф Ф. Э. Келлер) продолжались до конца июля. Под Дашичао (11 июля) русские нанесли японцам серьезный урон, но на следующий день опять отступили, следуя общему плану. Подкрепления между тем постепенно прибывали: у Ляояна готовились укрепленные позиции; там, по общему мнению, отход должен был закончиться. Сам Куропаткин не вполне был уверен, что уже настает перелом в соотношении сил, но соглашался дать бой под Ляояном.
На Квантунском полуострове японцы два месяца высаживали войска и устраивали свою базу в Дальнем; но с 12 июля они перешли в энергичное наступление, после упорных трехдневных боев завладели передовыми позициями у Лунвантана, через два дня – следующей линией на Волчьих горах; 26–27 июля они уже были в нескольких верстах от города. Начиналась осада самой крепости. Отдельные японские снаряды из осадных орудий, перелетая через гребень холмов, падали на Порт-Артурский внутренний рейд.
Командный состав Порт-Артурской эскадры считал, что выход в море не сулит успеха, что лучше оставаться в Порт-Артуре, участвовать в защите крепости и ждать выручки. Часть орудий среднего и мелкого калибра уже была с судов отправлена на форты; из судовых команд были выделены отряды в помощь гарнизону крепости. Но когда был получен определенный приказ государя – идти во Владивосток, когда на Порт-Артурский рейд начали падать снаряды, – командующий эскадрой адмирал В. К. Витгефт решился на выход.
Утром 28 июля порт-артурская эскадра двинулась в путь. Шли шесть броненосцев, четыре крейсера и восемь лучших миноносцев (бронированный крейсер «Баян», дней за десять до выхода поврежденный миной, пришлось оставить в Порт-Артуре). Слабой стороной эскадры было то, что три броненосца не могли делать больше 13 узлов, тогда как японский флот мог развивать скорость до 17 узлов. В нейтральный (китайский) порт Чифу был послан миноносец «Решительный»; он должен был там разоружиться; этою ценою оплачивалась возможность отправить телеграмму наместнику и владивостокскому крейсерскому отряду, чтобы он выходил навстречу эскадре. Японцы следом за «Решительным» явились в порт Чифу и с явным нарушением международных обычаев увели с собой разоруженный миноносец.
Японцы выслали навстречу русской эскадре 4 броненосца и 4 бронированных крейсера (а также старый броненосец «Чин-Иен» и легкие суда); остальные четыре бронированных крейсера сторожили в Корейском проливе владивостокский отряд.
При первой встрече русской эскадре удалось уклониться от боя и, оставив японский флот позади, двинуться в сторону Владивостока. Но японцы, пользуясь преимуществом в скорости, нагнали русский флот примерно в 150 верстах от Порт-Артура, и завязался бой – первый большой эскадренный бой за всю войну. И японские, и русские суда сильно страдали от огня, особенно флагманские броненосцы «Цесаревич» и «Микаса». У японцев уже начинали истощаться снаряды, и (по свидетельству американских и английских наблюдателей, находившихся на «Микасе») адмирал Того уже готов был примириться с прорывом русской эскадры во Владивосток, как случай снова помог японцам: большой снаряд попал в рубку «Цесаревича» и убил на месте адмирала В. К. Витгефта. Несколько минут эскадра продолжала следовать за флагманским судном, но тут другой снаряд повредил руль «Цесаревича». Тогда на нем был поднят сигнал о передаче командования адмиралу князю Ухтомскому, находившемуся на «Пересвете»; но мачта этого броненосца была сбита, и с него было трудно подавать сигналы. Возникло замешательство. Адмирал Рейценштейн на крейсере «Аскольд» поднял сигнал «следовать за мной» и двинулся на юг; «Ретвизан» повернул обратно к Порт-Артуру после неудавшейся отчаянной попытки приблизиться к японской эскадре. Князь Ухтомский последовал за «Ретвизаном», часть крейсеров за «Аскольдом».
«Два случайных снаряда, – пишет в своей истории Русско-японской войны на море С. К. Терещенко, – убившие адмирала Витгефта и выведшие из строя флагманское судно, определили нравственный перевес боя…»
28 июля было концом 1-й Тихоокеанской эскадры. В Порт-Артур, правда, еще вернулись пять броненосцев, крейсер «Паллада» и три миноносца; но больше они уже и не пытались действовать. Из остальных судов только маленький быстрый «Новик», обогнув всю Японию с восточной стороны, достиг 7 августа острова Сахалин, но, когда он грузил там уголь, его настигли и потопили два более сильных японских крейсера. Другие суда разоружились в нейтральных портах: «Цесаревич» и три миноносца – в немецком Циндао;[61] «Аскольд» и один миноносец – в Шанхае; «Диана» дошла до Сайгона в Индокитае и там, к удивлению экипажа, была тоже интернирована – французские власти, видимо, настояли на этом в Петербурге во избежание неприятностей с Англией.
Англия вообще зорко следила за интересами Японии; и Франция, раздираемая между старым союзником и новым другом, старалась держаться средней линии, строго соблюдая правила нейтралитета. В этих условиях попытка русских пароходов Добровольного флота «Петербург» и «Смоленск», вышедших из Черного моря и занявшихся летом 1904 г. ловлей судов с военными грузами для Японии в Средиземном и Красном морях, была быстро пресечена протестами европейских держав (в том числе и Германии, обидевшейся на захват германского парохода «Арабия»).
Через три дня после боя 28 июля владивостокские крейсера, вышедшие навстречу порт-артурской эскадре, встретили в Корейском проливе превосходящие японские силы. Более медленный «Рюрик» был поврежден и задержал остальные два крейсера, которые ушли на север, только потеряв до трети своего личного состава; «Рюрик» затонул после геройского сопротивления. После боя 1 августа сошел со сцены и владивостокский крейсерский отряд.
* * *
В те дни, когда участь флота еще была неизвестна, в России произошло долгожданное радостное событие: 30 июля родился у государыни сын – наследник цесаревич Алексей Николаевич. Манифестом 1 августа государь определил, что в случае его кончины при малолетстве сына правителем назначается великий князь Михаил Александрович, тогда как воспитание наследника поручается императрице Александре Феодоровне. Крестным отцом цесаревича был выбран император Вильгельм, отношения с которым значительно улучшились у государя за время войны. 11 августа, по случаю крестин, был издан манифест с традиционными льготами и милостями (прощением недоимок, смягчением кар), содержавший также важную законодательную меру – отмену телесных наказаний во всех тех случаях, когда оно еще предусматривалось законом. Эта мера вызвала глубокое удовлетворение в обществе; ее приветствовало даже «Освобождение», хотя и писало иронически о «милостях младенца Алексея».
Двухнедельный период сильных дождей прервал в Маньчжурии военные действия; как только земля подсохла, под Ляояном 16 августа началось первое (из трех) генеральное сражение этой войны. И в русской армии, и в стране господствовала уверенность в победе. Численность обеих сторон была примерно одинаковой. Как раз перед боем были получены добрые вести из Порт-Артура: гарнизон успешно отразил первый неистовый приступ врага, длившийся две недели; японцы потеряли 15 000 человек.
Три японские армии полукругом атаковали русские позиции: с юга были армии Оку и Нодзу; на восточном фланге – Куроки. А. Н. Куропаткин, после того как три дня русские успешно отражали атаки к югу от Ляояна, решил, собрав «кулак», перейти в наступление против Куроки. Но эта операция в первый день не дала ожидаемых результатов; наоборот, японцы потеснили русских в районе Янтайских копей. Тогда А. Н. Куропаткин, преувеличивший силы японцев, решил, что противник может отрезать железную дорогу к северу от Ляояна, и приказал снова отступать. 22-го утром японцы заняли Ляоян.
Русские отошли в полном порядке, не потеряв ни одного орудия. Тем не менее этот бой был тяжелым моральным ударом. Все ожидали, что именно здесь будет дан решительный отпор. И опять это оказался «арьергардный бой», и притом чрезвычайно кровопролитный (русские потери определяются в 19 000 убитыми и ранеными, японские – в 23 000). Только после Ляояна в русском обществе впервые возникла мысль, что конечная победа России, пожалуй, не обеспечена.
Государь не допускал возможности примириться с поражением России. («Буду продолжать войну до конца, до дня, когда последний японец будет изгнан из Маньчжурии», – писал он 6 (19) октября императору Вильгельму). Отправка подкреплений, подготовка 2-й эскадры усиленно продолжались. Но государь счел нужным также сделать попытку призвать к содействию в национальном деле русское общество. Он видел земских уполномоченных, работавших по оказанию помощи раненым; их отношение было искренне патриотичным. Казалось, в такую минуту этим элементам можно пойти навстречу.
Место В. К. Плеве полтора месяца оставалось незамещенным (ведомством в это время управлял товарищ министра П. Н. Дурново). После Ляояна государь решил назначить преемником Плеве виленского генерал-губернатора князя П. Д. Святополк-Мирского, который был товарищем министра при Сипягине. Смысл этого назначения был так определен «Новым временем»: «Только наибольшая сплоченность и солидарность правительственных и общественных усилий смогут дать достойный России отпор внешнему неприятелю и умиротворить всякие недовольные элементы…»
Новый министр (на две недели задержавшийся в Вильне ради открытия памятника Екатерине II) не замедлил высказать свои воззрения корреспонденту французской газеты Echo de Paris. «Мы дадим земствам самую широкую свободу, – говорил он, более неопределенно, но также благожелательно отозвавшись о веротерпимости и о евреях. – Как вы хотите, чтобы я не был сторонником прогресса?»
Подобные же заявления князь Святополк-Мирский делал и для берлинского Lokal-Anzeiger, и для американского агентства Associated Press, и русские газеты перепечатывали их – сперва без комментариев.
16 сентября, принимая чинов своего ведомства, новый министр произнес известные слова о «доверии»: «Административный опыт привел меня к глубокому убеждению, что плодотворность правительственного труда основана на искренне благожелательном и истинно доверчивом отношении к общественным и сословным учреждениям и к населению вообще. Лишь при этих условиях работы можно получить взаимное доверие, без которого невозможно ожидать прочного успеха в деле устроения государства». Тон был, в сущности, близок к горемыкинской записке 1899 г. (на которую возражал Витте), его одобряли консерваторы-славянофилы вроде генерала Киреева или Л. Тихомирова. Но контраст с недавним временем был таков, что слова эти произвели сенсацию.
Тон печати сразу переменился; цензура усомнилась в том, что допустимо и что нет. «Шаг вперед… впервые за сто лет, – гиперболически выражалось «Новое время» (24 сентября), – поистине струя свежего воздуха». Раз есть «назревшее стремление общественных сил принять участие в государственной деятельности, то нет иного выхода, как усилить это участие, а вместе с тем и общественную ответственность… Тогда общество перестанет сваливать вину на правительство и даст отпор несвоевременным посягательствам», – оптимистически писал в «Киевлянине» (8 сентября) профессор Д. Пихно.
«Разве слова министра – не веяние весны, не явный ее признак?» – восклицал А. С. Суворин. Этот момент в русской жизни так и был прозван «весной» или «эрой доверия».
В юридическом журнале «Право» 26 сентября появилась яркая политическая статья князя Е. Н. Трубецкого, одного из тех немногих, которые умели говорить и на языке власти, и на языке общества; к которым можно было применить слова графа А. К. Толстого: «Двух станов небоец…» Не примыкая до конца к так называемому «освободительному движению», такие люди порой становились его рупором – для воздействия на власть; левые пользовались ими, но сами с их мнениями не считались.
Статья называлась «Война и бюрократия». «Погруженная в тяжелый многолетний сон, Россия не видела врага, в то время как он уже стоял под стенами Порт-Артура… Русское общество… спало по распоряжению начальства… Россия за последние годы походила на дортуар при участке… Пока оно спало, над ним бодрствовала всесильная бюрократия… Не армия и флот терпели поражения! То были поражения русской бюрократии!»
Князь Е. Н. Трубецкой писал далее, что только крайние пользуются свободой слова: нелегальные листки распространяются повсюду, тогда как люди умеренные вынуждены молчать; в этом – грозная опасность. Он заключал: «Бюрократия должна стать доступной общественному контролю и править с обществом, а не вопреки обществу. Она должна быть не владыкой над безгласным стадом, а орудием Престола, опирающегося на общество… Престол, собравший вокруг себя всю землю, будет славен, велик и силен». «До тех пор, пока твердыня самодержавия не сломлена, все, что против самодержавия, есть не грозная опасность, а великое благо», – возражало князю Трубецкому «Освобождение» (переселившееся с 1 октября из Штутгарта в Париж). «Русское общество не было рабом бюрократии и не спало в участке, а работало для России и творило ее силы», – отвечал, со своей стороны, Д. И. Пихно в «Киевлянине». В день появления статьи князя Трубецкого М. Меньшиков в «Новом времени» высказывал почти те же мысли. «Все бессилие России, – писал он, – в искусственном сне народном, который для чего-то поддерживается…»
Слова князя Святополк-Мирского и первые статьи, свободно критикующие власть, как бы пробили брешь; русское общество заговорило. Земские управы, городские думы стали присылать новому министру приветственные адреса.
В то же время и враги власти начали действовать гораздо смелее. Революционные партии мало интересовались войной, пока считали обеспеченной победу России. Теперь они почувствовали, что перед ними открываются широкие возможности. Они стали развивать агитацию и в стране, и в армии. «Всякая ваша победа грозит России бедствием укрепления порядка, – писала партия социал-революционеров в воззвании к офицерам русской армии, – всякое поражение приближает час избавления. Что же удивительного, если русские радуются успехам вашего противника?»
* * *
На две недели общее внимание было отвлечено от вопросов внутренней политики к театру военных действий, где русская армия неожиданно для всех перешла в наступление.
А. Н. Куропаткин после отступления от Ляояна ожидал, что японцы вскоре займут и расположенный на 100 верст севернее Мукден, и уже подготовлял дальнейший отход к Телину, где он уже давно облюбовал позиции. Но японцы не пошли дальше станции Янтай (в 40 верстах от Мукдена). Русская армия, отступившая в порядке, получила за месяц пополнение в 50 000 человек, с лихвой возместившее потери в последнем бою. В то же время из Петербурга 10 сентября пришла телеграмма о формировании 2-й Маньчжурской армии; ее командующим был назначен генерал О. К. Гриппенберг. Генерал Жилинский, сообщая об этом Куропаткину, прибавил, что, если бы японцам удалось нанести хороший удар, «вероятно, не понадобилось бы и сформированье 2-й армии». Генерал А. Н. Куропаткин принял тогда несколько неожиданно решение о переходе в наступление, хотя вызванные им на совещание генералы Штакельбери и Случевский высказались против этого.
«Вчера подписал, перекрестясь, диспозицию для перехода в наступление», – отметил 16 сентября в своем дневнике командующий маньчжурской армией. 19 сентября был издан приказ по армии. «Настало желанное и давно ожидаемое время идти вперед навстречу врагу. Пришло для нас время заставить японцев повиноваться нашей воле», – говорилось в нем.
В столичных газетах этот приказ появился только 27 сентября, когда наступление фактически началось. Он вызвал общее волнение и ожидание.
Русская армия прошла обратно от Мукдена верст двадцать – тридцать к югу; японцы предприняли встречное наступление. 26 сентября завязался упорный бой на фронте в несколько десятков верст. Он длился целых девять дней, и перед ним, как писали газеты, «бледнели Тюренчен, Вафангоу, Ляоян». Позиции переходили из рук в руки; орудия терялись и отбивались. Но ни прорвать японский фронт, ни обойти его с фланга не удалось. На небольшом русском тактическом успехе – занятии «сопки с деревом», прозванной Путиловской сопкой по взявшему ее генералу, с захватом 14 японских орудий, – кровавая борьба затихла 5 октября.
Начались осенние ливни. Армии застыли на своих позициях. Русские потери были огромны: 42 000 убитых и раненых. Японцы потеряли вдвое меньше – около 20 000.
Битва на Шахэ показала, что между силами сторон установилось некоторое равновесие; это не было поражение – противники как бы разделили между собою поле битвы. Но наступление, так торжественно возвещенное, оборвалось на первых шагах. Тем не менее эта битва укрепила положение А. Н. Куропаткина и заставила умолкнуть тех, кто требовал похода на выручку Порт-Артура. 10 октября государь назначил Куропаткина главнокомандующим и отозвал в Санкт-Петербург наместника, адмирала Е. С. Алексеева. «Много внутренней борьбы понадобилось, чтобы я пришел к этому решению», – отмечает государь. Адмирал Алексеев был ярким представителем русской активной политики на Дальнем Востоке и часто оказывался более прав в своих предвидениях, нежели А. Н. Куропаткин. Но он не имел престижа ни в армии, ни в стране. Вопрос о единстве командования разрешился в пользу бывшего военного министра; его же государь запросил, кого назначить командующими 1-й и 3-й Маньчжурскими армиями; А. Н. Куропаткин указал генералов Линевича и Каульбарса.
На фронте настало долгое затишье.
* * *
Политика снова вступила в свои права: Союз освобождения, через свое земское крыло, начал подготовлять выступление с открытыми конституционными требованиями; нужна была только основа, вокруг которой могли объединяться разрозненные усилия.
Идея готовящегося земского совещания дошла до сведения нового министра внутренних дел, и он отнесся к ней вполне благожелательно. Ожидали, что съезд будет разрешен. Политика доверия сначала не вызывала возражений; только тверской губернатор князь Алексей Ширинский-Шихматов подал в отставку, объяснив государю, что делает это из-за несогласия с новым курсом.
В печати между тем все сильнее разгоралась кампания против власти под флагом критики ведения войны. Недооценка противника и переоценка русских сил побуждала многих вполне добросовестно – не скорбеть, а негодовать по поводу того, что война не принесла до сих пор успехов. Забывая, что Полтава была только через пять лет после Нарвы; забывая, что Англия так недавно была вынуждена воевать три года, чтобы одолеть несколько десятков тысяч буров, не имевших даже артиллерии; не учитывая тот факт, что Россия продолжала держать свои главные силы на европейской границе, – русский обыватель искренне возмущался: как это за восемь месяцев мы не справились с «какой-то» Японией?
И этим настроением наивных и неосведомленных умело пользовались враги власти, преувеличивая недочеты, тенденциозно извращая факты. Как это за восемь месяцев не могли снарядить второй эскадры? Как не построили второй колеи Сибирской дороги? – лицемерно возмущался в «Праве» заведомый противник войны А. Пешехонов, едва ли не знавший, что броненосца нельзя закончить «вдруг», что вторую колею на дороге, протянувшейся на 8000 верст, нельзя построить быстро, когда та же дорога день и ночь занята воинскими поездами…
С 30 сентября по 9 октября происходили в Париже совещания оппозиционных и революционных партий Российского государства. Это была первая организованная встреча так называемых «конституционалистов» с открыто революционными партиями. В ней участвовали: Союз освобождения, представленный В. Я. Богучарским, князем Петром Долгоруковым, П. Н. Милюковым и П. Б. Струве; польские националисты во главе с Романом Дмовским; польские и латышские социалисты, армянские и грузинские социалисты-федералисты, социалисты-революционеры (В. М. Чернов, Натансон и «Иван Николаевич», то есть Азеф) и, наконец, финны-активисты во главе с Конни Циллиакусом, главным инициатором этой встречи противников русской власти. Из левых партий отсутствовали только социал-демократы (как большевики, так и меньшевики), занятые в то время своими внутренними раздорами.
На конференции были вынесены резолюции об «уничтожении самодержавия» и о его замене «свободным демократическим строем на основе всеобщей подачи голосов», а также о «праве национального самоопределения» народностей, населяющих Россию. Революционные партии еще заседали затем отдельно, без «конституционалистов», и вынесли решения определенно пораженческого характера, а также высказались в пользу широкого применения террора. (По словам П. Н. Милюкова, «оппозиционные» участники парижского совещания в то время ничего не знали о его революционном продолжении).[62]
2-я эскадра вышла в путь 28 сентября, когда шел бой на Шахэ. В ней числилось 7 броненосцев, 2 бронированных крейсера и 6 легких и 9 новейших миноносцев. Количественно она была почти не слабее порт-артурской; но качество четырех новых броненосцев было ниже, например «Цесаревича» и «Ретвизана», а два броненосца и два крейсера[63] были старее порт-артурских. Ее командующий, адмирал З. П. Рожественский, сам мало верил в силы своей эскадры. Конечно, в момент ее выхода в Порт-Артуре еще стояли пять броненосцев, «Баян» и «Паллада»; но путь до Порт-Артура был еще далекий. Снабжение эскадры углем в течение всего ее плавания было хорошо обеспечено соглашением с германской пароходной компанией «Гамбург – Америка».
Проходя в ночь с 8 на 9 октября Северное море, эскадра пересекла флотилию английских рыбаков. Командирам некоторых судов показалось, что их атакуют. До сих пор не установлено с полной достоверностью, находились ли там японские миноносцы или подводные лодки; скорее это была ошибка. Как бы то ни было, эскадра открыла огонь по рыбачьей флотилии и быстрым ходом направилась дальше; она уже миновала Ла-Манш, когда английские рыбаки вернулись в свой порт – Гулль – и вся английская печать подняла негодующий крик против «нападения на мирных граждан».
Раздражение в Англии было настолько сильно, что возникла возможность русско-английской войны. Правительство Бальфура ее не желало; но общественное мнение требовало принятия мер. Английские крейсера пустились вдогонку за 2-й эскадрой, остановившейся в испанском порту Виго.
В такой критический момент император Вильгельм II сказал русскому послу Остен-Сакену, что в этом конфликте Россия и Германия должны стоять вместе. Министр иностранных дел Ламздорф усмотрел в этом только «попытку ослабить наши дружеские отношения с Францией»; но государь ему ответил: «Я сейчас за соглашение с Германией и с Францией. Надо избавить Европу от наглости Англии», – и он 16 октября телеграфировал императору Вильгельму: «Германия, Россия и Франция должны объединиться. Не набросаешь ли ты проект такого договора? Как только мы его примем, Франция должна присоединиться к своей союзнице. Эта комбинация часто приходила мне в голову».
Если бы английское правительство, следуя за раздраженным общественным мнением, предъявило к России неприемлемые требования, – государь считал таковыми задержание плавания 2-й эскадры или репрессии в отношении ее командования, – если бы Англия после этого попыталась бы силою остановить эскадру Рожественского – это было бы нападением на Россию со стороны европейской державы, и Франция, по союзному договору, должна была бы объявить, в свою очередь, войну Англии. В таком случае, конечно, она не могла бы возражать против того, что и Германия оказалась бы на стороне франко-русской коалиции. В эти же дни, помимо Германии, между Россией и Австрией было подписано соглашение о нейтралитете, дополняющее договор 1897 г., на случай нападения «третьей стороны» (Англии на Россию или Италии на Австрию).
Но Англия – уже 17 октября – поспешила согласиться на русское предложение о передаче конфликта на разрешение международной комиссии на основании Гаагской конвенции. Она благоразумно воздержалась от каких-либо попыток задержать 2-ю эскадру. Срочность германо-русского соглашения отпала. Когда Вильгельм II поставил условие, чтобы его подготовка велась втайне от Франции, пока договор не будет подписан, – государь на это не согласился, и после обмена письмами, длившегося два месяца, проект был оставлен. «Первая неудача, которую я лично испытываю!» – с раздражением писал Бюлову германский император.
2-я эскадра продолжала свой путь – главные силы обогнули Африку, часть судов прошла через Суэцкий канал. 16 декабря адмирал Рожественский достиг порта С.-Мари на Мадагаскаре. Там его застали вести, поставившие под вопрос дальнейшее плавание его эскадры: вести о падении Порт-Артура.
* * *
Внутри России все внимание общества сосредоточилось на вопросах внутренней политики; о войне вспоминали, только чтобы возмущаться ее ведением.
Князь Святополк-Мирский предложил земским деятелям представить и ему программу съезда и испросил у государя на него разрешение. Государь, однако, знал, что съезд созывают заведомо оппозиционные элементы; что его состав при «импровизированном» созыве будет благоприятен более организованным левым; и, вопреки желанию Святополк-Мирского, потребовал, чтобы съезд был отложен на три-четыре месяца, до начала следующего года. За это время должны были состояться губернские земские собрания, которые и могли выбрать подлинных уполномоченных всего земства, а не ставленников более или менее подобранных «инициативных групп».
К тому времени земские деятели уже начали съезжаться в столицу, и министр внутренних дел дал им знать, что съезд, собственно, не разрешен, но что он будет «смотреть сквозь пальцы», если они «негласно» соберутся на совещание. 2 ноября в Москве состоялось собрание земской конституционной группы. Она признала, что «неразрешение только развязывает нам руки» и что следует все-таки считать совещание полноправным съездом.
Совещания начались в Петербурге 6 ноября; из предосторожности собирались каждый раз в новом месте. Отдельные делегаты (граф Стенбок-Фермор, председатель петербургской управы Марков) высказывали недоумение: как же так? нас вызывали будто с высочайшего соизволения, а его-то и нет! Но сплоченное большинство игнорировало эти протесты и сразу приступило к разработке политической декларации. Состав совещания оправдал надежды конституционной группы: резолюции, касавшиеся отмены чрезвычайных положений, прекращения административных репрессий, амнистии, равенства прав без различия сословий, национальности и вероисповедания, расширения прав земств, приняты были единогласно. Но и в краеугольном вопросе об ограничении царской власти, вопреки возражениям председателя съезда Д. Н. Шилова, большинством 60 против 38 победили конституционалисты; меньшинству было дано право сделать оговорку насчет этого пункта.
9 ноября заседания закончились, декларация была подписана. Когда земцы принесли ее князю Святополк-Мирскому, он был сильно смущен: в результате допущенного им совещания в страну была брошена от имени земств конституционная политическая программа!.. «Мирский, допустив обсуждение, сделал gaffe», – отметил в своем дневнике великий князь Константин Константинович. Государь остался крайне недоволен действиями министра; он, однако, не принял пока его отставки, поручив самому Святополк-Мирскому «выправлять» линию правительственной политики.
Вокруг резолюций земского совещания началась планомерная организованная кампания. Стали устраиваться по всей России многолюдные банкеты с политическими речами, неизменно завершавшиеся резолюциями с требованием конституции. Земские собрания присоединялись к решениям совещания. Тон повышался: черниговский предводитель дворянства прямо отправил государю по телеграфу «конституционную» резолюцию земского собрания. «Нахожу этот поступок дерзким и бестактным, – написал на телеграмме государь. – Заниматься вопросами государственного управления – не дело земских собраний, круг занятий которых ясно очерчен законом».
Уже с начала ноября, после шести недель «весны», государь убедился, что политика, имевшая целью объединить общество с властью для борьбы против внешнего врага, обращалась против войны. Если статья князя Е. Н. Трубецкого была продиктована патриотической тревогой за успех исторической борьбы, то вслед за нею, и в том же «Праве», началась все более откровенная проповедь прекращения войны и перемены всего строя. Возникшие в ноябре новые газеты, «марксистская» «Наша жизнь» и «народнический» «Сын Отечества»,[64] внесли новый тон в русскую легальную печать.
«Дома ли я?» – писал в «Новом времени» (24 и 25 октября) вернувшийся с фронта князь Андрей Ширинский-Шихматов. «Часть нашего общества заболела тяжелым недугом сомнения… Тот ли это народ, который всего несколько месяцев назад поднялся как один человек?.. Там не сомневаются», – добавлял он, вспоминая про армию.
Весь ноябрь продолжались безуспешные попытки ввести движение в берега. Мобилизация в царстве Польском вызвала уличные демонстрации и столкновения. 28 ноября произошла уличная манифестация и в Петербурге: толпа в несколько тысяч человек, с красными флагами, часа на три прервала движение по Невскому. В начале декабря у государя состоялось совещание высших сановников и великих князей по вопросу о реформах.[65]
Был составлен проект указа «о предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка», получивший известность под неточным обозначением манифеста 12 декабря. В него предполагалось внести пункт о призвании местных людей к разработке законов, но государь, опасаясь, что это будет принято за обещание конституции, вычеркнул его из окончательной редакции. Одновременно с указом о реформах (в нем говорилось о свободе совести и о пересмотре законов о печати) было опубликовано правительственное сообщение, предупреждавшее, что «земские и городские управы и всякого рода учреждения и общества обязаны не выходить из пределов предоставленного их ведению». На это сообщение было обращено больше внимания, чем на указ: Московское губернское земское собрание демонстративно прервало свое заседание, мотивируя это «волнением», которое вызвало у его членов правительственное сообщение.
На маньчжурском фронте третий месяц длилось затишье. Зато вокруг отрезанного от мира Порт-Артура не прекращалась ожесточенная борьба. Штурм 6–7 сентября дал японцам возможность завладеть некоторыми передовыми укреплениями, но главная оборонительная линия оставалась еще нетронутой. Второй японский штурм, предпринятый 17 октября, чтобы взять крепость ко дню рождения императора Мутсухито, был отбит с огромными для японцев потерями. Японцы знали, что время работает против них, что 2-я эскадра уже в пути, что маньчжурская армия усиливается с каждым месяцем; им было известно, что в Порт-Артуре большие запасы продовольствия и военного снабжения; и они, не жалея людей, снова и снова пытались взять крепость приступом: в то же время они вели глубокие подкопы под главную группу укреплений к северу от старого города.
13 ноября начался новый штурм, продолжавшийся девять дней и стоивший японцам 22 000 человек. Доходило до рукопашных боев: русские сбрасывали вниз японцев, добравшихся до верха укрепления Северо-Восточного фронта. Но 22 ноября осаждавшие добились существенного успеха: они завладели на северо-западе горой Высокой («высота в 203 метра»), с которой открывался вид на внутренний рейд Порт-Артура. В ближайшие же два-три дня от огня японской артиллерии затонули последние суда 1-й Тихоокеанской эскадры; уже давно почти весь их экипаж сражался на сухопутном фронте. Иные были затоплены на мелком месте самими экипажами. Так погибли: «Ретвизан», «Победа», «Полтава», «Пересвет», «Баян», «Паллада», только «Севастополь» вышел на внешний рейд и там в течение нескольких ночей отбивал атаки японских миноносцев; наконец и он был подорван миной и затоплен (при взятии Порт-Артура) на глубоком месте.
2 декабря при взрыве японского фугаса был убит лучший из руководителей обороны Порт-Артура, генерал Р. И. Кондратенко. Японцы, попеременно действуя подкопами и штурмом, пробивались сквозь самую сильную северо-восточную часть укреплений. 18 декабря они завладели первыми фортами в этом районе. Падение крепости представлялось неминуемым.
Тем не менее и для японцев, и для гарнизона было неожиданностью, когда 19 декабря командующий войсками генерал А. М. Стессель прислал к генералу Ноги парламентеров о сдаче. Геройская оборона обрывалась на акте слабодушия: и по численности войск, и по количеству запасов возможно было еще продержаться две-три недели, может быть месяц, защищая шаг за шагом позиции. В Порт-Артуре сдалось 45 000 человек, в том числе около 28 000 способных носить оружие и 13 000 больных и раненых в госпиталях. Японской армии осада стоила 92 000 человек убитыми, ранеными и больными.
В России сначала ждали падения Порт-Артура еще с лета, с недели на неделю; потом, наоборот, привыкли, что крепость каким-то чудом держится. Капитуляция среди затишья прокатилась громовым ударом. Порт-Артур казался символом всей дальневосточной политики. «Жалкие остатки победоносных легионов сложили оружие у ног победителя», – с нескрываемым злорадством писали «Наши дни», мало отличаясь по тону от «Освобождения». При этом подробности сдачи еще не были известны, и господствовало представление, что генерал А. М. Стессель, писавший в телеграмме государю «Суди нас» и добавлявший, что «люди стали тенями», исполнил свой долг до конца.
«Что же русский народ? – спрашивал в проникновенной статье А. С. Суворин. – Вырос он или нет для сознания отечества, его чести, его славы и счастья? Вырос ли он для того, чтобы понять наши задачи на Дальнем Востоке, этот Великий сибирский путь, эту нужду в открытом океане? Или мы великий народ – или нет? Неужели у нас все истощилось, и Порт-Артур – это гора, которая обрушилась на нас и раздавила нас? Я только спрашиваю, спрашиваю, как ничтожная былинка в великом Российском царстве…»
Государь был в Юго-Западном крае, провожая на фронт войска, когда пришла весть о падении Порт-Артура. Вернувшись в столицу, он издал – на 1 января 1905 г. – приказ по армии и флоту.
«Порт-Артур перешел в руки врага, – начинался этот приказ, прежде всего воздававший хвалу доблести защитников крепости. – Мир праху и вечная память вам, незабвенные русские люди, погибшие при защите Порт-Артура!
Вдали от родины вы легли костьми за Государево дело… Мир праху вашему и вечная о вас память в наших сердцах.
Слава живым! Да исцелит Господь ваши раны и немощи и да дарует вам силу и долготерпение перенести новое постигшее нас испытание.
Доблестные войска Мои и моряки! Да не смущает вас постигшее горе. Враг наш смел и силен, беспримерно трудна борьба с ним вдали, за десяток тысяч верст от источников нашей силы. Но Россия могуча. В тысячелетней ее жизни были годины еще более тяжелых испытаний, еще более грозной опасности, и каждый раз она выходила из борьбы с новою силой, новою мощью…
Со всею Россией верю, что настанет час нашей победы и что Господь Бог благословит дорогие Мне войска и флот дружным натиском сломить врага и поддержать честь и славу нашей Родины».
Глава 2
Усиление России к началу второго года войны. – Русская смута и японские деньги. – События 9 января. – Растерянность на верхах. – Слово государя к рабочим (19 января). – Убийство великого князя Сергея Александровича. – Манифест 18 февраля и рескрипт Булыгину. – Бой под Сандепу; отъезд генерала Гриппенберга из армии. – Мукденское сражение. – Проекты церковной реформы. – Указ 17 апреля о веротерпимости. – Поход 2-й Тихоокеанской эскадры. – Цусимский бой. – Рост революционного движения. – Вопрос о продолжении войны. – Военное совещание 24 мая. – Посредничество Рузвельта. – Условное согласие государя на переговоры. – Шансы русской победы в 1905 г. – Майский земский съезд. – Прием государем делегации (6 июня 1905 г.) в Петергофе. – Революционные вспышки: Лодзь; Одесса; «Потемкин Таврический». – Инциденты «обратного характера»: Баку, Нижний Новгород, Балашов. – Японский десант на Сахалине. – Витте во главе русской делегации в Портсмут. – Меры для продолжения войны. – Свидание в Бьерке; соглашение 11 июля; его смысл и значение. – «Полевение» на земском съезде. – Петергофские совещания о Государственной думе и закон 6 августа. – Портсмутская конференция: требования японцев; пессимизм Витте; твердость государя. – Обращение американского посла к государю. – Принятие японцами русских последних предложений. – Разочарование в Японии. – Роль государя в завершении войны
Первый год войны приближался к концу. Он принес России немало разочарований – отчасти потому, что только немногие сознавали реальные трудности борьбы. Наиболее тяжкие удары постигли флот, тогда как армия оставалась нетронутой. К началу 1905 г. в Маньчжурии было сосредоточено около 300 000 человек. Сибирская дорога пропускала уже по 14 пар поездов в день (вместо 4 в начале войны).
Россия при этом почти не ощущала экономических и финансовых затруднений в связи с войной. Урожай 1904 г. был обильный; промышленность снова увеличила свое производство. Налоги поступали как в мирное время; а золотой запас Госбанка возрос за год на 150 миллионов рублей[66] и превышал количество банкнот в обращении.
Военные расходы (составившие за первый год войны около 600 миллионов рублей) были покрыты отчасти свободной наличностью казначейства (бюджетными остатками прошлых лет), отчасти займами.
Подписка на оба внешних займа в несколько раз превысила сумму выпуска.[67] Кредит России стоял высоко: она занимала под 5–6 процентов, тогда как Японии, несмотря на все ее успехи, приходилось фактически платить 7–8 процентов.
Время работало в пользу России; на втором году должен был сказаться ее более мощный организм – более мощный и в военном, и в финансовом отношении. Япония, раньше пустившая в ход все свои силы, еще была впереди; но Россия начинала нагонять ее. Предстоял еще один трудный момент: армия, осаждавшая Порт-Артур, должна была в феврале появиться на фронте и дать Японии опять временный перевес. Но к весне или лету 1905 г., при нормальном развитии напряжения сил обеих сторон, русская чаша имела большие шансы «перетянуть».
Это сознавали и те, кто совсем того не желал: «Если русские войска одержат победу над японцами, что, в конце концов, совсем уж не так невозможно, как кажется на первый взгляд, – писал некий Н. О-в в «Освобождении»,[68] – то свобода будет преспокойно задушена под крики ура и колокольный звон торжествующей империи».
Только диверсия в тылу русской армии, только внутренние волнения в России могли предотвратить такой исход войны.
Но к концу 1904 г., несмотря на сильное политическое возбуждение в интеллигенции и в земских кругах, ничто, казалось, не предвещало серьезных революционных потрясений. Что у нас есть? – спрашивало «Освобождение»,[69] с некоторым преувеличением подсчитывая силы «освободительного движения»: «Вся интеллигенция и часть народа; все земство, вся печать, часть городских дум, все корпорации (юристы, врачи и т. д.)… Нам обещали поддержку социалистические партии… За нас вся Финляндия… За нас угнетенная Польша и изнывающее в черте оседлости еврейское население».
Активное недовольство существующим строем сказывалось всего сильнее в нерусской части населения – к общим причинам прибавлялось недовольство «обрусительной» политикой – и особенно в еврейских кругах, болезненно ощущавших лежавшие на них правоограничения.[70] Но первый удар был нанесен не с той стороны…
* * *
Внутренние волнения в России были необходимы Японии как воздух. Несомненно, она дорого дала бы, чтобы их вызвать. Имела ли она возможность это сделать и в какой мере она это делала? Тогда, в 1904–1905 гг., одно такое предположение вызывало в русском обществе только презрительное негодование. В настоящее время это уже никому не кажется столь невероятным.
Следует различать два понятия: неверно было бы утверждать, что революцию делали за иностранные деньги. Люди, отдававшие все свои силы делу революции, готовые отдать за нее и жизнь, делали это не ради получения денег от кого бы то ни было. Но в известной мере революция делалась на иностранные деньги: внутренние враги русской власти (вернее – часть их) не отказывались от помощи ее внешних врагов. Об одном факте такого рода, относящемся к зиме 1904/05 г., открыто пишет в своих воспоминаниях руководитель Боевой организации социал-революционеров Б. В. Савинков.[71] «Член финской партии активного сопротивления, Конни Циллиакус, сообщил центральному комитету, что через него поступило на русскую революцию пожертвование от американских миллионеров в размере миллиона франков, причем американцы ставят условием, чтобы эти деньги пошли на вооружение народа и распределены были между всеми революционными партиями. Ц. К. принял эту сумму, вычтя 100 000 фр. на боевую организацию». (В «Новом времени», – писал далее Савинков, – весною 1906 г. утверждали, что это пожертвование сделано не американцами, а японским правительством, но нет оснований сомневаться в словах Конни Циллиакуса…»)[72]
Это пожертвование, конечно, не было единственным; правда, указания на значительно более крупные суммы не были документально доказаны; но надо иметь в виду, что ни дающие, ни берущие не были заинтересованы в огласке. Английский журналист Диллон, определенный враг царской власти, написал в своей книге «Закат России»: «Японцы раздавали деньги русским революционерам известных оттенков, и на это были затрачены значительные суммы. Я должен сказать, что это бесспорный факт». О том же свидетельствует в своих мемуарах бывший русский посланник в Токио, барон Р. Р. Розен.
* * *
В такой обстановке внезапно разразилось в Санкт-Петербурге рабочее движение невиданной силы.
В столичной рабочей среде уже лет десять активно действовали социал-демократические кружки, и число их сторонников было довольно значительно, хотя, конечно, они оставались меньшинством. «Зубатовские» организации сначала вовсе не привились в Петербурге. Только осенью 1903 г. основалось Общество фабрично-заводских рабочих, во главе которого стал отец Георгий Гапон, священник церкви при пересыльной тюрьме.
Гапон был, несомненно, недюжинным демагогом, а также человеком весьма неразборчивым в средствах; его истинные убеждения так и остались неясными; по-видимому, он просто плыл по течению, поддаваясь влиянию своего социалистического окружения. Разница с Зубатовым была огромная: тот внушал рабочим, что власть им не враг, а необходимый союзник, тогда как Гапон только пользовался сношениями с властями как ширмой, а вел пропаганду совсем иного рода.
«Гапон стал мало-помалу сближаться с наиболее сознательными рабочими… Это были люди, прошедшие партийную школу, но по тем или иным причинам не примкнувшие к партиям. Осторожно, но чрезвычайно настойчиво Гапон подобрал себе кружок такого рода приближенных… План его состоял в том, чтобы так или иначе расшевелить рабочую массу, не поддающуюся воздействию конспиративных деятелей».[73]
Сначала Гапон действовал «сдержанно и осторожно». Но к концу ноября 1904 г. деятельность общества «приняла характер систематической пропаганды».[74] Гапон стал искать сближения с левой интеллигенцией и обещал подготовить рабочее выступление; только, говорил он, «я должен ждать какого-нибудь внешнего события; пусть падет Артур».[75]
Петербургский градоначальник Фуллон настолько мало подозревал истинные намерения Гапона, что еще в начале декабря 1904 г. выступил на открытии нового отдела его общества, высказывая пожелание, чтобы рабочие «всегда одерживали верх над капиталистами».
21 декабря была получена весть о падении Порт-Артура. Тотчас по окончании рождественских праздников – 28 декабря – состоялось заседание 280 представителей гапоновского общества: решено было начать выступление.
Действия развивались планомерно, расширяющимися кругами. 29 декабря дирекции Путиловского завода (работавшего на оборону) было предъявлено требование об увольнении одного мастера, якобы без основания рассчитавшего четверых рабочих. 3 января весь Путиловский завод забастовал; требования уже повысились, но носили еще экономический характер, хотя и были трудноисполнимы: 8-часовой рабочий день, минимум заработной платы.
Общество фабрично-заводских рабочих сразу взяло на себя руководство забастовкой; его представители, с Гапоном во главе, являлись для переговоров с администрацией; они же организовали стачечный комитет и фонд помощи бастующим. Общество в этот момент, очевидно, располагало немалыми средствами.
5 января уже бастовало несколько десятков тысяч рабочих. Министр финансов В. Н. Коковцов представил об этом доклад государю, указывая на экономическую неосуществимость требований и на вредную роль гапоновского общества.
В тот же вечер 5 января на совещании при участии социал-демократов была составлена политическая программа движения.
Вызвав под неопределенными, но сильно действующими лозунгами «борьба за правду», «за рабочее дело» и т. д. почти всеобщую забастовку петербургских рабочих (быстрый успех движения показывал, что почва была хорошо подготовлена), Гапон и его окружение внезапно и резко повернули движение на политические рельсы.
6 января 22 представителями гапоновского общества была выработана петиция к царю. В этот же день, во время водосвятия на Неве перед Зимним дворцом, произошел странный несчастный случай: одно из орудий батареи, производившей салют, выстрелило картечью. Ни государь, никто из собравшихся на торжество высших представителей власти задет не был; осколками ранило одного городового и выбило несколько стекол во дворце. Но тотчас же пошли слухи о покушении; следствие потом выяснило, что это, видимо, была чья-то простая небрежность… Этот выстрел также содействовал созданию тревожного, напряженного настроения.
7 января в последний раз вышли газеты; с этого дня забастовка распространилась и на типографии. Тогда во взволнованную рабочую массу была неожиданно брошена идея похода к Зимнему дворцу.
Эта идея принадлежала Гапону и его окружению, и петицию помогали составлять социал-демократы. Уже из этого видно, что не могло быть речи о «порыве народа к своему царю». Содержание петиции достаточно ясно об этом свидетельствовало. Примитивная демагогия Гапона служила в ней предисловием к весьма определенным социал-демократическим лозунгам. Она начиналась понятными всякому рабочему словами о том, как тяжело живется трудящимся; тон постепенно повышался: «Нас толкают все дальше в омут нищеты, бесправия и невежества… Мы немногого просим; мы желаем только того, без чего наша жизнь – не жизнь, а каторга… Разве можно жить при таких законах? Не лучше ли умереть нам всем, трудящимся? Пусть живут и наслаждаются капиталисты и чиновники…»
После этого выдвигались требования: «Немедленно повели созвать представителей земли Русской… Повели, чтобы выборы в Учредительное собрание происходили при условии всеобщей, тайной и равной подачи голосов. Это самая наша главная просьба, в ней и на ней зиждется все, это главный и единственный пластырь для наших ран».
Затем было еще тринадцать пунктов, в том числе – все свободы, равенство без различия вероисповедания и национальности, ответственность министров «перед народом», политическая амнистия и даже – отмена всех косвенных налогов. Перечисление требований кончалось словами: «Повели и поклянись исполнить их… А не повелишь, не отзовешься на нашу просьбу – мы умрем здесь на этой площади перед твоим дворцом».
Корреспондент парижской Humanite, Авенар, 8 (21) января в восторге писал: «Резолюции либеральных банкетов и даже земств бледнеют перед теми, которые депутация рабочих попытается завтра представить царю».
Власти были застигнуты врасплох быстро возникшей опасностью. Политический характер движения выяснился только 7-го. Газет не было. Министр финансов В. Н. Коковцов, например, узнал о готовящихся событиях только вечером 8 января, когда его вызвали на экстренное совещание у министра внутренних дел. Градоначальник до последней минуты надеялся, что Гапон «уладит все дело»! Угроза движения стотысячной толпы на дворец с петицией революционного содержания создавала для власти трудную задачу.
Допустить манифестации значило капитулировать без борьбы. В то же время русский полицейский аппарат был слаб. Он был более приспособлен к «выдавливанию» отдельных лиц, чем к предотвращению массовых выступлений. Слабость полицейского аппарата, уже проявившаяся за 1903 г. при волнениях в Златоусте, при кишиневском погроме, при беспорядках в Одессе, в Киеве и т. д., сказалась и в январских событиях в Петербурге. Как можно было – вечером 8 января – предотвратить поход толпы на Зимний дворец? Власти французской Третьей республики, когда они желали предотвратить демонстрации, арестовывали на сутки несколько сот (а то и тысяч) предполагаемых руководителей. Но отдельные городовые, затерянные в толпе петербургских рабочих кварталов, были совершенно бессильны что-либо предпринять; да и власти не знали, при быстроте развития движения, почти никаких имен, кроме Гапона.
Единственным способом помешать толпе овладеть центром города была установка кордона из войск на всех главных путях, ведущих из рабочих кварталов ко дворцу.
Объявления от градоначальника, предупреждавшие, что шествия запрещены и что участвовать в них опасно, были расклеены по городу вечером 8 января. Но большие типографии не работали, а типография градоначальства могла изготовить только небольшие невзрачные афишки.
Между тем руководители движения весь день 8 января объезжали город и на несчетных митингах призывали народ идти ко дворцу. Там, где Гапон сомневался в аудитории, он успокаивал, говоря, что никакой опасности нет, что царь примет петицию и все будет хорошо. Там, где настроение было более революционным, он говорил, что если царь не примет требований рабочих – «тогда нет у нас царя», и толпа ему вторила.
«Выдвигается социал-демократия. Враждебно встреченная, она вскоре приспособляется к аудитории и овладевает ею. Ее лозунги подхватываются массой и закрепляются в петиции», – пишет Троцкий в своей книге о 1905 г.
Интеллигентские круги были застигнуты врасплох, так же как и правительство. Они сделали попытку обратиться к министрам «для предотвращения кровопролития». Витте дал двусмысленный ответ – «умыл руки», как выразилось «Освобождение». Товарищ министра внутренних дел генерал Рыдзевский резонно ответил посетившей его депутации, что ей следует обратиться к рабочим, а не к власти: если запрещенной манифестации не будет, никакой опасности кровопролития нет. Но радикальная интеллигенция, конечно, не могла отговаривать рабочих от выступления, которому она всей душой сочувствовала.
Отчасти для того, чтобы успокоить более умеренную часть рабочих, отчасти для придания демонстрации «защитного цвета» в глазах полиции и войск, Гапон и другие вожаки движения посоветовали демонстрантам нести в первых рядах иконы и царские портреты. В более «передовых» районах этой маски, видимо, не понадобилось.
9 января было воскресеньем. Рабочие шествия с утра выступили из отделов общества, с расчетом, чтобы сойтись к двум часам у Зимнего дворца. Некоторые шествия представляли собою толпу в несколько десятков тысяч человек: всего в них участвовало до 300 000.
Когда шествие от Нарвской заставы, во главе с самим Гапоном, подошло к Обводному каналу, путь ему преградила цепь солдат. Толпа, несмотря на предупреждения, двинулась вперед, подняв плакат «Солдаты, не стреляйте в народ». Дан был сначала холостой залп. Ряды рабочих дрогнули, но руководители с пением двинулись дальше и повлекли за собой толпу. Тогда был дан настоящий залп. Несколько десятков человек было убито или ранено. Гапон упал на землю; прошел слух, что он убит; но его помощники быстро перекинули его через забор, и он благополучно скрылся. Толпа в беспорядке отхлынула назад.
И на Шлиссельбургском тракте, и на Васильевском острове, и на Выборгской стороне всюду, с небольшими вариациями, происходило то же, что у Нарвской заставы: демонстранты доходили до кордона войск, отказывались разойтись, не отступали при холостых залпах и рассеивались, когда войска открывали огонь. Кордон был не сплошной, отдельные кучки все же проникли на Невский; там тоже несколько раз возникала стрельба; группы рабочих смешивались с обычной уличной толпой. Небольшие скопления народа то возникали, то рассеивались атакой казаков или залпами. На Васильевском острове стали строить баррикады с красными флагами; но их почти не защищали. Движение распылилось; однако до поздней ночи в городе царило лихорадочное возбуждение; оно улеглось только через два-три дня.
Молва тотчас же приумножила число жертв. По официальной сводке, появившейся позже, убито было 130 человек и ранено несколько сот. Если бы толпе удалось овладеть центром города, число жертв было бы, вероятно, во много раз больше. Но дело было не в числе жертв, а в самом факте массового народного движения против власти, столкновения толпы с войсками на улицах столицы. Конечно, часть демонстрантов была обманута руководителями, внушавшими ей, что движение – не против царя, что ничего революционного в нем нет. Но также было несомненно, что революционные лозунги встретили неожиданный отклик в широких рабочих массах. 9 января как бы вскрылся гнойник; оказалось, что не только интеллигенция, но и «простой народ» – по крайней мере в городах – в значительной своей части находился в рядах противников существующего строя.
9 января было «политическим землетрясением» – началом русской революции. Понятно, что ее сторонники шумно возмущались действиями власти – это соответствует правилам всякой политической борьбы. Но и многие сторонники высказывали мнение, что 9 января была совершена роковая ошибка. Едва ли это исторически верно: поскольку власть не считала возможным капитулировать и согласиться на Учредительное собрание под давлением толпы, руководимой революционными агитаторами, – никакого другого исхода не оставалось. Уступчивость в отношении наступающей толпы либо ведет к крушению власти, либо к еще худшему кровопролитию. Конечно, при более сильном полицейском аппарате можно было принять «превентивные» меры, вообще не допустить демонстрации. Но вечером 8 января, когда власти окончательно уверились в серьезности положения, уже было поздно для таких мер.
Когда враги власти затем писали, что государю «стоило выйти к толпе и согласиться хотя бы на одно из ее требований» (какое – об Учредительном собрании?), и тогда «вся толпа опустилась бы перед ним на колени», – это было самым грубым искажением действительности. Гораздо честнее был отзыв плехановской «Искры».
«Тысячными толпами, – писал заграничный орган социал-демократов (18 января), – решили рабочие собраться к Зимнему дворцу и требовать, чтобы царь самолично вышел на балкон принять «петицию» и присягнуть, что требования народа будут выполнены. Так обращались к своему «доброму королю» герои Бастилии и похода на Версаль! И тогда раздалось «ура» в честь показавшегося толпе по ее требованию монарха, но в этом «ура» звучал смертный приговор монархии».
9 января 1905 г. было прискорбным, даже трагическим днем – но оно не было позорным днем для монархии, как те события 5–6 октября 1789 г., о которых напоминала «Искра».
События в Петербурге произвели ошеломляющее впечатление и в России, и за границей.
Интеллигенция увидела в них своего рода укор – рабочие опередили ее в своих требованиях; обществу показалось, что оно было еще слишком робким. Особенно торжествовали социал-демократы, всегда говорившие, что революция в России придет через рабочий класс.
«Десятилетняя работа социал-демократии вполне исторически окупилась, – писала «Искра». – В рядах петербургских рабочих нашлось достаточно социал-демократических элементов, чтобы ввести это восстание в социал-демократическое русло, чтобы временного технического организатора восстания идейно подчинить постоянному вождю пролетариата – социал-демократии».
Правительственные круги охватила паника. Градоначальник Фуллон, за ним и князь Святополк-Мирский должны были покинуть свои посты. Петербургским генерал-губернатором был назначен Д. Ф. Трепов, только недавно покинувший пост московского градоначальника, – человек твердый, глубоко преданный государю, обладавший бесстрашием и здравым смыслом, хотя и мало искушенный в политических вопросах. За весь начинавшийся смутный период Д. Ф. Трепов оставался верным помощником государя.
Возбуждение в Петербурге улеглось не сразу. Забастовка стала постепенно прекращаться, но газеты вышли только 15 января. В других городах кое-где возникли волнения; наиболее крупные столкновения были в Риге. Когда латино-славянское агентство генерала Череп-Спиридовича прислало из Парижа телеграмму о том, что японцы открыто хвастаются волнениями, вызванными на их деньги, – этому не захотели верить даже «Новое время» и «Гражданин».
Двое из ближайших советников государя, министр финансов Коковцов и министр земледелия Ермолов, обратились к нему с записками политического содержания. В. Н. Коковцов в записке 11 января писал, что ни полиция, ни военная сила не могут восстановить положение; необходимо «державное слово вашего величества… В такую минуту, когда улицы столицы обагрялись кровью, голос министра или даже всех министров вместе не будет услышан народом».
Еще более определенно выражался А. С. Ермолов. «Агитация не прекратилась, готовятся покушения, – говорил он государю (17 января). – Волнения перекинулись в большую часть городов, везде их приходится усмирять вооруженной силой… Что делать, если они перекинутся в селения? Когда поднимутся крестьяне, какими силами и какими войсками усмирять тогда эту новую пугачевщину? И можно ли тогда быть уверенным в войсках?»
Государь предложил министрам собраться на совещание, которое и состоялось 18 января под председательством Витте. Был выдвинут проект манифеста, в котором выражались бы скорбь и ужас по поводу событий в Петербурге и указывалось, что эти события не были государю своевременно известны. Витте даже предлагал упомянуть, что войска «действовали не по его велению», на что граф Сольский ответил: «Нельзя допустить, что его войска действуют не по его велению!»
Государь, однако, отверг идею такого манифеста; он не желал перекладывать ответственность на других и всецело разделял мнение графа Сольского в вопросе о войсках. Вместо этого он поручил Д. Ф. Трепову собрать делегацию из рабочих разных заводов и 19 января принял ее в Царском Селе, выразив в речи свое отношение к происшедшему.
«Вы дали себя вовлечь в заблуждение и обман изменниками и врагами нашей родины, – сказал государь. – Стачки и мятежные сборища только возбуждают толпу к таким беспорядкам, которые всегда заставляли и будут заставлять власти прибегать к военной силе, а это неизбежно вызывает и неповинные жертвы. Знаю, что нелегка жизнь рабочего. Многое надо улучшить и упорядочить… Но мятежною толпою заявлять Мне о своих нуждах – преступно».
Государь в то же время распорядился отпустить 50 000 рублей на пособия семьям пострадавших 9 января и поручил сенатору Шидловскому созвать комиссию для выяснения нужд рабочих при участии выборных из их среды. Выборы в эту комиссию были только использованы для политической демонстрации: выборщики собрались и вместо обсуждения рабочих нужд выставили ряд политических требований, в частности – возобновление деятельности гапоновского общества. Комиссия Шидловского так и не приступила к работам.
После того как термин «Учредительное собрание» появился в гапоновской петиции, самые умеренные земцы и такие газеты, как «Санкт-Петербургские ведомости», «Свет», «Новое время», открыто заговорили о необходимости Земского собора. Из правой печати только «Московские ведомости» (В. А. Грингмут) последовательно выдерживали свою прежнюю линию.
На дворянском собрании Московской губернии 22 января резко столкнулись два течения, и консервативное крыло во главе с братьями Самариными одержало верх большинством всего 219 против 147 голосов. В тот момент это был едва ли не единственный протест против революционного натиска. «Война, война трудная, еще небывалая по своему упорству, приковала к себе все силы государства. А между тем внутренняя смута расшатывает общество и волнует народ, – говорилось в адресе. – Ныне ли, в столь тяжелую пору, думать о каком-либо коренном преобразовании государственного строя России? Пусть минует военная гроза, пусть уляжется смута; тогда, направленная державной десницей твоей, Россия найдет пути для надежного устроения своей жизни… Царствуй в сознании своей силы, самодержавный государь!»
Характерно, что об этом адресе отозвались отрицательно и «Новое время», и даже «Русский вестник» со «Светом», не говоря уже о более левых органах печати.
В Русском собрании идею совещательного Земского собора как русскую форму представительства, в противовес Учредительному собранию, защищали генерал Киреев и А. В. Васильев (против приват-доцента Б. В. Никольского, противника каких-либо перемен).
Высшие учебные заведения одно за другим объявляли забастовку «впредь до созыва Учредительного собрания». В Санкт-Петербургском университете младшие преподаватели еще до студенческой сходки высказались большинством 87 против 4 за прекращение занятий. Протесты меньшинства не помогли: хотя в газетах и появились несколько сот писем студентов, высказывавшихся за продолжение занятий, само правительство решило прервать до осени занятия в высших учебных заведениях.
* * *
4 февраля взрывом бомбы социал-революционера Каляева был убит великий князь Сергей Александрович, которого, так же как и великого князя Владимира Александровича, революционные крути считали главою «партии сопротивления». Великий князь Сергей Александрович, много лет занимавший пост московского генерал-губернатора, действительно был человеком твердых консервативных воззрений, способным в то же время и на смелую инициативу. Только благодаря его поддержке С. П. Зубатову удалось организовать свои монархические рабочие союзы в Москве. Смерть великого князя была тяжелым ударом для русской власти.
Террористы, по слухам, готовили покушение и на государя, который поэтому лишен был возможности прибыть в Москву на похороны своего дяди: слишком много в эти смутные дни зависело от его жизни: наследнику не было года, а брат государя был еще молод и стоял далеко от государственных дел…
Гапон, бежавший за границу, выпускал неистовые воззвания, которые даже «Освобождение» решалось помещать только «в качестве документа».[76]
За границей уверовали в русскую революцию, и французские финансовые круги отказались от размещения нового русского займа во Франции.
18 февраля в вечерних петербургских газетах появился манифест, призывавший всех верных сынов отечества на борьбу с крамолой. Этот манифест был понят как отказ в тех реформах, которых требовали все настойчивее. Но на следующее же утро был опубликован рескрипт на имя нового министра внутренних дел А. Г. Булыгина, содержавший знаменательные слова. «Я вознамерился, – писал государь, – привлекать достойнейших, доверием народа облеченных, избранных от населения людей к участию в предварительной разработке и обсуждении законодательных предположений». Это было обещанием созывать совещательное народное представительство. Одновременно особым указом объявлялось, что всем русским людям и организациям предоставляется право сообщать государю свои предположения о желательных реформах государственного устройства.
Этот акт, писал А. С. Суворин в «Новом времени», «мановением жезла развеет смуту… Сегодня – счастливейший день моей жизни». «Белый флаг… символ трусости и слабости… – отзывалось со своей стороны «Освобождение». – Нужно только навалиться всей силой на колеблющееся самодержавие, и оно рухнет…»
На почти забытом страною театре военных действий за это время происходили большие события. Еще в конце декабря трехмесячное затишье на фронте было нарушено смелым набегом большого русского кавалерийского отряда под командой генерала А. В. Мищенко в обход левого крыла японцев, на 150 верст в неприятельский тыл, до порта Инкоу. Японцы успели вызвать подкрепления; железную дорогу в их тылу разрушить не удалось; но все же русские сожгли большие японские склады в Инкоу и почти без потерь возвратились в начале января на свои позиции.
Русское командование предполагало использовать месяц, остававшийся до прибытия японской армии генерала Ноги из-под Порт-Артура, для нанесения противнику решительного удара. Армии стояли друг против друга на фронте в несколько десятков верст, причем восточное крыло обеих армий растягивалось по гористой местности, центр – на Шахэ – был сильно укреплен, а западное крыло стояло на плоской равнине реки Ляохэ (и ее притока Хунхэ).
12 января – когда газеты в Петербурге еще не выходили – 2-я Маньчжурская армия под командой генерала Гриппенберга перешла в наступление на западной равнине, охватывая левое крыло японцев. Начался бой при Сандепу – самое «спорное» сражение за всю войну. Русская армия в этот момент имела несомненное численное превосходство. Первые удары были нанесены врагу неожиданно. И все-таки сражение, продолжавшееся четыре дня при 20-градусном морозе и стоившее русским около 12 000 человек, а японцам – 10 000, ровно ни к каким результатам не привело.
Большинство военных авторитетов обвиняет в этом Куропаткина, отдавшего приказ об отступлении, когда русские начинали одерживать верх. «Куропаткин без серьезных оснований отказался от борьбы». «Этот бой был проигран главным образом командованием», – говорят историки этих боев.[77] Сам Куропаткин утверждал, что наступление было поведено с самого начала слишком медленно и что дальнейшее продолжение боя только принесло бы ненужные потери.
Командующий 2-й Маньчжурской армией, генерал О. К. Гриппенберг, настолько был возмущен приказом об отступлении («Этот приказ спас японцев!» – писал он впоследствии в газетах), что реагировал необычным образом: он просил главнокомандующего уволить его от командования армией «по расстройству здоровья».
На телеграфный запрос государя с требованием «всей правды» генерал Гриппенберг ответил, что, по его глубокому убеждению, с нынешним главнокомандующим никакая победа невозможна. Генералу Гриппенбергу было разрешено прибыть в Петербург с докладом. Его отъезд из армии вызвал полемику в печати: «Новое время» стало на сторону Куропаткина и называло отъезд Гриппенберга «дезертирством»; наоборот, известный военный авторитет, генерал М. И. Драгомиров, горячо защищал бывшего командующего 1-й армией.
На место генерала Гриппенберга был назначен командующий 3-й армией генерал А. В. Каульбарс, которого, в свою очередь, заменил генерал Бильдерлинг (вскоре замененный генералом Батьяновым).
Куропаткин между тем продолжал обсуждать планы перехода в наступление, пока прибытие армии генерала Ноги из-под Порт-Артура снова не выровняло положение в пользу японцев.
На фронте (с обеих сторон вместе) было сосредоточено свыше 600 000 бойцов – число, не превзойденное до тех пор в истории войн, если не считать полулегендарных сражений древности. В середине февраля японцы начали атаковать восточное крыло русской армии, угрожая глубоким обходом. Русские в общем успешно оборонялись, когда обнаружилось на противоположном крыле, на равнине к западу от Мукдена, быстрое наступление больших японских масс: главная опасность оказалась на правом крыле. Задерживая русский центр на укрепленных позициях к югу от Мукдена, японцы стремились выйти к железной дороге севернее этого города и перерезать русскую коммуникационную линию. В то же время им удалось вбить клин между центром и левым крылом русского фронта (между 3-й и 1-й армиями). Тогда их усилия сосредоточились на том, чтобы поймать в гигантский мешок около Мукдена 2-ю и 3-ю армии. Клещи, оставлявшие вне своего обхвата только 1-ю армию в гористой местности к востоку, грозили сомкнуться, когда Куропаткин отдал приказ об отступлении.
В своих «Итогах войны» главнокомандующий писал: «Отступи мы от Ляояна днем позже, Ляоян мог обратиться для нас в Мукден; отступи мы от Мукдена днем раньше, Мукден мог обратиться для нас в Ляоян…»
Отступление от Мукдена действительно прошло менее благополучно: правда, основные массы 2-й и 3-й армий ушли вовремя из японских клещей, и, когда кольцо сомкнулось, русских войск внутри не оказалось. Но потери были очень велики; около 30 000 человек было взято в плен; а 2-я и 3-я армии были настолько расстроены боем, что пришлось отвести их не до Телина, как предполагалось раньше, а еще на несколько десятков верст севернее. Отступление прикрывала менее пострадавшая 1-я армия генерала Линевича. Впрочем, японцы, истощенные боем, почти не преследовали.
Мукденский бой был несомненным поражением русской армии. Она потеряла – по сведениям Главного штаба – 89 500 человек (включая пленных) – свыше четверти своего состава; японцы (по тем же сведениям) потеряли 67 500 человек.[78] Ей пришлось отступить почти на полтораста верст. Тем не менее Мукден не был ни Седаном, ни Ватерлоо; русская армия осталась и после него грозной боевой силой, а японцы были сильно истощены, несмотря на победу. Они в последний раз воспользовались преимуществом своей более ранней готовности – и все же не добились решающего результата. Разговоры о Мукдене как о небывалом и позорном разгроме объяснялись политическими соображениями – желанием доказать негодность русской власти.
25 февраля японцы заняли Мукден. 5 марта был опубликован приказ государя об увольнении Куропаткина с поста главнокомандующего и о назначении на его место генерала Линевича. Куропаткин проявил большое смирение и самоотверженность: он просил разрешить ему остаться в армии, хотя бы на самом скромном посту. Государь назначил его командующим 1-й армией: Куропаткин и Линевич поменялись местами.
«Солдаты до последней минуты боготворили Куропаткина», – писало «Новое время». Действительно, бывший главнокомандующий очень заботился о солдате; армия была при нем всегда сыта, одета, обута, но – «все было сделано для тела солдата и ничего для души», – писал в «Русском инвалиде» П. Н. Краснов: у Куропаткина не было «Божией искры» полководца, хотя его теория отступления по образцу 1812 г. и была, как показали события, во многом правильной.
Исход Мукденского боя был воспринят русским обществом как естественное следствие всего хода событий: удивил бы обратный результат. Толки о мире начались и на страницах легальной печати, не исключая «Нового времени».
* * *
Указом 12 декабря был намечен ряд реформ: новый закон о печати, расширение прав «национальных меньшинств» в культурно-просветительной области, свобода вероисповеданий. Разработка этого последнего вопроса повела к постановке на очередь реформы русской церкви.
Церковные круги, во главе с митрополитом Санкт-Петербургским Антонием, выдвинули проект преобразований для установления большей независимости церкви от государства. 17 марта в «Церковном вестнике» появилась записка группы 32 столичных священников. «Только свободно самоуправляющаяся церковь, – говорилось в ней, – может обладать голосом, от которого горели бы сердца человеческие. Что же будет, если свободою религиозной жизни, исповедования и проповедования своей правды будут пользоваться все виды большего или меньшего религиозного заблуждения, все религиозные общества и союзы, – и только православная церковь, хранительница подлинной Христовой истины, одна будет оставаться лишенною равной и одинаковой с ними свободы?» Записка кончалась требованием созыва поместного собора русской церкви.
Обер-прокурор Синода, К. П. Победоносцев, в это время фактически почти устранился от дел, не посещал заседаний Комитета министров и был проникнут мрачным безнадежным настроением. «Я чувствую, что обезумевшая толпа несет меня с собою в бездну, которую я вижу перед собой, и спасенья нет, – писал он Витте, с которым, по старой памяти, сохранял хорошие отношения. – Я не в силах опровергать целое мировоззрение». Самоустранение властного обер-прокурора облегчало дело сторонников реформы.
Синод на заседании 22 марта единогласно высказался за восстановление патриаршества и за созыв в Москве Всероссийского собора для выборов патриарха. Синод должен был стать совещательным органом при патриархе, каковым предполагалось избрать санкт-петербургского митрополита Антония (Вадковского).
Но протесты против этого плана раздались не только из окружения обер-прокурора, но и со стороны видных богословов, убежденных сторонников восстановления приходского самоуправления. «Требуется возродить церковь. Но это возрождение надо провести правильными путями, не повторяя самовластных способов действия 1721 г., – писал М. А. Новоселов и, критикуя решение Синода, добавлял: – Поспешность поистине поразительная, вызывающая представление скорее о так называемой Виттовой пляске, чем о серьезном обсуждении святого и великого дела!»
Перед лицом разногласий в церковной среде государь 31 марта положил на докладе Синода следующую резолюцию: «Признаю невозможным совершить в переживаемое ныне тревожное время столь великое дело, требующее и спокойствия и обдуманности, каково созвание поместного собора. Предоставляю себе, когда наступит благоприятное для сего время, по древним примерам православных императоров дать сему делу движение и созвать собор всероссийской церкви для канонического обсуждения предметов веры и церковного управления».
Это не задержало введения начала веротерпимости; оно было близко государю с ранних лет, только в этой области он долгое время не желал действовать против своего учителя, К. П. Победоносцева, влияние которого, впрочем, и ограничивалось главным образом сферой церковных вопросов. 17 апреля, на Пасху, был издан указ о веротерпимости, предоставлявший всякому совершеннолетнему русскому подданному право исповедовать любое христианское вероучение, отдававший старообрядцам и сектантам их молитвенные дома и отменявший все прошлые законы, противоречащие этим началам. На основании этого указа сразу же вернулись к униатству десятки тысяч крестьян в Западном крае, только формально числившихся православными.
* * *
Между тем 2-я Тихоокеанская эскадра свыше двух месяцев стояла в береговых водах Мадагаскара. В морских кругах сознавали, что она слабее японской; газетная кампания (в которой наиболее видное участие принимал капитан Н. Л. Кладо) побудила снарядить 3-ю эскадру, состоявшую из старого броненосца «Николай I», еще более старого бронированного крейсера «Владимир Мономах» и трех броненосцев береговой обороны, приспособленных для плавания в Балтийском море. Адмирал Рожественский считал эти подкрепления сомнительными, особенно ввиду малой скорости их хода; но так как и в его эскадре было два-три не более быстрых судна, он не мог убедительно возражать против их отправки. 2 февраля 3-я эскадра вышла из Либавы под командой адмирала Небогатова.
Дальнейшее движение русской эскадры на Дальний Восток представлялось огромным риском. Но ее отозвание в Балтийское море было бы всеми понято как отказ от борьбы. Ни государь, ни морской штаб, ни сам адмирал З. П. Рожественский не взяли на себя инициативу этого шага. «Хотелось верить в чудо»: эскадра обратно отозвана не была и продолжала свой путь после долгой стоянки у Мадагаскара. В первых числах марта она «пропала без вести». 28 марта телеграф сообщил неожиданную весть: эскадра Рожественского в полном составе проходит Малаккский пролив.
Это произвело большое впечатление – и за границей, где в особенности англичане по достоинству оценили все трудности блестяще совершенного перехода, и даже в России, где общее внимание было занято в ту пору всевозможными проектами конституций и избирательных законов. На бирже сильно понизились курсы японских бумаг. «О, если бы Бог даровал ей победу! – писал А. С. Суворин в «Новом времени». – Как бы Русь воспрянула, как отлетел бы от нее весь дым и чад, все это удушье, бестолковщина и безначалье…» Левые круги встревожились: возможность русской победы нарушала все их представления и расчеты.
Но это улучшение было обманчивым, так как основывалось на несбыточной надежде победы 2-й эскадры. И количественно, и в особенности качественно она была много слабее японского флота: лишенная базы, она была стеснена в свободе движений; и к тому же сам ее командующий не верил в успех. Надо, впрочем, сказать, что не только в России, но и за границей многие считали русскую победу возможной. Бюлов писал об этом Вильгельму II; президент Рузвельт считал, что «русская эскадра материально сильнее», и только рассчитывал на дух и боевую подготовку японского флота.
Около месяца эскадра крейсировала у берегов Индокитая. Французское правительство, не желая ссоры с Англией, требовало ее ухода; но местные морские власти проявляли к русскому флоту искреннюю союзническую предупредительность. 26 апреля в бухте Ван-Фонг 3-я эскадра присоединилась к 2-й. В этот день адмирал Рождественский издал приказ по флоту: «Японцы беспредельно преданы Престолу и родине, не сносят бесчестья и умирают героями. Но и мы клялись перед престолом Всевышнего. Господь укрепил дух наш, помог одолеть тяготы похода, доселе беспримерного. Господь укрепит и десницу нашу, благословит исполнить завет Государев и кровью смыть горький стыд Родины».
Русский флот, направлявшийся в единственный свой порт, Владивосток (где еще стояло два крейсера и чинился третий), мог выбрать более долгий путь по Тихому океану или более короткий – между материком и Японией – через Корейский пролив. Адмирал Рожественский выбрал второй путь. При обилии и быстроте японских разведочных судов все равно почти не было шансов пройти незамеченными.
14 мая русская эскадра вошла в Корейский (или Цусимский) пролив. Японцы в тумане чуть ее не пропустили; их разведчики наткнулись только на последние русские суда. Адмирал Того тотчас вышел наперерез русской эскадре. Он отдал приказ: «От этого боя зависит все будущее Японии». На этот раз японцы не стремились беречь свои суда: даже если бы они одержали верх дорогой ценой, никакая новая эскадра еще несколько лет не могла больше выйти из русских гаваней. Как только завязался бой, сразу сказалось превосходство японского флота. Меньше чем через час затонул первый русский броненосец «Ослябя». Эскадры сходились и расходились; бой тянулся до темноты; но к ночи, после геройского сопротивления, погибли еще три (из четырех) новых броненосца;[79] два из них – со всем экипажем. Адмирал Рожественский был тяжело ранен осколком снаряда и перевезен с «Князя Суворова» на миноносец.
Ночью от минных атак погибло еще несколько русских судов. На заре 15 мая от эскадры оставались лишь остатки. Отдельные корабли – «Светлана», «Адмирал Ушаков» – гибли один за другим в неравных поединках. Миноносец «Бедовый», на котором находился раненый адмирал Рожественский, сдался. Последняя группа судов – два эскадренных броненосца, два броненосца береговой обороны – была окружена превосходящими силами врага, и адмирал Небогатов – по его словам, из желания «спасти две тысячи молодых жизней» – сдался японцам с четырьмя судами.
Владивостока достигли только небольшой крейсер «Алмаз» и два миноносца; быстроходный «Изумруд» разбился о камни к северу от Владивостока, а три других крейсера, под командой адмирала Энквиста, повернули на юг и укрылись в Маниле на Филиппинских островах. Флот был уничтожен целиком, тогда как японцы потеряли всего несколько миноносцев. Русские моряки показали в этом безнадежном бою большое геройство, но перевес противника оказался слишком велик.
Цусимский бой произвел во всем мире еще много более сильное впечатление, чем взятие Порт-Артура. Определенностью своего результата он создал представление о полном торжестве Японии в этой войне. Между тем японцы имели преобладание на море с самого начала, а после боев 28 июля и 1 августа их господство в водах Дальнего Востока было безраздельным. Для исхода борьбы на маньчжурском фронте ничего, таким образом, не изменилось.
Русское общество приняло вести о Цусиме с почти нескрываемым злорадством. Оно, в своем большинстве, уже привыкло рассматривать все события на войне с одной точки зрения – поднимают они или роняют престиж правительства? Оно даже и власти приписывало такие же воззрения: «Война уже давно ведется только потому, что победа нужна, отчаянно нужна для спасения самодержавия… Вот с какой миссией шел на уничтожение флот Рожественского, вот ради чего сражается и идет навстречу поражениям (?) армия Линевича!» – писало «Освобождение».
В то время как для государя на первом плане была национальная задача – доведение до успешного конца исторической борьбы, – а так называемое освободительное движение представлялось ему в данный момент прежде всего помехой в этом насущном деле, русское общество, в своем огромном большинстве, было всецело увлечено борьбой против власти во имя коренных преобразований всего строя.
К этому времени политическое возбуждение охватило самые разнообразные круги. Появилось «Христианское братство борьбы», с религиозной точки зрения освящавшее и оправдывавшее революцию. «Мы ведем борьбу, – говорилось в его воззвании, – с самым безбожным проявлением светской власти – с самодержавием».
Те «декадентские» круги, которые в предвоенные годы оставались в стороне от политики и даже порою едко осуждали интеллигентскую узость, теперь прониклись мистической верой в революционную стихию, и «Новый путь» стал помещать все более резкие политические статьи. Поэт Вячеслав Иванов в стихах о Цусиме восклицал: «Огнем крестися, Русь! В огне перегори… / В руке твоих вождей сокрушены кормила. / Се, в небе кормчие ведут тебя цари…»
Из целого ряда организаций «свободных профессий» сложился Союз союзов,[80] составивший как бы левое крыло открытого освободительного движения. Одним из его главных руководителей был профессор П. Н. Милюков, участник Парижской конференции 1904 г. (к тому времени более известный в качестве русского историка).
На земском съезде, происходившем еще в апреле, победу опять одержало его левое крыло, высказавшееся за всеобщее, прямое, равное и тайное избирательное право. Решения съездов предварительно обсуждались на особых заседаниях земцев-конституционалистов и затем уже проводились от имени всего земства.
Протесты отдельных групп правых земцев (как заявление 20 московских губернских гласных о «нежелательной партийности, выразившейся в петербургском частном совещании, слывущем повсюду под громким, но не соответствующим истине названием общеземского съезда») проходили почти незамеченными. Конечно, эти съезды не были правильно организованным представительством земства; но нельзя отрицать, что за весь период нарастания революционной волны эти «инициативные группы» не встречали в земской среде сколько-нибудь заметного сопротивления и в общем выражали ее настроения, хотя и придавая им более радикальный уклон.
Умеренные круги начали организовываться позже, и так называемая «шиповская группа» так и осталась только меньшинством на земских съездах.
Вести о Цусиме поразили государя, до последней минуты верившего в успех. «На душе тяжело, больно, грустно», – записал он 18 мая. Поражение флота снова ставило на очередь вопрос – возможно ли продолжать войну? В этом начинали сомневаться в ближайшем окружении государя.
За границей Цусимский бой вызвал известный поворот настроения. Америка почувствовала, что торжество Японии на море начинает угрожать и ее интересам. Германский император на основании тревожных донесений из Петербурга решил, что для русской монархии и даже для жизни самого государя возникает серьезная опасность. В письме от 21 мая (3 июня) Вильгельм II писал государю: поражение флота «отнимает всякую надежду на то, чтобы счастье повернулось в твою сторону». Война уже давно непопулярна. «Совместимо ли с ответственностью правителя упорствовать и против ясно выраженной воли нации продолжать посылать ее сынов на смерть только ради своего личного дела, только потому, что он так понимает национальную честь… Национальная честь сама по себе вещь прекрасная, но только если вся нация сама решила ее защищать…» И Вильгельм II советовал пойти на мир.
В тот же день Вильгельм II вызвал американского посла Тоуэра и заявил ему: «Положение в России настолько серьезно, что, когда истина о последнем поражении станет известна в Петербурге, жизнь царя подвергнется опасности и произойдут серьезные беспорядки». Он просил поэтому президента Рузвельта через американского посла в Петербурге предложить России свое посредничество.
Рузвельт 23 мая телеграфировал послу Мейеру, чтобы тот повидал самого государя. Мейер 25 мая около 2 часов дня явился в Царскосельский дворец. Это был день рождения государыни, и посол, не желая нарушать семейного торжества, вошел через боковой вход и просил государя об экстренной аудиенции. Государь согласился принять посла, несмотря на неурочную обстановку.
Мейер прочел инструкции Рузвельта и произнес целую речь о необходимости скорейшего заключения мира. Государь почти все время молчал; только на один из доводов посла – о том, что мир легче заключить, пока нога неприятеля еще нигде не ступила на русскую землю, – он откликнулся сочувственно. Государь в конце аудиенции изъявил согласие на переговоры, но только при условии такого же предварительного согласия со стороны Японии; никоим образом не должно было создаться представление, будто Россия просит мира. Посол в телеграмме Рузвельту писал, что самообладание государя произвело на него сильное впечатление.
В тот же день 25 мая состоялось под председательством государя военное совещание; в нем участвовали великие князья Владимир и Алексей Александровичи, военный министр Сахаров, морской министр Авелан, министр двора барон Фредерикс, командующий войсками Приамурского округа генерал Гродеков, генералы Гриппенберг, Рооп и Лобко (государственный контролер), адмиралы Дубасов и Алексеев.
Государь поставил совещанию конкретные вопросы: 1) можно ли без флота отстоять Камчатку, Сахалин и устье Амура? 2) какое значение для исхода войны на этих отдаленных участках имела бы русская победа в Маньчжурии? 3) следует ли приступить к переговорам – хотя бы для того, чтобы узнать, каковы требования Японии?
За мир наиболее определенно высказались великий князь Владимир Александрович и адмирал Алексеев, бывший наместник, настроенный чрезвычайно мрачно («Дух в армии подорван», – говорил он). Генерал Гриппенберг только вспомнил свою старую обиду («Ваше величество, под Сандепу победа была наша, только главнокомандующий…»). Все сходились на том, что Сахалин и Камчатку без флота защитить не удастся.
Первым против мира, основанного на поражении, выступил адмирал Ф. В. Дубасов. В начале января он еще высказывался за прекращение войны,[81] теперь он говорил, что Россия не должна кончать войну на Мукдене и Цусиме. После энергичной речи адмирала Дубасова против мира высказались генерал Сахаров и барон Фредерикс, а также генерал Рооп, добавивший, однако, что для продолжения войны желательно созвать Земский собор.
Никакого решения принято не было; вопрос о продолжении войны остался открытым; государь согласился на переговоры – хотя бы для того, чтобы узнать условия Японии.
Рузвельт после этого – нотой 26 мая, обращенной одновременно к России и Японии, – предложил «в интересах человечества» сойтись для переговоров, чтобы положить предел «ужасающей и прискорбной борьбе». Япония 28 мая изъявила согласие на переговоры; 29 мая предложение Рузвельта было опубликовано. После недолгого спора о месте созыва мирной конференции было решено созвать ее в Вашингтоне.[82]
В эти самые дни конфликт из-за Марокко между Германией и Францией едва не привел к войне. Но французский Совет министров предпочел отступить. Делькассе подал в отставку (24 мая); заменивший его премьер Рувье согласился на созыв международной конференции в Альхесирасе для обсуждения марокканского вопроса.
Если адмирал Ф. В. Дубасов возмущался мыслью о том, что Россия может кончить войну «на Мукдене и Цусиме», то широкие круги русского общества именно этого и желали. Даже те, кто не радовался поражениям, считали, что из них следует «извлечь пользу» для освободительного движения. Требования прекращения войны стали открыто раздаваться везде; и все, кто пытались протестовать против мира, подвергались озлобленным нападкам или осмеянию.
Большое гражданское мужество проявил в эти дни генерал А. Н. Куропаткин. Узнав, что в общественных кругах Москвы раздаются требования прекращения войны, он телеграфировал московскому предводителю дворянства князю П. Н. Трубецкому: «Если москвичи не чувствуют себя в силах послать нам на помощь для скорейшего одоления врага своих лучших сынов, то пусть они по крайней мере не мешают нам исполнять свой долг на полях Маньчжурии до победного конца».
«Низкое холопство», «гнусная проделка», «таким явно лживым лакейским заявлением Куропаткин окончательно погубил себя в глазах земской России», – восклицало «Освобождение». Подозревать в неискренности Куропаткина нет, конечно, никаких оснований: в те же самые дни (26 мая) он писал Витте: «Даже теперь, после уничтожения эскадры Рожественского, России надо продолжать борьбу, и победа (японцев) на море не должна нас особенно тревожить, ибо японцы и до сих пор хозяйничали на море… Но на суше мы стоим тверже, чем стояли когда-либо, и имеем много шансов выйти победителями при новом кровопролитном столкновении… Японцы напрягли крайние усилия… Они дошли до кульминационного пункта. Мы же еще только входим в силу». Куропаткин писал, что с великой радостью встретил бы вести о новом бое, так как верит в успех русского оружия. «И неужели хоть на полгода времени нельзя вдохнуть в интеллигенцию России чувство патриотизма?.. Пусть, по крайней мере, не мешают нам продолжать и с почетом окончить… трудное дело борьбы с Японией».
Витте на это отвечал (23 июня) совершенно в ином тоне: «Нужно пожертвовать всеми нашими успехами, достигнутыми за последние десятилетия… Мы не будем играть мировой роли – ну, с этим нужно помириться». «Следует помнить, – писал около того же времени П. Н. Милюков, – что по необходимости наша любовь к родине принимает иногда неожиданные формы и что ее кажущееся отсутствие на самом деле является у нас наивысшим проявлением подлинного патриотического чувства».[83]
Куропаткин, однако, не был одинок в своем мнении о возможности русской победы. Так же оценивали положение и многие иностранные военные специалисты. «Японцы, – писал в начале июня полковник Гэдке в Berliner Tageblatt, – достигли предела своих сил. Они никогда не добьются лучших условий мира, чем сейчас… Без нужды победоносная армия не проводит в полной бездеятельности целых три месяца». И это убеждение крепло по мере того, как шли четвертый, пятый, шестой месяц, а японская армия так и не сдвинулась с позиций, занятых ею после Мукдена. Сибирская дорога пропускала уже до 18–20 поездов в день. Постройка Круго-Байкальской дороги была закончена. Подкрепления ровным потоком притекали из России в Маньчжурию.
* * *
Через несколько дней после Цусимского боя в Москве состоялись съезды Союза союзов[84] и земских деятелей. Сначала собрались отдельно умеренные (шиповцы) и конституционалисты, но 24 мая обе земские группы решили устроить совместный съезд. Мнения на нем сталкивались порою довольно резко. Умеренные говорили, что «недопустимо обнаруживать во время войны конфликт правительства с народом», что «народ не примет позорного мира»; после бурных прений было решено обратиться с адресом к государю и отправить к нему депутацию. Адрес был принят в редакции, составленной князем С. Н. Трубецким: левые, хотя их было больше, желали добиться единогласия. «Сойдемся на этом бледном адресе», – говорил князь П. Д. Долгоруков. Крайнее левое крыло съезда, опасаясь, что посылка депутации приведет к примирению с властью, предложило ехать к государю всем съездом. Однако большинством 104 против 90 съезд высказался за посылку нормальной депутации. Было избрано 12 человек,[85] к которым затем были присоединены автор адреса князь С. Н. Трубецкой и представитель Санкт-Петербургской думы М. П. Федоров.
Эта делегация была попыткой лояльного обращения к власти; и адрес съезда был не ультиматумом противнику, но и не верноподданническим обращением, а чем-то средним между этими двумя противоположностями. Государь знал, что в составе делегации, наряду с людьми умеренными, есть и непримиримые противники того строя, в который он верил. Тем не менее он решил принять делегацию.
6 июня на ферме в Петергофе состоялась эта историческая встреча – первая встреча русского самодержца с представителями оппозиционного общества. Она прошла в примирительных тонах. От имени делегации говорил князь С. Н. Трубецкой. Его язык существенно отличался от тона съездов. «Мы знаем, государь, – говорил он, – что Вам тяжелее нас всех… Крамола сама по себе не опасна… Русский народ не утратил веру в царя и несокрушимую мощь России… Но народ смущен военными неудачами: народ ищет изменников решительно во всех – и в генералах, и в советчиках Ваших, и в нас, и в господах вообще… Ненависть неумолимая и жестокая поднимается и растет, и она тем опаснее, что вначале она облекается в патриотические формы».
Князь Трубецкой заговорил затем о созыве народных представителей. «Нужно, – сказал он, – чтобы все Ваши подданные, равно и без различия, чувствовали себя гражданами русскими… чтобы все Ваши подданные, хотя бы чуждые нам по вере и крови, видели в России свое отечество, и в Вас – своего государя. Как русский царь не царь дворян, не царь крестьян или купцов, не царь сословий, а царь всея Руси – так выборные люди от всего населения должны служить не сословиям, а общегосударственным интересам». «Государь, – заключил князь Трубецкой, – возвращаясь к формуле Святополк-Мирского – на доверии должно созидаться обновление России».
Государь, сочувственными кивками подчеркивавший многие места речи князя Трубецкого, приветливо отвечал, что он не сомневается в горячей любви земских людей к родине. «Я скорбел и скорблю о тех бедствиях, которые принесла России война и которые необходимо еще предвидеть, и о всех внутренних наших неурядицах. Отбросьте сомнения: Моя воля – воля царская – созывать выборных от народа – непреклонна. Пусть установится, как было встарь, единение между царем и всею Русью, общение между мною и земскими людьми, которое ляжет в основу порядка, отвечающего самобытным русским началам. Я надеюсь, вы будете содействовать Мне в этой работе».
В адресе съезда упоминалось о необходимости созыва народных представителей для решения вопроса о войне или мире, но ни у кого из делегатов (как выразился А. С. Суворин) «не повернулся язык» заговорить о прекращении войны, когда государь упомянул о бедствиях войны, «которые еще необходимо предвидеть». Казалось, общий язык был найден. Но на самом деле князь С. Н. Трубецкой не выражал настроений не только интеллигенции, но даже и большинства организованных земских деятелей…
Легальная левая печать вынуждена была ограничиться туманными язвительными намеками, но заграничные органы обрушились на князя С. Н. Трубецкого. «Набор византийских фраз… в этих плевелах словесных изворотов трудно отыскать пшеницу», – восклицал в «Освобождении» некий «Старый земец».[86]
Вскоре после приема 6 июня в газетах появились первые сведения о проекте представительного собрания, который разрабатывался на основании рескрипта 18 февраля. Стало известно, что речь идет о совещательном органе, носящем название Государственной думы. Старый термин «Земский собор», выдвигавшийся с осени 1904 г., был оставлен: условия слишком изменились с XVII в. для воскрешения старых форм и старых названий.
Государь принимал в июне и другие делегации – от Курского дворянского собрания, от 26 губернских предводителей дворянства, от Союза русских людей. Граф А. А. Бобринский и граф Шереметев призывали государя не отказываться от принципа сословных выборов. Однако по главному вопросу момента и в заявлении Союза русских людей, и в записке 26 предводителей дворянства говорилось почти то же, что в речи князя С. Н. Трубецкого. «Государь, – писали 26 губернских предводителей дворянства, – одно только может утешить раздражение и успокоить общество – немедленный приступ к созыву народных представителей».
Созыв Государственной думы был предрешен: сам государь внутренне сомневался в полезности этого шага, но, видя, насколько всеобщим становится это стремление, только старался обставить «опыт» известными предосторожностями, чтобы не открыть шлюзы перед революцией.
* * *
В июне было несколько революционных вспышек. В Лодзи, где с начала года не прекращались забастовки и отдельные убийства, 5 июня произошло столкновение рабочей толпы с войсками; убито было 12 человек. Их похороны стали поводом для настоящего восстания. Польская социалистическая партия и Бунд стали во главе движения. Борьба на баррикадах, стрельба из домов продолжались четыре дня (с 10 по 13 июня). Десятки тысяч мирных граждан бежали из города. По неполным официальным сведениям, убито было свыше 150 человек, ранено около 200. Лодзинские события стоили больше жертв, чем 9 января.
Не успело кончиться восстание в Лодзи, как начались рабочие волнения в Одессе (12 июня); объявлена была всеобщая забастовка; бастующие задерживали поезда, высаживая из них пассажиров; район порта оказался во власти революционной толпы.
14 июня на самом новом броненосце Черноморского флота «Потемкин-Таврический» команда, под предлогом выдачи несвежего мяса, восстала, зверски перебила большинство офицеров во главе с командиром и, подняв красный флаг, направила броненосец на Одессу, где в то время как раз происходили волнения.
15 июня «Потемкин» под красным флагом появился в Одесском порту. Положение стало угрожающим: тяжелые морские орудия могли разнести любое здание в городе. Войска, оцепив кордоном район порта, предотвратили дальнейшее распространение бунта; в гавани, где не было власти, начались пожары и грабежи.
17 июня к Одессе подошла Черноморская эскадра из четырех броненосцев. «Потемкин», пользуясь своим более быстрым ходом, прорезал строй эскадры – и не только его при этом не обстреляли, но еще один броненосец, «Георгий Победоносец», последовал за ним. Офицеров (кроме одного, который покончил с собой) отослали на берег на паровом катере. Возникала небывалая «революционная эскадра» – кроме двух броненосцев, в ней состоял и один миноносец.
Но уже 18 июня среди матросов «Георгия» началось отрезвление. Они не пошли так далеко, как потемкинцы; они не пролили крови. Им было легче вернуться на путь долга. Напрасно потемкинцы грозили пустить ко дну «Георгия»; его команда привела свой корабль в Одесский порт и вступила в сношения с военными властями. Уже 20 июня офицеры вернулись на броненосец, а главные участники бунта (несколько десятков человек) были арестованы.
«Потемкин» еще странствовал несколько дней по Черному морю, но он оказался на положении пиратского судна: все гавани были ему закрыты. Только насилием мог он добывать себе уголь, воду и пищу. Попытка зайти в Феодосию 22 июня показала матросам безнадежность их положения: население массами бежало за город, а солдаты, рассыпавшись цепями, обстреляли десант потемкинцев, вышедший на берег за водой и углем. На одиннадцатый день с начала бунта, 24 июня, «Потемкин» явился вторично в румынскую гавань Констанцу; там команда вышла на берег и сдалась румынским властям, которые обещали не выдавать ее. Разделив между собою судовую кассу, потемкинцы разбрелись по Европе, а броненосец был возвращен русским властям.
Июньские бунты, при всей их серьезности, в то же время показали, что войско остается верным и что мятежники, даже обладая таким мощным орудием, как лучший броненосец Черноморского флота, быстро «сдают» из-за внутренней неуверенности в своей правоте; в этом отношении особенно характерен случай с «Георгием Победоносцем».
28 июня был убит московский градоначальник граф П. П. Шувалов: напоминала о себе боевая организация социал-революционеров. Вообще же она находилась в периоде упадка: в конце февраля при случайном взрыве погиб руководитель ее петербургской группы Швейцер, а в самом центре оказался «провокатор» (Татаров), расстроивший целый ряд готовившихся покушений.
Наряду с революционными вспышками происходили и инциденты «обратного характера». Уже кровавые волнения в Баку (в феврале) были не выступлением против власти, а междоусобицей татарских и армянских элементов города. 9 июля в Нижнем Новгороде произошло столкновение революционной демонстрации с толпой портовых рабочих («крючников»), которые разогнали демонстрантов, причем был один убитый и 30–40 раненых. В Балашове (Саратовской губ.) толпа народа осадила здание, где собрались земцы и интеллигенция для обсуждения политических резолюций, и грозила с ними расправиться. Губернатор, П. А. Столыпин, личным вмешательством успокоил толпу, в своем объявлении по этому поводу признав, что ею руководило «несомненно оскорбленное, хотя и дико патриотическое чувство».
Государь следующим образом определил свое отношение к таким «самочинным» выступлениям против врагов строя: «Революционные проявления дальше не могут быть терпимы; вместе с тем не должны дозволяться самоуправные действия толпы».
* * *
На маньчжурском фронте продолжалось затишье. Происходили только мелкие стычки. В Северной Корее вдоль берега медленно продвигался вперед крупный японский отряд, но еще и в августе он находился в нескольких десятках верст от русской границы.
Японцы воспользовались своим господством на море и 21 июня высадили на Сахалине две дивизии. Русских войск на острове было 3000–4000 человек, включая ополчение из каторжан. Борьба была слишком неравная; она растянулась почти на два месяца только вследствие больших размеров острова.
Созыв конференции для переговоров о мире был намечен на вторую половину июля. После некоторого колебания государь назначил главным русским уполномоченным С. Ю. Витте. Выбор этот мог показаться странным ввиду почти открыто «пораженческой» позиции бывшего министра финансов. Но государь учел, что Витте – человек талантливый, быстро осваивающийся с возложенной на него ролью; кроме того, в случае неуспеха переговоров было бы меньше нареканий, если бы разрыв произошел при таком определенном стороннике мира, как Витте. К тому же последнее слово государь сохранял за собой.
Витте выехал из Петербурга 6 июля. Проезжая через Берлин, он виделся со своим другом, банкиром Мендельсоном, и говорил ему, что России, конечно, придется отдать Японии Сахалин и заплатить большую контрибуцию. Опасаясь сопротивления со стороны государя, он просил устроить так, чтобы германский император повлиял на него в сторону уступок.
Государь между тем делал все от него зависевшее, чтобы обеспечить возможность продолжения войны. Он ловил всякое заявление против немедленного мира, выражал свое согласие с ним и свою благодарность. На телеграмму группы Оренбургского духовенства он (18 июля) ответил: «Русские люди могут положиться на меня. Я никогда не заключу позорного или недостойного Великой России мира». На телеграмме Хабаровской городской думы, просившей не заключать мира до победы, государь начертал: «Всецело разделяю ваши чувства». Но он в то же время не мог не видеть, как малочисленны были эти резолюции…
Заграничная русская печать упорно требовала немедленного мира. «Продолжение войны будет стоить гораздо дороже той контрибуции, о которой мы могли бы сговориться с японцами… Государственный расчет предписывает нам примириться с уступкой Сахалина», – писало «Освобождение». Ему вторила и легальная левая печать, причем «Наша жизнь» уже в мае советовала отдать японцам Сахалин, пока они его еще не заняли, а в «Сыне Отечества» профессор Бодуэн де Куртенэ рассуждал о том, что и Владивосток уступить, в сущности, не более позорно, нежели Порт-Артур.
Только из армии шли более бодрые вести. Отдохнув, пополнившись молодыми силами, ощущая непрерывное нарастание своей мощи, маньчжурская армия была опять готова к борьбе; солдатской массе внушали мысль, что для возвращения домой надо разбить японцев – иначе придется опять отступать, а Сибирь велика, и войне тогда конца не будет…
Государь произвел большие перемены в руководящих кругах военного и морского ведомств: 23 июня военный министр генерал В. В. Сахаров был заменен генералом А. Ф. Редигером; 30 июня – морской министр адмирал Авелан – адмиралом Бирилевым; начальником Генерального штаба был назначен генерал Ф. Ф. Палицын. За лето были объявлены еще две частные мобилизации, прошедшие совершенно спокойно. После неудачи военного займа во Франции в мае был заключен краткосрочный заем на 150 миллионов в Германии, а 6 августа был выпущен внутренний заем на 200 миллионов рублей. Золотой запас за первое полугодие 1905 г. еще возрос на 41 миллион рублей.
7 июля государь послал императору Вильгельму приглашение прибыть в финские шхеры. Этот вызов сильно заинтересовал германские правящие круги. Вильгельм II последовал зову государя, и 10–11 июля состоялось свидание на рейде Бьерке, на яхте «Полярная звезда». После обмена мнениями о создавшемся международном положении германский император напомнил государю о проекте русско-германского оборонительного союза, возникшем в момент обострения англо-русских отношений из-за инцидента в Северном море, и указал, что с новым французским министром иностранных дел Германии стало гораздо легче ладить. Государь выразил удовлетворение по этому поводу и сказал, что в таком случае ничто не мешает заключению договора. Вильгельм II тут же представил государю свой проект соглашения, и оба монарха скрепили его своими подписями. Желая подтвердить формальное значение этой бумаги, Вильгельм II дал на ней расписаться своему адъютанту фон Чиршки, а с русской стороны, не читая, по предписанию государя свою подпись поставил морской министр адмирал Бирилев.
Бьеркский договор устанавливал взаимное обязательство для России и для Германии оказывать друг другу поддержку в случае нападения на них в Европе. Особой статьей указывалось, что Россия предпримет шаги для привлечения Франции к этому союзу. Договор должен был вступить в силу с момента ратификации мирного договора между Россией и Японией. Острие договора было явно направлено против Англии.
Этот договор не стоял в противоречии с франко-русским союзом. В обоих случаях речь шла об обязательстве оказывать поддержку против нападения. Еще император Александр III хотел внести в франко-русскую военную конвенцию особую оговорку о том, что русские обязательства отпадают, если нападающей стороной является Франция, и французский представитель генерал Буадеффр в ответ указал, что такое указание излишне, раз весь договор носит оборонительный характер. (Обязательство оказывать помощь против нападающей стороны легло впоследствии в основу Локарнского договора и ряда других.) Когда поэтому Витте впоследствии утверждал, будто Бьеркский договор стоял в явном противоречии с франко-русским союзом, – это было либо проявлением юридического невежества, либо намеренным искажением истины.
Разумеется, этот шаг не соответствовал настроениям руководящих французских кругов; но едва ли можно было отрицать за русским царем право принимать меры для обеспечения своего тыла, когда Франция – также на юридически безупречном основании – так недавно вошла в тесное соглашение с союзницей Японии, причем это бесспорно отразилось и на русских интересах во время морской войны.
Бьеркский договор как союз трех материковых держав против Англии вполне соответствовал тем воззрениям, которые государь неоднократно высказывал начиная с весны 1895 г. Но в данный момент он имел еще одно, гораздо более непосредственное значение. Государь подготовлял возможность продолжения войны с Японией. Союзный договор вступал в силу только после окончания войны; это побуждало Германию желать приемлемого для России мира. Но если бы война все-таки возобновилась, то, при наличии Бьеркского договора, нападение Германии на Россию можно было считать исключенным; государь мог рассчитывать добиться и обязательства не нападать и на Францию, особенно после перемен во французском кабинете.
Это открывало возможность переброски значительной части лучших перволинейных русских военных частей с западной границы на маньчжурский фронт. Такая переброска, произведенная в момент, когда у Японии начинали истощаться кадры, могла сравнительно быстро решить исход борьбы в пользу России.
Договор в Бьерке был сохранен в полной тайне – сначала даже от русского министра иностранных дел графа Ламздорфа. Вильгельм II, однако, сообщил о нем канцлеру Бюлову, и тот, считая договор невыгодным для Германии, неожиданно стал грозить своей отставкой (Бюлов возражал против условия о помощи только «в Европе», так как считал, что в случае войны с Англией помощь России должна была выразиться в походе на Индию. Вильгельм II со свойственной ему импульсивностью ответил канцлеру, что застрелится, если тот его оставит).
* * *
В начале июля в Москве собрался четвертый земский съезд. На нем впервые в лице князя Н. Ф. Касаткина-Ростовского, избранного курским земством, раздался голос правых. Но огромное большинство съезда было настроено еще левее, чем прежде. То, что было известно о «Булыгинском проекте», не удовлетворяло конституционные круги. Июньские вспышки не смутили земцев, а скорее убедили их в необходимости принять более резкий тон. «На реформу рассчитывать нечего, – говорил И. И. Петрункевич. – Мы можем рассчитывать на себя и на народ. Скажем же это народу. Не надо туманностей… Революция – факт. Мы должны ее отклонить от кровавых форм… Идти с петициями надо не к царю, а к народу». (Это заявление вызвало демонстративный уход со съезда трех правых делегатов.)
Съезд постановил обратиться с воззванием к народу и решил уполномочить свое бюро «в случае надобности входить в соглашение с другими организациями». Эта краткая формула вызвала больше всего прений и прошла только 76 голосами против 52. Она открывала возможность соглашений между земской организацией и другими, открыто революционными силами, в первую очередь Союзом союзов.
Государь был возмущен и встревожен такими решениями, принятыми через какой-нибудь месяц после приема делегации – после так лояльно и искренне звучавшей речи князя Трубецкого. Он поручил сенатору Постовскому запросить руководителей земских съездов – как понимать такое противоречие между словами и делами? Запрошенные лица доказывали, что никакого противоречия нет, что обращение к народу – только «новый шаг на прежнем пути»; а фактически руководившая июльским съездом группа «земцев-конституционалистов» прямо постановила: «Посылка депутации 6 июня представляется не актом земских конституционалистов, а актом коалиционного съезда, и результат ее ни в чем не связывает нас».
Таким образом, когда государь захотел снестись с «земскими людьми», которые приходили к нему с хорошими словами, – вдруг оказалось, что обращаться не к кому. Это оставило горький след в его душе и создало в нем убеждение, что на эти круги «положиться нельзя». Между тем сознательной неискренности тут не было ни с чьей стороны: земские съезды не были организованной силой; они бывали только орудием других, более сплоченных групп, и прежде всего Союза освобождения.
18 июля в Петергофе начались совещания по поводу проекта Государственной думы. В них участвовало несколько десятков человек – великие князья, министры, наиболее видные члены Госсовета, несколько сенаторов, а также известный историк профессор В. О. Ключевский. Председательствовал государь. Когда статья была достаточно обсуждена, государь объявлял, утверждает ли он ее или нет; это заменяло голосование.
Наибольшие споры вызвала статья, по которой проекты, отвергнутые Государственной думой, не могли представляться на утверждение государя: в этом усмотрели ограничение царской власти; статья была изменена.
Во время прений об избирательном законе некоторые члены совещания настаивали на том, чтобы можно было избирать и неграмотных, которые – элемент благонадежный и говорят «эпическим языком», – на что министр финансов В. Н. Коковцов с присущим ему сухим юмором заметил: «Не следует слишком увлекаться желанием выслушивать в Думе эпические речи неграмотных стариков… Они будут только пересказывать эпическим слогом то, что расскажут им другие». Требование грамотности для депутатов было сохранено.
Проект, обсуждавшийся в Петергофе с 19 по 26 июля, был затем опубликован в день Преображения и получил прозвание «закон 6 августа» или «Булыгинская дума». Он устанавливал совещательное народное представительство, имеющее право обсуждать проекты законов и государственную роспись, задавать вопросы правительству и указывать на незаконные действия властей путем непосредственного доклада своего председателя государю. Наряду с Думой сохранялся существующий Государственный совет как учреждение, имеющее опыт в разработке законов. Государь мог издавать законы и вопреки заключениям Думы и Совета; но обсуждение проектов в двух «палатах» давало возможность выяснить отношение общества, и можно было ожидать, что без серьезных оснований монарх едва ли стал бы действовать против ясно выраженного мнения выборных от населения.
Избирательный закон был всецело основан на идее лояльности крестьянства. Все крестьяне, а также землевладельцы могли участвовать в избрании выборщиков, которые затем сходились для выбора депутатов. В городах, наоборот, избирательное право было очень ограниченным; голосовать могли только домовладельцы и наиболее крупные плательщики квартирного налога. Рабочие и интеллигенция были почти совершенно исключены.
«Привлекши без всякого ценза огромную крестьянскую массу к выборам в Думу, – писало «Освобождение», – самодержавная бюрократия признала, что народное представительство в России может быть основано только на демократической основе…»
Закон 6 августа не вызвал восторга почти ни в ком: большинство общества не мирилось с совещательным характером Государственной думы, а в дворянских кругах были недовольны отказом от сословного начала при выборах и преобладанием крестьянских выборщиков. Некоторые правые круги были также недовольны тем, что евреи допускались к выборам на общем основании.
Государь надеялся, что крестьянская Дума будет соответствовать тому истинному облику русского народа, в который он продолжал глубоко верить.
* * *
Портсмутская конференция началась 27 июля. На втором заседании японцы представили свои условия. Они сводились к следующему: 1) признание японского преобладания в Корее; 2) возвращение Маньчжурии Китаю и увод из нее русских войск; 3) уступка Японии Порт-Артура и Ляодунского полуострова; 4) уступка южной ветки Китайско-Восточной дороги (Харбин – Порт-Артур); 5) уступка Сахалина и прилегающих островов; 6) возмещение военных расходов Японии (в размере не менее 1200 миллионов иен); 7) выдача русских судов, укрывшихся в нейтральных портах, 8) ограничение права России держать флот на Дальнем Востоке; 9) предоставление японцам права рыбной ловли у русского побережья Тихого океана. (В первоначальный текст, сообщавшийся Рузвельту, входило еще требование о срытии укреплений Владивостока.)
Государь, давая Витте широкие полномочия, поставил, однако, два условия: ни гроша контрибуции, ни пяди земли; сам Витте считал, что следует пойти на гораздо большие уступки.
Опубликование японских условий вызвало значительный поворот в американском общественном мнении. Оказывалось, что не Россия, а Япония притязает на захват Кореи, что Порт-Артур она завоевала также для себя, а не ради «борьбы с захватами». Президент Рузвельт, однако, считал японские условия вполне приемлемыми.
Довольно быстро был принят ряд пунктов: о Корее (с платонической оговоркой о правах корейского императора), о Порт-Артуре (с оговоркой – при условии согласия на то Китая), об эвакуации Маньчжурии (одновременно русскими и японскими войсками), о Китайско-Восточной дороге (решено было, что японцы получат только участок до Куанчендзы, на 250 верст южнее Харбина, то есть примерно до линии, на которой остановились военные действия). Не вызывал особых споров и вопрос о рыбной ловле. Но по остальным четырем пунктам русская делегация ответила решительным отказом.
К 5 августа определилось, что конференция зашла в тупик. Тогда центр дальнейших переговоров был фактически перенесен из Портсмута в Петергоф.
Еще 7 августа император Вильгельм прислал государю телеграмму, советуя передать вопрос о войне и мире на обсуждение Государственной думы: «Если бы она высказалась за мир, то ты был бы уполномочен нацией заключить мир на условиях, предложенных в Вашингтоне твоим делегатам… Никто в твоей армии, или стране, или в остальном мире не будет иметь права тебя порицать… Если Дума сочтет предложение неприемлемым, то сама Россия чрез посредство Думы призывает тебя, своего императора, продолжать борьбу, принимая на себя ответственность за все последствия…»
Государь на это ответил: «Ты знаешь, как я ненавижу кровопролитие, но все же оно более приемлемо, нежели позорный мир, когда вера в себя, в свое отечество была бы окончательно разбита… Я готов нести всю ответственность сам, потому что совесть моя чиста и я знаю, что большинство народа меня поддержит. Я вполне сознаю всю громадную важность переживаемого мною момента, но не могу действовать иначе».
Государь верил в Россию, и он готов был продолжать войну; в этом была его сила. Он не считал, что Россия побеждена, и, соглашаясь на мирные переговоры, всегда имел в виду возможность их разрыва. Было, однако, существенно, чтобы и в России, и за границей ответственность за разрыв могла быть возложена на Японию. Вопрос о контрибуции было легко сделать понятным для масс; уже в деревнях (как отмечало «Освобождение») земские начальники «агитировали» так: «Если мы помиримся с японцами, то они потребуют большую, огромную сумму, а платить будете вы. Значит, налоги на все и подати увеличатся вдвое…» Крестьяне «как один человек захотели продолжать войну»…
Другие державы также не могли желать получения японцами крупной контрибуции. Финансисты, дававшие Японии деньги взаймы, конечно, этого хотели; но правительства учитывали, что такая контрибуция в значительной мере пошла бы на увеличение японских вооружений. И на этот раз – против кого?
Президент Рузвельт решил добиться соглашения. Он придумал компромисс: пусть Япония возьмет себе южную половину Сахалина, а Россия уплатит ей значительную сумму за возвращение северной части. Таким образом Япония получит то, что ей нужно, а самолюбие России будет спасено.
10 августа американский посол Мейер снова явился к государю и в двухчасовой беседе убеждал его принять это предложение. Государь сказал, что Россия контрибуции ни в какой форме платить не будет. Россия – не побежденная нация; она не находится в положении Франции 1870 г.; если понадобится, он сам отправится на фронт. На доводы о возможности новых утрат государь ответил: «А почему же японцы столько месяцев не атакуют нашу армию?» Мейер указывал, что южная часть Сахалина была в русских руках всего тридцать лет, что Россия без флота все равно не имеет шансов вернуть остров. Государь ответил, что в виде крайней уступки он готов согласиться на отдачу южной части Сахалина, но японцы должны обязаться не укреплять ее, а северную половину вернуть без всякого вознаграждения.
Этой уступкой государь хотел показать свою готовность пойти навстречу американскому президенту; он в то же время имел подробные сведения о трудном финансовом положении Японии и, по-видимому, был уверен, что японцы никак не могут отказаться от контрибуции.
То же считали и американцы. Рузвельт послал новую телеграмму Мейеру, предлагая ему указать государю, что Россия рискует потерять Владивосток и всю Восточную Сибирь; он обратился (14 августа) с телеграммой к императору Вильгельму, прося его повлиять на государя. Витте тоже считал, что следует согласиться на предложение Рузвельта, и даже в разговоре с двумя видными журналистами (13 августа) предположительно указал, что Россия может заплатить 200–300 миллионов долларов за возвращение Северного Сахалина; на следующий день он поспешил опровергнуть эту беседу: государь оставался непреклонен.
На заседании конференции 16 августа русская делегация огласила свое предложение. Она отказывала в контрибуции, соглашаясь только уплатить за содержание русских пленных в Японии; она соглашалась уступить южную часть Сахалина при условии безвозмездного возвращения северной и обязательства не возводить на острове укреплений и гарантировать свободу плавания по Лаперузову проливу. «Российские уполномоченные имеют честь заявить, по приказу своего Августейшего Повелителя, что это – последняя уступка, на которую Россия готова пойти с единственной целью прийти к соглашению». Россия также отвергла выдачу судов, укрывшихся в нейтральных портах, и ограничения своего флота на Дальнем Востоке.
После короткого молчания главный японский делегат Комура ровным голосом сказал, что японское правительство, в целях восстановления мира, принимает эти условия!
Присутствующие, и в том числе сам Витте, были ошеломлены. Никто не ожидал, что японцы откажутся от контрибуции и согласятся безвозмездно возвратить половину захваченного ими острова! Витте весьма быстро освоился с положением и уже в беседе с журналистами умело приписывал себе всю заслугу этого успеха. Между тем внезапное решение японской делегации только показало, насколько государь более правильно оценивал шансы сторон. Его готовность продолжать войну была реальной, в то время как со стороны японцев было немало блефа. Япония была гораздо более истощена, чем Россия. Она во много большей степени зависела от внешней поддержки. За год войны русский ввоз сократился, японский – необыкновенно возрос. Война стоила России около 2 миллиардов рублей, Японии – почти столько же – около 2 миллиардов иен, но налоговое бремя в связи с военными расходами выросло в Японии на 85 процентов, тогда как в России всего на 5 процентов. Из этого видно, какое огромное значение для японцев имела контрибуция и насколько им был нужен мир, если они от нее все-таки отказались.[87]
Тот перевес в военных силах, который Япония имела в начале войны и который в последний раз сказался после взятия Порт-Артура, был использован до конца – а русская армия разгромлена не была; она даже не отступила до Харбина, как в начале войны предполагал Куропаткин; она стояла всего на 200–250 верст севернее, чем год назад, а ее тыловые сообщения стали много лучше. Главным козырем Японии были внутренние волнения в России; но быстрая ликвидация июньских вспышек и инциденты «обратного характера» показали, что нельзя с уверенностью рассчитывать на успех русской смуты.
* * *
При таких условиях понятно, что японцы, поставленные перед возможностью разрыва переговоров, поспешили схватиться за предложенную им половину Сахалина и отказаться от всех своих дальнейших требований.
Не такого мира ожидали упоенные вестями о победах японские народные массы. Когда условия договора были опубликованы, в Японии разразились сильнейшие волнения; города покрылись траурными флагами; на улицах воздвигались баррикады, жгли здание официальной газеты «Кокумин»; но когда дело дошло до ратификации в парламенте – протесты смолкли. «Характерен же, в самом деле, факт, – заявил, защищая договор, японский главнокомандующий Ояма, – что после целого года, победоносно завершившегося для нас Мукденом, японская армия в течение пяти с половиной месяцев не решилась перейти в наступление!»
Быть может, если бы С. Ю. Витте был менее пессимистично настроен и если бы он попытался оказать сопротивление раньше, на каком-либо другом пункте, приберегая его для последней уступки, доказывающей «добрую волю», – можно было бы избежать и уступки южной половины Сахалина.
«Мало кто теперь считает, – писал в 1925 г. американский исследователь эпохи Т. Деннетт, – что Япония была лишена плодов предстоявших побед. Преобладает обратное мнение. Многие полагают, что Япония была истощена уже к концу мая и что только заключение мира спасло ее от крушения или полного поражения в столкновении с Россией».[88]
Такое же мнение с большой энергией защищает в «Итогах войны» и А. Н. Куропаткин, едва ли лично заинтересованный в том, чтобы предсказывать возможность победы сменившего его генерала Линевича.
Для государя внезапное согласие японцев на его условия было не менее неожиданным, чем для участников Портсмутской конференции (с тою разницей, что он желал их отклонения). «Ночью пришла телеграмма от Витте, что переговоры о мире приведены к окончанию.[89] Весь день ходил как в дурмане», – записал он 17 августа. «Сегодня только начал осваиваться с мыслью, что мир будет заключен и что это, вероятно, хорошо, потому что должно быть так…» – отмечал он на следующий день.
В своем дневнике великий князь Константин Константинович 22 августа записал (со слов королевы эллинов Ольги Константиновны): «Государь, посылая Витте в Америку, был настолько уверен в неприемлемости наших условий, что не допускал и возможности мира. Но когда Япония приняла наши условия, ничего не оставалось, как заключить мир… Теперь, по выражению видевшей Его и Императрицу Александру Федоровну Оли, они точно в воду опущены. Наша действующая армия увеличивалась, военное счастье наконец могло нам улыбнуться…»
Государь сделал все от него зависевшее для доведения войны до непостыдного конца. Внутренние смуты в сильной степени парализовали русскую мощь. Отказаться вообще от ведения переговоров было невозможно и по международным, и по внутренним условиям. Начав переговоры, нельзя было отказать в уступке Порт-Артура или Кореи (которую Россия соглашалась уступить и до войны!). Президент Рузвельт, император Вильгельм, русский уполномоченный Витте – все требовали дальнейших уступок, и только государь своей твердостью предотвратил худшие условия мира.
Россия войну не выиграла; но не все было потеряно: Япония ощутила мощь России в тот самый момент, когда она уже готовилась пожать плоды своих успехов. Россия осталась великой азиатской державой, чего бы не было, если бы она для избежания войны малодушно отступила в 1903 г. перед японскими домогательствами. Принесенные жертвы не были напрасными.
Еще долгие годы Япония – обессиленная борьбой в гораздо большей степени, нежели Россия, – не могла возобновить свое поступательное движение в Азии: для этого понадобились революция в Китае, мировая война и русская революция…
К последним месяцам войны, когда государю приходилось одновременно вести борьбу и против внешних, и против внутренних врагов, вполне применимы слова Посошкова, сказанные два века ранее о другом царе, который вошел в историю с именем Великого, хотя и ему не удалось достигнуть всех поставленных им целей: «Великий наш монарх о сем трудит себя, да ничего не успеет, потому что пособников по его желанию немного: он на гору аще и самдесят тянет, а под гору миллионы тянут: то како дело его споро будет?»
Император Николай II, хотя и «миллионы под гору тянули», «успел» закончить войну так, что Россия осталась в Азии великой державой.
Глава 3
Рост волнений после заключения мира. – Надежды на Витте. – Митинги в университетах. – Осложнения с Бьеркским договором. Всеобщая забастовка. – Условия Витте. – Остановка жизни; растущее недовольство забастовкой; народные протесты в Москве, Твери. – Общее требование уступок при дворе. – Манифест 17 октября и назначение Витте. – Революционные манифестации и ответная волна «погромов»: Киев, Одесса, Нежин, Томск и т. д. – Бездействие центральной власти. – Революция на окраинах. – Военные бунты (Кронштадт, Владивосток). – Совет рабочих депутатов и бесцензурная печать. – Вторая всеобщая забастовка. – Бессилие земских кругов. – Ликвидация Бьеркского договора. – Бунт в Севастополе (лейтенант Шмидт). – Почтовая забастовка; протест населения. – Союз русского народа. – Самоупоение революционных партий. – Гвардейские полки в Царском Селе. – «Манифест» Совета рабочих депутатов; арест Совета. – Третья всеобщая забастовка. – Московское восстание. – Новый избирательный закон. – Ликвидация революции в Сибири: отряд генерала Меллер-Закомельского. – Кризис интеллигенции; разочарования и сетования. – Аграрный вопрос (проект Кутлера). – Предсоборное присутствие. – Закон 20 февраля. – Заем во Франции. – Выборы в Первую думу. – Основные законы 26 апреля 1906 г. – Отставка Витте
Война была кончена, но страна не вздохнула облегченно хотя бы уже потому, что тяготы войны ощущались очень слабо. Россия (как отмечает «Британская энциклопедия») использовала свою военную мощь только на одну десятую. Частичные мобилизации коснулись всего 1 миллиона[90] призывных из 145-миллионного населения России.
Условия мира не были для России выигрышными, но общество ждало много худших. «Освобождение» прямо писало, что заключен «чрезвычайно льготный мир», и объясняло это умеряющим влиянием Англии. «Сын Отечества», еще недавно принимавший и контрибуцию, и отдачу всего Сахалина, теперь писал, что условия мира невыгодны, так как «бюрократия не способна заключить выгодный мир». «Новое время» (25.VIII) замечало: «При некоторой большей выдержке Россия могла бы достигнуть несравненно более выгодных условий и во всяком случае сохранить Сахалин целиком».
В армии Портсмутский договор произвел тяжелое впечатление. «Ни одна из испытанных нами неудач не подействовала на нашу армию таким вредным образом, как этот преждевременный, ранее победы, мир», – пишет Куропаткин.
В общем, мир не давал почвы ни для ликований, ни для возмущения, и Россия в водовороте событий необыкновенно быстро забыла о войне.
Революционные партии деятельно готовились к борьбе; начало прибывать и оружие из-за границы. 26 августа на мель около финского побережья у Якобстада сел пароход «Джон Графтон»; команда взорвала его и рассеялась; но часть груза – 1780 ружей швейцарского образца, 97 ящиков взрывчатых веществ – попала в руки властей. «Скверное дело», – пометил государь на рапорте об этой «находке». «Джон Графтон» был едва ли единственным судном, доставлявшим вооружение для финской и русской революции.
В конце августа в Закавказье возникли снова кровавые междоусобия между татарами и армянами. В Баку было убито и ранено свыше 300 человек. Сгорело более двух третей нефтяных вышек, несколько десятков миллионов пудов нефти; добыча сократилась более чем вдвое; это был серьезный удар русскому народному хозяйству. Много более кровавыми были события в небольшом городе Шуше, где одних убитых насчитывали свыше шестисот и сгорела значительная часть домов.
Год был неурожайный для 23 губерний. Ожидалось, что придется опять в широких размерах оказывать помощь населению местностей, постигнутых недородом.
Первая половина сентября была периодом затишья. Государь, в первый раз после долгого времени, провел две недели в шхерах со своей семьей, вдали от всяких государственных дел. Императрица Мария Феодоровна уехала в Данию, где доживал последние месяцы ее престарелый отец король Христиан IX.
Законом 27 августа была дарована широкая автономия высшим учебным заведениям: весь внутренний распорядок передавался в руки коллегии профессоров и выборных ими ректоров.
На земском съезде в Москве 13–15 сентября, заседавшем на этот раз открыто и беспрепятственно, было постановлено продолжить борьбу за расширение прав народного представительства и за всеобщее голосование; но выдвигавшийся слева лозунг бойкота «Думы 6 августа» был отвергнут. Самой яркой чертой съезда было появление польских делегатов. После июльского съезда бюро земских и городских деятелей вошло в соглашение с польскими националистами; на съезд была внесена резолюция о широкой автономии Польши. Против этого энергично возражал только А. И. Гучков, впервые получивший известность в широких кругах именно этим своим выступлением. Съезд принял автономию большинством 172 против 1; но московские купцы отправили к Гучкову особую делегацию, чтобы его благодарить.
15 сентября возвратился из Портсмута С. Ю. Витте. Всюду за границей его шумно чествовали, приписывая сравнительно благоприятные условия мира его дипломатическому искусству. Витте всегда умел поддерживать хорошие отношения с иностранной печатью и с банковскими кругами – прочные связи установились еще в те времена, когда он был министром финансов, – и мастерская реклама неизменно сопутствовала всем его выступлениям.
В России также ждали от него много. Репутация оппозиционности, приобретенная за последние два года, отчасти мирила с ним «общественность», тогда как бесспорные достижения эпохи его руководства русскими финансами создали ему славу крупного государственного человека. Успех в Портсмуте еще укрепил и возвеличил эту репутацию: «Все имена затмевает Витте», – писал «Русский вестник». Государь милостиво встретил русского уполномоченного и пожаловал ему титул графа. Злые языки потом называли его «графом Полусахалинским».
* * *
Занятия в высших учебных заведениях начались в непривычных условиях автономии. Начальством были теперь выборные ректоры: князь С. Н. Трубецкой в Москве, профессор И. И. Боргман в Санкт-Петербурге и т. д. Студенты беспрепятственно устраивали сходки по вопросу о том, можно ли начинать учиться (в феврале ведь решено было бастовать «до Учредительного собрания»). Революционные партии, в первую очередь социал-демократы, воспользовались создавшимся положением. Они начали превращать студенческие сходки в народные митинги. Контроля не было; посторонние свободно проникали в университеты, предоставленные в ведение профессуры. На митингах обсуждались все политические вопросы дня: студентам говорили – не захотите же вы пользоваться одни свободой собраний? Не станете же вы закрывать двери перед народной массой? Попутно выдвигались требования о том, чтобы уж не профессура, а студенты распоряжались в университетах. В Петербурге был объявлен «бойкот» семи профессорам «за реакционное направление»; сходка постановила не допускать их до лекций. Это вызвало протесты не только в «Новом времени», но и в «Освобождении». П. Б. Струве писал: «Нельзя ни за кем, даже за студентами, признать право на привлечение к суду за образ мыслей… Я не желаю в этом подчиняться никакому участку, все равно, чем бы он ни был украшен – двуглавым орлом или фригийской шапкой, и ведет ли его зерцало свое происхождение от Петра Великого или Карла Маркса».
Князь С. Н. Трубецкой, сознававший, что автономия создает обязанности и перед властью, объявил, что в случае допущения посторонних в аудитории Университет будет закрыт, – и действительно закрыл его 20 сентября. «Я гарантирую вам свободу ваших собраний, – сказал он студентам, – но как ректор, как профессор, как общественный деятель я утверждаю, что университет теперь не может быть общественным собранием». Это произвело на студентов некоторое впечатление. Часть курсовых собраний высказалась за возобновление занятий без митингов. Князь С. Н. Трубецкой отправился в Санкт-Петербург, желая убедить власть издать общий закон о свободе собраний, чтобы отвлечь «политику» от университетских стен. На совещании у министра народного просвещения 28 сентября ему стало дурно, и в тот же вечер он скончался от сердечного припадка. Тело князя С. Н. Трубецкого провожали на Николаевский вокзал в Петербурге высшие представители власти, и государь прислал венок из белых орхидей, а в Москве похороны первого выборного ректора были использованы для революционной демонстрации, завершившейся рядом уличных столкновений с полицией.
* * *
Вскоре после заключения Портсмутского мира государь осведомил министра иностранных дел о Бьеркском договоре. Граф Ламздорф был смущен его содержанием; он указал, что Франция едва ли пойдет на такое тройственное соглашение, и затребовал от русского посла в Париже Нелидова заключение о неприемлемости сближения с Германией для французских политических кругов. Неожиданным союзником графа Ламздорфа в этом вопросе оказался Витте, всегда проповедовавший – и до, и после этого инцидента – именно такой союз «материковых держав».[91]
Государь 24 сентября написал императору Вильгельму: «Через несколько дней мир будет ратифицирован. Наш Бьеркский договор должен был бы вступить в силу… Если Франция откажется присоединиться, смысл ст. 1-й радикально меняется. У меня тогда не было при себе всех документов. Наши отношения с Францией исключают возможность столкновения с ней… Если она откажется, редакция договора должна быть изменена».
Государь, таким образом, желал сохранить самый договор, но считал нужным внести в него оговорку. На какой случай? Очевидно, речь шла о весьма маловероятном в ту эпоху «казусе» французского нападения на Германию. Россия в таком случае, конечно, не обязана была поддерживать Францию; но в то же время близкие и доверительные отношения между штабами, сложившиеся в результате военных конвенций, не позволяли ей выступить и против Франции. Так как в Бьерке речь шла о союзе против Англии, такая чисто теоретическая возможность была оставлена в стороне; но это давало противникам договора зацепку для критики.
Витте в то же самое время (25 сентября) писал графу Эйленбургу о своей «полной солидарности» с Бьерке и о том, что надо только «устранить некоторые препятствия».
* * *
Митинги в университетах были только частью того возбуждения, которое начало нарастать со второй половины сентября. В Москве одна за другой разыгрывались забастовки – то в типографиях, то в пекарнях, то на различных заводах. Бастующие устраивали уличные шествия. 22, 24 сентября были столкновения с полицией. В Санкт-Петербурге, где стояли гвардейские полки, волнения не выливались на улицу; но во всех учебных заведениях происходили многотысячные митинги; толпы рабочих наполняли аудитории; революционные ораторы выступали открыто, и толпы упивались доселе неслыханными «запретными» речами.
В то же время в высших правительственных кругах шли частные совещания о создании объединенного правительства ввиду предстоящего открытия Государственной думы. Витте на них заявлял себя сторонником конституционной реформы и надменно громил всех, кто пытался ему возражать. Особенно резкие столкновения у него были с В. Н. Коковцовым. Значительное большинство высшей «бюрократии» склонялось на сторону Витте. Эти настроения на «верхах» быстро делались известными в обществе, в кругах Союза освобождения и Союза союзов и увеличивали самоуверенность противников власти. Там не хотели дожидаться Государственной думы, считая, что избирательный закон обеспечивает правительству «покорное» крестьянское большинство. Лозунг бойкота Думы был весьма популярен среди интеллигенции, тем более что ни она, ни рабочие не имели права голоса; но отказ идти в Думу означал переход на другие пути борьбы. Революционные и оппозиционные партии в этот момент сходились на общей цели созыва Учредительного собрания для установления российской конституции и на желательности выступить до созыва Думы, назначенного на середину января. Выступить – но как? Хотя революционные партии и располагали некоторым количеством оружия, вооруженное восстание казалось безнадежным, а террор как будто исчерпал свои возможности.
При таких условиях та коалиция партий, групп и организаций, которая составляла так называемое освободительное движение, применила новое орудие борьбы, еще не испробованное, хотя и входившее в программу социалистических партий Запада: всеобщую политическую забастовку.
Это движение не имело «единого командования»; но сила его была в том, что при единстве ближайшей цели каждая составная часть была проникнута решимостью: кто бы и как бы ни начал – все должны поддержать. Поэтому, когда движение началось, его размах и значение разглядели не сразу; но все в него «вложились», и при атмосфере общего сочувствия оно быстро выросло в грозную силу, обладавшую огромной психологической заразительностью.
Крупные события начались неожиданно и развернулись крайне быстро. 7 октября забастовали служащие Московско-Казанской железной дороги. На следующий день стали Ярославская, Курская, Нижегородская, Рязанско-Уральская дороги. Забастовщики валили телеграфные столбы, чтобы остановить движение там, где находились желающие работать. Железнодорожники, повинуясь своему руководящему центру, прекращали работу, не предъявляя никаких требований. «Когда все дороги станут, – говорили они, – тогда мы их предъявим». 10 октября стала и Николаевская дорога: Москва была отрезана от внешнего мира. Движение останавливалось и в провинции. Того же 10 октября в Москве была объявлена всеобщая забастовка.
11 октября делегаты железнодорожного съезда явились к Витте и предъявили ему требования бастующих: 1) Учредительное собрание на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования; 2) отмена усиленной охраны и военного положения; 3) свобода стачек, союзов и собраний; 4) 8-часовой день на железных дорогах. Витте ответил, что Учредительное собрание не представляется ему желательным («В Америке капиталисты скупают голоса»), тогда как остальные требования – приемлемы («Военное положение – анахронизм», – заметил он).
Рабочие обращались к Витте; он сам говорил как бы от имени власти. Это объяснялось не столько официальным положением председателя Комитета министров, сколько общим мнением о том, что он – будущий глава правительства.
* * *
Как только начались забастовки, Витте поручил своему постоянному сотруднику Гурлянду составить программную записку. Эта записка (от 9 октября), разумеется, сильно отличалась от «Самодержавия и земства». В тонах, доходящих до лиризма, она прославляла «освободительное движение», которое то «теплится, как раскаленный уголь в груде золы», то «вспыхивает ярким пламенем». Корни его – говорилось дальше – «в Новгороде, во Пскове, в Запорожском казачестве, в низовой вольнице Поволжья» (Стенька Разин!) и «говоря вообще, в природе всякого человека»… «Цель поставлена обществом, значение ее велико и совершенно несокрушимо, ибо в этой цели есть правда. Правительство поэтому должно ее принять. Лозунг «свобода» должен стать лозунгом правительственной деятельности. Другого исхода для спасения государства нет… Ход исторического прогресса неудержим… Выбора нет: или стать во главе охватившего страну движения, или отдать ее на растерзание стихийных сил. Казни и потоки крови только ускорят взрыв».
Исходя из этих утверждений, Витте предлагал: отмену всех исключительных положений; введение «свобод» и равноправия всех граждан; «конституцию в смысле общения царя с народом на почве разделения законодательной власти, бюджетного права и контроля за действиями администрации»; расширение избирательного права; автономию Польши и Грузии и ряд других реформ, вплоть до «экспроприации частной земельной собственности».
Перед тем как вручить эту записку государю, Витте все же добавил к ней, что есть и другой исход – «идти против течения»; но сам он за выполнение такого плана не берется. Программа Витте в общем была списана с резолюций двух последних земских съездов. Витте настаивал на том, чтобы государь, назначая его главою объединенного правительства, принял эту программу.
Витте передал государю свою записку 10 октября. Всеобщая забастовка между тем захватила и Петербург. Паралич путей сообщения распространялся на всю Россию. В Москве не действовал водопровод, закрылись аптеки, не работали городские бойни. Все новые группы населения бросались в водоворот забастовки. Даже ученики средних учебных заведений отказывались заниматься, устраивали уличные шествия. В Харькове уже 12 октября произошли вооруженные столкновения толпы с войсками. Первая в мировой истории всеобщая политическая забастовка развивалась стихийно, ускользая из-под руководства отдельных групп.
«Московские ведомости» требовали военной диктатуры. На это князь Мещерский возражал, что диктатура – фактическое упразднение царской власти, причем нет гарантий, что диктатор сам не подпадет под влияние либерального напора: «Выступать против силы свершающейся над Россией судьбы Дон Кихотом было бы смешно…»[92] «Идея царской власти гораздо больше может быть потрясена репрессиями, чем узаконением свободы», – заявляло «Новое время».[93] А умеренно либеральное «Слово»[94] призывало власть пойти навстречу тем, кто «желает лишь разумной свободы»: «Мы медлим. Мы медлили, пока накрапывал дождь, полагая, что тучи разойдутся; мы медлили, когда уже начинался ливень, и медлим теперь, под глухой гул надвигающейся бури. Уже хлынули обратно прегражденные воды; народ «зрит Божий гнев»… «Вот она – началась революция», – восклицал А. А. Столыпин.[95]
14 октября в последний раз вышли газеты и в Санкт-Петербурге. Во всей России едва ли не один «Киевлянин», имевший свой штат убежденных правых наборщиков, продолжал выходить вопреки всеобщей забастовке.
Государь 13 октября телеграфировал графу Витте из Петергофа в Петербург: «Поручаю вам объединить деятельность министров, которым ставлю целью возобновить порядок повсеместно». Петербургскому генерал-губернатору Д. Ф. Трепову были в то же время подчинены войска Петербургского военного округа. Возлагая на Д. Ф. Трепова поддержание внешнего порядка, государь в то же время искал политического выхода из положения. Указом 14 октября была проведена та мера, о которой накануне своей смерти просил князь С. Н. Трубецкой: чтобы прекратить митинги в университетах, разрешены были собрания в нескольких больших городских залах. Митинги, однако, продолжались везде и в этих залах, и в высших учебных заведениях…
Витте медлил принять назначение; он настаивал на том, чтобы государь принял его программу. Он хотел связать свою судьбу с либеральной реформой – быть может, он рассчитывал, получив назначение от государя, опереться в дальнейшем на другие силы и стать уже несменяемым. Когда государь ответил, что такие серьезные реформы требуют торжественного провозглашения путем манифеста, Витте был этим недоволен и пытался даже возражать. Он предпочел бы, чтобы реформы вошли в общее сознание не как решение царя, а как «программа Витте».
Железнодорожная забастовка тянулась уже несколько дней. Министры вынуждены были ездить к государю в Петергоф на пароходе. 15 октября состоялось опять продолжительное совещание; Витте еще раз выдвигал выбор – диктатура или конституция. Великий князь Николай Николаевич, только что приехавший из своего имения под Тулой через охваченную забастовкой страну, решительно стал на сторону Витте. Уже обсуждался проект манифеста, написанный князем А. Д. Оболенским, обещавший «свободы» и законодательные права для Государственной думы. Но после многочасовой беседы государь в заключение только сказал: «Я подумаю».
В этот день в коляске приехал из Петербурга в Петергоф по вызову государя бывший министр внутренних дел И. Л. Горемыкин. Расставшись с Витте, государь приступил к совещанию с его старым оппонентом, который, со своей стороны, составлял другой проект манифеста.
16 октября было днем неопределенности. Ходили слухи, что программа Витте отвергнута, что премьером назначается Горемыкин или граф А. П. Игнатьев. В Петербурге было темно – электричество не действовало, улицы были пустынны.
«Наступили грозные, тихие дни, – писал государь своей матери, – именно тихие, потому что на улицах был полный порядок, а каждый знал, что готовится что-то – войска ждали сигнала, а те не начинали. Чувство было, как бывает летом перед сильной грозой! Нервы у всех были натянуты до невозможности, и, конечно, такое положение не могло долго продолжаться…»
За пределами столицы шли сложные сдвиги. Забастовка, несомненно, отражала стихийно нараставшее настроение; но она больно ударяла по самым жизненным интересам населения, и в первую очередь – городской бедноты. На рынках не было продуктов; в мясных не было мяса. Молока не хватало и для детей. А тут еще бастовали аптеки, из водопровода (в Москве) не шла вода. Когда такое состояние длилось около недели, у обывателя стало пробуждаться раздражение, направленное отнюдь не против власти. Врага начинали видеть в «забастовщиках» и корень зла в «подстрекателях» – прежде всего в студентах и в евреях. Приказчики и торговцы из Охотного ряда, лотки которых опустели от прекращения подвоза, одними из первых ополчились на забастовщиков, и уже 14–15 октября в Москве происходили уличные столкновения – не демонстрантов с полицией, а народной толпы, «Черной сотни», как их называли противники, с забастовщиками всех видов. Студентов избивали на улицах. Они забаррикадировались от толпы в здании университета. Рубились деревья университетского сада; жгли костры во дворе, чтобы греться долгой октябрьской ночью. Власти в недоумении не препятствовали ни студенческим баррикадам, ни движению уличной толпы.
Перемена настроения уже сказывалась в Москве очень явственно. 16 октября во всех церквах было прочитано обращение митрополита Владимира, призывавшего народ к борьбе со смутой. С утра 17-го начал действовать водопровод; заработали бойни; поползли по улицам конки. Служащие трех железных дорог – Казанской, Ярославской, Нижегородской – постановили прекратить забастовку. Раздавались протесты и со стороны земств. Так, Елецкое земское собрание приняло резолюцию: «Сытые бастуют, обездоленное население черноземных губерний должно будет потом оплачивать забастовку. Пусть те, кто не хотят работать, уходят с железных дорог и очистят место нуждающимся в работе крестьянам».
В Твери вечером 17 октября уличная толпа осадила здание губернской управы, где собрались земские служащие для обсуждения вопроса о забастовке, подожгла дом и била выходивших из него служащих, не отличая тех, кто призывал к забастовке, от тех, кто против нее возражал.
В других концах России, где забастовка началась позже, она еще разрасталась. Никто при этом не знал, что делается в ближайшем городе. Не было газет. «Земля полнилась слухами» один невероятнее другого.
В Петербурге с 14 октября начал действовать Совет рабочих депутатов, состоявший из выборных от заводов и из представителей революционных партий. 16 октября делегация Совета уже явилась с требованием в Петербургскую городскую думу. «Нам нужны средства для продолжения стачки – ассигнуйте городские средства на это! – говорил большевик Радин. – Нам нужно оружие для завоевания и отстаивания свободы – отпустите средства на организацию пролетарской милиции!» Дума, однако, отвергла требования Совета, несмотря на свист и рев толпы, наполнявшей хоры.
17 октября был выпущен первый номер «Известий Совета рабочих депутатов».
16-го и 17-го государь продолжал свои совещания. Но вокруг него не было борьбы направлений. Проект манифеста, составленный И. Л. Горемыкиным, не был противоположностью проекта князя Оболенского и Витте; он также возвещал, что населению даруются «гражданские права, основанные на неприкосновенности личности, свободе совести и слова, а также право собраний и союзов по определению закона»; также обещал расширение избирательного права; о Государственной думе в нем говорилось несколько менее определенно: «Повелеваем в незыблемую основу подлежащих внесению в Государственную думу законодательных предположений принять даруемые Нами ныне населению государства Нашего права народного представительства». В неясной форме это было обещанием внести в будущую Думу проект дальнейшего расширения ее прав.
Государь, однако, остановился на другом проекте, имевшем преимущество ясности и отчетливости. Можно было вообще не издавать в данный момент манифеста, а ограничиться борьбой с революционным движением; но в случае издания было существенно, чтобы он произвел впечатление определенного решения. Государь об этом писал: «Представлялось избрать один из двух путей: назначить энергичного военного человека и всеми силами постараться раздавить крамолу; затем была бы передышка, и снова пришлось бы через несколько месяцев действовать силой; но это стоило бы потоков крови и в конце концов привело бы к теперешнему положению, то есть авторитет власти был бы показан, но результат оставался бы тот же самый… Другой путь – предоставление гражданских прав населению… Кроме того, обязательство проводить всякий законопроект через Г. думу – это, в сущности, и есть конституция».
Государь, принимая свое решение, думал, таким образом, не об устранении непосредственной опасности – он считал, что власть могла силою подавить движение, – а о том, как дальше строить русскую жизнь при обнаружившемся разладе между властью и широкими кругами – огромным большинством общества, если и не большинством народа.
На последнем совещании с великим князем Николаем Николаевичем и министром двора бароном Фредериксом государь окончательно высказался за второй путь. Витте был вызван в Петергоф, и в 5 часов дня 17 октября манифест был подписан.
«Почти все, к кому я обращался с вопросом, отвечали мне так же, как Витте, и находили, что другого выхода нет», – писал государь, называя свой шаг «страшным решением», которое он «тем не менее принял совершенно сознательно». «После такого дня голова стала тяжелой и мысли стали путаться. Господи, помоги нам, усмири Россию».
Манифест 17 октября гласил:
«Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей великою и тяжкою скорбью преисполняют сердце наше. Благо российского государя неразрывно с благом народным, и печаль народная – его печаль. От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое нестроение народное и угроза целости и единства державы нашей.
Великий обет царского служения повелевает нам всеми силами разума и власти нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для государства смуты. Повелев подлежащим властям принять меры к устранению прямых проявлений беспорядка, бесчинств и насилий, в охрану людей мирных, стремящихся к спокойному выполнению лежащего на каждом долга, Мы, для успешнейшего выполнения общих преднамечаемых Нами к умиротворению государственной жизни мер, признали необходимым объединить деятельность высшего правительства.
На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непреклонной нашей воли:
1) Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.
2) Не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности, соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив засим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь установленному законодательному порядку, и
3) Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от Нас властей.
Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед Родиной, помочь прекращению сей неслыханной смуты и вместе с Нами напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле».
Одновременно был опубликован всеподданнейший доклад Витте, в сильно смягченной форме воспроизводивший положение его записки от 9 октября, с пометкою государя «Принять к руководству». В нем указывалось, что необходимо «духовное единение с благоразумным большинством общества». «Следует верить в политический такт русского общества, – говорилось в заключение. – Не может быть, чтобы русское общество желало анархии, угрожающей, помимо всех ужасов борьбы, расчленением государства».
Государь и в этот момент не слагал с себя ответственности: он сохранял за собою право последнего решения; но на первых порах он предоставил Витте самые широкие полномочия, поручив ему выбор министров и только оставив в своем непосредственном ведении министерства военное, морское и иностранных дел.
Манифест стал известен в Санкт-Петербурге и за границей уже к вечеру 17 октября; Витте поспешил его распространить. Для революционных партий он был большой неожиданностью. Они чувствовали, что забастовка ускользает у них из рук, что в народе нарастает сопротивление. У них не было ощущения победы. Издание манифеста о свободах и о законодательных правах Думы вызвало в их рядах полное недоумение. Что это – хитроумный маневр или капитуляция? Для последней, казалось, оснований не было. Это особенно остро ощущал Петербургский Совет рабочих депутатов, и первым его движением было – не прекращать забастовки, не верить власти. «Дан Витте, но оставлен Трепов, – писали «Известия Совета» (пером Л. Троцкого). – Пролетариат не хочет ни полицейского хулигана Трепова, ни либерального маклера Витте, ни волчьей пасти, ни лисьего хвоста. Он не желает нагайки, завернутой в пергамент конституции».[96]
Но во всей провинции манифест произвел огромное впечатление. Вдали от столицы революционеры приняли его за полную капитуляцию власти, тогда как в широкой массе преобладало ощущение: слава богу, теперь конец забастовкам и смуте – «царь дал свободу», более нечего требовать. Эту свободу понимали по-разному, представляли себе весьма туманно; но народные толпы, вышедшие на улицу с царскими портретами и национальными флагами, праздновали издание манифеста, а не протестовали против него.
Появление на улицах толп, резко отличавшихся друг от друга по настроению, – тех, кто праздновал царскую милость, и тех, кто торжествовал победу над царской властью, – было главной причиной той бурной вспышки гражданской войны, которую затем называли «волной погромов», «выступлением черной сотни» и т. д. В Западном и Юго-Западном крае, где наиболее видную роль в революционном движении играли евреи, вспышка народного гнева обратилась против них; но и там, где евреев почти совсем не было, развертывалась та же картина.
18 октября даже в Петербурге состоялись демонстрации двух видов – с национальными и с красными флагами – и дело доходило до драки. В Москве, где революционная волна уже шла на убыль, забастовщики обрадовались благовидному предлогу прекратить борьбу. Демонстрация с красными флагами направилась ко дворцу генерал-губернатора П. П. Дурново, который говорил ей с балкона приветственную речь.
Но в провинции почти везде картина была одна и та же: в Киеве, в Кременчуге, в Одессе и т. д. 18 октября происходили революционные демонстрации: люди с красными флагами праздновали свою победу, поносили власть, рвали царские портреты в городских зданиях, устраивали сборы «на гроб Николаю II»,[97] призывали народ к дальнейшей борьбе. На следующий день поднялись другие толпы, одушевленные тем же «оскорбленным, хотя и дико патриотическим чувством», как демонстранты в Нижнем и Балашове; и эти толпы везде оказались сильнее и многочисленнее. К толпе затем примешались уголовные элементы; были и грабежи, но в основе движения был протест против революции. Когда междоусобица приняла форму еврейского погрома, революционеры начали взывать к властям о защите.
В Нежине, где центром революционных манифестаций явился Филологический институт, толпа в несколько тысяч крестьян из окрестных деревень собралась 21 октября у собора, направилась к зданию института, потребовала, чтобы студенты пошли за нею с царским портретом, и заставила студентов и встреченных по пути евреев встать перед собором на колени и принести присягу «не бунтовать, царя поважать».
В Томске, на другом конце России, после революционной демонстрации с красными флагами, многочисленная толпа 20 октября осадила демонстрантов в здании городского театра; те отстреливались; театр был подожжен, и в пожаре погибло около 200 человек. В Симферополе, в Ростове-на-Дону, в Саратове и Казани (где губернатор Хомутов сначала совершенно растерялся и обещал было разоружить полицию и увести из города войска), в Полтаве и Ярославле, Туле и Кишиневе – всех городов не перечесть – прокатилась народная антиреволюционная волна, всюду бывшая ответом на выходки торжествующих левых партий, – жестокая, как всякое стихийное народное движение.
Эта волна прокатилась и быстро схлынула, в каких-нибудь два-три дня: с 18–19-го по 20–21-е.
Нелепы утверждения, будто это движение было «организовано полицией». Бессильная перед всяким разливом стихийных сил, как показали все события последних двух лет, полиция абсолютно была не способна, если бы даже и захотела, вызвать по всей России массовое народное движение. «Не черная сотня, а черные миллионы», – восклицал в «Новом времени» А. А. Столыпин. Это поняли и более вдумчивые сторонники революции; в «Русском богатстве» С. Елпатьевский указывал, что человек с низов «остался человеком старой любви к отечеству и народной гордости… старое мировоззрение, складывавшееся столетиями, не устраняется из жизни сразу ни бомбами, ни прокламациями, ни японскими снарядами. И здесь, в Петербурге, пусть люди не празднуют еще победы!.. Победы еще нет… темный человек стоит на распутье русских дорог и колеблется, куда ему идти…».
«Киевлянин» 19 октября писал: «Кровь несчастных жертв, весь ужас стихийного разгула – падает на голову тех безумцев, которые вызвали взрыв и так безумно оскорбили народную святыню… Не говорите, что русский народ – раб. Это великий и любящий народ. Вы не понимаете его веры, вы не понимаете его любви, как он не понимает вас. Но вы заставили его понять, что значит революционное насилие, вы заставили его понять, что вы предаете поруганию его святейшие верования. И его ненависть против оскорбителей разразилась в погроме евреев, которых он счел вашими соучастниками».
В Москве 20 октября происходили грандиозные похороны Баумана – безвестного ветеринара-социалиста, которого 18 октября убил железным ломом мастеровой Михалин, бросившийся на «человека с красным флагом». Это был смотр революционных сил и первые в России «гражданские похороны». Стотысячная толпа с пением «Марсельезы» и «Похоронного марша» двигалась рядами, с несчетными красными флагами; порядок поддерживали боевые дружины. Но с тротуаров за шествием следили враждебные группы, и революционеры чувствовали себя неспокойно. На обратном пути, уже вечером, дружинникам в неосвещенной улице у манежа почудилась засада «Черной сотни», и они открыли огонь. Помещавшиеся в манеже казаки, решив, что на них нападают, выскочили из здания и начали отвечать залпами. Дружинники рассеялись; было 6 убитых и около сотни раненых.
Власти во время этих событий как будто и не было. Столкновения происходили между толпами, а не с войсками или полицией. Только в Минске (18 октября) солдаты стреляли в наступавших на них демонстрантов. Зато в Петербурге, в самом центре, народной толпе – ни левой, ни правой – не дали вообще овладеть улицей. 18 октября, когда толпа пыталась освободить студентов, задержанных в здании Технологического института в связи с взрывом бомбы, брошенной в казачий патруль, военное начальство энергичными мерами рассеяло нападавших. Семеновский полк, которым командовал энергичный и мужественный человек, полковник Г. А. Мин, выстроился на Загородном проспекте и одним своим присутствием в корне пресек революционные поползновения.[98] В Петербурге поэтому число жертв было гораздо меньше, чем в других городах. Совет рабочих депутатов захотел было по московскому примеру устроить «похороны жертв», но Л. Ф. Трепов ответил объявлением о том, что «когда одна часть населения готова с оружием в руках восстать против действий другой части», такие шествия допущены быть не могут, – и Совет, по предложению «самого» Троцкого, постановил отменить демонстрацию.
* * *
Забастовка прекратилась; уличные волнения затихли; и дней через пять после издания манифеста 17 октября стало наконец возможно отдать себе отчет в совершившемся. Преобладало впечатление: освободительное движение одержало большую победу. «Начальство ушло», как выразился В. В. Розанов. Грань между запретным и дозволенным стерлась. Революционные партии собирались открыто, обсуждали вопросы о пропаганде в войсках и о вооруженном восстании. Цензура совершенно отпала, и одна за другою стали появляться газеты крайних партий. «Новое время» устами Меньшикова прославляло «борцов за свободу». Синод постановил осудить послание митрополита Владимира, призывавшее народ к борьбе с крамолой. Вышло в отставку восемь министров и главноуправляющих[99] – не столько из-за несоответствия «новому курсу», сколько для того, чтобы освободить места для кандидатов графа Витте; было добавочно создано новое Министерство торговли. Д. Ф. Трепов переменил должность петербургского генерал-губернатора на менее видный, но особо ответственный в эти дни пост дворцового коменданта, ведающего личной безопасностью государя и царской семьи.
Манифест 17 октября создал совершенно новое положение. Он раздробил единый революционный поток на отдельные, порою сталкивающиеся струи; он пробудил народные силы, верные царской власти, воочию показав им, насколько положение серьезно. В момент его издания даже справа его критиковали только очень немногие.
Но первые же дни зато показали полное крушение того человека, в котором многие готовы были видеть спасителя России: граф Витте жестоко ошибся во всех своих расчетах.
А. Н. Куропаткин писал 23 октября в своем дневнике, при первом известии, дошедшем до него о манифесте: «Сергей Витте торжествует. Так отомстить, как он отомстил государю, даже и ему не всегда представлялось возможным». Но 23 октября граф Витте уже едва ли торжествовал. Того «благоразумного большинства», того «политического такта», о которых он писал, не оказалось и в помине. В русском хаосе новый премьер не находил поддержки ни в ком. Уже 18 октября, беседуя с представителями петербургских газет, Витте просил их: «Вы, господа, постарайтесь, чтобы государь увидел, что от добрых мер есть результаты. Вот лучший путь. На нем вы меня поддержите». В ответ он слышал только новые требования: «удалите войска», «организуйте народную милицию», «амнистия», «отмена смертной казни». 22 октября у Витте были представители земцев, программу которых он принимал, для которых «освободил» министерские портфели: они теперь настаивали на Учредительном собрании. Витте в отчаянии, как говорят, воскликнул: «Если бы при теперешних обстоятельствах во главе правительства стоял Христос, то и ему не поверили бы!..»[100]
При дворе и особенно в военных кругах действия Витте резко критиковались с другой стороны. Указывали, что его программа никого не удовлетворила, что она только увеличила смуту. «Странно, что такой умный человек ошибся в своих расчетах на скорое успокоение», – писал государь. И, оставляя политическую сторону в руках Витте, государь сам принял меры для того, чтобы охранить полицейский и военный аппарат от грозившего распада. Управляющим Министерством внутренних дел был назначен (23 октября) П. Н. Дурново; командование войсками гвардии и Петербургского военного округа было возложено (27 октября) на великого князя Николая Николаевича, за эти несколько дней сильно разочаровавшегося в Витте.
Одним из ближайших последствий манифеста 17 октября было быстрое развитие революционного движения на окраинах. В царстве Польском начались массовые демонстрации в пользу широкой автономии, а то и независимости. В Финляндии всеобщая забастовка охватила в два-три дня всю страну, и генерал-губернатор князь И. М. Оболенский, боясь попасть в плен, переехал из Гельсингфорса на броненосец «Слава», стоявший у Свеаборга.
В отношении Финляндии государь счел необходимым уступить. Манифестом 22 октября было приостановлено действие всех законов, оспаривавшихся финляндцами, начиная с манифеста 3 февраля 1899 г.: «Рассмотрев окончательно петицию сейма от 31 декабря 1904 г., Мы признали ее заслуживающей внимания», говорилось в новом манифесте. На 7 декабря созывался финский чрезвычайный сейм: финляндская конституция была восстановлена в прежнем виде.
Только успело «Новое время» от 25 октября отметить «маленький намек на успокоение» – начало занятий в гимназиях, как в Кронштадте возникли беспорядки: матросы нескольких экипажей взбунтовались, рассыпались по городу, и начались убийства, грабежи и поголовное пьянство. Два дня Кронштадт был во власти пьяной матросской толпы. Утром 27-го прибыли два батальона Преображенского полка и, поступив под команду генерала Н. И. Иванова, быстро восстановили порядок: перепившиеся матросы не оказали сопротивления.
30 октября такие же события разыгрались на другом конце России – во Владивостоке, с тою разницей, что бунтовали толпы запасных, ждавших отправки на родину. Грабежи и пьяный разгул сопровождались избиением китайцев и корейцев. Город за два дня беспорядков сильно пострадал. Пьяная толпа отбушевала и успокоилась.
Земцы отказались войти в кабинет Витте, и приготовленные для них «вакансии» были к концу октября заполнены либеральными чиновниками по выбору премьера.[101]
Параллельно со старым аппаратом власти быстро начало вырастать новое «начальство». Совет рабочих депутатов отдавал приказы, которых слушались. Союз наборщиков учредил свою цензуру, отказываясь выпускать газеты, соблюдающие старые законы; он не соглашался печатать воззвания правых групп и наложил вето даже на печатание программы Союза 17 октября,[102] новой умеренной организации, ядром которой была «шиповская» группа земского союза, усилившаяся рядом видных деятелей, считавших, что цель движения достигнута с изданием манифеста. Новое «начальство» держало себя все более властно; оно на несколько часов силою захватывало частные типографии, чтобы печатать свои «Известия». Его поддерживали новые газеты, открыто революционные, как «Новая жизнь» и «Начало», и прежние крайние, теперь «превзойденные», – «Сын Отечества» и «Наша жизнь» и т. д. «Новая жизнь» «декадента» Минского и Максима Горького была органом социал-демократов большевиков; в ней участвовали многие современные поэты – Минский, Бальмонт, Андрей Белый. Минский писал стихи на девиз Интернационала,[103] а Бальмонт восклицал: «Рабочий, только на тебя – надежда всей России».
31 октября – через две недели после манифеста – последовал первый акт твердой власти, касавшийся пока только одной окраины: было объявлено военное положение в царстве Польском. «Правительство не потерпит посягательства на целость государства», – гласило сообщение, перечислявшее ряд фактов смуты в Польше.
«Читая это правительственное сообщение, – писал Д. И. Пихно в «Киевлянине» (31 октября), – не спросит ли читатель невольно: да разве в русских городах не то же делалось?.. Разве такие же вспышки самой дикой революционной оргии не последовали немедленно за манифестом 17 октября?.. Вся смута последних двух лет, и ужасная междоусобица последних дней, и все смуты окраин возникли оттого, что наше русское знамя заколебалось и склонилось… Граф! ни вы, никто в мире не может заменить этого знамени. Его нужно вновь поднять высоко, высоко, чтобы вся русская земля в Европе и Азии его увидела и преклонилась перед ним… Тогда все стихийные бури смирятся».
Революционные партии ответили на военное положение в Польше новой всеобщей забастовкой. Они присоединили еще требование об отмене смертной казни для участников бунта в Кронштадте, желая внушить солдатам и матросам, что в случае восстания они найдут себе заступников. Забастовка началась 2 ноября с требованием снятия военного положения в Польше и отмены смертной казни для «кронштадтцев».
Граф Витте по этому поводу выпустил воззвание: «Братцы рабочие, станьте на работу, бросьте смуту, пожалейте ваших жен и детей. Не слушайте дурных советов. Дайте время, все возможное для вас будет сделано. Послушайте человека, к вам расположенного и желающего вам добра. Граф Витте».
«Пролетарии ни в каком родстве с графом Витте не состоят… Совет рабочих депутатов не нуждается в расположении царских временщиков», – отвечал на это Петербургский Совет.
Но вторая забастовка, объявленная по частному поводу, не создала стихийного движения. Железные дороги послушно стали; газеты на четыре дня прекратили свой выход; но даже на петербургских заводах работало около половины обычного состава.
5 ноября правительство дало бастующим удобный предлог для прекращения забастовки: оно издало сообщение, разъясняющее, что «кронштадтцам» казнь не грозит (их будут судить не за бунт, а за пьяное буйство и грабежи), и обещающее снять военное положение в царстве Польском, как только наступит успокоение. «Скажем прямо, – говорил Троцкий в Петербургском Совете, – мы все равно должны были бы призвать петербургских рабочих к прекращению забастовки… Видно, что везде в России политическая манифестация идет на убыль…»
* * *
Витте возлагал большие надежды на Земский съезд, открывшийся в Москве 6 ноября. На нем раздались и речи о необходимости сотрудничать с властью. «Наверху получилось такое впечатление, – говорил князь Е. Н. Трубецкой, – что манифестом не довольны ни революционеры, ни прогрессивные земцы». А. И. Гучков настаивал на необходимости дать отпор революции. Но съезд так и не счел возможным высказаться за поддержку кабинета Витте, даже в условной форме, предложенной П. Б. Струве (поддержка – если правительство примет программу съезда).
В печати начали высказывать нелестные для Витте предположения. «Если завтра эти молодцы арестуют графа Витте и посадят его в каземат Петропавловской крепости, вместе с собственными его министрами, я нимало не удивлюсь», – писал А. С. Суворин.[104] Бездействие правительства порою объясняли хитроумным планом: «Я допускаю, – писал М. С. Меньшиков,[105] – что граф Витте потворствует революции, но затем лишь, чтобы ее вернее убить… Не правительство первое страдает от анархии, а общество. От повышения цены мяса вдвое и втрое страдают не министры… Тот же народ, те же рабочие… начнут облаву на революцию, и она будет убита, как хищный зверь, выпущенный из клетки».
Государь (10 ноября) писал императрице Марии Феодоровне: «Все боятся действовать смело, мне приходится всегда заставлять их и самого Витте быть решительнее… Ты мне пишешь, милая мама, чтобы я оказывал доверие Витте. Могу тебя уверить, что с моей стороны делается все, чтобы облегчить его трудное положение… Но не могу скрыть от тебя некоторого разочарования в Витте. Все думали, что он страшно энергичный и деспотичный человек и что он примется сразу за водворение порядка прежде всего…» Между тем действия кабинета Витте создают «странное впечатление какой-то боязни и нерешительности».[106]
За эти дни государь, предоставив Витте внутреннюю политику, возобновил переписку с Вильгельмом II о Бьеркском договоре. «Мало шансов, – писал он 27 октября, – привлечь к нашему союзу Францию. Россия не имеет оснований бросать свою старую союзницу или производить над ней насилие… Поэтому следует добавить следующую декларацию: «ввиду затруднений, препятствующих немедленному присоединению французского правительства, сим поясняется, что ст. I договора не подлежит применению в случае войны с Францией и что взаимные обязательства, соединяющие последнюю с Россией, будут полностью сохранены впредь до заключения соглашения втроем».
Вильгельм II настаивал, однако, на сохранении первоначального текста. Он утверждал, что договор юридически уже действителен. Это по меньшей мере было спорно: всегда при заключении договоров бывают две стадии; личное участие монарха в составлении текста договора (парафировании) не устраняет необходимость более торжественного акта ратификации. Само германское правительство, пока Бюлов возражал против подписанного в Бьерке текста, считало себя вправе потребовать изменений текста. Но теперь оно заняло непримиримую позицию, настаивая на том, что никакие оговорки недопустимы. С точки зрения добрых отношений между Россией и Германией это было несомненной ошибкой: настаивая на прежнем тексте ради чисто теоретической возможности, правительство Вильгельма II фактически уничтожало договор, устанавливавший германо-русскую солидарность против Англии. Государь счел, что с отказом Германии принять дополнительную статью отпадает и весь договор. Года через два с этой точкой зрения вынуждена была согласиться и Германия.
* * *
Еще заседал в Москве Земский съезд, когда в Севастополе начались волнения, особенно серьезные потому, что в них участвовали части армии и флота. 11 ноября восстали морские команды на берегу. На их сторону перешла часть Брестского пехотного полка. Среди флота замечалось брожение. Прибывший на следующий день корпусный командир, генерал барон А. Н. Меллер-Закомельский, привел к повиновению Брестский полк, но матросы не сдавались. 13-го на крейсере «Очаков» был поднят красный флаг. 14-го вечером отставной лейтенант флота Н. П. Шмидт принял на себя руководство движением. Он поднял на «Очакове» сигнал «Командую эскадрой. Шмидт»; послал государю телеграмму о том, что Черноморский флот «отказывает в повиновении правительству», и отправил, чтобы призвать к восстанию остальные войска, своих посланцев на берег. Когда они были задержаны, Шмидт распорядился перестать давать пищу пленным офицерам, пока его эмиссаров не освободят.
Но бунт, казавшийся грозным, опять рассыпался при первых же пушечных выстрелах. Крейсер «Очаков», охваченный огнем, поднял белый флаг. Остальные суда покорились без борьбы. Шмидт был задержан и впоследствии расстрелян по приговору морского суда. Брестский полк, сначала бунтовавший, принял, под командой полковника Думбадзе, деятельное участие в овладении последним оплотом мятежников – морскими казармами на берегу. К утру 16-го все было кончено. Севастопольский бунт стоил около 30 человек убитыми и 70 ранеными с обеих сторон.
В тот же самый день, 16 ноября, началась почтово-телеграфная забастовка. Почтовые служащие, ссылаясь на манифест 17 октября, пожелали основать профессиональный союз. Им ответили, что союзы государственных служащих не допускаются и за границей, и предложили подождать до разрешения этого вопроса Государственной думой. В ответ съезд почтовых и телеграфных служащих с одобрения Совета рабочих депутатов объявил всероссийскую забастовку. Она вызвала отрицательное отношение со стороны широких кругов. Самые либеральные элементы недоумевали, зачем наносить такой удар всему хозяйству страны по частному вопросу, не представляющему особой срочности. Профессор Ф. Ф. Мартенс опубликовал в газетах воззвание, призывавшее бороться со стачкой «не словом, а делом». Сотни добровольцев явились в петербургский почтамт, чтобы разбирать и разносить корреспонденцию. Местами то же происходило и в провинции. Почтовая забастовка вызвала активное движение протеста, которое довольно быстро с нею справилось: уже 23 ноября забастовка в Петербурге кончилась; служащие были приняты обратно – с месячным вычетом из жалованья в виде штрафа. В провинции она местами длилась несколько дольше.
* * *
В эти же дни начали организовываться правые течения, стоявшие за сохранение – или восстановление – неограниченной царской власти: в Москве – монархическая партия, во главе с редактором «Московских ведомостей» В. А. Грингмутом, в Санкт-Петербурге – Союз русского народа, во главе с доктором А. И. Дубровиным, устроивший 21 ноября в Михайловском манеже свой первый митинг, привлекший толпу в несколько тысяч человек. В том же смысле высказался и съезд Союза землевладельцев, заседавший в Москве около 20 ноября; съезд постановил просить государя «заменить нынешнее правительство другим, так как настоящее не в силах установить твердую власть и справиться со смутой».
Неудачи отдельных вспышек не смущали революционные партии. «Начало» заявляло: «Революция действует со стихийной мудростью и стихийной жестокостью самой природы. Когда ей нужно достигнуть какого-нибудь результата, она делает десятки и сотни опытов: ряд частных поражений и неудач она превращает в ступени своей победы».[107]
«Русская революция – сигнал, призывной набат, – писала «Новая жизнь». – Из Петербурга в Париж, из Парижа в Берлин и Вену все быстрее и огромнее помчится революционный смерч… И куда денетесь вы от него, трусливые крысы русской буржуазии?.. В Турцию, Персию, Тибет, в пустыни Сахары, в ущелья Кордильеров?.. Великая революция со временем проникнет и туда, ибо она есть владыка мира, вся вселенная принадлежит ей от вершины Гималайских гор до недр Везувия».[108]
Военные бунты вызывали в левой печати шумные восторги: «Кронштадт, Владивосток, Севастополь, Воронеж, Киев, Ревель…[109] И огненной змеей бежит по всей России, от гарнизона к гарнизону, победный клич: армия присоединяется к революционному народу! Одно военное возмущение за другим! Одна кровавая баня за другой! Не умирающему абсолютизму остановить лавину революции. Она докатится до конца».[110]
Центральный комитет партии социал-революционеров в ноябре 1905 г. вынес решение о прекращении индивидуального террора и о переходе к иным, массовым методам борьбы. Число террористических актов от этого, впрочем, нисколько не уменьшилось.
Увлеченные собственными речами и статьями, социал-демократы и социал-революционеры, по-видимому, совершенно не ощущали, как почва уходит у них из-под ног, как в народных массах на втором месяце «свобод» нарастает утомление, пресыщение революцией. В ответ на арест своего председателя Хрусталева-Носаря Петербургский Совет рабочих депутатов на заседании 26 ноября постановил готовиться к вооруженному восстанию.
Вести о «свободах» вызвали движение и в деревне. Местами начались аграрные волнения, особенно сильные в Черниговской, Саратовской и Тамбовской губерниях. Государь отправил в эти губернии генерал-адъютантов – Сахарова, адмирала Дубасова и Пантелеева. Появления войск оказалось достаточно, чтобы беспорядки прекратились; силу применять не пришлось. Тем не менее генерал В. В. Сахаров был убит выстрелом из револьвера в доме саратовского губернатора Столыпина некоей Анастасией Биценко.[111] Вопреки распространенному мнению, террористы вообще не столько «мстили за жестокости», сколько планомерно убивали всех энергичных и исполнительных представителей власти, чтобы облегчить торжество революции.
Наиболее серьезные формы аграрное движение приняло в Прибалтийском крае, где к нему примешивались национальная вражда латышей к помещикам-немцам и сильное влияние социал-демократии. Лифляндия, а затем и Курляндия были сплошь охвачены восстанием; собирались съезды латышских революционных общин. Разгромлено было 573 имения; убытки исчислялись в 12 миллионов рублей. Борьба принимала жестокие формы: в городе Тукумс в ночь на 30 ноября латыши напали на спящих драгун, перерезали человек двадцать и подожгли дом, где они спали. Такое же неожиданное нападение на русских солдат было сделано в Риге, на фабрике «Проводник»; 11 драгун было убито. Для ликвидации восстания было объявлено военное положение; из Петербурга прислали подкрепления; но ликвидация революционного движения в Прибалтике потребовала немало жертв и растянулась долее чем на месяц.
Государь в ноябре был занят укреплением связи с войском. С 21 ноября полки гвардии, начиная с Семеновского полка, стали поочередно прибывать в Царское Село. Государь с государыней и маленьким наследником приходил в собрание офицеров; он принимал парады, обращался к полкам с приветственными речами. Гвардейские полки после стройных торжеств в Царском Селе возвращались в Петербург с его забастовками, революционными листками, дерзкими карикатурами – и этот контраст еще более укреплял их в верности царю и в ненависти к революции. Статс-секретарь Половцов пишет, что в ноябре гвардейское офицерство требовало ареста Витте и объявления диктатуры, а великий князь Николай Николаевич их от этого удерживал, обещая, что в случае необходимости он станет сам во главе такого движения.
Из непосредственного общения с государем гвардейское офицерство имело случай убедиться, что он был и остается хозяином земли Русской.
1 декабря к государю впервые явились делегаты правых: монархической партии (В. А. Грингмут), Союза русских людей (князь Щербатов), Союза землевладельцев (Н. А. Павлов, Чемодуров и др.). Эта встреча не была удачной: исходя из ложного представления о том, будто на государя легко влиять, некоторые делегаты приняли резкий тон и чуть не требовали, чтобы государь сам подтвердил им неприкосновенность царской власти.
Государь ответил: «Не сомневаюсь, что вы пойдете не по иному, как только по предначертанному мною пути… Манифест, данный мною 17 октября, есть полное и убежденное выражение моей непреклонной и непреложной воли и акт, не подлежащий изменению»…
Государь не считал допустимым, чтобы его именем пользовались для борьбы против назначенного им правительства; правые делегаты ушли неудовлетворенными. Совершенно иначе прошел второй прием – 23 декабря. Депутация Союза русского народа, с А. И. Дубровиным и П. Ф. Булацелем во главе, состояла в большинстве из рабочих, извозчиков, крестьян. «Мы с нетерпением ждем созыва Государственной думы, которая дала бы возможность нам, русскому народу, избрать уполномоченных, преданных тебе, государь, и Отечеству», – говорил А. И. Дубровин. Государь согласился принять знаки Союза для себя и наследника и сказал: «Объединяйтесь, русские люди, Я рассчитываю на вас».
«Правы ли мы, Государь, оставаясь верными самодержавию?» – спросил один из делегатов. Государь на это ответил несколько загадочной фразой: «Скоро, скоро воссияет солнце правды над землею Русской, и тогда все сомнения исчезнут».[112]
Совет рабочих депутатов «готовил» вооруженное восстание; но его руководители знали, что присутствие гвардейских полков делает всякую попытку в Петербурге совершенно безнадежной. Он поэтому избрал для начала другой метод – удар по государственным финансам.
2 декабря в восьми петербургских газетах появился «Манифест Совета рабочих депутатов». Изображая мрачными красками положение страны, Совет приходил к выводу: «Надо отрезать у правительства последний источник существования – финансовые доходы». Для этого народ призывался: 1) отказываться от платежа налогов; 2) требовать при всех сделках уплаты золотом или полноценной серебряной монетой; 3) брать вклады из сберегательных касс и банков, требуя уплаты всей суммы золотом; 4) не допускать уплаты по займам, которые правительство заключило, «когда явно и открыто вело войну со всем народом».
Таким образом предполагалось распылить золотой запас Государственного банка, чтобы обесценить бумажный рубль и в то же время лишить власть возможности заключать заграничные займы.
Но власть на этот раз ответила быстрым ударом. Все газеты, напечатавшие «манифест», были в тот же день закрыты, а на следующий день, 3 декабря, был арестован и весь Совет рабочих депутатов. Конечно, у него имелись «заместители», президиум Совета еще собирался, выносил резолюции; но история Совета как властного учреждения, как «второго начальства» кончилась с этим арестом, и вместе с ним исчезла революционная бесцензурная печать.
Крайние партии почувствовали, что паралич власти кончается, и решили дать генеральный бой: всеобщую забастовку, переходящую в вооруженное восстание, рассчитанную на присоединение войска к восставшим. Наиболее удобным местом для начала движения была признана Москва, где генерал-губернатор П. П. Дурново своим полным бездействием облегчал деятельность революционных организаций; к тому же в войсках московского гарнизона (особенно в Ростовском полку) происходило брожение; солдаты «предъявляли требования» командирам, отказывались повиноваться.
5 декабря в Москву прибыл новый генерал-губернатор, адмирал Ф. В. Дубасов. Принимая представителей администрации, он произнес знаменательную речь: «В этой самой Москве, где билось сердце России горячей любовью к родине, свила себе гнездо преступная пропаганда. Москва стала сборищем и рассадником людей, дерзко восстающих для разрушения основ порядка… При таких условиях мое назначение на пост московского генерал-губернатора приобретает особый характер. Это – назначение на боевой пост… Я убежден в победе над крамолой, которую можно победить не только залпами и штыками, но нравственным воздействием лучших общественных сил. Теперь крамола обращается к законной власти с дерзкими требованиями, бросает дерзкий вызов с поднятым оружием. Вот почему я не поколеблюсь ни на одну минуту и употреблю самые крайние меры; я буду действовать, как повелевает мне долг».
В тот же день закончились беспорядки в Ростовском полку: солдаты «качали» своего командира и кричали ему «ура».
6 декабря был издан «приказ о революции», как выразилось «Новое время»: на 12 часов дня 8 декабря объявлена была всеобщая забастовка. «Пролетариат не удовлетворится никакими частичными перемещениями политических фигур правительственного персонала. Он не прекращает стачки до тех пор, пока все местные власти не сдадут своих полномочий выбранному от местного населения органу временного революционного управления», – говорилось в воззвании, подписанном: партией социал-демократов, партией социал-революционеров, союзом железнодорожников, почтово-телеграфным союзом и московским и петербургским Советами рабочих депутатов. Тщетно П. Н. Милюков в своей газете предостерегал крайние партии от такого рискованного шага.
* * *
В Царском Селе с 5 по 9 декабря происходили совещания о новом избирательном законе. Как и на летних петергофских совещаниях, резолюция государя заменяла голосование. Приглашенные в качестве представителей умеренной общественности А. И. Гучков и Д. Н. Шипов отстаивали всеобщее избирательное право, но сочувствия не встретили. Государь не хотел «ломать» избирательный закон 6 августа, а только дополнил его присоединением новых слоев населения. Решено было предоставить рабочим 206 мест выборщиков,[113] избираемых отдельно, а в городах предоставить право голоса всем частным и государственным служащим, а также всем квартиронанимателям (для Санкт-Петербурга, например, это было увеличение числа избирателей примерно с 10 000 до 100 000).
Третья всеобщая забастовка началась в назначенный срок 8 декабря, но сразу же обозначился ее неуспех. Многие железные дороги прямо отказались к ней примкнуть. В Петербурге бастовала только незначительная часть рабочих. «Приказали начать забастовку, а не слушаются!» – иронически замечало «Новое время» 9 декабря и уже на следующий день сообщало: «Всероссийская забастовка провалилась самым плачевным образом».
Все же дороги московского узла забастовали (кроме Николаевской, которая усиленно охранялась войсками), и революционные партии, собравшие в Москве около 2000 вооруженных дружинников, решили продолжать выступление по намеченному плану.
Задачей было добиться перехода войск на сторону революции. Но выступление начиналось в атмосфере народного равнодушия: не чувствовалось ни малейшей «психологической заразы». Штаб боевых дружин поэтому решил повести партизанскую войну на территории старой столицы. Дружинникам были даны следующие «технические указания»:[114] «Действуйте небольшими отрядами… Против сотни казаков ставьте одного-двух стрелков… Попасть в сотню легче, чем в одного, особенно если этот один неожиданно стреляет и неизвестно куда исчезает… Пусть нашими крепостями будут проходные дворы и все места, из которых легко стрелять и легко уйти».
Расчет был таков: солдаты будут стрелять, попадая не в скрывшихся дружинников, а в мирное население; это озлобит его и побудит примкнуть к восстанию.
По всему городу строились баррикады – по большей части из опрокинутых саней или телег и выломанных ворот, с фундаментом из снега. Баррикад было много, но их вообще не защищали; они должны были только задерживать движение войск и облегчать возможность обстрела из окон.
Такая тактика позволяла вести борьбу, почти не неся потерь: дружинники стреляли в войска и тотчас скрывались в лабиринте внутренних дворов. Они подстреливали отдельных городовых, стоявших на посту. Власти не сразу справились с этой формой борьбы. Зато драгуны и казаки, которые сначала действовали неохотно, озлобились и с подлинным азартом гонялись по городу за неуловимым противником. «Можно ли считать мужеством стрельбу из-за угла, из подворотни, из форточки?» – писал в «Новом времени» (23 декабря) «Москвич»: «Выстрелить… а затем удирать через заборы и проходные дворы, заставляя за свою храбрость рассчитываться мирных граждан жизнью и кровью, – куда какое мужество и героизм, не поддающийся описанию».
Был издан приказ, предписывающий дворникам держать ворота на запоре. Дружины ответили контрприказом: дворников, запирающих ворота, избивать, а при повторении – убивать. Несколько домов, из окон которых стреляли, подверглись артиллерийскому обстрелу.
Восстание не разгоралось, но и партизанская война не прекращалась. Она тянулась с 9 по 14 декабря – среди казаков и драгун начало сказываться физическое утомление, – когда адмирал Дубасов обратился по прямому проводу в Царское Село к государю. Он объяснил положение и подчеркнул, какое значение имеет исход борьбы в Москве. Государь отдал приказ отправить на подмогу лейб-гвардии Семеновский полк.
Утомление ощущалось в войсках, но и обывателю надоела стрельба; дружинники все меньше находили доброхотных помощников при постройке баррикад, все чаще наталкивались на определенную враждебность, на добровольную милицию, организованную Союзом русских людей. Прибытие 15 декабря Семеновского полка в Москву окончательно решило судьбу революционного выступления. Дружинники стали отходить за город. Перед уходом они еще явились на квартиру начальника охранного отделения Войлошникова и расстреляли его, несмотря на мольбы его детей.
Главной «коммуникационной линией» революционеров была Московско-Казанская дорога. Отряд семеновцев с полковником Риманом во главе двинулся вдоль этой дороги, занимая станции и расстреливая захваченных с оружием дружинников. В городе стрельба затихла. Только в рабочем квартале Пресня, высоко поднимающемся над извилиной Москвы-реки, революционеры держались на два-три дня дольше. Наконец 18 декабря после артиллерийского обстрела и Пресня была занята без боя отрядом семеновцев. Энергия адмирала Ф. В. Дубасова и генерала Г. А. Мина сломила без больших жертв попытку вооруженного восстания: за десять дней борьбы общее число убитых и раненых не превысило 2000.
* * *
Всеобщая забастовка кончилась фактически раньше прекращения борьбы в Москве. 19 декабря еще вспыхнуло восстание в Ростове-на-Дону, но через два дня и оно было подавлено.
После этого оставалось только восстановить порядок на окраинах. Самую серьезную проблему представляла Сибирь. С первой всеобщей забастовки Сибирская дорога находилась фактически в управлении стачечных комитетов. На дороге образовалось несколько революционных опорных пунктов. Молва приумножила их силу и значение. Было известно, что забастовщики пропускают поезда с запасными, возвращающимися из Маньчжурии, но по дороге подвергают их революционной «обработке». Командование на Дальнем Востоке растерялось. Генерал Линевич вошел в соглашение со стачечным комитетом для эвакуации запасных. Питаясь смутными слухами о русской революции, маньчжурская армия глухо волновалась. Происходили офицерские и солдатские митинги.
«Реакция выдвигает Игнатьева и ломит Витте, – записывал Куропаткин 23 декабря в своем дневнике. – Николай Николаевич добивается военной диктатуры». Генерал Линевич – в беседе с Куропаткиным – «не признает нужным бороться против крайних партий. Несколько раз повторял, что порядок не будет восстановлен в России, пока не явится свой Наполеон, способный сломить все и всех… Уж не мнит ли он себя?..»
28 декабря командование маньчжурской армии получило через Шанхай телеграмму государя от 14 декабря, возлагающую на генерала Ренненкампфа восстановление порядка на Сибирской, Забайкальской и Китайской железных дорогах. Генерал Линевич и Куропаткин были смущены: сначала возникла мысль «пустить Ренненкампфа в качестве туриста»… Куропаткин считал нужным, чтобы деятельность Ренненкампфа «регламентировалась постановлениями Государственной думы (?)». Но трудно было не исполнить прямой приказ государя.
В это время государь нашел более быстрого исполнителя. Генерал Меллер-Закомельский принял поручение – очистить от революционеров Великий сибирский путь. В ночь на Новый год, с отрядом всего в двести человек, подобранным из варшавских гвардейских частей, он выехал из Москвы на экстренном поезде. Такое предприятие могло показаться безумием: говорили, что в Чите многотысячное революционное войско, что запасные, возвращающиеся из Маньчжурии, – а в пути их были десятки тысяч – утратили всякую дисциплину. Но горсть людей с решительным командиром оказалась сильнее анархической стихии.
Меллер-Закомельский действовал круто: встретив на станции Узловой первый поезд с распустившимися запасными, он вывел свой отряд, выстроил половину его на платформе, а другая часть обходила вагоны и прикладами выгоняла солдат, разместившихся в офицерских купе. Когда на одной станции в вагон его поезда проникли два агитатора, они были выброшены на полном ходу. Двух-трех таких фактов, разнесенных телеграфом, было достаточно, чтобы следующие встречные поезда с запасными уже сами «приводили себя в порядок», и попыток агитировать среди чинов отряда больше не было.
На станции Иланской революционная толпа заперлась в железнодорожном депо и пробовала отстреливаться. Отряд Меллер-Закомельского отвечал правильными залпами; 19 было убито, 70 ранено, остальные сдались. После этого попыток сопротивления уже не было. На двух станциях были расстреляны стачечные комитеты. Отряд в двести человек быстро продвигался по Сибири, и революционеры, не думая о сопротивлении, спешили скрыться с его пути. Страх перед отрядом Меллер-Закомельского был так велик, что Чита – где красные господствовали почти три месяца, где местный губернатор Холщевников называл социал-демократов «партией порядка», где в руках революционного комитета были вагоны с 30 000 ружей – поспешила без боя сдаться генералу Ренненкампфу, подходившему с востока, от маньчжурской границы, чтобы не попасть в руки «страшного» отряда. Экспедиция генерала Меллер-Закомельского показала, как порою суровость, примененная вовремя, может предотвратить большие кровопролития.
Чита сдалась 20 января. Сибирский путь был свободен. Генералы Куропаткин и Линевич, не совершившие ничего противозаконного, но не сумевшие справиться с положением, были смещены в начале февраля приказом государя. Командующим войсками на Дальнем Востоке был назначен генерал Гродеков. 9 февраля генерал Меллер-Закомельский уже представлял государю свой отряд в Царском Селе.
* * *
Русское общество в декабре пережило глубокий психологический кризис. Третья всеобщая забастовка и попытка восстания в Москве отнюдь не встречали всеобщего сочувствия интеллигенции. Повелительный тон революционных органов начинал раздражать; насильнический характер крайних партий вызывал отталкивание. П. Б. Струве в «Полярной звезде» писал (15 декабря): «Мы заклятые враги всякого насилия, исходит ли оно от власти или от анархии».
Еще смелее критиковал поведение общества князь Г. Н. Трубецкой: «Как была осуществлена свобода слова?.. Правда, в критике и осуждении правительства никто не стеснялся. Заслуги ораторов и публицистов в этом отношении были, однако, невелики, потому что против поверженного льва отваживаются, как известно, и не очень храбрые животные… Но против новой силы, которой все поверили и поклонились, потому что в руках ее сверкнула давно знакомая, любезная сердцу обывателя палка, – много ли нашлось отважных и смелых речей?.. Не чувствовалось ли… что вместо старой поношенной ливреи люди с какой-то странной поспешностью и самодовольством торопятся облечься в новенькие холопские доспехи и на голову надвинуть номерной картуз, на котором красуется надпись «свобода»?»
Д. С. Мережковский выступил со статьею «Грядущий Хам», направленной против грозящего царства черни, хотя он тут же пытался оговорить, что этого «Хама» он усматривает в «Черной сотне».
Но когда революционное движение потерпело полный крах, когда «начальство вернулось» и жизнь вошла опять в колею, русское общество также вернулось к своей обычной роли и принялось жалеть побежденных революционеров и страстно возмущаться действиями власти. Умеренный «Вестник Европы» писал о «превышении самообороны»; более левые органы изо дня в день выступали с «обличительными материалами», возмущаясь расстрелами дружинников и разгромом домов, как будто не революционеры в течение целой недели охотились из-за угла за полицейскими и солдатами.
Общество жадно подхватывало всякое обличение. Во время аграрных беспорядков в Полтавской губернии, в селе Сорочинцы, толпою крестьян был убит стражник. Приехавший для следствия советник Филонов велел крестьянам встать на колени и покаяться. Эта форма репрессии вызвала страстное обличительное письмо известного писателя В. Г. Короленко в местной газете «Полтавщина»; через несколько дней Филонов был убит неизвестным. Сам Короленко после этого смущенно писал о «вмешательстве, которого я не мог ни желать, ни предвидеть»…
Еще более нашумело «дело Спиридоновой». Советник губернского правления Луженовский, ездивший прекращать аграрные беспорядки в Тамбовской губернии, был смертельно ранен пулей в живот на вокзале в Тамбове. Стреляла в него М. Спиридонова, девушка лет восемнадцати; возмущенная толпа сильно ее избила; ее повезли в тюрьму. Оттуда она прислала письмо бредового характера, обвиняя арестовавших ее офицеров во всяческих истязаниях и оскорблениях. Произведенное следствие не подтвердило этих обвинений, и сама Спиридонова на суде уже не повторяла их. «Как можно было галлюцинации больного, тяжело ушибленного человека печатать в качестве важного обвинительного материала?» – основательно спрашивали «Санкт-Петербургские ведомости». Но, как и в деле Филонова, эти «обличения» стоили человеческих жизней: оба офицера, которых называла Спиридонова, были убиты в ближайшие месяцы; убийцы их скрылись бесследно. Вообще в начале 1906 г. необыкновенно увеличилось число террористических актов.
* * *
К концу 1905 г. финансовое положение власти было нелегким. Налоги почти не поступали. Золотой запас Госбанка сильно сократился; не столько манифест Совета рабочих депутатов, сколько паника, охватившая состоятельные круги, была тому причиной. В. Н. Коковцову было поручено проехать во Францию, чтобы получить внешний заем. Такое поручение в разгар московских событий могло казаться безнадежным. Но государь учитывал события, происходившие за пределами России. В начале 1906 г. должна была собраться Альхесирасская конференция. Франции была нужна дипломатическая поддержка. Одного слова государя о том, что Россия поддержит Францию в марокканском вопросе, оказалось достаточно, чтобы французский премьер Рувье приложил все усилия для удовлетворения финансовых нужд союзного правительства. Россия получила краткосрочный кредит в 150 миллионов рублей, с обещанием большого займа по окончании марокканского кризиса.
Граф Витте номинально оставался у власти еще свыше четырех месяцев после декабрьской победы над революцией; но руководство событиями с начала декабря фактически снова перешло в руки государя. Это сказывалось во всех областях. Военные и полицейские власти действовали совершенно независимо от Совета министров, и сам премьер, отказавшись от самостоятельной политики, «плыл по течению».
«Витте после московских событий резко изменился, – писал государь своей матери 12 января. – Теперь он хочет всех вешать и расстреливать. Я никогда не видел такого хамелеона… Благодаря этому свойству его характера почти никто ему больше не верит, он окончательно потопил себя в глазах всех… Мне очень нравится новый министр юстиции Акимов… Дурново действует прекрасно… Остальные министры – люди sans importance!»
17 декабря государь принял трех митрополитов и беседовал с ними о созыве Церковного собора. 27 декабря он обратился с рескриптом к санкт-петербургскому митрополиту Антонию. Напомнив, что еще весною возникала мысль о созыве собора, государь писал: «Ныне я признаю вполне благовременным произвести некоторые преобразования в строе нашей отечественной церкви… Предлагаю вам определить время созвания этого собора».
Для подготовки созыва образовано было предсоборное присутствие, приступившее к работам 6 марта. В нем участвовало человек пятьдесят, в том числе десять иерархов. Оно разделилось на семь отделов, ведавших различными вопросами. Председательствовал митрополит Антоний. Видное участие в работах принимал обер-прокурор Синода князь А. Д. Оболенский.
В январе 1906 г. государю довелось снова подойти к больному вопросу русской жизни, поставленному на очередь четыре года назад, но отодвинутому войной и революционной смутой: к земельному вопросу. Еще манифестом 3 ноября 1905 г. были отменены выкупные платежи – единственный крупный прямой налог, лежавший на деревне. В обществе ходили слухи о том, будто государь перед выборами в Госдуму намерен обещать крестьянам помещичьи земли (в виде наказания земцам за участие в смуте) и этим приобрести поддержку крестьян в борьбе с «освободительным движением». Такие замыслы были совершенно чужды государю: он и не помышлял «покупать голоса крестьян» путем нарушения права частной собственности. К тому же он полагал, что выход не в сокращении частной земельной собственности, а скорее в ее распространении и на крестьян.
Принимая 18 января депутацию крестьян Курской губернии, государь сказал: «Всякое право собственности неприкосновенно; то, что принадлежит помещику, принадлежит ему; то, что принадлежит крестьянину, принадлежит ему. Земля, находящаяся во владении помещика, принадлежит ему на том же неотъемлемом праве, как и ваша земля принадлежит вам».
Междуведомственное совещание во второй половине января отвергло проект главноуправляющего ведомством земледелия Н. Н. Кутлера, предусматривавший принудительное отчуждение арендуемых земель; Н. Н. Кутлер подал в отставку.
Позиция государя в аграрном вопросе была государственной, открытой и честной, но перед «крестьянскими» выборами в Государственную думу она давала противникам власти опасное демагогическое орудие в руки.
Революционные партии ушли «в подполье». Из Союза освобождения, земских конституционалистов и части элемента Союза союзов сложилась Конституционно-демократическая партия. Ее учредительный съезд происходил во время первой всеобщей забастовки; в ноябре и декабре она не играла никакой роли, и только отлив революции выдвинул кадетов на первый план. На съезде в начале января партия высказалась за конституционную и парламентарную монархию (вопрос этот в октябре был оставлен открытым) и решила готовиться к выборам в Госдуму, в отличие от более левых групп, призывавших к бойкоту.
В начале февраля собрался съезд Союза 17 октября. На нем обнаружилось, что провинция значительно правее либерального центра; и в то время как ораторы центрального комитета М. А. Стахович, А. И. Гучков критиковали действия власти и требовали отмены исключительных положений, провинция реагировала совсем иначе. «Мы тем самым подпишем разрешение на вторую революцию!» – воскликнул минский делегат Чигирев. «Только при военном положении мирные граждане вздохнули свободно», – говорили другие. Резолюция об отмене чрезвычайных положений собрала 142 голоса против 140, и Центральный комитет для избежания раскола предпочел от нее отказаться. Зато другая резолюция съезда – о созыве Государственной думы не позже конца апреля – получила быстрое удовлетворение: 14 февраля открытие Думы было назначено на 27 апреля.
20 февраля издан был манифест, развивавший, дополнявший и вводивший в известные рамки общие принципы, провозглашенные 17 октября. В нем указывалось, что за государем остаются все права, кроме тех, которые он разделяет с Государственной думой и Государственным советом, состоящим наполовину из назначенных, наполовину из выборных членов. «Не есть ли бесспорно заключенное в манифесте 20 февраля юридическое подтверждение того, что самодержавие упразднено, – приятный сюрприз?» – писал П. Б. Струве в «Полярной звезде».
4 марта были обнародованы временные правила о союзах и собраниях. Существенным ограничением прав Государственной думы были бюджетные правила 8 марта. Они устанавливали, что целый ряд частей бюджета считается, как выражались тогда, «забронированным». Платежи по государственному долгу, бюджет Министерства двора, военный и морской бюджеты могли изменяться только в законодательном порядке, то есть с согласия Думы и Совета и с утверждения государя. По тем же правилам при расхождении между Думой и Советом принималась цифра более близкая к прошлогодней смете. В случае неутверждения в срок или отклонения бюджета в силе оставалась смета предыдущего года.
Вопрос о смысле слова самодержавие оживленно обсуждался в печати. Одни толковали его как неограниченность, другие, ссылаясь на историю, говорили, что это означает лишь внешнюю независимость от какой-либо другой державы.
Принимая 16 февраля депутацию Иваново-Вознесенской самодержавно-монархической партии, государь сказал: «Передайте всем уполномочившим вас, что реформы, Мною возвещенные 17 октября, будут осуществлены неизменно, и права, которые Мною даны одинаково всему населению, неотъемлемы; Самодержавие же Мое останется таким, как оно было встарь».
Русское собрание выпустило особый листок, излагавший его точку зрения: «Могут когда-нибудь наступить обстоятельства, при которых Русский царь будет нравственно обязан для блага своего народа действовать помимо Государственной думы и даже отменить манифест 17 октября… Пусть никто не пытается превращать этот манифест в обязательство, извне наложенное на царя, и придавать ему форму какого-либо договора или двустороннего акта».
* * *
Альхесирасская конференция была благополучно доведена до конца, и В. Н. Коковцов снова прибыл (в марте) в Париж для заключения большого займа (на миллиард рублей) для ликвидации военных счетов (главным образом – на погашение краткосрочных займов) и для покрытия дефицита революционного года. Левые круги вели кампанию против этого займа; приезжали в Париж с тою же целью и русские либералы; но их усилия не имели никакого успеха, и они потом не любили об этом вспоминать. Французское правительство считалось с реальным фактом отлива революции и было заинтересовано в укреплении франко-русского союза, сильно расшатанного событиями последних двух лет; Альхесирасская конференция показала, насколько ценной является русская поддержка. Поэтому, хотя кабинет Рувье сменился кабинетом Саррьена в самый разгар переговоров, даже новый министр внутренних дел Клемансо не подумал возражать против займа и заявил русскому послу, что выпады против «царизма» на столбцах его газеты не следует «принимать близко к сердцу»: мало ли что пишут безответственные журналисты!
Заем был выпущен в апреле; он имел большой успех в публике. «Плюю тебе в глаза, прекрасная Франция!» – возмущенно восклицал Максим Горький.
* * *
Выборы в Государственную думу начались в марте. Первые результаты не давали ясной картины; но чем дальше шли выборы, тем явственнее определялась победа партии кадетов. Она оказалась самой левой на этих выборах и привлекла к себе всю беспартийную недовольную массу. Умеренные группы, возглавлявшиеся Союзом 17 октября, и правые под названием «монархистов» или Союза русского народа оказались не в состоянии конкурировать с нею.
В Петербурге кадеты собрали 40 000 голосов, умеренный блок – 18 000, монархисты – 3000; в Москве кадеты имели 26 000, октябристы – 12 000, монархисты – 2000. Те же результаты получались почти во всей провинции; только в городах юго-запада процент монархистов был значительно больше, но и там, при помощи еврейских и польских голосов, большинство получили кадеты.
Когда выборщики съехались в губернские города, то выяснилось, что крестьяне имеют две тенденции: провести в Думу как можно больше своих депутатов – и поддерживать тех, кто обещает им «землю». Почти все губернии послали в Государственную думу кадетов и беспартийных крестьян (которые в большинстве затем оказались «левее кадетов» в составе «трудовой группы»). Правые и умеренные проходили только в виде исключения. Невольно вставал вопрос: куда же растаяли многотысячные толпы, восставшие в октябре против революционного движения? На съезде монархистов в Москве в начале апреля обсуждали этот вопрос, но ответа не нашли. Вернее всего, что причин было несколько: часть – все те, кто не имел отдельной квартиры, – осталась за пределами избирательного закона; другие не интересовались выборами; наконец, весьма многие возмущались революционными выходками, но ничего не имели против «заманчивых перспектив», рисовавшихся «кадетскими» ораторами. Как бы то ни было, выборы в Первую думу были тяжким разочарованием и для власти, и для умеренных и правых партий.
* * *
В начале апреля в Царском Селе происходило обсуждение проекта основных законов. В нем повторялись положения манифеста 20 февраля; существенной чертой было то, что пересмотр основных законов допускался только по почину Государя. Состав совещания был обычный. Самым спорным вопросом оказалась 4-я статья проекта: «Императору Всероссийскому принадлежит верховная самодержавная власть». В прежнем тексте стояло «самодержавная и неограниченная».
Государь (в совещании 9 апреля) высказался по этому поводу: «Вот – главнейший вопрос… Целый месяц я держал этот проект у себя. Меня все время мучает чувство, имею ли я перед моими предками право изменить пределы власти, которую я от них получил… Акт 17 октября дан мною вполне сознательно, и я твердо решил довести его до конца. Но я не убежден в необходимости при этом отречься от прав и изменить определение верховной власти, существующее в статье 1 Основных Законов уже 109 лет. Может быть обвинение в неискренности – не к правительству, но ко мне лично? Принимаю на себя укоры, но с чьей они стороны? Уверен, что 80 процентов народа будут со мною. Это дело моей совести, и я решу его сам».
Заявление Государя вызвало необычайное волнение в совещании:
«Витте. Этим вопросом разрешается все будущее России…
Государь. Да.
Витте. Если Ваше Величество считаете, что не можете отречься от неограниченной власти, то нельзя писать ничего другого. Тогда нельзя и переиздавать основные законы.
Граф Пален. Я не сочувствовал 17 октября, но оно есть. Вам, Государь, было угодно ограничить свою власть.
М. Г. Акимов. Если сказать «неограниченный» – это значит бросить перчатку. Если изданные законы губят Россию, то Вам придется сделать coup d’Etat. Но теперь сказать это нельзя».
Члены Госсовета Сабуров, граф Сольский и Фриш высказались в том же смысле.
«В. к. Николай Николаевич. Манифестом 17 октября слово «неограниченный» В. И. В. уже вычеркнули.
П. Н. Дурново. После актов 17 октября и 20 февраля неограниченная монархия перестала существовать.
Князь А. Д. Ополенский. Вычеркнув «неограниченный», оставить «самодержавный».
Государь. Свое решение я скажу потом».
Обсуждение проекта продолжалось 11 и 13 апреля. Когда оно закончилось, граф Сольский обратился к государю с вопросом: «Как изволите приказать – сохранить или исключить слово неограниченный?
Государь. Я решил остановиться на редакции Совета министров.
Граф Сольский. Следовательно, исключить слово «неограниченный»?
Государь. Да, исключить».
* * *
21 апреля открылся съезд Конституционно-демократической партии. Обсуждалась тактика в Государственной думе. Шла борьба между левыми и более умеренными. Во время съезда была получена телеграмма о покушении на адмирала Дубасова; часть съезда разразилась аплодисментами. Оказалось, по счастью, что адмирал Дубасов невредим; но убиты были его адъютант граф Коновницын и бросивший бомбу.
23 апреля была опубликована отставка Витте. Его преемником назначался И. Л. Горемыкин. Одновременно с Витте ушли не только «его» министры, но и П. Н. Дурново, и даже министр иностранных дел граф Ламздорф. Государственную думу должен был встретить совершенно новый состав правительства.
Либеральный журнал «Свобода и культура» поместил «политический некролог» бывшего премьера: «Граф Витте – совсем не реакционер, а просто человек без всяких убеждений… Для того чтобы занять первое место, он должен был заявить себя в октябре решительным сторонником общей реформы. Для того чтобы укрепить свое положение, он не призадумался затем заключить тесный союз с П. Н. Дурново. Если бы в высших сферах созрело твердое намерение вернуться вспять к неограниченному самодержавию, и предприятие не было бы, по мнению графа Витте, обречено на быстрое крушение – он, конечно, не преминул бы стать во главе такого дела… И после всего, что случилось, это единственная роль, которая могла бы возвратить снова графа Витте к власти».
Эти слова были пророческими – граф Витте не раз затем выдвигал себя на такую роль; но он встретил неодолимое препятствие. «Нет, никогда, пока я жив, не поручу я этому человеку самого маленького дела! Довольно с меня прошлогоднего опыта», – писал государь императрице Марии Феодоровне (2.XI.1906).
Новые основные законы, с таким трудом прошедшие через горнило царскосельского совещания, были опубликованы 26 апреля. Съезд кадетов в своем заключительном заседании принял, по предложению П. Н. Милюкова, резкую резолюцию: «Накануне открытия Государственной думы правительство решило бросить русскому народу новый вызов. Государственную думу, средоточие надежд исстрадавшейся страны, пытаются низвести на роль прислужницы бюрократического правительства. Никакие преграды, создаваемые правительством, не удержат народных избранников от исполнения задач, которые возложил на них народ».
Глава 4
Открытие Первой думы; ее состав; слово государя; требования амнистии. – Прения об ответном адресе; отклонение поправки Стаховича об осуждении террора. – Декларация кабинета Горемыкина. – Борьба вокруг вопроса о смертной казни. – Погром в Белостоке. – Толки о думском кабинете. – Обращение Думы к стране по аграрному вопросу. – Роспуск Первой думы. – Выборгское воззвание. – Правительство Столыпина. – Бунты (Свеаборг, Кронштадт). – «Кровавое воскресенье» в Варшаве. – Взрыв на Аптекарском острове. – Программа реформ и военно-полевые суды. – Гучков и Столыпин. – Перелом настроения. – Разложение террора. Эра реформ: закон о равноправии крестьян; создание земельного фонда; закон 9 ноября 1906 г. о выходе из общины. – Выборы во Вторую думу. – Успехи левых и правых. – Декларация кабинета Столыпина; «не запугаете». – Земельный вопрос в Думе. – Зурабовский инцидент. – Военный заговор с участием депутатов социал-демократов. – Роспуск Второй думы. – Новый избирательный закон. – Манифест 3 июня 1907 г. о «доведении до конца дела преобразования»
В день открытия Первой Государственной думы в «Новом времени» появилась необычная статья: «Государь страдал, – говорилось в ней. – На нем много отразилось. Мыши из подполья разбежались – поели сыра и были таковы. А государь – он все остается, и на нем мучительнее, чем на ком-либо, отразилось все происшедшее за 1904, 1905, 1906 гг. …»
Действительно, для государя эти годы были исключительно тяжелыми по великой ответственности, лежавшей на нем, и по той борьбе, и внешней и внутренней, которую ему пришлось пережить. Его решения неизменно вызывали нападки – зачастую с противоположных сторон. Безответственные критики обвиняли его в слабости; противники власти, вкладывая свой собственный смысл в слова его указов и манифеста, утверждали, что данные обещания не были исполнены. Но мятеж был подавлен, и Дума была созвана.
«Государю виднее, – писало далее «Новое время». – Да, трон выше всего, и много видно с него, чего не видно с кресел и стульев, трибун и кафедр… Государь знает гораздо больше каждого из нас. Возблагодарим Его. А если и не сумеет теперешнее поколение в торопливости мятущихся дней оценить величие и индивидуальность подвига Государя, то тем выше, во исправление настоящего, поднимет Его имя историк».
Император Николай II, конечно, не был поклонником представительного образа правления. Он не питал иллюзий относительно настроений общества. С. Е. Крыжановский присутствовал (в конце 1905 г.) при разговоре государя с графом Витте и отмечал, как он «с явным раздражением отмахнулся от сладких слов графа, когда тот стал доказывать, что в лице народного представительства Государь и правительство найдут опору и помощь». – «Не говорите мне этого, Сергей Юльевич, я отлично понимаю, что создаю себе не помощника, а врага, но утешаю себя мыслью, что мне удастся воспитать государственную силу, которая окажется полезной для того, чтобы в будущем обеспечить России путь спокойного развития без резкого нарушения тех устоев, на которых она жила столько времени».
Государь считал, что неограниченное самодержавие, в идеале, выше и совершеннее. Но годы правления создали в нем убеждение, что в России начала XX в., и прежде всего – в русском образованном обществе, этот строй не находит достаточного числа убежденных, не за страх, а за совесть, исполнителей монаршей воли. Оппозиция земств, неудача «зубатовского» движения, перебои и медлительность государственного аппарата во время японской войны – все это объяснялось в конечном счете тою же причиной – недостатком идейно преданных строю образованных людей. Этого недостатка не могла восполнить преданность народной массы, в которую государь продолжал глубоко верить.
Чтобы облегчить русскому обществу работу на пользу отечества, государь вступил на путь реформы, опасность и отрицательные стороны которой он все время живо ощущал. Ни на минуту его не оставляло сознание ответственности за Россию – не только за собственные ошибки или упущения, но и за какое-либо попустительство. Безответственность конституционного монарха либеральной доктрины показалась бы ему преступным умыванием рук; и государь поэтому тщательно заботился о том, чтобы всегда оставлять за собою возможность последнего решения.
Манифест 17 октября этому не противоречил. Он только устанавливал, что без Государственной думы не должно издаваться новых законов. Пределы полномочий, отведенных Госдуме, манифестом установлены не были, и толкование самого законодателя было, разумеется, авторитетнее мнений противников власти. Основные законы 26 апреля в общем устанавливали строй близкий к тому, который был введен в Пруссии по конституции 1848 г.
Государь хотел включить народное представительство как составную часть в государственный строй царской России. Он отводил ему почетное место. Для заседаний Думы был избран Таврический дворец (построенный в конце XVIII в. князем Потемкиным-Таврическим). Государь вместе с государыней выработал церемониал открытия Думы; сам государь, отвергнув различные предложенные ему проекты, составил и текст приветственного слова к народным представителям. День открытия Думы был государственным торжеством; колокольный звон во всех церквах России возвещал о знаменательном событии. Государь знал, что среди выборных есть непримиримые противники строя. Но он считал существенным, чтобы первое слово монарха было призывом к совместному служению отечеству. Он не отождествлял народных избранников с той кровавой партизанской войной, которую продолжали вести с государственной властью побежденные в открытом бою революционные партии. Дальнейшее должно было зависеть от Думы: государь хотел судить о народных представителях по делам их, а не по докладам губернаторов или министров.
* * *
К моменту открытия Думы было избрано около 450 депутатов.[115] Из них было почти двести полуграмотных крестьян и почти столько же людей с высшим образованием: Дума состояла из интеллигенции и крестьянства. Крайние партии бойкотировали выборы, и поэтому социалисты-революционеры и социал-демократы в ней представлены не были.[116] Но свыше ста депутатов считали себя «левей кадетов» и образовали «трудовую группу». Особняком стояли депутаты Западного края с «польским коло» во главе. Правых и умеренных оказалось всего три-четыре десятка, причем только несколько умеренных (М. А. Стахович, граф П. А. Гейден, князь Н. С. Болконский) были известными политическими фигурами: ни один из вождей правых в Первую думу не прошел.
Избранные против правительства, депутаты считали себя выразителями воли народа, которым по праву должна была бы принадлежать власть. Они исходили не из существующих законов, а из собственных программ, из своего «расширительного толкования» манифеста 17 октября. Они шли на борьбу. Террористические акты представлялись большинству из них выражением законного народного возмущения, а ответные правительственные репрессии – недопустимым насилием.
* * *
27 апреля было солнечным весенним днем. Государь, всю зиму не покидавший Царского Села, где он под бдительной охраной Д. Ф. Трепова находился в относительной безопасности, прибыл с утра в Петербург на императорской яхте; он посетил Петропавловскую крепость и долго молился у гробницы своего отца.
В Георгиевском зале Зимнего дворца был воздвигнут трон с красным и золотым балдахином; на нем покоилась императорская горностаевая порфира. Вдоль белых с позолотою стен были отведены места для членов законодательных палат – справа для Госсовета, – разделенные широким проходом. На эстраде Госсовета разместились также высшие сановники в шитых золотом и усеянных орденами придворных и военных мундирах. Члены Думы стали собираться несколько позже; большинство было в сюртуках или крестьянских одеждах.
Высочайший выход начался с отдаленных звуков национального гимна. В зал вошли скороходы в старинных одеяниях; за ними высшие сановники несли государственные регалии, привезенные из Москвы: государственное знамя, государственный меч, скипетр, державу и бриллиантами сверкающую царскую корону. Затем шли: государь в мундире Преображенского полка; обе государыни в белых сарафанах и жемчужных кокошниках; великие князья и княгини; придворные чины; шествие замыкали фрейлины в русских костюмах и военная свита государя.
После молебствия государь один прошел к трону, «неторопливо поднялся на ступени; повернулся лицом к присутствующим и торжественно, подчеркивая медлительностью движения значение совершающегося, воссел на трон. С полминуты Он сидел неподвижно в молчании, слегка облокотившись на левую ручку кресла. Зала замерла в ожидании»…[117]
Министр двора подал государю лист бумаги. Государь, облаченный в порфиру, поднялся с трона и произнес свое приветственное слово:
«Всевышним Промыслом врученное Мне попечение о благе отечества побудило Меня призвать к содействию в законодательной работе выборных от народа.
С пламенной верой в светлое будущее России Я приветствую в лице вашем тех лучших людей, которых Я повелел возлюбленным Моим подданным выбрать от себя.
Трудная и сложная работа предстоит вам. Верю, что любовь к Родине и горячее желание послужить ей воодушевят и сплотят вас.
Я же буду охранять непоколебимыми установления, Мною дарованные, с твердой уверенностью, что вы отдадите все свои силы на самоотверженное служение отечеству для выяснения нужд столь близкого Моему сердцу крестьянства, просвещение народа и развитие его благосостояния, памятуя, что для духовного величия и благоденствия государства необходима не одна свобода – необходим порядок на основе права.
Да исполнятся горячие Мои желания видеть народ Мой счастливым и передать Сыну Моему в наследие государство крепкое, благоустроенное и просвещенное.
Господь да благословит труды, предстоящие Мне в единении с Государственным Советом и Государственной Думой, и да знаменуется день сей отныне днем обновления нравственного облика земли Русской, днем возрождения ее лучших сил.
Приступите с благоговением к работе, на которую Я вас призвал, и оправдайте достойно доверие царя и народа. Бог в помощь Мне и вам».
Слово государя произвело сильное впечатление. «Чем дольше Он читал, – пишет в своем дневнике великий князь Константин Константинович, – тем сильнее овладевало мною волнение; слезы лились из глаз. Слова речи были так хороши, так правдивы и звучали так искренне, что ничего нельзя было добавить или убавить».
«Хорошо написанная, – вспоминал потом о речи лидер кадетов Ф. И. Родичев, – она была еще лучше произнесена, с правильными ударениями, с полным пониманием каждой фразы, ясно и искренне… Речь безусловно понравилась…» («Государь – настоящий оратор», – говорил председатель Первой думы С. А. Муромцев, добавляя: «У него отлично поставлен голос…»)
Когда государь кончил, зазвучало «ура» – не только на правой, но и на левой стороне зала, хотя и менее громкое среди членов Думы. Покидая дворец, они еще находились под обаянием величия и красоты императорской России, которая многим из них предстала впервые.
Но, выйдя из дворца, члены Думы сразу же попали в другой мир, более близкий им и знакомый. Толпы интеллигенции и рабочих, покрывавшие берега Невы, кричали депутатам с мостов и с набережных: «Амнистия! Амнистия!» Когда пароход с депутатами проходил мимо большой тюрьмы Крестов на Выборгской стороне, из окон всех камер им махали платками арестанты; на пути от пристани до Таврического дворца стояли живые шпалеры толпы, приветствовавшей их теми же криками об амнистии.
На молебне в Таврическом дворце поэтому присутствовали далеко не все депутаты; многие тут же начали обсуждать, как следует выразить «требование народа». «Обычно спокойные люди бегали, размахивали руками», – отмечает член Думы М. М. Винавер.
Товарищ председателя Госсовета Э. В. Фриш взошел на трибуну и, открыв заседание, сказал краткое приветственное слово. Затем произведены были выборы председателя: почти единогласно избран был московский депутат С. А. Муромцев, профессор римского права. Заняв председательское место, он вне всякой очереди предоставил слово И. И. Петрункевичу, который произнес короткую речь об амнистии: «Долг чести, долг совести требует, чтобы первое свободное слово, сказанное с этой трибуны, было посвящено тем, кто свою жизнь и свободу пожертвовал делу завоевания русских политических свобод… Свободная Россия требует освобождения всех, кто пострадал за свободу».
Только после этого свое вступительное слово сказал и сам С. А. Муромцев, говоривший об «уважении к прерогативам конституционного монарха» и о «правах Государственной думы, вытекающих из самого существа народного представительства». На этом закончилось первое заседание Думы. Оно показало, что власть и депутаты говорят «друг мимо друга», на разных языках. Первой мыслью Думы была амнистия для тех, кто продолжал вести кровавую партизанскую войну с властью. Не этого ожидал государь от «лучших людей».
* * *
Революционные партии сразу поняли, какие выгоды можно извлечь из такого настроения депутатов, и вся левая печать стала твердить о необходимости в первую же очередь полной амнистии; о ней произносились речи на рабочих митингах и на собраниях интеллигенции. Противники Думы слева требовали, чтобы она «по крайней мере» добилась освобождения всех политических заключенных. Не думая прекращать революционной борьбы, они уже надеялись пополнить свои ряды за счет «освобожденных пленных»…
Государственная дума избрала на главные посты президиума только членов партии к.-д.[118] Но с первых же дней более левые течения стали себя проявлять. Решено было составить «ответный адрес на тронную речь» – таким конституционным термином назвали приветствие государя – и включить в этот адрес целую программу во главе с «полной политической амнистией».
Во время прений были резкие выпады против власти. «Мы знаем, – говорил Ф. И. Родичев, – сколько преступлений прикрыто священным именем Монарха, сколько крови скрыто под горностаевой мантией, покрывающей плечи Государя императора». Доказывая, что никакие кары не остановят террора, Родичев воскликнул: «Этих людей можно наказать только прощением»; крайние левые обиделись на это выражение и стали доказывать, что амнистия – «акт элементарной справедливости».
Других речей почти не было слышно. Единственным выступлением «справа» во время прений об адресе была ироническая поправка волынского священника Концевича: когда из адреса исключили выражение «русский народ» (чтобы не задеть другие национальности), Концевич предложил включить в адрес слова: «Государственная дума озаботится, чтобы Россия… потеряла свое своеобразие и даже свое имя». Государь следил за думскими прениями с возрастающим возмущением. Террор не прекращался: 1 мая был убит начальник Петербургского порта адмирал Кузьмич. Из провинции продолжали приходить вести об убийствах городовых…
В вечернем заседании 4 мая М. А. Стахович, один из немногих понимавших, как князь С. Н. Трубецкой, язык обеих сторон, сделал попытку найти примирительный исход из возникшего конфликта – придать идее амнистии приемлемую для государя форму. «Крестьяне, избравшие меня в Думу, – говорил М. А. Стахович, – наказывали мне: «не задевайте царя, помогите Ему замирить землю, поддержите Его…» Амнистия – огромный размах доверия и любви. Но почин – это еще не все. Кроме почина, существует еще ответственность за последствия, и эта вся ответственность останется на Государе… Я обращаюсь к тем, кто помнит, как десять лет назад в час помазания на царство Николая II Он в Успенском соборе при открытых царских вратах приносил Богу клятву… Он не может забыть этой торжественной клятвы «все устрояти для пользы врученных Ему людей и ко славе Божией…» Он знает, что здесь Он безответственен… но это не снимает с души Его ответа там, где не мы уже, а Он ответит Богу за всякого замученного в застенке, но и за всякого застреленного в переулке. Поэтому я понимаю, что Он задумывается и не так стремительно, как мы, принимает свои решения. Надо помочь Ему принять этот ответ. Надо сказать Ему, что прошлая борьба была ужасна таким бесправием и долгой ожесточенностью, что доводила людей до забвения закона, доводила совесть до забвения жалости. Цель амнистии – будущий мир в России. Надо непременно доказать, что в этом Государственная дума будет своему Государю порукой и опорой. С прошлым бесправием должно сгинуть преступление как средство борьбы и спора. Больше никто не смеет тягаться кровью. Пусть отныне все живут, управляют и добиваются своего не силой, а по закону. По обновленному русскому закону – в котором мы участники и ревнители, по старому закону Божию, который прогремел 4000 лет назад всем людям и навсегда, – не убий».
И М. А. Стахович предложил включить в адрес слова: «Государственная дума выражает твердую надежду, что ныне, с установлением конституционного строя, прекратятся политические убийства и другие насильственные деяния, которым Дума выражает самое решительное осуждение, считая их оскорблением нравственного чувства народа и самой идеи народного представительства».
Предлагалось осудить только будущие убийства: прошлое покрывалось полной амнистией. Ту же мысль в печати в тот же день защищал князь Е. Н. Трубецкой, а в Госдуме к ней присоединился виленский депутат епископ барон Рооп.
Но психологическая связь большинства Думы с революцией оказалась слишком глубокой. Стаховичу вышел возражать Родичев: «Это не церковная кафедра! Наше ли дело выносить нравственное осуждение поступков?.. Мы, господа, не посредники между Государем и народом… В нашем лице перед Государем сам народ стоит…» И дальше: «В России нет правосудия! В России закон обращен в насмешку! В России нет правды. Россия в этот год пережила то, чего не переживала со времен Батыя…» Еще определеннее говорил депутат Шраг: «Нет, не можем мы осуждать тех, кто жизнь свою положил за други своя!.. кто сделались народными героями, кто является во мнении народном жертвами за его свободу и великими страдальцами».
Тщетно Стахович доказывал, что если казней, как говорят, было за последние месяцы около 90, – за то же время убито 288 и ранено 338 русских граждан – представителей власти, большей частью простых городовых. («Мало!» – кричали на скамьях крайней левой.) «Русский народ, – заключил Стахович, – скажет, что это не служение ему и его благу, это душегубство, и он его не хочет». Поправка была отклонена – и только 34 депутата приложили затем к протоколу свое особое мнение.
После этого адрес был принят единогласно – несколько умеренных и правых удалилось, а небольшая группа социал-демократов заявила, что она воздерживается. Но этими прениями была по существу предрешена дальнейшая судьба Первой Государственной думы.
Revue des deux Mondes с недоумением спрашивала по поводу требования новой политической амнистии: «А преступления? а грабежи? а убийства? Думе предложили высказаться против них – она этого не сделала». Если так писал французский умеренный журнал – легко себе представить, как должен был отнестись к этим требованиям государь, для которого убиваемые, «застреленные в переулке», были его верными слугами, жертвами долга.
Адрес Государственной думы содержал и требования, противоречившие основным законам, – ответственное перед Думой министерство, упразднение Госсовета; в нем говорилось и про принудительное отчуждение земель; но решающее значение при его оценке имело это требование амнистии («безнаказанности убийц») при одновременном отказе осудить убийства даже на будущее.
* * *
Государь не замедлил выразить свое отношение. Он отказался принять президиум Думы, который должен был поднести ему адрес, и поручил И. Л. Горемыкину сообщить С. А. Муромцеву, чтобы тот препроводил адрес через министра двора.
На следующий же день, 5 мая, в «Правительственном вестнике» начали печататься телеграммы на имя государя от правых организаций с резкими выпадами против Думы.
Наконец государь поручил Совету министров выработать декларацию с ответом на думский адрес. Государь считал желательным резкий и решительный ответ; И. Л. Горемыкин, по своему обыкновению, несколько «сгладил углы». В то же время было сочтено бесполезным вносить в Думу правительственные законопроекты, кроме тех случаев, когда этого определенно требовал закон (например, бюджетные ассигнования). Этим и объясняется, что первым законопроектом, внесенным в Государственную думу, было представление Министерства народного просвещения о кредите на оранжерею и прачечную Юрьевского университета.
Дума была несколько смущена отказом в приеме президиума, хотя и признала, что «форма (передачи адреса) имеет бесконечно малое значение». На митингах социалисты отмечали со злорадством: «На пощечину кадеты отвечают молчанием».
Правительство, действовавшее во время Первой думы, было, по мысли государя, кабинетом переходного времени. И. Л. Горемыкин был умный и глубоко лояльный чиновник, точно выполняющий инструкции государя. Среди других министров имелись старые сотрудники государя (В. Н. Коковцов, А. С. Стишинский, И. Г. Щегловитов, князь А. А. Ширинский-Шихматов, занявший теперь пост обер-прокурора); было также и два «новых человека»: министр внутренних дел П. А. Столыпин и министр иностранных дел А. П. Извольский (бывший посланник в Дании). Выбор Горемыкина государь объяснял В. Н. Коковцову так: «Для меня главное то, что Горемыкин не пойдет за моей спиной ни на какие уступки во вред моей власти». Совершенно безосновательно Горемыкина (который был одних лет хотя бы с И. И. Петрункевичем) изображали дряхлым стариком; этому, может быть, способствовало то, что на заседаниях Государственной думы он едва ли не демонстративно дремал под гул речей.
Министерство выступило 13 мая с декларацией в Думе. Обещая «полное содействие при разработке всех вопросов, не выходящих за пределы прав Думы», Совет министров указал, что разрешение земельного вопроса на предположенных Думой основаниях «безусловно недопустимо». Насчет «ответственного министерства» и упразднения Госсовета указывалось, что эти вопросы не могут ставиться по почину Государственной думы; что касается амнистии, то она относится к прерогативам монарха; но «Совет министров со своей стороны считает, что благу страны не отвечало бы, в настоящее смутное время, помилование преступников, участвовавших в убийствах, грабежах и насилиях».
Дума резко реагировала на эту декларацию; В. Д. Набоков закончил свою речь словами: «Мы должны заявить, что не допустим такого правительства, которое намеревается быть не исполнителем воли народного представительства, а критиком и отрицателем этой воли. Выход может быть только один: власть исполнительная да покорится власти законодательной!»
Дума приняла «формулу недоверия» (всеми голосами против 11). Министрам с этого дня стали кричать «В отставку!» при каждом их выступлении. Министерство, оставаясь на почве основных законов, никак не реагировало на этот «жест».
Борьба между Думой и правительством сосредоточилась вокруг земельной реформы и проблемы смертной казни (ставшей на очередь, когда выяснилось, что амнистии не будет).
Дума вносила запросы по поводу всех смертных приговоров, выносившихся тем или иным судом, и требовала приостановки их исполнения. Правительство, опираясь на статьи закона, указывало, что никакого правонарушения нет, – а Дума имеет право надзора только за закономерностью действий власти. Дума внесла законопроект об отмене смертной казни; правительство воспользовалось своим правом потребовать месячный срок для определения своего отношения.
Вопрос о казнях и убийствах стал резко партийным: 14 мая в Севастополе на Соборной площади была брошена бомба, разорвавшая на куски восемь человек, в том числе двоих детей, и переранившая несколько десятков (это было неудавшееся покушение на севастопольского коменданта генерала Неплюева). В Думе об этом заговорили – только для того, чтобы заступиться за бомбистов («уже, созван военный суд… нам необходимо предотвратить пролитие крови» (!), – говорил один депутат). А левая печать спокойно заявляла: «Когда остынут первые впечатления, и сами раненые, и близкие погибших поймут, что они явились жертвой случая, что не против них был направлен удар».[119]
При таком отношении к убийствам вопрос об отмене смертной казни утрачивал принципиальный гуманитарный характер и превращался – во всяком случае, в глазах государя – в попытку избавить преступников от последствий совершенных ими преступлений.
В земельном вопросе, особо волновавшем крестьян, конституционные демократы выдвинули проект принудительного отчуждения земель, сдаваемых в аренду, а в меру земельной нужды – также и остальных частновладельческих земель, превышающих «трудовую норму». В то же время трудовики предлагали отчуждение – и притом безвозмездное – всех частновладельческих земель. От правительства с обстоятельными речами выступили 19 мая главноуправляющий земледелием А. С. Стишинский и товарищ министра внутренних дел И. В. Гурко. Речь последнего, блестящая и по форме, и по содержанию, произвела на крестьян известное впечатление: Гурко указывал, что даже при отчуждении всех помещичьих земель получилась бы незначительная прирезка (около десятины на душу), тогда как исчезли бы сторонние заработки, и критиковал думские проекты, обращая внимание на то, что земельное «поравнение» может коснуться не только помещиков, но и более зажиточных крестьян. Думский специалист по аграрному вопросу М. Я. Герценштейн мог на это только ответить ссылками на аграрные волнения («Или вам мало майской иллюминации, которая унесла в Саратовской губернии 150 усадеб?») и под конец заявил: «Народ разберет, где землею пахнет и где ее не дают». С большой и яркой речью против принудительного отчуждения и общинного владения выступил Н. Н. Львов, вышедший на этом вопросе из Конституционно-демократической партии.
* * *
Новым поводом для нападок на власть послужили события 1–2 июня в Белостоке. В этом городе, где большинство населения еврейское, с особою силой свирепствовал террор: убийств, покушений, взрывов бомб было несколько десятков за первые пять месяцев 1906 г. 1 июня было сделано несколько выстрелов в католическую процессию. Тогда начался погром еврейских домов, причем за два дня евреев было убито 75 и ранено 84, христиан – убито 7 и ранено 18. Войска, вызванные для восстановления порядка, несколько раз вступали в перестрелку с еврейской самообороной, и это навлекло на них обвинение в соучастии.
Государственная дума отправила в Белосток трех своих членов для расследования погрома на месте. Эти депутаты допрашивали почти только потерпевших евреев и вернулись с докладом, чрезвычайно односторонним и пристрастным. Они доказывали по старому трафарету, что погром был организован правительством! Во время прений по этому вопросу произошел инцидент: депутат Якубзон сказал, что солдаты боялись идти на те улицы, где стреляла еврейская самооборона, так как «русские войска научились бегать от выстрелов – русско-японская война оказала на них плохое влияние». Протесты всей правой и умеренной печати, вызов на дуэль со стороны молодого офицера (пор. Смирнского), резкая отповедь депутатов Стаховича и Способного побудили Якубзона истолковать затем свои слова по-новому: солдаты не шли – потому что не хотели стрелять в народ…
Невозбранные нападки на министров и крики «В отставку!» отражались на престиже власти. «Русский вестник» иронически писал о «кротости, непротивлении и смирении кабинета г. Горемыкина». Стали учащаться случаи волнений в войсках – даже в Красносельском лагере, в первом батальоне Преображенского полка. В деревнях возобновлялось аграрное движение. Открытый конфликт между Думой и правительством создавал опасное «шатание умов»; многие начинали сомневаться в том, где же истинная власть. Не слабел и революционный террор.[120]
Государственный совет, который должен был служить опорой власти, держал себя пассивно, выжидательно. Когда Дума, желая показать недоверие к правительству, сократила кредит на оказание помощи голодающим с 50 миллионов до 15 миллионов рублей, Госсовет, вопреки настояниям министра финансов В. Н. Коковцова, принял думскую цифру ассигнования. (Это был первый и единственный проект, прошедший при Первой думе все законодательные инстанции.)
Заседавший в конце мая дворянский съезд также избегал нападок на Думу; в нем преобладали умеренные. Он принял адрес государю с указанием на необходимость насаждения частной собственности в деревне и избрал Совет объединенного дворянства, получивший впоследствии большую известность.
Во второй половине июня возникли упорные слухи о возможности думского министерства. Государь едва ли сам когда-либо соглашался на такой шаг – его отношение к этой Думе было достаточно определенным, – но он не препятствовал близким к нему лицам, в том числе Д. Ф. Трепову, производить «глубокую разведку в неприятельском лагере».
Д. Ф. Трепов не только вел переговоры с кадетскими лидерами; он открыто высказал свое мнение в иностранной печати. 24 июня (7 июля) в английских газетах появилась беседа дворцового коменданта с корреспондентом агентства Рейтер. Д. Ф. Трепов прямо говорил, что министерство Горемыкина не справляется с положением: «Союз думского центра и трудовиков будет разорван только тогда, когда центр будет призван к власти. Поэтому я считаю весьма желательным, чтобы новое министерство было образовано из членов думского центра». – «То есть кадетов?» – спросил корреспондент. «Да, кадетов, ибо они – сильнейшая партия в Думе. Ни коалиционное министерство, ни министерство, взятое вне Думы, не дадут стране успокоения…» В Англии, как отмечало агентство СПА, эти заявления встретили всеобщее одобрение.
По-видимому, Д. Ф. Трепов считал, что следует поручить кадетам составление кабинета – со своего рода «провокационной» целью: они вынуждены были бы резко порвать с левыми и дискредитировали бы себя либо слабостью, либо репрессиями, а тогда можно было бы их легко опять устранить. Кадеты приняли эти переговоры совершенно «всерьез», и уже шли толки о составлении кабинета П. Н. Милюкова[121] или С. А. Муромцева.
На самом деле между Думой и властью назревал открытый разрыв. 19 июня произошло бурное столкновение по вопросу о смертной казни: Дума криками и шумом не дала говорить главному военному прокурору Павлову, который должен был давать объяснения по законопроекту об отмене смертной казни. Суровый человек долга, прокурор Павлов был обвинителем в целом ряде процессов о революционных убийствах: за это его в Думе называли «убийцей» и «палачом». Министр юстиции Щегловитов перед этим инцидентом напомнил с думской трибуны, что после амнистии 21 октября террористические акты только усилились: «Ежедневно на громадном пространстве России совершаются возмутительные политические посягательства, уносящие в могилу добросовестных исполнителей долга… Отмена смертной казни при таких условиях была бы равносильна отказу государства всемерно защищать своих верных слуг». Дума единогласно приняла проект об отмене смертной казни, который был передан в Госсовет.
20 июня в газетах появилось правительственное сообщение по земельному вопросу, разъяснявшее, какие меры могут быть приняты для улучшения положения крестьян, и отвергавшее принцип принудительного отчуждения. Оно было издано для прекращения толков о предстоящем отобрании помещичьих земель – толков, порожденных думскими прениями и вызвавших во многих местностях новую вспышку аграрных волнений.
Дума сочла это вызовом. «Прочитав это сообщение, я впал в состояние бешенства!» – воскликнул депутат В. Д. Кузьмин-Караваев, считавшийся умеренным. Земельной комиссии было поручено выработать ответ.
Между тем кампания против Думы усиливалась. С одной стороны, на рабочих митингах выступали большевики – тут впервые широкие круги познакомились со своеобразной фигурой Ленина, – громившие «предательство кадетов» и трусость думского большинства. В то же время в «Правительственном вестнике» продолжали печататься десятки телеграмм правых организаций, просивших государя поскорее разогнать Думу. «Главная позиция, захваченная революцией, – писал А. А. Столыпин, – это Государственная дума. С ее неприкосновенных стен, как с высокой крепости, раздаются воистину бесстыжие призывы к разгрому собственности, к разгрому государства и день ото дня наглее, день ото дня разнузданнее, чаще и чаще поднимаются голоса, угрожающие самой верховной власти…» (Новое время. 1.VII).
Такой осторожный и умеренный человек, как известный историк С. Ф. Платонов, заявлял, что нужен не разгон, а роспуск Думы на законном основании; эта мера была бы спасительной.[122] Того же мнения держалось большинство министров. Были, впрочем, и другие мнения; так, Д. Ф. Трепов считал, что Дума и партия кадетов должны бы раньше «еще больше себя дискредитировать».
* * *
Повод для роспуска дала сама Государственная дума. В заседании 4 июля она постановила обратиться к населению с «разъяснением» по аграрному вопросу, заявляя, что она «от принудительного отчуждения частновладельческих земель не отступит, отклоняя все предположения, с этим не согласованные». «Ведь и мы одни, как министры, не можем издать закона», – тщетно возражал на это князь Н. С. Болконский.
Когда о таком постановлении узнал П. Н. Милюков, он сильно встревожился, понимая, что это может стать поводом для роспуска. В заседании 6 июля кадеты уже забили отбой. И. И. Петрункевич выступил с новым проектом, только излагавшим предположения Государственной думы без каких-либо угроз. «Момент борьбы еще не наступил, – говорил он. – Когда он наступит, мы заговорим другим языком. Но посылать народ под пулеметы, когда мы пользуемся личной неприкосновенностью, – безусловно, немыслимо».
Не только трудовики и социал-демократы, но даже многие кадеты недооценили угрожавшей опасности, и смягченное обращение было принято только после долгих сумбурных прений, и всего 124 против 53 голосов, при 101 воздержавшемся.
Воскресшая во времена Думы революционная печать (хотя и менее откровенная, чем в «дни свобод») – «Эхо», «Мысль», «Волна» и т. д. – осыпала кадетов язвительными насмешками. Но и в смягченном виде думское обращение противополагало Думу, желающую «дать народу землю», правительству, которое в этом отказывает.
В долгой беседе государя с И. Л. Горемыкиным и министром внутренних дел П. А. Столыпиным роспуск Думы был окончательно решен. Петербургский градоначальник В. Ф. фон дер Лауниц заверил, что никаких серьезных волнений в столице это не вызовет.
Манифест о роспуске был подписан в воскресенье, 9 июля. Здание Думы было закрыто и оцеплено войсками, чтобы депутаты не попытались оказать сопротивление, которое могло бы вызвать беспорядки. Эта мера застигла депутатов врасплох. Узнав о роспуске, многие члены Думы выехали в Выборг, за пределы досягаемости русской полиции, чтобы там обсудить, как следует дальше действовать.
Как раз накануне роспуска Думы – 7 июля – государь утвердил новую финляндскую конституцию и новый избирательный закон, основанный на всеобщем избирательном праве и пропорциональном представительстве: в Финляндии поэтому не было никакой склонности оказывать поддержку выступлениям против правительства.
Поздно вечером 9 июля бывшие члены Думы собрались в Выборге, в гостинице «Бельведер». Приехало 178 человек. По плану П. Н. Милюкова (который в самом заседании не присутствовал) была выдвинута идея обращения к народу с призывом к пассивному сопротивлению – неплатежу налогов, отказу идти на военную службу и непризнанию займов, заключенных правительством за период конфликта.
Этот проект встретил весьма энергичные протесты. Л. И. Петражицкий указывал, что такой шаг является неконституционным. М. Л. Герценштейн говорил, что такие средства борьбы противоречат убеждениям многих и не могут поэтому быть общими для всех. Другие отмечали, что русский бюджет построен главным образом на косвенных налогах (на что профессор Гредескул серьезно возразил: «Надо указывать народу, чтобы он воздерживался от употребления казенного вина»). Польские депутаты прямо заявили: мы такого воззвания не можем подписать, так как нашего призыва бы послушались и это вызвало бы кровопролитие…
Прения еще продолжались, когда в «Бельведер» прибыл выборгский губернатор и просил сократить заседание, чтобы не ставить автономию Финляндии в неловкое положение перед русской властью. Тогда большинством голосов воззвание было одобрено, и меньшинство, из товарищеской солидарности, также подписало его. Только князь Г. Е. Львов на это не согласился. Поляки же издали свое особое воззвание; в нем говорилось, что они будут сообразоваться «с особыми условиями Царства Польского».
Возвращаясь в Петербург, бывшие члены Думы ждали ареста; но правительство решило просто их игнорировать; несколько позже участвовавшие в составлении воззвания были привлечены к суду (который состоялся почти через полтора года). Это лишило «выборжцев» – как их стали называть – возможности баллотироваться в следующие Думы. Других последствий это воззвание не имело: оно никак не отразилось на поступлении налогов, не говоря уже о рекрутском наборе.
Выборгское воззвание, вне всякого сомнения, было актом революционным – незаконным ответом на вполне закономерный акт роспуска Государственной думы. Оно показало, как мало считаются с законностью не только крайние левые партии, но и кадеты.
Крайние левые выпустили свой отдельный «манифест», подписанный фракциями трудовиков и социал-демократов Государственной думы, Крестьянским и железнодорожным союзом, партиями социал-демократов и социалистов-революционеров. «Трудовое крестьянство должно взять дело в свои руки. Ему не дали земли и воли. Оно должно само взять волю, сместив все правительственные власти. Оно должно немедленно взять всю землю».
Этот «манифест» был показательным: как последняя ставка революции выдвигалось аграрное движение. «Прежде чем поднести спичку, надо убедиться, что будет ветер», – замечало по поводу этого воззвания «Русское богатство». Манифест крайних левых произвел так же мало действия, как и выборгское воззвание.
Когда говорят, что Первая дума была неработоспособна, – это следует понимать не в том смысле, что депутаты ленились или были сугубо невежественны. Но она в целом ставила себя вне существующего строя; она считалась не с требованиями основных законов, а только со своими воззрениями на «природу народного представительства». «Она стала на почву нового права, прекрасно названного на простонародном языке – захватным правом, – писал известный историк профессор В. И. Герье. – Государю отводилось почетное положение мраморной статуи в храме, от имени которой жрецы произрекали бы народу свою волю».
Дума хотела в другой форме продолжать революцию. Государь, не желавший отменять того, что он дал, в то же время не видел никаких оснований идти на уступки этому новому натиску революционного движения.
* * *
Роспуск Думы ставил вопрос: что же дальше? Продолжать ли начатый опыт или признать его неудавшимся, как предлагали правые? Государь определенно высказался за первый путь; и в составе правительства он нашел именно того человека, который наиболее подходил для выполнения поставленной задачи, – Петра Аркадьевича Столыпина.
Эта задача была двойная: беспощадная борьба с кровавыми и насильственными проявлениями революции – и проведение реформ, признанных необходимыми; в их числе было создание таких форм народного представительства, которые, открывая обществу возможность политической деятельности, в то же время не превращались бы в орудия врагов монархической государственности.
П. А. Столыпин как нельзя более подходил именно для такой роли. Человек с большим личным мужеством, способный быстро решать и энергично действовать, выдающийся оратор, производивший впечатление даже во враждебной атмосфере Первой думы, искренне преданный государю монархист, не пытавшийся «ультимативно» навязывать ему свои взгляды, бывший саратовский губернатор был в то же время хорошо знаком и с земством, и с аграрным вопросом, и с механизмом аппарата власти.
Назначенный премьером (с сохранением поста министра внутренних дел) в день роспуска Думы, Столыпин первым же своим циркуляром (от 11 июля) обратил на себя внимание и вызвал за границей сочувственные комментарии. «Открытые беспорядки должны встречать неослабный отпор. Революционные замыслы должны пресекаться всеми законными средствами», – говорилось в нем и тут же добавлялось: «Борьба ведется не против общества, а против врагов общества. Поэтому огульные репрессии не могут быть одобрены… Намерения Государя неизменны… Старый строй получит обновление. Порядок же должен быть охранен в полной мере».
П. А. Столыпин хотел подчеркнуть направление своего кабинета, привлекши в его состав нескольких общественных деятелей: так, в министры земледелия намечался Н. Н. Львов, в министры торговли А. И. Гучков, обер-прокурором Синода предполагалось назначить Ф. Д. Самарина. Но из этих переговоров ничего не вышло. Умеренные общественные деятели ставили слишком большие требования (пять министров из «общества» и опубликование их программы от имени всего кабинета); Ф. Д. Самарин, более правый, заявил о своем несогласии с общим курсом. «Говорил с каждым по часу. Не годятся в министры сейчас. Не люди дела», – сообщил государь в записке Столыпину после бесед с Гучковым, Львовым и Самариным; своей матери он писал: «У них собственное мнение выше патриотизма, вместе с ненужной скромностью и боязнью скомпрометироваться».
Первые дни после роспуска Думы прошли спокойно, но в ночь на 17 июля вспыхнуло восстание в островной крепости Свеаборг под Гельсингфорсом: взбунтовался артиллерийский полк. Между фортами и берегом началась орудийная перестрелка. Финские революционные круги в лице «красной гвардии» попробовали оказать содействие восставшим, но встретили сопротивление со стороны тут же возникшей финской «белой гвардии». Восставшие держались три дня, но после взрыва порохового погреба, после появления флота, который начал обстреливать форты, пали духом и 20 июля сдались. Число жертв оказалось крайне незначительным.[123]
Более коротким, но и более кровавым был бунт в Кронштадте 19 июля, начавшийся со зверского убийства двух офицеров и их семей (среди убитых была 90-летняя старуха г-жа Врочинская). Восстание было подавлено в тот же день Енисейским пехотным полком. «Двинулись к арсеналу, – описывал участник восстания, – впереди енисейцы, сбоку пулеметы, с тылу тоже енисейцы… и мы бежали».
19 июля взбунтовалась также команда крейсера «Память Азова»; офицеры спаслись на берег под обстрелом; но среди восставших тут же произошел раскол, и, как на «Георгии Победоносце» в июне 1905 г., верная долгу часть команды одержала верх и привела крейсер в Ревельский порт «с повинной».
Этой короткой вспышкой закончились военные бунты; попытка всеобщей забастовки в Москве (24–28 июля) оказалась «совсем жалкой» (по признанию «Русского богатства»). Только революционная партизанская война, выражавшаяся в убийствах и «экспроприациях» (грабежах с политической целью), достигла в первый месяц после роспуска Думы своего максимального развития.
Грабежи входили также в революционный план: деньги, награбленные в кассах банков, в почтовых конторах и т. д., должны были идти на нужды революционного движения, на покупку оружия, на пропаганду, на содержание «штабов» и т. д. Такие способы пополнения кассы должны были заменить иссякавшие иностранные источники. Участием в одном из таких крупных грабежей создал себе революционное имя Джугашвили-Сталин; а при их использовании испытал крупные неприятности за границей Литвинов (Финкельштейн). Но убийства, конечно, стояли на первом плане.
Был и один случай убийства справа: 17 июля в Териоках был застрелен бывший член Думы М. Я. Герценштейн, очевидно за еврейское происхождение, так как его деятельность в Думе (если не считать неудачной фразы об «иллюминациях») не могла вызвать какой-либо вражды лично к нему. Правая печать в данном случае высказала резкое осуждение убийству, хотя и было ясно, что убийца из правой среды. «Голос правды», «Русское знамя» писали, что убийца, кто бы он ни был, заслуживает смертной казни.
Но убийство справа было редким исключением на фоне революционного террора.
День 2 августа 1906 г. прозвали в Польше «кровавым воскресеньем»: на улицах Варшавы было убито 28 полицейских и солдат, ранено 18; в Лодзи – убито 6 и ранено 18; в Плоцке – убито 5 и ранено 3 и т. д. Убийцы почти во всех случаях скрылись; в Варшаве солдаты несколько раз стреляли в толпу, с которой смешивались террористы: было убито 16, ранено 150, в том числе – всего один из заведомо стрелявших…
12 августа было совершено покушение на председателя Совета министров: на его дачу на Аптекарском острове явилось двое неизвестных в жандармской форме, бросивших бомбы огромной силы. 27 человек, находившихся в приемной, было убито на месте (в том числе и сами террористы); 32 было ранено (6 умерло от ран на следующий день). Обрушилась стена дома с балконом, на котором находилась 14-летняя дочь Столыпина и его трехлетний сын с няней; они были тяжело ранены обломками камней. Сам Столыпин остался невредим.
Это покушение неожиданно для революционеров необычайно возвысило председателя Совета министров. Волна сочувствия к его горю и невольного уважения к его мужеству охватила равнодушные до тех пор круги. «Кто не боится смерти на своем посту, – писал А. С. Суворин, – тот и убитый, в открытом ли бою или подлой изменой, оставляет после себя пример для подражания живым. Да здравствует мужественная жизнь, господа, и да посрамятся трусы!»
«Такими средствами свобода не достигается, – писали «Русские ведомости», орган московских кадетов. – Они смущают людей, поселяют в обществе настроение, которое на руку не друзьям свободы, а реакции».
13 августа революция отомстила одному из своих победителей: пятью выстрелами из револьвера на вокзале Новый Петергоф был убит генерал Г. А. Мин, который в октябре 1905 г. предотвратил кровопролитие в Петербурге, а в декабре нанес последний удар московскому восстанию. На государя эта смерть произвела очень тяжелое впечатление. Он сам приехал навестить семью покойного и на другой день присутствовал при выносе его тела.[124]
П. А. Столыпин по предложению государя переехал с семьею в Зимний дворец. Оттуда он с новой энергией принялся за проведение своей программы: революции – беспощадный отпор; стране – реформы.
* * *
25 августа в газетах появились одновременно два знаменательных документа: обширная программа намеченных правительством законодательных мер и закон о военно-полевых судах.
«Революция борется не из-за реформ, проведение которых почитает своей обязанностью и правительство, а из-за разрушения самой государственности, крушения монархии и введения социалистического строя», – говорилось в правительственном сообщении. Эти слова, бесспорно, соответствовали истине.
В перечень намеченных реформ входили: свобода вероисповеданий; неприкосновенность личности и гражданское равноправие; улучшение крестьянского землевладения; улучшение быта рабочих (государственное страхование); реформа местного самоуправления (мелкая земская единица); введение земства в Прибалтийском и в Западном краях; земское и городское самоуправление в царстве Польском; реформа местного суда; реформа средней и высшей школы; введение подоходного налога; объединение полиции и жандармерии и издание нового закона об исключительном положении. Упоминалось также об ускорении подготовки Церковного собора и о том, что будет рассмотрен вопрос, какие ограничения для евреев «как вселяющие лишь раздражение и явно отжившие» могут быть немедленно отменены. Закон о военно-полевых судах – которому предшествовал длинный перечень террористических актов последнего времени – вводил в качестве временной меры особые суды из офицеров, ведшие только дела, где преступление было очевидным. Предание суду происходило в пределах суток после акта убийства или вооруженного грабежа; разбор дела мог длиться не более двух суток; приговор приводился в исполнение в 24 часа; между преступлением и карой проходило, таким образом, не более 3–4 дней. Это была суровая мера, но едва ли по существу она может считаться более жестокой, чем западноевропейские или американские суды, где преступник ждет казни долгие месяцы, если не годы.
Слева главное внимание обратили на военно-полевые суды и не находили достаточно резких слов для их осуждения. Справа высказывали недовольство программой реформ. «Русский вестник» называл ее «Портсмутским договором», «капитуляцией перед врагом внутренним: и там, и здесь – уступка пол-Сахалина» (таковою «Р. в.» считал обещание отмены некоторых ограничений для евреев).
Иначе реагировал председатель Центрального комитета Союза 17 октября А. И. Гучков. «С особым удовольствием» отметив, что Столыпин не отказывается от своего плана реформ, Гучков заявил в печати, что закон о военно-полевых судах «является жестокой необходимостью. У нас идет междоусобная война, а законы войны всегда жестоки. Для победы над революционным движением такие меры необходимы. Может быть, в Баку резня была бы предотвращена, если бы военно-полевому суду предавали лиц, захваченных с оружием… Я глубоко верю в П. А. Столыпина».
Это заявление вызвало протесты со стороны некоторых членов Союза; Д. Н. Шипов, старый умеренный либерал славянофильского оттенка, «не выдержал» и ушел из партии. Но Центральный комитет единогласно переизбрал Гучкова своим председателем, и известный историк профессор В. И. Герье горячо приветствовал выступление А. И. Гучкова.
«Я не только считаю политику репрессий по отношению к революционному движению совместимой с вполне либеральной, даже радикальной общей политикой, – писал А. И. Гучков в открытом письме князю Е. Н. Трубецкому, – но я держусь мнения, что они тесно связаны между собой, ибо только подавление террора создает нормальные условия… Если общество отречется от союза с революцией, изолирует революцию, отнимет у нее общественные симпатии, рассеет мираж успеха – революция побеждена».
П. А. Столыпину удалось разорвать заколдованный круг. До этого времени проведение реформ неизменно сопровождалось общим ослаблением власти, а принятие суровых мер знаменовало собою отказ от преобразований. Теперь нашлось правительство, которое совмещало обе задачи власти; и нашлись широкие общественные круги, которые эту необходимость поняли. В этом была несомненная историческая заслуга А. И. Гучкова и Союза 17 октября. Те основатели Союза, которые не сумели отрешиться от старых интеллигентских предубеждений, ушли в «партию мирного обновления», которая так и осталась политическим клубом, не имевшим реального значения, тогда как октябристы стали серьезной политической силой как первая в русской жизни правительственная партия: в этом и было их значение, хотя формальной связи с властью у них не было.
Более правые партии смотрели с некоторой опаской на первые шаги П. А. Столыпина и зачастую резко их критиковали, но они не отказывались содействовать власти в борьбе с революционной смутой и не переходили в этот решающий момент на роль «оппозиции справа». В обществе обозначался определенный поворот. Он сказался прежде всего на выборах в земства: почти везде проходили октябристы и более правые, кадеты теряли один уезд за другим. Многие дворянские собрания (в первую очередь – курское и московское) исключили из своей среды подписавших выборгское воззвание. На выборах в Петербургскую городскую думу (в ноябре) победили консервативные «стародумцы». Конечно, избирательное право было очень ограниченным. Но тот же состав избирателей в 1903 г. голосовал за «обновленцев». «Нужен немалый запас знаний и веры в правоту конституционной идеи, чтобы не передаться на сторону реакции», – с грустью отмечал «Вестник Европы».[125]
Изменившееся настроение ярко проявилось на инциденте с английской делегацией. Группа членов английского парламента собиралась приехать «отдать визит» Госдуме, приславшей в июле делегатов на межпарламентскую конференцию в Лондоне. (Участие в этой делегации, между прочим, спасло Ф. И. Родичева от судьбы «выборжцев».) Так как Дума была уже распущена, приезд делегации должен был превратиться в чествование Первой думы – в чествование людей, привлеченных к суду за революционное воззвание к народу. («Как они (англичане) были бы недовольны, если бы от нас поехала депутация к ирландцам и пожелала тем успеха в борьбе», – писал государь императрице Марии Феодоровне.)
Против приезда делегации начались протесты. Московская монархическая партия выступила первой, устроив 24 сентября большое собрание, принявшее резкую резолюцию против «вмешательства в русские дела». Вслед за нею выразили протест выборные ремесленного сословия. 29 сентября в том же смысле высказалась и Московская городская дума: большинством голосов октябристов и правых была принята резолюция, признававшая приезд делегации «политической демонстрацией, оскорбительной для нашего национального чувства». Даже Петербургский совет профессоров согласился чествовать делегатов только большинством 20 против 17 голосов.
Английская печать – Times, Standard, Daily Telegraph и даже либеральная Westminster Gazette – стала называть проект поездки «прискорбной ошибкой» и «безумной затеей», а организаторов – «суетливыми ничтожествами». Один за другим делегаты стали отказываться, и поездка в конце концов была отменена.
Партия кадетов, собравшись в конце сентября на съезд в Гельсингфорсе, постановила фактически отказаться от «выборгского воззвания», не имевшего в стране ни малейшего успеха. Щадя самолюбие «выборжцев», съезд признал, что воззвание соответствовало моменту, что его «идею» следует распространять, но что в то же время съезд «не находит возможным рекомендовать немедленное, по необходимости частичное его применение». («Ящик с двойным дном, – писал об этой резолюции князь Е. Н. Трубецкой, – есть выборгское воззвание – нет выборгского воззвания…»)
Революционные партии вели теперь борьбу во все более враждебной для них атмосфере. Террористические акты умножались. За вторую половину 1906 г. погибли самарский губернатор Блок, симбирский губернатор Старынкевич, варшавский генерал-губернатор Вонлярлярский, главный военный прокурор Павлов, граф А. П. Игнатьев (которого одно время прочили в преемники графа Витте), энергичный петербургский градоначальник фон дер Лауниц. В декабре было вторичное покушение на адмирала Дубасова.[126] За год было убито 768 и ранено 820 представителей и агентов власти. Но убийства уже не устрашали; и в обществе они вызывали не сочувствие, а растущее возмущение. При этом грань между политическими и уголовными убийствами стиралась до полной неуловимости: шайки грабителей, убивая полицейских и похищая крупные суммы денег, заявляли, что все это делается «для нужд революции». Дело дошло до того, что московский комитет социал-демократов счел себя обязанным вынести резолюцию против этих «экспроприаций», а брест-литовский отдел еврейского Бунда постановил: «Такая конфискация деморализует массы, развивая в них анархические наклонности, а также индифферентизм к партии…» Грабежи оказывались слишком большим соблазном, многие «товарищи» после удачной экспроприации не сдавали денег в партийную кассу, а предпочитали скрыться с добычей. Большевики, в отличие от меньшевиков и Бунда, не стали отвергать «экспроприации»: хоть часть денег ведь все-таки попадала в партийную кассу.
Убийства также приняли совершенно анархический характер. Людей убивали «за должность»; убивали тех, до кого легче было добраться; убивали и администраторов, популярных среди населения, – а цель революции отдвигалась все дальше.
«Революционное движение породило полную разнузданность подонков общества», – признавал «Вестник Европы». Революционное движение вырождалось и разлагалось. Сомнения проникали даже на его верхи. Психологическая сторона этого явления ярко описана в известном романе «сверхтеррориста» социалиста-революционера Савинкова «Конь бледный»: его герой, однажды признавший, что можно убивать «для дела», приходит к допущению убийства «для себя» (устранения мужа любимой женщины) и в итоге кончает с собой.
В высших учебных заведениях с осени 1906 г. возобновились занятия после перерыва в полтора года. Революционные партии не могли преодолеть стихийной тяги к возобновлению нормальной жизни, сказывавшейся и в учащейся молодежи; они придумали формулу о том, что интересы революции требуют присутствия учащейся молодежи в больших городах, и под этим предлогом «разрешили» прекратить забастовку. В студенческой среде возникло разделение на партии; роль умеренных играли в университетах кадеты, ставшие на позицию поддержки профессуры и защиты мирного хода занятий. Политические собрания студентов становились понемногу реже; занятия шли, хотя и нарушались порою различными «забастовками протеста».
Государь писал своей матери (11 октября): «Слава Богу, все идет к лучшему… Сразу после бури большое море не может успокоиться». Он отмечал в своем дневнике 17 октября: «Годовщина крушения[127] и мучительных часов прошлого года! Слава Богу, что оно уже пережито!»
«Революция? нет, это уже не революция, – говорил П. А. Столыпин около того же времени корреспонденту газеты Journal. – Осенью в прошлом году можно было говорить с некоторой правдоподобностью о революции… Теперь употребление громких слов, как анархия, жакерия, революция, – мне кажется преувеличением». И премьер добавлял: «Если бы кто-нибудь сказал в 1900 г., что в 1907 г. Россия будет пользоваться нынешним политическим строем, – никто бы этому не поверил. Теперешний режим превзошел своим либерализмом самые широкие ожидания».
* * *
Правительство решило приступить к законодательной деятельности, политический конфликт не должен был долее задерживать проведение насущных реформ. В нормальное время такое законодательство по 87-й ст. основных законов, разрешающей только проведение неотложных мер в промежутки между сессиями Государственной думы, было бы спорным с правовой стороны; но в переходный период, когда законность еще не вылилась в окончательные формы, такой образ действий был наиболее правильным.
Война и революция задержали на 3–4 года проведение насущных преобразований, подготовленных работой местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности, комиссий по оскудению центра и особых совещаний под председательством С. Ю. Витте и И. Л. Горемыкина. Положение крестьянства за последние годы не улучшилось, и это создавало удобную почву для революционной пропаганды в деревне – этой «последней ставки» революции. Но проделанная за 1899–1904 гг. предварительная работа давала обширный материал для законодательной деятельности. Было выяснено, что главной причиной застоя или упадка крестьянского хозяйства было угнетение личности и отрицание собственности.
Для привлечения крестьян на сторону революции левые партии – в том числе и социал-демократы, принципиальные сторонники крупного хозяйства, – обещали крестьянам раздачу помещичьих земель и этим «купили» их поддержку на выборах. Государь не пожелал идти по пути соревнования в демагогии и приобретать поддержку крестьян такими же приемами. Он думал о пользе целого и о завтрашнем дне: в конечном счете такое увеличение крестьянского землевладения быстро привело бы к новому, на этот раз безысходному кризису. Выбор был между неуклонным обнищанием крестьянства в целом – и его дифференциацией. Сохранение имущественного равенства, сохранение власти общины над отдельным крестьянином приводило к общему упадку хозяйства. Необходимо было развязать энергию отдельных крестьянских хозяев.
Для того чтобы создать земельный фонд, были изданы: указ 12 августа о передаче Крестьянскому банку состоящих в сельскохозяйственном пользовании удельных земель (принадлежавших императорской фамилии); указ 27 августа о порядке продажи казенных земель, годных для обработки: указ 19 сентября об использовании для удовлетворения земельной нужды кабинетских земель на Алтае (состоявших в непосредственном ведении императора); первые два указа создавали земельный фонд в несколько миллионов десятин в Европейской России, третий открывал обширную площадь для переселения в Сибирь.
Указом 5 октября были отменены все сохранившиеся еще в законах правоограничения для крестьянского сословия – оно было сравнено с другими в отношении государственной и военной службы, в отношении поступления в учебные заведения. Ограничения, отмененные 5 октября, касались главным образом власти «мира», сельского схода, над отдельными крестьянами.
Указом 19 октября Крестьянскому банку было разрешено выдавать крестьянам ссуды под надельные земли; эта мера уже означала признание личной собственности крестьянина на свой участок земли.
Все это было подготовкой основной меры – указа 9 ноября 1906 г. о раскрепощении общины. Этим актом русская власть окончательно порывала с земельной политикой царствования императора Александра III, с народническими тенденциями охраны общины и становилась на путь развития и укрепления частной земельной собственности в деревне.
«Манифестом Нашим от 3 ноября 1905 г. взимание с крестьян выкупных платежей за надельные земли отменяется с 1 января 1907 г., – говорилось в этом указе. – С этого срока означенные земли освобождаются от лежавших на них в силу выкупного долга ограничений, и крестьяне приобретают право свободного выхода из общины, с укреплением в собственность отдельных домохозяев, переходящих к личному владению, участков из мирского надела».
В отмену закона 1894 г., установившего, что крестьяне и после погашения выкупных платежей могут выходить из общины только с ее согласия, указ 9 ноября предоставлял каждому отдельному крестьянину право выхода из общины в любое время. Если между общиной и желающим из нее выйти возникал спор насчет участка, решение принадлежало земскому начальнику. Крестьянин мог в любое время требовать закрепления в единоличную собственность тех участков, которыми он фактически пользовался. Но для устранения чересполосицы указ устанавливал, что каждый крестьянин при общем переделе мог требовать сведения своей земли к одному участку («отрубу»); если же за такое размежевание высказывалось две трети общины, оно могло происходить в любое время. Наконец, в пределах каждого участка указ утверждал право единоличного распоряжения домохозяина, в отличие от принципа семейной коллективной собственности.
Так, после перерыва в четыре года, проводились в жизнь пожелания большинства местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Главная заслуга в проведении этой реформы принадлежит, бесспорно, П. А. Столыпину. В разработке текста указа участвовали А. В. Кривошеин, В. И. Гурко, А. И. Лыкошин, А. А. Риттих и другие знатоки сельского хозяйства; но ответственность за решение спорного вопроса взял на себя П. А. Столыпин, встретивший в этом полную поддержку государя.
Энергичным, хозяйственным крестьянам открывались, таким образом, широкие возможности: освобожденные от выкупных платежей – единственного крупного прямого налога, – от правовых ограничений, от стеснительных пут общины, они получали возможность широкого кредита в Крестьянском банке под залог своих надельных земель и могли приобретать на льготных условиях в дополнение к своим прежним владениям новые участки из земельного фонда. Этот фонд притом состоял не только из удельных, казенных или кабинетских земель; очень многие частные владельцы, которые не могли поддерживать своего хозяйства или испугались аграрных волнений, в ускоренном порядке продавали свои имения Крестьянскому банку.
Земельная реформа, таким образом, осуществлялась – но не в виде разрушения жизнеспособной части крупного землевладения и не в виде «благотворительной» прирезки земель всем крестьянам без разбора, – а в виде поощрения хозяйственных элементов крестьянства. Интересам лучших, крепких элементов, этой опоры государственного хозяйства, отдавалось предпочтение перед уравнительными и благотворительными соображениями.
Последствия этого закона могли сказаться не сразу; он был не агитационным приемом для успеха на выборах, а крестьянской реформой, в корне изменявшей общее положение в деревне. Такой закон – как показал опыт России и многих стран – было бы нелегко провести через какой-либо парламент.
Наряду с Крестьянской реформой кабинет П. А. Столыпина провел по 87-й статье еще несколько важных мер: указ 14 октября о свободе старообрядческих общин; указ 15 ноября об ограничении рабочего дня и о воскресном отдыхе приказчиков; отмену преследований за тайное преподавание в Западном крае (то есть разрешение обучения, в частном порядке, на польском языке). Распоряжением министра народного просвещения был допущен в 1906 г. прием учащихся в высшие учебные заведения без процентной нормы. «Общий вопрос о правах евреев, – было при этом объявлено, – будет подлежать обсуждению Государственной думы, и так как это вопрос народной совести, то Государственная дума и должна высказаться, как его решить». Проект некоторого расширения прав евреев, одобренный Советом министров, вызвал резкие нападки в правой печати. Государь отказался его утвердить.
* * *
Избирательная кампания во Вторую думу началась рано, еще в конце ноября. На этот раз в ней участвовали и крайние левые. Боролось, в общем, четыре течения: правые, стоящие за возвращение к неограниченному самодержавию; октябристы, принявшие программу Столыпина; кадеты и «левый блок», объединивший социал-демократов, социалистов-революционеров и другие социалистические группы.
Устраивалось много предвыборных собраний; на них шли «диспуты» между кадетами и социалистами или между кадетами и октябристами. Правые держались в стороне, устраивая собрания только для своих.
Правительство Витте в свое время совершенно пассивно отнеслось к выборам в Первую думу; со стороны кабинета Столыпина были сделаны некоторые попытки воздействовать на выборы во Вторую. При помощи сенатских разъяснений был несколько сокращен состав избирателей в городах и на съездах землевладельцев. Партиям левее октябристов было отказано в легализации, и только легализованным партиям было разрешено раздавать печатные избирательные бюллетени. Эта мера никакого значения не получила: и у кадетов, и у левых оказалось достаточно добровольных помощников, чтобы заполнить от руки требуемое количество бюллетеней.
Но избирательная кампания носила новый характер: при выборах в Первую думу никто не защищал правительство; теперь же борьба шла внутри общества. Самый этот факт был уже существеннее, чем то, кто получит большинство на выборах. Некоторые слои населения – более состоятельные слои – почти целиком повернулись против революции.
Избрание выборщиков происходило в январе. В обеих столицах кадеты сохранили свои позиции, хотя и сильно растаявшим большинством. Они победили и в большинстве крупных городов. Только в Киеве и Кишиневе на этот раз одержали верх правые (избраны были епископ Платон и П. Крушеван), а в Казани и Самаре – октябристы.[128]
Гораздо более пестрыми были результаты по губерниям. Там сыграла свою роль аграрная демагогия, и крестьяне выбирали в Думу тех, кто более резко и решительно обещал им землю. С другой стороны, среди землевладельцев проявилось то же резкое поправение, как на земских выборах, и в Западном крае Союз русского народа имел успех среди крестьян. Поэтому одни губернии посылали в Думу социал-демократов, социалистов-революционеров и трудовиков, а другие – умеренных и правых. Бессарабская, Волынская, Тульская, Полтавская губернии дали наиболее правый результат; поволжские губернии – наиболее левый. Кадеты потеряли почти половину своих мест, а октябристы усилились очень мало. Вторая Дума была Думой крайностей; в ней громче всего звучали голоса социалистов и крайних правых.[129] Но за левыми депутатами уже не чувствовалось революционной волны: выбранные крестьянами «на всякий случай» – авось правда «исхлопочут» землю, – они не имели реальной поддержки в стране и сами удивлялись своей многочисленности: 216 социалистов на 500 человек!
Выборы во Вторую думу совпали с выборами в Германии: рейхстаг был распущен по вопросу о новых кредитах на войну в Юго-Западной Африке; на выборах (в январе 1907 г.) социал-демократы потерпели поражение (из 81 места они сохранили только 42); избирательная кампания обнаружила в германском народе растущий интерес к вопросу о колониях. Из других стран за 1906 г. и начало 1907 г. наибольшие перемены произошли в Австрии, где по инициативе правительства было введено всеобщее избирательное право. «Движение воды», вызванное этим шагом, толкнуло австрийское правительство на путь более активной внешней политики. Во Франции в 1906 г. был избран президентом радикал Фальер, и выборы в палату, давшие победу левым, привели к власти первый кабинет Клемансо. В Англии небывалый разгром консерваторов на выборах того же года открыл эру Асквита и Ллойд Джорджа, социальных реформ и борьбы с палатой лордов. Непосредственным последствием русских событий было введение конституции в Черногории.
* * *
Насколько торжественным было открытие Первой думы, настолько буднично прошло 20 февраля 1907 г. открытие Второй. Правительство заранее знало, что в случае неработоспособности этой Думы она будет распущена и избирательный закон будет на этот раз изменен. А население мало интересовалось новой Думой.
По своему личному составу Вторая дума была беднее Первой: больше полуграмотных крестьян, больше полуинтеллигенции; граф В. А. Бобринский назвал ее «Думой народного невежества». Было меньше людей с высшим образованием: они преобладали только у правых и в польском коло, которое возглавлялось лидером национал-демократов Р. Дмовским. Правые на этот раз провели в Думу нескольких энергичных ораторов (В. М. Пуришкевича, В. В. Шульгина, епископа Евлогия, графа В. А. Бобринского, П. Н. Крупенского, П. В. Новицкого и др.). Они не давали спуску левым: начинали протестовать, как только с трибуны раздавались революционные выпады, срывали ораторские эффекты возгласами с мест, шумно приветствовали представителей власти. Правые (и обычно примыкавшие к ним умеренные) составляли одну пятую Думы. Немного более одной пятой имели кадеты с примыкавшими к ним мусульманами; более двух пятых – социалисты. Роль решающего центра принадлежала не кадетам, а польскому коло; когда оно присоединяло свои голоса к социалистам, кадеты и правые оказывались в меньшинстве.
Если среди кадетов было несколько видных ораторов (Ф. И. Родичев, В. А. Маклаков, А. А. Кизеветтер), то многочисленные социалисты, кроме молодого грузинского социал-демократа И. Г. Церетели и большевика Г. А. Алексинского, не выделили ни одного хорошего оратора, а говорили они немало.
Лучшим оратором во Второй думе, по признанию и друзей и врагов, оказался председатель Совета министров П. А. Столыпин. Его выступления были наиболее яркими, запомнившимися моментами в истории Второй думы.
Когда в заседании 6 марта П. А. Столыпин выступил с декларацией и развернул обширный план реформ, сразу почувствовалась перемена против времен Первой думы: никто не кричал «В отставку!», заключительные слова премьера были покрыты аплодисментами справа, а фракции думского большинства в качестве демонстрации решили воздержаться от прений и принять простой переход к очередным делам. Но с этим не согласились социал-демократы; их ораторы начали выступать с резкими речами; справа их перебивали возгласами «Долой! Ложь! У вас руки в крови!». На каждую речь социал-демократы отвечали двумя речами. Говорило свыше двадцати ораторов. Демонстрация «презрительного молчания» совершенно не удалась.
Прения закончились кратким и энергичным выступлением Столыпина: «Правительству желательно было бы найти тот язык, который был бы одинаково нам понятен… Таким языком не может быть язык ненависти и злобы; я им пользоваться не буду». Столыпин указал, что власть «должна была или отойти и дать дорогу революции… или действовать и отстоять то, что было ей вверено… Правительство задалось одною целью – сохранить те заветы, те устои, те начала, которые были положены в основу реформ императора Николая II. Борясь исключительными средствами в исключительное время, правительство вело и привело страну во Вторую думу. Я должен заявить и желал бы, чтобы мое заявление было услышано далеко за стенами этого собрания, что тут волею Монарха нет ни судей, ни обвиняемых и что эти скамьи не скамьи подсудимых – это место правительства. (Аплодисменты.) Правительство будет приветствовать всякое открытое разоблачение какого-либо неустройства – но иначе оно должно отнестись к нападкам, ведущим к созданию настроения, в атмосфере которого должно готовиться открытое выступление. Эти нападки рассчитаны на то, чтобы вызвать у власти паралич и мысли и воли, все они сводятся к двум словам – «руки вверх». На эти два слова, господа, правительство с полным спокойствием, с сознанием своей правоты может ответить только двумя словами: «не запугаете».
Слова Столыпина были услышаны «далеко за стенами этого собрания» и произвели огромное впечатление и в России, и за границей.
Правительство не внесло в Государственную думу закона о военно-полевых судах, и действие его должно было само собою прекратиться 20 апреля.[130] Дума тем не менее подняла вопрос о его отмене. Справа тотчас же предложили вынести осуждение террору.
Столыпин во время этих прений процитировал резолюцию съезда социалистов-революционеров о терроре, высказал надежду, что Дума произнесет «слово умиротворения», и закончил словами о том, что Россия «сумеет отличить кровь, о которой здесь так много говорилось, кровь на руках палачей, от крови на руках добросовестных врачей, которые применяли, быть может, самые чрезвычайные меры, но с одним упованием, с одной надеждой – исцелить тяжелобольного!».
Много заседаний было посвящено порядку обсуждения бюджета, а также программным речам по аграрному вопросу. 10 мая П. А. Столыпин выступил с критикой внесенных проектов. «В настоящее время государство у нас хворает, – говорил он. – Самою больною, самою слабою частью, которая хиреет, которая завядает, является крестьянство. Ему надо помочь. Предлагается простой, совершенно автоматический способ: взять и разделить все 130 000 существующих в данное время поместий. Государственно ли это? Не напоминает ли это историю тришкина кафтана – обрезать полы, чтобы сшить из них рукава? Господа, нельзя укрепить больное тело, питая его вырезанными из него самого кусками мяса; надо дать толчок организму, создать прилив питательных соков к больному месту, и тогда организм осилит болезнь». (Фраза Столыпина: «130 000 поместий» – дала повод для утверждения, будто «130 000 помещиков» управляют Россией.)
Последние слова речи Столыпина получили широкую известность.
«В деле этом нужен упорный труд, нужна продолжительная, черная работа, – говорил он. – Разрешить этого вопроса нельзя, его надо разрешать! В западных государствах на это потребовались десятилетия. Мы предлагаем вам скромный, но верный путь. Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия».
Неожиданный кризис возник 16 апреля, во время прений о контингенте новобранцев на следующий год. Социалисты стояли за отклонение проекта, и один их оратор, социал-демократ Зурабов, критиковал офицеров, генералов и, наконец, оскорбительно отозвался обо всей армии. Молва изукрасила слова Зурабова, сказанные в закрытом заседании. По стенограмме (как говорят, смягченной), они гласили: «Армия будет великолепно воевать с нами, и вас, господа, разгонять, и будет всегда терпеть поражения на востоке».
В Первой думе такая же выходка депутата Якубзона не вызвала немедленного отпора; но при словах Зурабова на правых скамьях поднялась буря. Министры демонстративно покинули свои места. Председатель Думы Головин сначала пытался замять инцидент и стал делать замечания правым. Протесты усилились. «Вопрос не исчерпан! Мы уйдем! Россия оскорблена! Вон его!» – кричали справа. Пришлось объявить перерыв; во время его стали говорить, что правительство относится к происшедшему весьма серьезно и что безнаказанность оскорбления армии может привести к роспуску Думы. Кадеты и председатель Думы были готовы дать правительству полное удовлетворение, исключив Зурабова из заседания; выяснилось, однако, что не только социалисты, но и польское коло отказывается голосовать за исключение Зурабова. Тогда Ф. А. Головин по возобновлении заседания заявил, что ознакомился со стенограммой, убедился в недопустимости слов Зурабова, лишает его слова и делает ему замечание. Затем он предложил Думе одобрить действия председателя. Большинством из правых, кадетов и польского коло это предложение было принято, при бурных протестах всех левых, которые покинули зал заседаний.
Зурабовский инцидент знаменовал разрыв кадетов с социалистами. Крайние левые бурно выражали свое негодование. «Облетели цветы, догорели огни», – писало «Русское богатство» и насмешливо замечало по адресу партии кадетов: «Как бы она ни отмежевывалась от революционного пути, она целиком и рабски от него зависит… Пройдет время, завоет буря с гор… И будут люди опять «пламенно» красноречивы».
Но поворот в политике кадетов – поворот, продиктованный желанием «беречь Думу», – наступил слишком поздно; даже в невероятном случае прочного союза кадетов с правыми в Думе не могло образоваться большинство для сотрудничества с властью: для этого нужны были бы еще голоса польского коло. Контингент новобранцев и был одобрен таким большинством – от Дмовского до Пуришкевича, – но по многим ли вопросам могла составиться такая пестрая коалиция? К тому же правые не желали – и не имели основания желать – сохранения Второй думы.
Роспуск был предрешен, и с ним нельзя было долго медлить. «Революция объективно закончилась», – писал П. Б. Струве в «Русской мысли». Еще продолжались террористические акты, все менее отличаясь от простых уголовных убийств; аграрные волнения снова усилились с открытием Второй думы; но даже Ленин на конференции социал-демократов признавал, что «революционной ситуации» больше нет. Это сознавала и власть. Пора было подвести итоги переломных годов; пора было переходить к деловой повседневной государственной работе. Проведение в жизнь крестьянской реформы, переустройство армии на основании опыта японской войны – все это требовало более спокойной обстановки. Но ни со Второй думой, ни при новых выборах по прежнему закону этого замирения нельзя было достигнуть.
* * *
Вторая дума старалась не дать правительству предлога для роспуска. Когда правые внесли запрос об умысле на жизнь государя,[131] кадеты вместе с ними голосовали за резолюцию, выражающую живейшую радость по поводу того, что заговор был своевременно раскрыт. Вопрос об осуждении террора был снят с повестки; но кадеты и польское коло в резолюциях по поводу одного запроса выразили свое отрицательное отношение к политическим убийствам.
В то же время левые партии широко пользовались депутатской неприкосновенностью для своей революционной деятельности. Думская фракция социал-демократов вошла в связь с группой распропагандированных солдат различных полков, называвшей себя «военной организацией социал-демократической партии». Так как в этой группе имелись и следившие за ее развитием агенты тайной полиции, правительству тотчас стало об этом известно; 4 мая при обыске на квартире рижского депутата социал-демократа Озоля было арестовано несколько членов этой организации. Социал-демократы имели смелость внести запрос по поводу этого обыска; П. А. Столыпин (8 мая) только ответил, что расследование еще не закончено.
1 июня П. А. Столыпин явился в Государственную думу, просил устроить закрытое заседание и предъявил на нем требование о снятии депутатской неприкосновенности со всех членов думской фракции социал-демократов за устройство военного заговора. Кадеты оказались в трудном положении. Они не могли защищать военный заговор и очень хотели «сберечь» Думу. В то же время доказательства заговора, предъявленные следователем по особо важным делам, казались им спорными и во всяком случае относившимися не ко всем социал-демократам. Они передали дело в комиссию, которая работала два дня и ни до каких выводов не дошла. Правительство, считая, что с арестами дольше медлить нельзя (уже часть обвиняемых скрылась), решило начать действовать.
2 июня было последнее заседание Второй думы. Обсуждался вопрос о местном суде. Левые партии несколько раз предлагали изменить повестку, перейти к обсуждению «предстоящего государственного переворота», отвергнуть бюджет и все проекты, проведенные по 87-й статье, обратиться с воззванием к народу. Большинство каждый раз отвергало эти предложения. В конце заседания А. А. Кизеветтер от комиссии по вопросу о снятии депутатской неприкосновенности сообщил, что доклад еще не готов.
На следующий день, 3 июня, был издан манифест о роспуске Государственной думы и о введении нового избирательного закона. В то же утро были арестованы все депутаты социал-демократов, которые еще не скрылись. Население встретило роспуск Думы совершенно спокойно: не было ни демонстраций, ни попыток устроить забастовки. Народные гулянья были переполнены, и не пришлось даже усилить полицейские наряды.
Иностранное общественное мнение, отчасти подготовленное письмом профессора Ф. Ф. Мартенса в Times о необходимости изменения избирательного закона, отнеслось к происшедшему равнодушно и скорее благожелательно.
* * *
Избирательный закон 3 июня 1907 г., главную роль при выработке которого играл товарищ министра внутренних дел С. Е. Крыжановский, был основан на опыте выборов в две Думы, а также земских и городских выборов и преследовал одну цель: создать при минимальной ломке действующих законов такое народное представительство, которое бы стало добросовестно работать в рамках существующих законов. Новый закон – это было его оригинальной чертой – никого не лишал избирательного права (только в отношении Средней Азии было признано, что эта область еще «не созрела» для выборов). Но существенно менялся удельный вес отдельных групп населения. В Европейской России по старому закону крестьяне избирали 42 процента выборщиков, землевладельцы – 31 процент; горожане и рабочие – 27 процентов. По новому закону крестьяне избирали 22,5 процента, землевладельцы – 50,5 процента, горожане и рабочие – те же 27 процентов; но горожане при этом разделялись на две курии, голосовавшие отдельно, причем первая курия («цензовая») имела больше выборщиков. В общем, 65 процентов выборщиков избирались теми слоями населения, которые участвовали в земских и городских выборах и таким образом имели более долгий опыт общественной деятельности. Кроме того, было сокращено представительство окраин: Польши с 36 до 12 (и 2 депутатов от русского населения), Кавказа с 29 до 10; это было отступлением от того начала имперского равенства, которое было положено в основу прежних законов. «Государственная Дума должна быть русской и по духу, – говорилось в манифесте, – иные народности… не должны и не будут являться в числе, дающем им возможность быть вершителями вопросов чисто русских». Это было намеком на решающую роль польского коло во Второй думе.
Россия не первая проделала этот путь: в Пруссии в 1848 г. был тоже распущен первый состав парламента; его члены тоже издали воззвание к народу, призывавшее не платить налоги и не поставлять рекрутов; население тоже никак на это не отозвалось. Был собран второй состав парламента; он был тоже распущен (в мае 1849 г.), избирательный закон был изменен. Ландтаг, избиравшийся по этому закону, просуществовал затем почти семьдесят лет (до 1918 г.).
* * *
Но самый манифест 3 июня имел еще большее принципиальное значение, чем избирательный закон. Он окончательно определил новый русский государственный строй; он завершил ту перестройку, которая была начата рескриптом 18 февраля 1905 г., и создал ясность, которой так мучительно не хватало за переломные годы. Если текст манифеста был написан П. А. Столыпиным, то мысли он выражал самого государя. «Что это за новый строй? Какое-то абсолютное «беспринципие»: ни монархия, ни демократия», – сетовал в своем дневнике Л. Тихомиров, который в то же время писал открыто:[132] «Не выйдем мы из беспорядков и революций до тех пор, пока не станет всенародно ясно и практически неоспоримо – где верховная власть, где та сила, которая при разногласиях наших может сказать: «Roma locuta – causa finita» – потрудитесь все подчиниться, а если не подчинитесь – сотру с лица земли».
Манифест 3 июня отвечал на этот вопрос. После перечисления необходимых поправок к избирательному закону в нем говорилось:
«Все эти изменения в порядке выборов не могут быть проведены обычным законодательным путем через ту Государственную Думу, состав коей признан Нами неудовлетворительным вследствие несовершенства способа избрания ее членов. Только Власти, даровавшей первый избирательный закон, исторической Власти Русского царя, довлеет право отменить оный и заменить его новым.
От Господа Бога вручена Нам Власть Царская над народом Нашим, перед Престолом Его Мы дадим ответ за судьбы Державы Российской.
В сознании этого черпаем Мы твердую решимость довести до конца начатое Нами великое дело преобразования России и даруем ей новый избирательный закон».
Манифест провозглашал, что историческая власть русского царя остается основой государства. Все законы исходят от нее. Манифестом 17 октября и основными законами 23 апреля установлен новый обычный законодательный путь, ограничивающий царскую власть в области издания новых законов. Но в случае, если спасение государства не может быть достигнуто на обычном законодательном пути, – за царской властью остаются обязанность и право изыскать иной путь. Эту верховную суверенность государь и подразумевал под словами «самодержавие, такое, как и встарь».
Отступление от обычного пути, закрепленного в основных законах, было допустимо, конечно, только в случаях крайней необходимости; оно всегда колеблет правосознание и порождает смуту в умах; но отрицать возможность таких случаев значило бы закрывать глаза на действительность.
Никакое государство не может идти на гибель ради соблюдения буквы закона, и это менее всего могут отрицать те, кто признает, в том же случае крайней необходимости, право на законное действие за таким обманчивым и расплывчатым понятием, как «народ».
Государь как был, так и остался верховным вождем страны. Он вывел ее из войны и смуты, и манифестом 3 июня он довел до конца «великое дело преобразования»: в России утвердился новый строй – думская монархия.
Книга третья Думская монархия 1907–1914
Николай II. 1913 г.
Глава 1
«Успокоение после реформ». – Новый государственный строй. – Права законодательных учреждений. – Система выборов. – Гражданские свободы. Конец революции. – Поправение земств и городов. – Выборы в Третью думу. – Заседание 13 ноября (спор о самодержавии). – Столыпин об историческом праве царской власти. – Партии и группировки в Думе. – Сотрудничество с правительством. – Амурская железная дорога. – Студенческая забастовка 1908 г. – «Переоценка ценностей». – А. П. Извольский и сближение с Англией. – Свидание в Свинемюнде. – Англо-русское соглашение 18 (31) августа 1907 г. – Возникновение Антанты
До 1905 г. в русском обществе, притязая на остроумие, часто говорили, будто государь «готов дать конституцию, только бы при этом сохранилось самодержавие». Это считали абсурдом. Но жизнь оказалась сложнее готовых формул. После реформ 1905–1907 гг. английский справочник так определял русский государственный строй: «С 1905 г. Россия стала конституционной наследственной монархией, но фактически законодательная, исполнительная и судебная власти продолжают в значительной степени соединяться в лице императора, который продолжает носить титул Самодержца». То, что казалось в теории несовместимым, было соединено на практике.
Преемственная связь учреждений нарушена не была; представительный строй, введенный волею монарха, был только новою страницей той же книги – Российской империи. В то же время перемена, произошедшая за эти переломные годы, глубже видоизменила русскую жизнь, чем эпоха Великих реформ императора Александра II, – и при этом за более короткий срок. Не формула «успокоение, а потом реформы» определяет последующие годы, а – «успокоение после реформ»; это был необходимый период претворения в жизнь, переработки тех преобразований, которые отчасти в качестве сознательно проводимого усовершенствования, отчасти – как «меньшее зло» для устранения источников недовольства, были введены императором Николаем II.
Перемены были огромны. Левая часть русского общества в пылу борьбы не хотела этого признавать, сравнивая новый строй со своими притязаниями, выдвинутыми в момент подъема революционной волны. Но теперь никто не станет отрицать при сравнении с тем, что было до 1905 г., что в России установился новый порядок вещей.
Этот строй просуществовал около десяти лет; его изучали и знают меньше, чем предшествующий период; можно сказать – он отошел в историю раньше, чем в нее вошел. Почти нет обстоятельных иностранных исследований, посвященных этому строю – по крайней мере, в его целом. До сих пор иностранцы, говоря о царской России, нередко смешивают дореформенные порядки со временами думской монархии и удивляются, когда узнают, в какой широкой мере были в России осуществлены гражданские свободы.
Когда стремительное движение остановилось, общество ощутило остановку – и не сразу оценило перемену. «Великий сдвиг 1905 г. имел одним из своих последствий общее изменение условий настолько быстрое, что наше мышление отстает от него», – писал в «Русской мысли»[133] видный деятель Конституционно-демократической партии Д. Д. Протопопов. И, перечисляя перемены в обществе – отход зажиточных слоев от радикальных течений, расслоение и раздоры в деревне, – он заключает: «В этих наружно безобразных и отталкивающих формах зарождается, бесспорно, новый мир. Происходит великое превращение – превращение общинного муравья в свободную личность… Среди городских рабочих развиваются профессиональные организации и замечается сильное стремление к просвещению… Газету читают на улице сторожа, извозчики, рабочие… В стране наблюдается пробуждение истинного патриотического чувства». Д. Протопопов называл происходящее европеизацией, и в этом определении было немало верного: Россия во времена думской монархии стала во многом гораздо более сходной с государствами Западной Европы.
Государь по-прежнему сохранял полноту исполнительной власти; но в области законодательной, в области финансовой народное представительство имело весьма ощутительное влияние. Для проведения в жизнь всякого нового закона, для отмены старого требовалось согласие обеих законодательных палат и утверждение государя. Понятие закона при этом толковалось широко, и многие меры, принимаемые на Западе путем декретов, проводились через Думу и Государственный совет.[134] В бюджетных вопросах был применен тот же принцип: ассигнования, производимые на основании определенного закона (платежи по займам, основные штаты некоторых ведомств), могли быть исключены из бюджета только с согласия государя и обеих палат. Всякое новое ассигнование, всякий новый налог, всякий государственный или гарантированный государством заем могли получить осуществление только с одобрения законодательных учреждений.
В случае неутверждения нового бюджета оставались в силе доходные и расходные статьи старого. Так же было и в отношении ежегодного контингента новобранцев: для увеличения числа призывных было обязательно согласие палат; если соответственный законопроект не утверждался – в силе оставалась прошлогодняя цифра.
Законодательные учреждения состояли из Государственной думы и Государственного совета. Обе палаты пользовались одинаковыми правами.
Государственная дума избиралась на пятилетний срок на основании сложной системы выборов. Избирательное право было близким ко всеобщему, особенно в деревне, и голосование было тайным; оно было прямым в обеих столицах и пяти больших городах; двух– и трехстепенным в губерниях.
В губернских избирательных собраниях наибольшее число выборщиков предоставлялось разряду (курии) землевладельцев, причем крупные владельцы участвовали в выборах непосредственно, а мелкие собирались на особые съезды и выбирали уполномоченных в зависимости от числа десятин, которыми они владели.[135] Выборщики избирались также от крестьянских обществ (уполномоченных выбирали волостные сходы, в свою очередь избиравшиеся всеми крестьянами); от рабочих и от городского населения – по двум куриям: в первой участвовали домовладельцы и наиболее крупные плательщики квартирного или промыслового налога; во второй – остальные квартиронаниматели и служащие. Были также выборщики от казаков и от кочевых инородцев.
Выборщики от всех курий съезжались в губернский город и там избирали из своей среды членов Государственной думы. Часть депутатов обязательно избиралась из выборщиков от определенных курий (от крестьян, от землевладельцев и – по шести губерниям – от рабочих).
Государственная дума избирала свой президиум и сама вырабатывала свой наказ относительно внутреннего распорядка своих работ. Наказ не нуждался в утверждении других инстанций и распубликовывался Сенатом.
Государственный совет состоял наполовину из лиц по назначению от государя, наполовину из выборных: от духовенства (6), от земских собраний (34), от дворянских обществ (18), от Академии и университетов (6), от торговли и промышленности (12) и от съездов землевладельцев царства Польского (6) и неземских губерний (16) – выборных членов было всего 98.
В принципе, назначенные члены Госсовета были несменяемы; но так как их число значительно превышало 98, то ежегодно 1 января опубликовывался список тех членов Госсовета, которые на данный год назначались государем «к присутствию» на заседаниях верхней палаты.
Как Государственная дума, так и Государственный совет имели право вносить запросы министрам о тех или иных незаконных деяниях; этим правом все Государственные думы широко пользовались. Если палата не удовлетворялась объяснениями министра, она могла, большинством двух третей голосов, постановить довести об этом до сведения государя через своего председателя.
Заседания палат (за редкими исключениями, главным образом при обсуждении военных проектов) были публичными, и отчеты о них свободно печатались во всех газетах.
Возвещенные манифестом 17 октября гражданские свободы были закреплены в законах с теми ограничениями, необходимость которых выяснилась в первые же месяцы после манифеста.
Положение печати резко изменилось. Была – сразу же после 17 октября – отменена предварительная цензура. Исчезли запреты обсуждать ту или иную тему. Арест отдельных номеров периодических изданий производился по решению присутствий по делам печати; окончательное закрытие органов печати и конфискация изданий – только на основании судебных решений. Кары за преступления по делам печати в самых серьезных случаях не превышали 1 года и 4 месяцев заключения. После роспуска Второй думы к этому, однако, прибавилось (для местностей, находившихся на чрезвычайном положении) право губернаторов налагать на газеты штрафы (до 3000 р.) и аресты (до 3 месяцев) на ответственных редакторов. Штрафы были весьма ощутительной мерой воздействия, особенно для провинциальных газет; аресты, наоборот, особого значения не имели – должности «ответственных редакторов» обычно поручались не фактическим руководителям газет, а подставным лицам.
На основании этих законов в России получили возможность выходить ежедневные газеты резко оппозиционного направления, как, например, кадетская «Речь» и более левые – «Наша жизнь», «Товарищ», позже «День», «Правда» и т. д., и журналы всех толков, начиная с социал-демократов и большевиков. Большинство книг, считавшихся нелегальными до 1905 г. (например, Герцен, церковные писания Толстого, произведения иностранных социалистов и анархистов и т. д.), отныне свободно выпускались в свет. Преследовались, конечно, чисто агитационные революционные издания, не допускались призывы к бунту в войсках, богохульства или оскорбление величества. Но видные деятели революции 1905 г., вроде Ленина или Троцкого, – даже те, которые бежали за границу, – продолжали печатать свои статьи в легально издававшихся журналах.
Свобода собраний и союзов определялась «временными правилами» 4 марта 1906 г. Общества могли образовываться свободно, без предварительного разрешения, но должны были зарегистрировать свой устав. Если в двухнедельный срок по представлении устава не было получено отказа – общество приобретало законное право существования. В таком случае для заседаний общества, хотя бы и многолюдных, уже более не требовалось никаких особых разрешений. О публичных собраниях надо было заявлять властям за три дня; и если за сутки до назначенного срока оно не было запрещено – собрание могло состояться.
Регистрацией обществ и союзов ведали особые присутствия, состоявшие как из чиновников, так и из выборных лиц.[136] То же присутствие могло закрыть общество, если оно уклонялось от целей, указанных в уставе.
На этих основаниях в России возникло огромное количество всевозможных обществ и союзов, в особенности профессиональных. Отказы в регистрации устава касались главным образом политических партий. Конечно, ни социал-демократы, ни социалисты-революционеры и не пытались зарегистрировать свой устав, в котором говорилось о вооруженном восстании и демократической республике. Что касается партии кадетов, то устав ее не был утвержден ввиду известных о ней фактов – в частности, выборгского восстания, – и она так и оставалась на полулегальном положении. Она имела свой журнал («Вестник партии «Народной свободы»), свои издательства, свои местные комитеты, открыто собиравшиеся; но в то же время «официально» она не признавалась; чиновникам не разрешалось в нее вступать. Тем не менее профессора, хотя они и состояли на государственной службе, всегда занимали в партии кадетов видное положение.
В Государственной думе открыто существовали фракции социалистических партий – социал-демократов и трудовиков; если не было социал-революционеров, то лишь потому, что они сами после 3 июня бойкотировали Госдуму.
В этих новых условиях политической жизни государь принимал гораздо менее непосредственное участие в делах, нежели раньше. Он уже более не был «своим собственным премьером»; существовал Совет министров, коллективно обсуждавший вопросы и принимавший решения. Государь зорко следил за тем, чтобы его права – которые для него были неотделимы от долга царского служения – не подвергались умалению в «захватном порядке» путем создания прецедентов; но в то же время он соблюдал установленный им обычный порядок законодательства и управления. Он не любил иностранных терминов «конституция» и «парламент», предпочитал выражения «обновленный, преобразованный строй», но он живо ощущал произошедшие перемены. Новый порядок вещей во многом не соответствовал его идеалам, но государь сознательно остановился на нем в долгом и мучительном искании выхода из трагических противоречий русской жизни.
Строй думской монархии, со всеми его теоретическими и практическими недостатками, был для России XX в. тою мерою свободы, которая – по выражению Бисмарка – существует для всякого государства и превышение которой быстро приводит через анархию к утрате всякой свободы.
В одном только отношении новый строй был более суровым, чем старый: смертная казнь, явившаяся ответом на массовый террор, – как ни возмущались этим старые писатели граф Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, – стала в России таким же «бытовым явлением», как во Франции, Англии, Германии. П. А. Столыпин считал, что нет иного способа пресечь то кровавое хулиганство, в которое выродились остатки революционного террора.[137]
* * *
3 июня было концом революции. Это вдруг почувствовали все, даже самые ярые ее сторонники. Этот закон, практически разрешавший конфликт между властью и народным представительством, не вызывал никаких протестов в народных массах.
Справа его открыто приветствовали. Союз русского народа прислал государю телеграмму, начинавшуюся словами: «Слезы умиления и радости мешают нам выразить в полной мере чувства, охватившие нас при чтении Твоего, государь, манифеста, Державным словом положившего конец существованию преступной государственной Думы…» Клуб умеренных и правых отправил государю верноподданническое приветствие.
Центральный комитет Союза 17 октября в своей резолюции заявлял: «Мы с грустью должны признать, что возвещенное манифестом 3 июня изменение избирательного закона осуществлено не тем путем, который предусмотрен основными законами, но оценку этого факта мы считаем преждевременной, а его необходимость – прискорбной». Вину за произошедшее октябристы возлагали на левые партии, мешавшие созданию нормальных условий жизни в стране.
Бывший член Второй думы П. Б. Струве заявил в «Биржевых ведомостях»: «Основная ошибка была в том, что кадеты не сумели отмежеваться от левых». Либеральный «Вестник Европы», не отрицая за государством права отступать от норм закона в случае крайней необходимости, писал, что героический метод лечения приобретает raison d’etre только тогда, когда безуспешно испробованы все остальные.
Партия кадетов, собравшись в Финляндии на экстренный съезд, вынесла резолюцию протеста против акта 3 июня, но огромным большинством отвергла предложение о бойкоте выборов по новому закону.
Оппозиционная печать – соблюдая известную сдержанность в выражениях ввиду новых правил о наложении штрафов в административном порядке – подчеркивала расхождение манифеста 3 июня с основными законами, о чем говорилось и в самом манифесте. Оппозиция выражала возмущение по поводу «нарушения законности». Но протесты со стороны тех, кто на роспуск Первой думы – произведенный на строгом основании закона – поспешили ответить призывом не платить налогов и не поставлять рекрутов, не могли звучать особенно убедительно.
Революция была побеждена – не только в материальном, внешнем смысле. Былая коалиция оппозиционных сил, объединившая земства, города, интеллигенцию и торгово-промышленную среду с революционными партиями, распалась, и даже интеллигенция – впервые после долгих десятилетий – усомнилась в своих традиционных верованиях.
* * *
Поправение в органах земского и городского самоуправления обозначилось уже с начала 1906 г.; каждые новые выборы давали все более правые результаты. «Третий элемент» негодовал, газеты писали о «реакции», о пробудившихся «классовых» чувствах землевладельцев и домовладельцев, – но факт был налицо: те самые круги, которые недавно считались главной опорой «освободительного движения», теперь заявляли себя сторонниками власти и даже порою оказывались правее ее. То же наблюдалось и в торгово-промышленном мире – как среди русских предпринимателей, так и среди иностранцев. «Зажиточные классы… конечно, предпочитают Дурново или Столыпина Хрусталеву», – писала «Русская мысль». «Два года смуты отрезвили до неузнаваемости большинство капиталистов», – отмечал в конце июня 1907 г. екатеринославский губернатор А. М. Клингенберг в своей записке о роли иностранных капиталистов в революционных организациях.[138]
Через неделю после роспуска Второй думы, 11 июня, в Москве открылся съезд земских деятелей – первый после ноября 1905 г. 32 губернских земства (из 34) избрали делегатов для участия в нем. Съезд, таким образом, более точно отражал мнение земств, нежели прежние съезды, где многие губернии были представлены лицами, не имевшими правильных полномочий. Перемена оказалась очень резкой.[139] Съезд начал свои работы с верноподданнической телеграммы государю, обещая «приложить все силы, чтобы помочь Вашему Величеству водворить правду, мир и благоденствие в отчизне нашей, измученной от смуты, разбоев и разорения». Съезд приветствовал также П. А. Столыпина и, в лице военного министра, «твердый оплот отечества и порядка – верную царю доблестную армию».
«В темное время, когда многих охватило уныние, – говорил на банкете участников съезда А. И. Гучков, – появился человек, который, несмотря на все трудности, на гибель семьи, на все клеветы, понял положение и взял правильный путь. Если мы присутствуем при последних судорогах революции – а она несомненно приходит к концу, – этим обязаны мы этому человеку». Другой делегат провозгласил тост за адмирала Дубасова и Семеновский полк, «благодаря которым мы имеем теперь возможность собраться здесь в Москве».
На Земском съезде правительственный проект земской реформы (предназначавшийся для Второй думы) подвергся резкой критике справа. Съезд высказался против намеченного расширения избирательного права и только с большими оговорками одобрил предположение о мелкой земской единице. Была внесена резолюция об осуждении террора; левая часть съезда возражала, что данное собрание не уполномочено обсуждать этот вопрос (среди возражавших оказался и М. А. Стахович), но огромным большинством резолюция против террора была принята.
Земский съезд показал разительную перемену настроений в земской среде. Левая печать приписывала эту перемену «классовому страху» перед аграрными волнениями; но перемена в такой же степени объяснялась удовлетворением проведенными реформами.
* * *
Земский съезд 1907 г. рассматривался как «преддумье». Он отразил воззрения именно той среды, которая по новому избирательному закону приобретала решающее значение. Для выборов в Третью думу стали слагаться новые группировки. Октябристам выпадала роль центра, и слева начали раздаваться голоса о желательности блока октябристов и кадетов для защиты конституционных начал. Князь Е. Н. Трубецкой, газета «Слово», партия мирного обновления призывали «своих соседей слева и справа» к деловому предвыборному сговору.
Но, несмотря на значительное сходство программ, такое соглашение было невозможно: именно между кадетами и октябристами еще с осени 1905 г. происходила линия политического водораздела. Октябристы стояли за поддержку правительства в борьбе с революцией и затем признали акт 3 июня необходимостью, хотя и «прискорбной»; кадеты оставались резко враждебными к власти и еще во Второй думе чаще голосовали вместе с революционными партиями, нежели с правыми.
Между октябристами и правыми организациями (Союзом русского народа и др.), принципиально стоявшими на точке зрения неограниченной царской власти, находились слабо организованные группы умеренных и правых, признававших новый строй, но не склонных его отстаивать против власти, а тем паче углублять его.
Выборы в Третью думу происходили в сентябре и октябре. В больших городах (во второй курии) боролись кадеты и левые. П. Н. Милюков, примерно с этого времени занявший пост бесспорного лидера партии, выступил в «Речи» с резкой статьей по адресу крайних левых. Напомнив о прежнем сотрудничестве с ними, П. Н. Милюков писал: «Всей этой нашей деятельностью мы приобрели право сказать теперь, что, к великому сожалению, у нас и у всей России есть враги слева… Те люди, которые разнуздали низкие инстинкты человеческой природы и дело политической борьбы превратили в дело общего разрушения, суть наши враги… И мы сами себе враги, если по каким бы то ни было соображениям захотим непременно, по выражению известной немецкой сказки, тащить осла на собственной спине». Левые не оставались в долгу и укоряли кадетов в том, что они заговорили таким языком только после поражения революции…
И в Петербурге, и в Москве по первой курии прошли октябристы, по второй – кадеты.[140] Соотношение голосов в больших городах мало переменилось. Зато губернские избирательные собрания дали ожидаемый результат: свыше двух третей мест получили октябристы и правые, имевшие во Второй думе всего около одной пятой. Новое народное представительство состояло в огромном большинстве из людей, избранных под флагом сотрудничества с властью, а не борьбы с нею.[141]
Из 442 членов Думы было около 300 октябристов и более правых (тех и других примерно поровну). Оппозиционные партии одержали верх только в Сибири, на Кавказе, в польских и литовских губерниях, а также в районе Урала (Пермская, Вятская, Уфимская, Оренбургская губ.); к этому присоединилось 9 депутатов от больших городов и 6 от рабочей курии.[142]
* * *
Сессия Третьей думы открылась 1 ноября, без особой торжественности. Предварительные совещания показали, что в Думе нет единого большинства, имеющего общую программу. Октябристы и правые с трудом договорились насчет выборов президиума; с левыми были весьма натянутые отношения. Все же октябрист Н. А. Хомяков – сын известного славянофила и крестник Гоголя – был избран председателем Думы почти единогласно. По соглашению с правыми октябристы получили еще пост второго товарища председателя, правые – посты старшего товарища председателя, секретаря и его старшего помощника. Левым достались места только младших помощников секретаря; кадеты ввиду этого отказались участвовать в президиуме.[143]
П. А. Столыпин просил государя принять членов новой Государственной думы; но государь ответил: «Теперь принимать ее рано, она себя еще недостаточно проявила – проявила в смысле возлагаемых Мною на нее надежд для совместной работы с правительством. Следует избегать преждевременных выступлений с Моей стороны и прецедентов».
Ближайшие же дни показали, что представители центра Государственной думы действительно были настроены не совсем так, как того желал государь.
Во время своих избирательных кампаний октябристы не раз ставили в укор двум первым Думам, что они даже не сказали царю спасибо за введение народного представительства. В первые же дни сессии октябристы вместе с частью правых внесли предложение о составлении приветственного адреса государю от имени Государственной думы. Это предложение, возникшее из самых лояльных побуждений, неожиданно стало поводом для серьезного политического конфликта. В комиссии по составлению адреса правые настаивали на том, чтобы в его текст было включено слово «самодержавие», кадеты требовали упоминания слова «конституция». Соглашение в комиссии достигнуто не было; и 13 ноября в общем собрании Думы начались прения, принявшие вскоре бурный характер. Вышло так, что Дума, по существу, обсуждала вопрос – самодержавный или конституционный строй в России.
А. И. Гучков произнес речь, в которой определенно стал на конституционную точку зрения, хотя и возражал против включения этого термина в адрес. Правые ораторы, со своей стороны, придали огромное принципиальное значение слову «самодержавный». «Титул самодержца есть, и вы, отвергая его, будете сами нарушителями Основных Законов, – заявил Н. Е. Марков. – Если слово самодержец будет отвергнуто, мы не примем вашего адреса».
Заседание затянулось до глубокой ночи. Горячую речь произнес знаменитый адвокат Ф. Н. Плевако. Обращаясь к правым, он напомнил, что сам государь дал Думе законодательные права: «Он скажет вам – вы дети. Я дал вам тогу мужа, а вы снова просите детскую рубашку!» Расхождения между правыми и центром проявлялись все резче. Тогда кадеты и прогрессисты обещали октябристам голосовать за адрес, если слово «самодержавие» не будет в него включено. И предложение правых поставить в заголовке адреса «Его Величеству государю императору, Самодержцу Всероссийскому» было отвергнуто большинством 212 против 146 голосов. После этого правые отказались участвовать в принятии адреса и отправили государю (за 114 подписями) отдельное обращение. Благодарственный адрес был принят совершенно неожиданным большинством из центра и левых.
Это голосование произвело огромное впечатление. Левая печать ликовала. Кадетская «Речь» писала, что Дума «в ночь с 13 на 14 ноября положила грань межеумочному состоянию великой страны и на 25-м месяце Российской конституции объявила, что конституция на Руси действительно существует». «Самодержавие погибло на Руси бесповоротно», – восклицал «Товарищ». «Русь» писала о «сошествии на октябристов духа народного»; в «Московском еженедельнике» князь Г. Н. Трубецкой отмечал: «Манифест 17 октября окончательно зарегистрирован в России в памятный день 13 ноября».
«Первая победа левых – неожиданная и громовая, – писал в «Новом времени» М. Меньшиков. – Взамен неудачной осады власти начнут японский обход ее, – обход как будто совершенно мирный, лояльный, преданный – только позвольте связать вас по рукам и ногам!..»
Государь был сильно возмущен тем, что Дума, за лояльность которой так недавно ручался ему Столыпин, могла ставить на голосование – и отвергать! – его титул, закрепленный в основных законах. На всем отношении государя к новой Думе, и к партии октябристов в частности, этот инцидент оставил глубокий след.
Но это большинство, которое сложилось 13 ноября, совершенно не соответствовало общей политической обстановке. В пылу борьбы октябристы проголосовали вместе с кадетами; по существу они оставались их противниками. Они хотели сотрудничать с властью и бороться с революцией. Под этим флагом они и победили на выборах. Им было по пути не с левыми, а с правыми. Голосование 13 ноября имело принципиальный, декларативный характер – но оно не могло переменить партийные взаимоотношения.
При ином премьере новая Дума все же легко могла бы соскользнуть на оппозиционные рельсы и зайти в тупик; но П. А. Столыпин сумел восстановить положение. Он искренне верил в необходимость представительного строя; он считал, что в Думе есть большинство, желающее сотрудничать с властью, что лучшей Думы без опасных потрясений все равно сейчас не добиться. Октябристам П. А. Столыпин дал понять, что дальше известной черты он не может пойти им навстречу: если они не хотят разрыва с властью, они должны прежде всего избегать союза с ее открытыми противниками – того союза, который неожиданно возник в заседании 13 ноября.
16 ноября, всего через три дня после памятного голосования об адресе, П. А. Столыпин выступил в Думе с министерской декларацией; центр и правые встретили и проводили его шумной овацией и несколько раз прерывали его аплодисментами.
«Историческая самодержавная власть и свободная воля Монарха, – говорил премьер, – являются драгоценнейшим достоянием русской государственности, так как единственно эта воля, создав существующие установления и охраняя их, призвана в минуты потрясений и опасности для государства к спасению России и обращению ее на путь порядка и исторической правды». «Самодержавие московских царей, – говорил далее П. А. Столыпин, – не походит на самодержавие Петра, точно так же, как и самодержавие Петра не походит на самодержавие Екатерины II и царя-Освободителя. Русское государство росло и развивалось из своих собственных русских корней, и вместе с ними, конечно, видоизменялась и развивалась и верховная царская власть. Нельзя к нашим русским корням, к нашему русскому стволу прикреплять какой-то чужестранный цветок. Пусть расцветет наш родной русский цвет, пусть он расцветет и развернется под влиянием взаимодействия верховной власти и дарованного ею нового представительного строя».
И думское большинство – из центра и правых – шумно приветствовало все эти слова председателя Совета министров; свое отношение к его личности оно проявило еще более ярко на следующий день, когда кадетский оратор Родичев, отвечая премьеру, сделал личный выпад против него. Депутаты повскакали с мест; раздались крики: «Вон! Долой!», и, хотя Родичев принес Столыпину извинения, его все же исключили на 15 заседаний.
Только после этих заседаний (16 и 17 ноября), показавших, что думское большинство объединяется вокруг П. А. Столыпина, смягчил понемногу свое отрицательное отношение к Думе и сам государь. Он поставил на думском адресе сухую пометку: «Готов верить выраженным чувствам. Ожидаю плодотворной работы». На телеграмму правых депутатов он ответил благодарностью. «Верю, – писал он, – что созданная Мною Дума обратится на путь труда и в строгом подчинении установленным Мною Основным Законам оправдает Мои надежды». 19 ноября государь впервые принял председателя Н. А. Хомякова, и прием, как отмечали газеты, был высокомилостивым.
После этого Дума закончила прения по министерской декларации, причем все предложенные формулы перехода оказались отвергнутыми – даже формула октябристов (большинством 182 левых и правых против 179 голосов центра).
* * *
После прений об адресе жизнь Третьей думы вошла в колею. Определилось, что думское большинство состоит из октябристов и правых.
Октябристы были самой многочисленной фракцией и занимали положение руководящего центра. В их среде были и более левые, близкие к мирнообновленцам, и более правые, часть которых голосовала 13 ноября против своих лидеров. Но признанным вождем партии и вообще наиболее крупным деятелем всей Третьей думы был, несомненно, А. И. Гучков. Он больше говорил на фракционных заседаниях, чем в общих собраниях Думы. «Руководитель Третьей Думы скуп на выступления, – отмечала А. В. Тыркова в «Русской мысли». – Нет сомнения, что его рука направляет курс тяжелого, окруженного рифами корабля. Но сам он только изредка показывается на капитанском мостике». А. И. Гучков был определенным сторонником конституционного строя и расширения прав Государственной думы. Но добиваться этой цели он хотел постепенно, без революционных потрясений. Дума, по его мысли, должна была «врасти» в государственный строй. Для этого было необходимо сотрудничать с властью, заниматься деловой повседневной работой и избегать тона предвзятой и однообразной критики, которая как бы составляла обязанность оппозиционных партий.
Фракция октябристов насчитывала в своих рядах немало видных ораторов и еще больше деловых работников, приобретших долгий опыт в земской и городской деятельности: Н. В. Савич, профессор М. М. Алексеенко, Е. П. Ковалевский, барон А. Ф. Мейендорф, граф А. А. Уваров, великий князь фон Анреп и др.
Правое крыло палаты было «демократичнее» по своему составу: в нем было много крестьян и священников. Только человек пятьдесят составили фракцию правых, стоявшую на позиции Союза русского народа, критически относившуюся к министерству Столыпина и готовую сыграть роль «оппозиции справа». Правые не имели признанного единого лидера, их руководители часто враждовали между собою; главными их ораторами были Г. Г. Замысловский, Н. Е. Марков, В. М. Пуришкевич, В. В. Шульгин.
Умеренно правые – и примыкающая к ним справа небольшая группа националистов – насчитывали до ста депутатов; их лидером – выступавшим еще реже, нежели А. И. Гучков, – был П. Н. Балашов, главными ораторами – граф В. А. Бобринский, епископ Евлогий, П. Н. Крупенский. Умеренно правые вместе с октябристами составляли основное «столыпинское» большинство Третьей думы. Но в тех случаях, когда националисты голосовали с правыми и оба крыла Думы объединялись против центра, – октябристы и умеренно правые оставались в меньшинстве, как это и случилось во время прений по министерской декларации.
Оппозицию составляли весьма разнородные группы. Прогрессисты (мирнообновленцы) были близки к левым октябристам и в некоторых случаях голосовали вместе с думским большинством; лучшим их оратором был Н. Н. Львов. Кадеты, лишенные той руководящей роли, которую они играли в двух первых Думах, оставались наиболее крупной оппозиционной партией. П. Н. Милюков – впервые избранный только в Третью думу – занимал положение лидера, тогда как наиболее видными ораторами считались Ф. И. Родичев, А. И. Шингарев, В. А. Маклаков (представитель правого крыла фракции).
С кадетами обычно голосовала и мусульманская группа. Поляки, наоборот, держались обособленно, подчеркивая, что они представители не русского, а польского народа.
Крайних левых было 34, но состав обеих фракций был на редкость бесцветным. У трудовиков был главным оратором литовец Булат, а у социал-демократов – грузины Чхеидзе и Гегечкори.
Отношения между большинством и оппозицией были натянутые. Большинство устроило в начале 1908 г. демонстрацию против Милюкова, который во время рождественских каникул ездил в Соединенные Штаты и читал там лекции о русском «освободительном движении». Правая печать возмущалась такой «апелляцией к иностранцам», и при появлении Милюкова на трибуне большинство депутатов покинуло зал заседаний.
Думское большинство проявило свое недоверие к оппозиции при выборах комиссии государственной обороны: вопреки общему соглашению о пропорциональных выборах октябристы и правые не пропустили в эту комиссию ни социал-демократов, ни трудовиков, ни поляков, ни даже кадетов, считая, что этим партиям нельзя доверять секретные военные сведения. Комиссия государственной обороны, во главе которой стоял сам Гучков, получила затем немалое значение.
Октябристы и правые не пропускали случая выразить свои верноподданнические чувства. В начале января 1908 г. триста депутатов представлялись государю в Царскосельском дворце.
Государь доверил П. А. Столыпину сношения с Думой и отвергал все попытки апеллировать к нему лично. На адрес московского дворянства, принятый правым большинством (в январе 1908 г.), он ответил: «Уверен, что дворянство московское честно сослужит Мне, как и встарь, ожидаемую Мною от него службу и посвятит все свои силы проведению в жизнь предуказаний Моих по обновлению и укреплению государственного строя нашей великой России».
«Впечатление отличное, – сказал по этому поводу А. И. Гучков. – Высочайшая отметка – лучшее доказательство прочности конституционного строя».
Думское большинство вообще относилось весьма ревниво к своим правам (хотя левая печать по привычке утверждала обратное). Когда возник вопрос о возможности сокращения штатов одного ведомства, установленных указом в период между двумя Думами, лидер умеренно правых граф В. А. Бобринский предложил сократить эти штаты на один рубль, чтобы подчеркнуть право Думы на такое решение. Это сокращение было прозвано «конституционным рублем».
Обсуждение бюджета вообще давало Думе большое влияние на весь государственный аппарат. Отдельные ведомства буквально дрожали перед бюджетной комиссией, которая могла урезать штаты и ассигнования. В общем собрании при обсуждении смет отдельных министерств публичной критике подвергалась вся их деятельность; ораторам оппозиции тут открывались широкие возможности, которыми они и пользовались для своей пропаганды, тем более что левая печать их речи приводила полностью, а все остальные сильно сокращала.
Дума обратила с первого же года особое внимание на нужды народного образования, внеся в смету новый 8-миллионный кредит на народные школы. Комиссия государственной обороны, работая при закрытых дверях, установила живое общение с военным ведомством и широко шла навстречу пожеланиям армии.
Между П. А. Столыпиным и думским большинством установилось дружное взаимодействие. Выработался даже особый условный язык: то, что думскому центру не нравилось в действиях власти, приписывалось неким «безответственным влияниям». Премьер путем угрозы подать в отставку мог добиться от думского большинства почти любой уступки (конечно, такие переговоры велись только в частном порядке; ставить в Думе «вопрос о доверии» Столыпин, разумеется, не мог). Так, во время прений о ревизии железных дорог П. Н. Милюков потребовал создания «парламентской следственной комиссии», на что министр финансов В. Н. Коковцов заметил: «У нас, слава богу, нет парламента». Председатель Думы Н. А. Хомяков назвал эти слова «неудачными»; министры стали на точку зрения, что им нельзя делать замечаний, и Столыпин заявил, что подаст в отставку, если Дума не найдет приемлемый выход из положения. Инцидент был ликвидирован тем, что Н. А. Хомяков в Думе «покаялся» в допущенной им ошибке.
При обсуждении сметы Военного министерства А. И. Гучков выступил с резкой критикой того факта, что во главе ряда высших военных учреждений стоят лица, «безответственные по своему положению», то есть великие князья. Гучков особенно нападал на Совет государственной обороны, председателем которого состоял великий князь Николай Николаевич. В данном случае эта критика отчасти соответствовала видам премьера и военного министра Редигера.
Думское большинство пошло навстречу желаниям государя в вопросе о постройке Амурской железной дороги и взяло на себя почин пересмотра отношений между империей и Финляндией, внеся по этому поводу запрос на имя Столыпина.
За первую сессию только по одному вопросу возникло серьезное разногласие между Думой и властью. Государь считал нужным возможно скорее приступить к воссозданию флота, и в Думу был внесен проект постройки четырех линейных кораблей нового типа (дредноутов). Дума отклонила этот проект, требуя предварительных реформ в морском ведомстве.
Государь был очень этим недоволен. Он писал Столыпину, что ему «очень хотелось отписать крепкое слово» Госдуме «за ее слепое и ничем не оправдываемое отклонение кредита на воссоздание флота – и это как раз накануне прибытия короля английского». Он, однако, только предоставил правительству добиться восстановления кредита в обычном законодательном порядке.
П. А. Столыпин в Госсовете по этому поводу говорил: «Все те доводы и соображения, которые приводятся для того, чтобы побудить законодательные учреждения к отклонению кредита, имеют целью побудить правительство принять меры чисто исполнительного характера, которые зависят от верховной власти. Говорят: сделайте то-то, и деньги получите…» Премьер указывал, что это ведет к парламентаризму: «Опаснее всего был бы бессознательный переход к нему путем создания прецедентов».
Дума, однако, не уступила в вопросе о дредноутах и этим заметно затормозила воссоздание флота. Но это за первый год был единственный серьезный конфликт.
«Пока во главе правительства Столыпин, – писал о Третьей думе В. П. Мещерский, – она будет смешною, будет дерзкою, будет глупою, и, думаю, сумеет быть разумной, но опасною ее вряд ли можно считать…»
* * *
Зимой 1907/08 г. закончилась ликвидация ряда дел, связанных с революцией и войной. Социал-демократы Второй думы за попытку создания революционной организации в армии были приговорены к каторжным работам на сроки от 4 до 5 лет. Участники Крестьянского союза за пропаганду аграрных беспорядков были осуждены на год и три месяца заключения в крепости.
Членов Первой думы, подписавших выборгское воззвание, приговорили всего к трем месяцам заключения в крепости (более чувствительной карой было, однако, связанное с этим лишение избирательных прав). «Обвинили в поджоге отечества, а наказали как за неосторожную езду по городу», – писал об этом приговоре «Товарищ». «Да ведь в результате и была лишь неосторожная езда, только не по городу, а за город», – отозвалось «Новое время».
Процесс генерала Стесселя и других чинов командного состава Порт-Артурской крепости тянулся более двух месяцев. Генерал Стессель за сдачу Порт-Артура был приговорен к смертной казни, но кара была смягчена до 10 годов крепости. Остальные были оправданы. (Так же закончился, несколько позже, и процесс адмирала Небогатова, сдавшегося после Цусимы с остатками эскадры.)
Был пойман и казнен (1 мая 1908 г.) уральский «атаман» Лбов, своего рода Стенька Разин XX в., в течение двух лет хозяйничавший со своей шайкой на всем Урале и долго славившийся своей неуловимостью.
Жизнь в стране входила в новые рамки; равновесие восстанавливалось – равновесие более устойчивое, нежели до японской войны. Не только земства и города, не только торгово-промышленные круги отошли от прежней предвзятой оппозиции; даже в студенчестве, которое раньше неизменно выступало застрельщиком в борьбе с властью, проявлялись теперь совершенно новые настроения.
Зима 1907/08 г., как и предшествующая, прошла без сколько-нибудь серьезных студенческих волнений. В учебных заведениях, автономно управлявшихся советами профессоров, свободно существовали и действовали студенческие фракции всех партий (собиравшиеся под ширмой различных литературных кружков). Это дало возможность объединиться и организоваться уже не только крайним левым, и без того всегда имевшим свои подпольные группы, но также и умеренным и правым. Появились студенческие группы кадетов, октябристов, Союза русского народа. Студенты-кадеты, близкие по взглядам к профессорской среде, играли в университете роль умеренных. Они боролись против засилья крайних левых, восставали против решающего значения сходок и против забастовок как метода политической борьбы. В течение двух лет ход университетской жизни почти не нарушался. Левые еще устраивали порою однодневные «забастовки протеста» по разным поводам, но эти забастовки только отражались некоторым уменьшением числа студентов на лекциях.
Осенью 1908 г. левые партии сделали последнюю попытку мобилизовать студенческие массы. Повод был для них выигрышный: новый министр народного просвещения, А. Н. Шварц, заявивший при вступлении в должность, что пока не изданы новые законы, необходимо соблюдать старые, восстановил в средней школе переходные экзамены, а из высших учебных заведений распорядился удалить вольнослушательниц, допускавшихся с 1906 г. в университеты с молчаливого согласия властей.[144] (Действие процентной нормы для евреев было восстановлено уже с осени 1907 г.) Одновременно был поднят вопрос об удалении нескольких преподавателей, принадлежавших к крайним левым партиям.
Меры А. Н. Шварца критиковались не только в кадетских газетах, но и в октябристском «Голосе Москвы». 20 сентября в Санкт-Петербургском университете состоялась общая сходка, постановившая объявить забастовку. Совет профессоров хотел уклониться от борьбы, закрыв университет на некоторое время, но министр этого не разрешил. Из Петербурга забастовка быстро перекинулась в другие университеты. Она велась под лозунгом «борьба за университетскую автономию». «Если теперь студенчество не двинется, – говорил на сходке в Петербурге один революционный оратор, – тогда можно будет сказать про наши университеты: здесь лежит покойник».
Ход забастовки очень скоро показал, насколько переменились времена. Умеренная часть студентов организовалась и повела борьбу против забастовки, требуя «референдума» – всеобщего тайного голосования по этому вопросу. Левые пытались опереться на свое обычное орудие – сходки. В Московском университете получился при этом такой курьез: та же самая сходка открытым голосованием одобрила обструкцию для проведения забастовки, а подачей записок высказалась в пользу прекращения самой забастовки! Власти держались выжидательно: не было ни массовых арестов, ни высылок – как не было и уличных демонстраций. Недели через две после начала забастовки одно учебное заведение за другим стали выносить резолюции в пользу возобновления занятий. Впервые в истории студенческих движений умеренные элементы собственными силами одолели крайних. С этого времени монополия левых партий в студенчестве была сломлена – для революции университеты действительно оказались «покойниками» – и на ближайшие годы в высшей школе водворились мир и тишина.
* * *
Накануне переломных лет русская интеллигенция представляла в основном единое целое. Сложилось целое традиционное мировоззрение, непримиримо отрицавшее основы русской исторической государственности. Формулам «За веру, царя и отечество», «Православие, самодержавие и народность» интеллигенция противопоставляла отрицание религии, отрицание монархии, отрицание национальной идеи. Любовь к отечеству она заменяла любовью к народу, к «массам»; она еще готова была признать лермонтовское «люблю отчизну я, но странною любовью… ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой… не шевелят во мне отрадного сознанья»; но пушкинские «Клеветникам России» или его «Стансы» императору Николаю I считались «позорными страницами» в творчестве великого поэта.
Крушение революции вызвало не только разочарование, но и целое течение, направленное к пересмотру интеллигентских традиций. Этому сильно способствовали (как и преодолению левых течений в университете) новые условия жизни. Раньше всякое возражение, направленное против левых, считалось «доносом»; теперь, когда обличающая критика не грозила повлечь никаких репрессий, заговорили многие, кто до тех пор молчал.
Пересмотр интеллигентских традиций в первую очередь коснулся отношения к религии, затем к национальной идее, а там и к идеям государства и великодержавности. Религиозные течения в русской интеллигенции проявлялись уже и до 1905 г. (религиозно-философские собрания, журнал «Новый путь»). Теперь то, что занимало небольшие кружки, стало распространяться на широкие слои интеллигенции. «Толстые журналы» стали помещать статьи на религиозно-философские темы – даже марксистский «Современный мир».
В художественной литературе добились признания «декаденты», над которыми раньше принято было смеяться. Появился особый, вульгаризованный «стиль модерн». Леонид Андреев вместо прежних реалистических рассказов стал выпускать символические пьесы «Анатэма», «Царь-Голод», «Черные маски» и т. д.
Наряду со здоровым течением к пересмотру интеллигентских «канонов» наблюдались и отрицательные явления. Возникла настоящая литературная эпидемия «санинства» – это название происходило от романа Арцыбашева «Санин» – увлечения эротическими описаниями и проповедью «свободной любви». Это течение, одинаково резко критиковавшееся и справа и слева, пользовалось тем не менее большим успехом в широких кругах интеллигенции и полуинтеллигенции. Для левых это было несколько неожиданным следствием отмены предварительной цензуры. Так, «Санин» был «запрещен» присутствием по делам печати, когда эта книга уже разошлась по всей России в десятках тысяч экземпляров. Разочарование в политике, занимавшей такое огромное место в жизни интеллигенции, оставило пустоту, которую заполняли «чем попало»…
Внешняя политика России за переломные годы как бы отошла на второй план перед внутренней, но именно за это время и в ней произошел существенный поворот. Основными чертами русской политики были до тех пор союз с Францией, добрые отношения с Германией, соглашение с Австрией по балканским делам, соперничество с Англией по всему «фронту» Азии и только что прерванная Портсмутским миром открытая вражда с Японией.
Английские либералы, пришедшие к власти в начале 1906 г., были склонны переменить традиционную антирусскую политику – отчасти из соображений искреннего пацифизма, отчасти под влиянием Франции, отчасти из обозначившегося соперничества с Германией. Создание нового типа броненосцев, в значительной мере обесценивавшее старые боевые суда, сильно подрывало морскую гегемонию Англии и давало Германии, только недавно начавшей строить флот, серьезные шансы в соревновании за господство на морях.
Новый английский посол сэр Артур Николсон прибыл в Санкт-Петербург в мае 1906 г. с поручением наладить англо-русское сближение; он встретил в этом сочувственное отношение у нового министра иностранных дел А. П. Извольского. Английское правительство сначала сильно рассчитывало на русские «кадетские» круги; но сэр А. Николсон скоро пришел к заключению, что ставку следует делать не на Думу, а на Столыпина, и был сильно встревожен, когда английский премьер Кэмпбелл-Баннерманн после роспуска Первой думы на межпарламентском банкете воскликнул: «Дума умерла – да здравствует Дума». Король Эдуард VII был этим раздражен не менее, чем посол.
Еще летом 1906 г. визит английских судов в русские порты был отменен по просьбе России. Но переговоры об урегулировании спорных азиатских вопросов тем не менее завязались.
Теперь, на основании опубликованной дипломатической переписки, можно считать установленным, что инициатива в этом случае исходила от Англии. Со своей стороны, русское правительство, в период заживления ран после войны и революции, не считало целесообразным принципиально уклоняться от полюбовного разрешения споров. В русском обществе идея сближения с Англией быстро стала популярной, так как ее связывали с общим либеральным направлением.
Не представляя себе, что соглашения желает в первую очередь Англия, русское общество прониклось представлением о том, что императорская власть ради сближения с нею будет держаться «конституционного курса». Этого было достаточно, чтобы почти вся печать быстро отрешилась от старых – и даже очень свежих – воспоминаний об англо-русской вражде и стала доказывать необходимость англо-русского сближения. Между тем государю и в голову не приходило что-либо менять во внутренней политике России ради привлечения симпатий Англии! Если существование Государственной думы в России действительно облегчило это сближение, то лишь потому, что это помогло английскому кабинету преодолеть застарелую вражду англичан к «царизму».
Переговоры касались Тибета, Афганистана и Персии. До японской войны Россия интересовалась Тибетом, пользовалась связью своих подданных бурят-ламаистов с правительством далай-ламы и противодействовала английскому влиянию в этой стране, только формально подчиненной Китаю. Русско-японская война дала Англии случай отправить в Тибет военную экспедицию полковника Ионхесбенда, занявшую запретный город Лхасу. Далай-лама бежал в Монголию. Англия заставила Тибет подписать договор, устанавливавший английский контроль над его внешними сношениями.
Афганистан был старым яблоком раздора между Англией и Россией; он послужил поводом для единственного за царствование императора Александра III инцидента, едва не приведшего к войне. Все планы «похода на Индию» основывались на предпосылке занятия Афганистана.
Наконец, в Персии Англия противилась русскому влиянию, поддерживала либеральные и революционные элементы против шаха и стремилась предотвратить постройку русских железных дорог, особенно опасаясь, что Россия достигнет выхода на Индийский океан в Персидском заливе (порт Бендер-Аббас).
Теперь Англия предлагала значительные уступки. В отношении Афганистана, правда, она оставалась на прежней позиции; но она соглашалась отказаться от всяких преимуществ в Тибете, а в Персии предоставляла России как сферу влияния всю северную часть, наиболее населенную и плодородную.
Переговоры тянулись год. Сначала они велись в глубокой тайне, и только весною 1907 г. о них впервые заговорили в печати. Во Франции это вызвало удовлетворение, в Германии – беспокойство; что касается России, то она в это время слишком была занята Второй думой.
Весной 1907 г. было подписано соглашение между Францией и Японией. Русская официальная печать подчеркнула, что Россия горячо одобряет этот шаг. Затем, летом 1907 г., последовало русско-японское соглашение, разрешавшее последние спорные вопросы, связанные с ликвидацией войны.
21 июля, на рейде в Свинемюнде, состоялась встреча государя с императором Вильгельмом II – первое свидание через два года после Бьерке. При большой торжественности это свидание оказалось политически бессодержательным. Германский император, узнав от государя, что соглашение с Англией предрешено, старался показать, что ничего против этого не имеет. Неудача Бьеркского соглашения оставила известный холодок в отношениях между монархами: государь считал, что германский император пытался извратить смысл этого соглашения, настаивая на его букве, а Вильгельм II держался мнения, что государь отказался, под давлением своих советников, от принятых на себя обязательств. Тосты в Свинемюнде были на редкость бесцветны: государь говорил о «продолжении родственных отношений, традиционной дружбе», а германский император – о «неизменной дружбе наших династий и наших народов». Все же свидание в Свинемюнде ослабило внешнее впечатление от соглашений с Японией и с Англией, подчеркнув «свободу рук» России.
18 (31) августа 1907 г. англо-русское соглашение было подписано. Англия отказывалась от Тибета; обе державы признавали суверенитет Китая над этой страной. Россия отказывалась от притязаний на Афганистан; обе державы обязывались уважать его независимость и неприкосновенность. Персия делилась на три зоны: северная, с Тавризом, Тегераном, южным побережьем Каспийского моря и центральной областью, вплоть до Испагани и Ханикина, входила в русскую сферу влияния; юго-восточная часть, примыкающая к Афганистану и Индии, считалась английской зоной; а между ними оставалась «нейтральная» общая полоса, включавшая почти все побережье Персидского залива. Обе державы при этом взаимно обязались охранять неприкосновенность и независимость Персии.
Русская печать в общем встретила соглашение сочувственно. «Новое время» называло соглашение с Японией и Англией «ликвидацией», завершением старых расчетов и писало: «Соглашение 18 августа знаменует собою новую фазу в азиатской группировке: оно обозначает собой отказ от того индийского похода, который не раз горячил воображения в России…» Сходную мысль высказал и министр иностранных дел А. П. Извольский, защищая проект соглашения в Совете министров. «Мы должны поставить наши интересы в Азии на надлежащее место, иначе мы сами станем государством азиатским, что было бы величайшим несчастьем для России».
«Мне кажется, – писал в то же время канцлеру Бюлову Микель, германский поверенный в делах в Санкт-Петербурге, – что новшества, вводимые в Азии этим соглашением, не так велики, как ожидалось. Значение русско-английского соглашения не столько в Азии, сколько в Европе, где его последствия долго будут давать себя знать». Микель подчеркивал, что это соглашение – «скорее дело рук английской, нежели русской политики». Он отмечал, что подписанию соглашения сопутствовали антигерманские выпады в русской и английской печати.
В Англии консерваторы выступили с резкой критикой соглашения; особенно возмущался лорд Керзон, бывший вице-король Индии, организовавший поход в Тибет. Парламент тем не менее одобрил конвенцию.
Государь – если верить германскому поверенному в делах – не желал общего соглашения с Англией, острие которого было бы направлено против Германии. Но он не видел оснований возражать против конвенции, дававшей России значительные преимущества взамен отказа от притязаний, осуществить которые едва ли было бы возможно в сколько-нибудь обозримом будущем. Государь при этом никогда не забывал об Азии – это показал его исключительный интерес к вопросу об Амурской железной дороге. П. А. Столыпин, защищая этот проект в Думе, говорил: «Русский народ всегда сознавал, что он осел и окреп на грани двух частей света; что он отразил монгольское нашествие, что ему дорог и люб Восток… Наш орел, наследие Византии, орел двуглавый. Конечно, сильны и могущественны и одноглавые орлы, но, отсекая нашему русскому орлу одну голову, обращенную на Восток, вы не превратите его в одноглавого, вы заставите его только истечь кровью». Эти слова премьера были ближе к мысли государя, чем заявление министра иностранных дел о том, что русские интересы в Азии надо поставить «на надлежащее место»…
Именно в Азии англо-русское соглашение давало России бесспорные выгоды, не только в том, о чем оно говорило, но и своими умолчаниями. Так, Северная Маньчжурия, Монголия, Китайский Туркестан, а также и конвенция с Японией, кстати сказать, совершенно не соответствовали распространенным – особенно в русском обществе – представлениям об униженной, ослабленной России! Скорее можно было удивляться, как Россия быстро восстанавливала свое державное положение. Она оставалась первой державой Азии. Япония, истощенная войной в большей мере, нежели Россия, так и не получившая чаемой контрибуции благодаря мудрой твердости государя, вынуждена была серьезно считаться с русской мощью: она измерила ее в борьбе, и японские государственные деятели отлично знали, что стечение обстоятельств, давшее им возможность благополучно для себя закончить войну, едва ли повторится вновь.
Государь не хотел, чтобы соглашение с Англией привело к расхождению с Германией. Но могущественные влияния влекли в ту сторону. Русское общество прониклось представлением, что англофранцузский союз означает «конституцию», а дружба с Германией – «реакцию». Министр иностранных дел А. П. Извольский не сразу обратился на этот путь; но в Думе он нашел сочувственный прием не только со стороны большинства, но и со стороны оппозиции в лице П. Н. Милюкова. В это же время интеллигенция начинала интересоваться внешней политикой. П. Б. Струве в «Русской мысли» (в январе 1908 г.) выступил со статьей «Великая Россия», не побоявшись взять в виде эпиграфа слова П. А. Столыпина о «Великой России» и «великих потрясениях». «Для создания Великой России, – писал он, – есть только один путь: направить все силы на ту область, которая действительно доступна реальному влиянию русской культуры. Эта область – весь бассейн Черного моря, то есть все европейские и азиатские страны, «выходящие» к Черному морю».
Эти мысли, по существу, не были новыми. Это было возвращение к ближневосточной политике императоров Николая I и Александра II. Русская власть за последние десятилетия избрала иной путь потому, что лучше сознавала трудности – и ограниченные возможности – этого будто бы естественного пути. Теперь русская интеллигенция с запозданием на целое поколение выходила на путь, уже пройденный некогда русской властью. Эта политика представлялась широким кругам более доступной и понятной, чем широкие азиатские планы государя.
К лету 1908 г., без каких-либо формальных изменений курса русской внешней политики, перед всем миром уже обозначилась новая международная комбинация: Россия – Франция – Англия. Английский король Эдуард VII прибыл в Ревель 28 мая (10 июня). Этому визиту предшествовали прения в английском парламенте: левые депутаты протестовали против сближения с царизмом, говорили о «русских зверствах». Сэр Эдуард Грей дал им решительную отповедь, напомнив им об эпидемии революционного террора, а также о том, что депутаты-«выборжцы» были заключены в тюрьму «не за свои либеральные убеждения». Прения показали, что обе большие английские партии – либералы и консерваторы – одинаково стоят за сближение с Россией.
Меньше чем через месяц после Эдуарда VII в Россию прибыл французский президент Фальер. Во французском парламенте только социалисты – да и то не очень энергично – протестовали против этой поездки. «Президент, – говорил «коммунар» Вайян, – может в России услышать выстрелы: это убивают ее лучших граждан». Министр иностранных дел Пишон решительно заклеймил подобные выходки.
В такой международной обстановке застало Европу событие, положившее конец политике сохранения status quo на Балканах: младотурецкая революция в июле 1908 г.
Глава 2
Земельный вопрос: проведение в жизнь закона 9 ноября; увеличение крестьянского землевладения. – Землеустроительная кампания. – Итоги землеустройства за пять лет (1907–1911). – Критика земельной политики справа. – Закон 9 ноября в Государственной думе и Государственном совете. – Санджаковская железная дорога. – Младотурецкая революция. – Свидание в Бухлове. – Аннексия Боснии и Герцеговины. – Протесты в России; неославизм. – Германская нота 8 (21) марта 1909 г.; последствия Боснийского кризиса. – Дело Азефа. – «Вехи». – Дума и армия; выступление Гучкова; отставка генерала Редигера. – Вопрос о морских штатах. – Сдвиг кабинета вправо; сближение октябристов с оппозицией. – Поездка государя в Англию и во Францию. – «Дайте России 20 лет покоя»
«Многие думают, что, пока еще нет в деревне полного успокоения, необходимо все оставить по-старому; но правительство думает иначе… Правительство убеждено, что, прекращая всякие попытки к беспорядкам, безжалостно прекращая их физической силой, оно обязано всю свою нравственную силу направить к обновлению страны. Обновление это, конечно, должно последовать снизу. Надо начать с замены выветрившихся камней фундамента, и делать это так, чтобы не поколебать, а укрепить всю постройку». Этими словами П. А. Столыпина[145] отчетливо выражено, какая задача была поставлена правительством на первое место.
Вопрос о необходимости улучшить положение деревни был уже давно предметом забот императорской власти; теперь, когда после долгого периода обдумывания, взвешивания и подготовки власть избрала определенный путь, она двинулась по нему вперед с настойчивостью и энергией. Всякое решительное действие в таком спорном вопросе, как земельный, не могло не породить ожесточенной критики; закон 9 ноября оспаривался не только слева, но и справа. Только группы думского центра и правого центра оказались определенными сторонниками земельной реформы, основанной на принципе укрепления частной собственности в деревне. Среди правых, особенно среди крестьян и священников, было немало защитников общины. Н. Е. Марков заявил, что будет голосовать за закон только потому, что не считает себя вправе идти против воли монарха. Вообще, если бы закон не был уже осуществлен на практике – провести его через Думу было бы нелегко.
«С аграрной реформой, ликвидировавшей общину, по значению в экономическом развитии России могут быть сопоставлены лишь освобождение крестьян и проведение железных дорог, – писал в «Русской мысли» П. Б. Струве, и он добавлял: – Не только ясно, что без акта 3 июня Государственная дума никогда бы не приняла аграрной реформы Столыпина, ясно и то, что без осуществления этой реформы по 87-й статье, то есть помимо Думы, даже Дума 3 июня никогда бы не решилась на такой переворот».
Земельная реформа была проведена по-старому, велением государя; но раз «Рубикон был уже перейден», думское большинство получило возможность поддержать правительство в дальнейшей разработке аграрного законодательства.
Закон 9 ноября стал фактически применяться с 1 января 1907 г. Основным принципом начавшейся с этого дня огромной работы было разрешение свободного выхода из общины и установление личной крестьянской собственности на землю – личной, а не семейной. П. А. Столыпин, как премьер и министр внутренних дел, принял самое деятельное участие в проведении реформы. Того же он требовал и от местных властей. Администрация не должна была ограничиваться пассивным ожиданием того, захотят или не захотят крестьяне воспользоваться новым законом. На съезде непременных членов землеустроительных комиссий П. А. Столыпин говорил:[146] «Вы обязывались широко разъяснять народу смысл нового закона и облегчать ему возможность воспользоваться им. Вам в руки был дан ключ, и от вашего умения зависело открыть им народу дверь к лучшему будущему. Познайте, какая сила действия в ваших руках, и поймите, что я не могу допустить неуспеха, что работник невоодушевленный в моих глазах не работник».
Энергичная политика власти встретила живой отклик на местах, как в администрации, так и в земстве. Проведение реформы было возложено на уездные землеустроительные комиссии, большинство в которых принадлежало выборным.[147] Этих комиссий за первые же два года реформы было образовано 374 (через пять лет их было 463); число землемеров, обслуживавших комиссии, с 200 при начале работ через четыре года уже поднялось выше 5000.[148]
С проведением в жизнь закона 9 ноября было неразрывно связано землеустройство, имевшее главною своей целью устранение чересполосицы. Через законодательные учреждения был впоследствии проведен особый закон о землеустройстве. На землеустроительные комиссии возлагались многообразные задачи: 1) простое закрепление земли в собственность (без перемежевания); 2) выделение закрепляемой земли к одному месту (отруба); 3) создание особых мелких имений (хуторов) и, наконец, 4) перемежевание для устранения чересполосицы без закрепления земли в собственность за отдельными крестьянами.
Содействуя также и закреплению в собственность и устранению чересполосицы, правительство в особенности поощряло выделение отрубов и создание хуторов, считая, что именно таким путем может создаться жизнеспособное единоличное крестьянское хозяйство.
Деревни, где не было переделов со времени освобождения крестьян, считались автоматически перешедшими к единоличному владению.
Отдельный член общины, выделяясь из нее, получал ту землю, на которую, в качестве надела, имел право по местным обычаям. Он сохранял свою долю участия в пастбищах, лесах и других угодьях общины.
Землеустроительные работы распадались на четыре стадии: 1) подача прошений – целыми обществами или отдельными хозяевами – о выделе или переделе; 2) составление планов нового размежевания земельных участков; 3) фактическое размежевание с установкой межевых знаков; 4) утверждение нового межевания – либо по общему согласию, либо, в случае спора, по решению землеустроительной комиссии.
Насколько сложным и медленным был этот процесс, показывают хотя бы следующие цифры: за первые пять лет реформы прошений поступило от 2 653 000 домохозяев; изготовлено планов было на 1 327 000 домохозяев (с 12 406 000 десятин); произведено работ на 1 700 000, и окончательно было принято населением межевание в отношении всего 891 000 домохозяев, с 8 067 000 десятин.[149]
Эти цифры представляются огромными сами по себе – даже последняя цифра представляла собою площадь в 8 миллионов десятин (больше, например, площади Голландии и Бельгии, взятых вместе), – но и это было еще только начало, так как составляло всего около 5 процентов общего количества земель, принадлежавших крестьянским обществам (не считая тех земель, которые уже и раньше принадлежали крестьянам на праве частной собственности).
В это число, однако, еще не входили ни земли, закрепленные в собственность без передела (за первые шесть лет реформы 1 715 000 десятин), ни произведенные работы по устранению чересполосицы без выделения в собственность (за шесть лет – около 6 миллионов десятин). Работа комиссий, таким образом, распространилась за это время на площадь около 17 миллионов десятин.
Реформа проходила очень неодинаково в разных частях России. Наиболее быстрый успех она имела в Новороссии (Таврической, Екатеринославской, Херсонской губ.), в соседних малороссийских губерниях (Харьковской и Полтавской), в Северо-Западном крае (Санкт-Петербургской, Псковской, Смоленской губ.), в Западном крае (но там речь шла уже не о выходе из общины, а только о выделении на отруба) и в Нижнем Поволжье – в Саратовской и особенно в Самарской губерниях. Иными словами, реформа сразу же вошла в жизнь либо там, где земли были заселены относительно недавно (Новороссия, Нижнее Поволжье), либо в местностях, граничащих с районами, где господствовала частная собственность (Северо-Западный край – прибалтийские губернии).
Другую крайность составили губернии севера и северо-востока (Архангельская, Вологодская, Олонецкая, Вятская, Пермская), где реформа осталась мертвой буквой. (В Олонецкой губернии не отмечено за пять лет ни одного случая выделения, в Архангельской – выделено 200 десятин из 335 000 и т. д.) В этих губерниях, с земельным простором и огромными расстояниями между поселениями, больше ощущалась потребность во взаимной поддержке, чем в свободе распоряжения землей.
Между этими крайностями находились коренные великорусские земли, где выделы достигали от 2 до 5 процентов площади крестьянских земель. В каждой из этих губерний нашлось по нескольку тысяч домохозяев, решившихся пойти против консервативного большинства и потребовать выделения из общины (около 5000 хозяев в Казанской губернии, 9000 в Тверской и т. д.).
Деятельность правительства в аграрной области не ограничивалась проведением в жизнь закона 9 ноября. Еще в 1906 г. был создан земельный фонд из удельных и казенных земель сельскохозяйственного пользования; кроме того, происходила весьма деятельная скупка помещичьих земель Крестьянским банком. За 14 месяцев было куплено 7617 имений с 8 700 000 десятин – больше, чем за предшествующую четверть века; затем скупка несколько замедлилась, но все же продолжалась. Продажа земель и сдача их в аренду крестьянам на льготных для них условиях сильно способствовала ускорению процесса ликвидации крупных имений; это вызывало серьезные возражения с хозяйственной точки зрения.
На съезде объединенного дворянства в начале 1909 г. В. И. Гурко выступил с большим докладом, заявляя, что распыление крупных культурных хозяйств понижает экономический уровень страны. Он указывал, что и без того уже ни в одной стране Западной Европы мелкое землевладение не преобладает в такой степени, как в России; а политика Крестьянского банка ведет к тому, что «каждый день общее пространство рентных имений у нас уменьшается на 3000 десятин; каждый день три тысячи десятин культурных земель осуждаются на раздробление на мелкие земельные участки»… «Мы присутствуем, – говорил В. И. Гурко, – при самом энергичном осуществлении социал-революционной программы, сводившейся, как известно, к тому, чтобы выселить из наших сельских местностей весь землевладельческий элемент». Докладчик указывал также на противоречие между политикой скупки помещичьих земель для продажи их крестьянам – и законом 3 июня: выходит, что правительство стремится экономически ликвидировать те самые элементы населения, которым оно предоставляет решающее политическое значение при выборах в Госдуму.
С другой стороны, на опасность ликвидации помещичьего землевладения с культурной точки зрения указывал известный историк профессор В. И. Герье. «Если на всем пространстве огромной России, – писал он еще в 1906 г., – погаснут огни сожженных усадеб, то вместе с ними погаснут и очаги культуры, и на долгие годы воцарится тусклая, беспросветная ночь варварства».
Правительство в известной мере приняло во внимание эти соображения и направило свои усилия на землеустройство и на развитие сельскохозяйственной культуры, предоставив решение вопроса о соотношении между крупным и мелким землевладением естественному действию закона спроса и предложения. Массовая скупка Крестьянским банком прекратилась, и тем не менее постепенное таяние крупного – особенно дворянского – землевладения неуклонно продолжалось. Дворянство в весьма значительной своей части утрачивало «вкус к земле»; весьма многие владельцы после волнений 1905–1906 гг. вообще перестали жить в своих имениях. Русское сельское хозяйство поэтому волей-неволей приходилось строить на улучшении крестьянского хозяйства, приобретавшего с каждым годом все большее экономическое значение.
В то время как по всей стране шла сложная работа по проведению в жизнь нового земельного законодательства, в Государственной думе и Государственном совете шло обстоятельное и подчас бурное обсуждение этих законов.
Закон 9 ноября, одобренный и дополненный думской земельной комиссией, начал обсуждаться в общем собрании Госдумы 23 октября 1908 г. Записалось 213 ораторов – около половины всего состава Думы, чуть не все депутаты-крестьяне сочли себя обязанными произнести речь на тему «о земле». Докладчик комиссии октябрист С. И. Шидловский говорил, что новые земельные законы – возвращение на истинно либеральный путь Великих реформ Александра II, путь, с которого власть сошла за время «реакции».
Возражения оппозиции носили преимущественно политический характер. А. И. Шингарев напоминал, что закон 9 ноября был издан в разгар действия военно-полевых судов. Ф. И. Родичев заявлял: «Интенсивное хозяйство в стране, где нет господства закона, невозможно». П. Н. Милюков старался опорочить указ 9 ноября, доказывая, что его истинными авторами были В. И. Гурко и совет объединенного дворянства. На это горячо отвечал прогрессист Н. Н. Львов. «В этом указе, – говорил он, – есть нечто дальше, больше и шире, чем одни только интересы дворянства, – это интересы государственности… Нужно, наконец, чтобы наш крестьянин почувствовал, что он хозяин и господин. Это вы можете дать ему только в частной собственности… Если дворянские вожделения заключаются в том, чтобы настоять на принципе частной собственности в крестьянском быту, если дворянские вожделения заключаются в том, чтобы вывести из этого положения крестьянство, внушить ему твердые основы частной собственности, заставить его уважать и чужое, и свое право, – то мы должны поддержать эти «вожделения», и мы совершим великое дело. Я не побоюсь перейти на сторону тех, которые хотят это осуществить!»
Из крайних левых трудовики (социалисты-народники) были последовательны, защищая общину, которая соответствовала их идеологии; но социал-демократам, также высказывавшимся против закона 9 ноября, граф В. А. Бобринский указал на то, что такая позиция идет вразрез с их собственной программой, и процитировал слова Ленина (из журнала «Заря»): «Земли следует отобрать, но не для передачи крестьянам: это противоречило бы обострению классовой борьбы. Нет, для продажи их в частную собственность».
Были критические голоса и справа. Курский депутат Шечков говорил, что разрушение общины противоречит сословной организации страны и нарушает коллективное право собственности. Член Союза русского народа В. А. Образцов под бурные аплодисменты левых доказывал, что крестьянство, получив свободу распоряжения землей, распродаст и пропьет свои участки. «Если Дума, – говорил он, – вместо наделения землей малоземельных и безземельных хочет разводить пролетариат, разводить миллионы новых безземельных крестьян – мы пойдем до дому и скажем: Государственная дума и правительство решают земельный вопрос навыворот».
«Что-нибудь одно, – возражал критикам слева и справа лидер умеренно правых граф В. А. Бобринский, цитируя слова профессора Петражицкого, – или мы считаем крестьян вроде тех, которые, если им дают корову для того, чтобы они доили молоко для своих детей, зажарят ее и съедят, тогда, конечно, им нужна общая опека; но если признать, что настало время перейти к правильному экономическому землепользованию, тогда последовательно предоставить крестьянам имущественную свободу».
«Говорить, будто бы крестьяне, если только им будет дано право распоряжаться своими наделами, чуть ли не все обратятся в пьяниц и пропойц и продадут свои наделы за грош, за косушку водки, – это клевета на русский народ», – заявил в Государственной думе товарищ министра внутренних дел Лыкошин.
Сам П. А. Столыпин выступил по земельному вопросу уже только при постатейном чтении, 5 декабря 1908 г., в защиту единоличной крестьянской собственности, против попыток подменить ее семейной собственностью.
«Для уродливых исключительных явлений, – говорил премьер, – надо создавать исключительные законы… Но главное, что необходимо, это – когда мы пишем законы для всей страны – иметь в виду разумных и сильных, а не пьяных и слабых… Господа, нужна вера. Была минута, и минута эта недалека, когда вера в будущее России была поколеблена… Не нарушена была в эту минуту лишь вера русского царя в силу русского пахаря и русского крестьянина…
Неужели не ясно, что кабала общины и гнет семейной собственности являются для девяноста миллионов населения горькой неволей? Неужели забыто, что путь этот уже испробован, что колоссальный опыт опеки над громадной частью нашего населения потерпел уже громадную неудачу? Нельзя, господа, возвращаться на этот путь, нельзя только на верхах развешивать флаги какой-то мнимой свободы. Необходимо думать и о жизни…
Нельзя, господа, идти в бой, надевши на всех воинов броню или заговорив всех от поранений. Нельзя, господа, составлять закон, исключительно имея в виду слабых и немощных. Нет, в мировой борьбе, в соревновании народов почетное место могут занять только те из них, которые достигнут полного напряжения своей материальной и нравственной мощи».
На основании этой речи земельная политика П. А. Столыпина и была прозвана «ставкой на сильных».
При обсуждении земельного вопроса в Думе произошла некоторая перегруппировка: в пользу закона 9 ноября высказались октябристы, умеренно правые, националисты, часть правых, польское коло, часть прогрессистов; против – крайние левые, кадеты и значительная часть крайне правых. Большинство получилось внушительное, и Дума даже внесла в закон ряд поправок, усиливавших давление на общину в сторону содействия переходу к частной собственности; но в Государственном совете большинство думских поправок было отвергнуто. Рассмотрение проекта в законодательных учреждениях сильно затянулось; он был окончательно утвержден и обнародован 14 июня 1910 г., когда фактически был в действии три с половиной года. Конечно, проведение закона в жизнь проходило не без трений. Крестьяне, стоявшие за сохранение общины, относились порою весьма враждебно к выделявшимся на хутора. Было в первые годы немало случаев насилия, и оппозиционная печать даже пророчила на этой почве «гражданскую войну в деревне». Но никакой гражданской войны не получилось. Государственная власть оказалась достаточно сильна для поддержания порядка; случаи насилия становились все реже.
Новый главноуправляющий землеустройством и земледелием, назначенный осенью 1908 г., А. В. Кривошеин стал широко развивать государственное содействие повышению сельскохозяйственной культуры: выдавать ссуды на мелиорацию, расширять агрономическое образование, устраивать образцовые хозяйства и опытные поля на землях, принадлежавших казне. Сельскому хозяйству стало оказываться прогрессивно растущее внимание. Выправлялся тот крен, который получился в результате экономической политики С. Ю. Витте в первое десятилетие царствования государя.
Наряду с земельной реформой главными предметами забот власти за период Третьей думы были переустройство армии на основании опыта японской войны, воссоздание флота и развитие народного образования. Это были действительно наиболее насущные задачи момента. Большинство Государственной думы шло рука об руку с властью в земельном вопросе; оно играло активную роль в деле реорганизации армии, но скорее явилось тормозом в деле воссоздания флота; наоборот, Думе принадлежала роль ускорителя в вопросе о народном образовании. Уже осенью 1908 г. думская комиссия по народному образованию разработала план постепенного введения всеобщего начального обучения, рассчитанный на 20 лет (1909–1928). Граф В. А. Бобринский, окрестивший Вторую думу «Думой народного невежества», как-то сказал, что Третья дума должна стремиться заслужить прозвание «Дума народного просвещения». В этой области Третья дума действительно сделала немало.
* * *
Русско-австрийское соглашение 1897 г., подтвержденное при мюрцштегском свидании государя с императором Францем-Иосифом в 1903 г., было основано на двух предпосылках: на идее солидарности монархических государств и на обоюдном отказе от попыток изменения status quo на Балканах. Австрийскому министру иностранных дел барону Эренталю, который на посту посла в Петербурге считался «русофилом» и убежденным сторонником монархической солидарности, суждено было стать разрушителем австро-русского соглашения.
Австрия отозвалась на революционное движение в России введением всеобщего и равного избирательного права; либералы и социалисты утверждали, что таким путем она укрепит свое единство. Но первые же выборы по новому закону показали, что национальная рознь глубоко проникла и в широкие народные массы: в Австрии даже социалисты разделялись на особые группы по национальностям. Реформа привела в движение массы, но единства она не упрочила. Вопрос об австрийском наследстве продолжал оставаться открытым, и многие приурочивали распад Дунайской монархии к кончине императора Франца-Иосифа, которому в 1908 г. исполнилось уже 78 лет.
Мысль о том, что время работает против Австро-Венгрии, побудила ее государственных деятелей начать рискованную политику – своего рода превентивное наступление против своих возможных наследников. В отношении России это выразилось в усиленном поощрении так называемых украинских элементов; в отношении балканских народов Австро-Венгрия пожелала показать свою силу; и можно сказать, что Германия по меньшей мере не сделала никаких серьезных попыток удержать свою союзницу от этого пути.
14 (27) января 1908 г. барон Эренталь сообщил в австро-венгерских делегациях, что он поручил послу в Константинополе поднять вопрос об австрийской концессии на постройку железной дороги через Новобазарский санджак. Эта турецкая провинция отделяла Сербию от Черногории; по Берлинскому договору Австро-Венгрия имела право держать в ней небольшие гарнизоны. Экономически такая дорога, параллельная линии, шедшей через Сербию, создавала бы новый прямой путь из Австро-Венгрии до Салоник на Эгейском море и укрепляла бы связь центральных держав с Турцией.
Это было явным отступлением от согласованной австро-русской политики; как основательно указывает барон М. А. Таубе в своих мемуарах, это был первый шахматный ход в той партии, которая впоследствии привела к мировой войне.
Русское правительство и русская печать резко реагировали на попытку нарушения status quo, причем германский посол Пурталес, видимо плохо разбиравшийся в русских внутренних делах, объяснял это ростом «реакционных течений», идущих будто бы рука об руку с «панславистскими планами».
Государь, принимая 15 (28) февраля австрийского посла, сказал ему, что он ценит дружбу императора Франца-Иосифа и, хотя политика сотрудничества с Австрией никогда не была популярной в России, он намерен продолжать ее впредь, «хотя ему эту задачу весьма затрудняют», – имея в виду выступление барона Эренталя. А. П. Извольский, со своей стороны, разъяснял в ноте по адресу Германии: «Международные соглашения, подписанные нами с единственной целью оберечь себя от осложнений в Азии, не содержат какого-либо острия против Германии».
Но тон русской печати становился все более антиавстрийским и антигерманским, причем левые органы в этом отношении не особенно отличались от «Нового времени».
Россия выдвинула проект железной дороги, идущей наперерез австрийскому проекту линии, из Румынии через Сербию к Адриатическому морю. Император Вильгельм обещал государю поддержать этот проект.
Обстановка на Балканах к тому времени изменялась в том отношении, что Англия теперь начинала поддерживать Россию, а не Австрию. При Ревельском свидании государя с английским королем обсуждался вопрос о самой широкой автономии Македонии.
В начале июля в Турции неожиданно вспыхнуло военное революционное движение, руководимое турецкими офицерами-националистами, членами тайного общества «Единение и прогресс» (в просторечии их называли младотурками). Султан Абдул-Гамид, тридцать лет осуществлявший в Турции бесконтрольную абсолютную власть, оказался лишенным опоры; ему остался верен корпус, стоявший в Константинополе, но провинции – в первую очередь балканские – без борьбы переходили в руки восставших гарнизонов; султан, не решаясь послать на бой единственные свои верные войска, предпочел капитулировать и объявил о введении в действие конституции 1876 г. (так и оставшейся тогда мертвой буквой). Младотурки стали хозяевами положения и в столице, хотя премьером и был назначен старый либеральный сановник Киамиль-паша.
Турецкая революция произошла совершенно помимо нетурецких народностей, составлявших большинство в Оттоманской империи. Младотурки были турецкими националистами, определенными сторонниками неделимости государства. А. И. Гучков, побывав в Константинополе, даже сравнивал младотурок с октябристами, чем вызвал иронические выпады левой печати. Были назначены выборы в турецкое Национальное собрание. Тем самым все требования к Турции, все планы реформ в Македонии оказались, силою вещей, «снятыми с повестки».
Дальнейшее течение турецкой революции было трудно предусмотреть, и все государства, заинтересованные в турецком наследстве, начали подготовлять свои претензии. А. П. Извольский выехал за границу и 3 (16) сентября в замке Бухлов встретился с бароном Эренталем. О подробностях этого свидания существуют различные версии. Германский статс-секретарь по иностранным делам фон Шен, ссылаясь на разговор с А. П. Извольским, писал Бюлову 13 (26) сентября, что в Бухлове Эренталь выдвинул такой план: Австрия ограничивается аннексией Боснии и Герцеговины, отказывается от движения на Салоники, выводит свои войска из Новобазарского санджака и поддерживает требования России о предоставлении ее флоту свободного прохода через проливы; попутно должна была быть провозглашена отмена турецкого суверенитета над Болгарией, давно уже чисто формального.
Извольский, очевидно, в общих чертах одобрил этот план. Следует иметь в виду, что Россия еще в 1876 г., по Рейхштадтскому соглашению, а затем особою статьей австро-германо-русского соглашения 18 июня 1881 г., изъявила согласие на аннексию Боснии и Герцеговины. «Австро-Венгрия, – гласила эта статья, – сохраняет за собою право аннексировать эти две провинции в то время, когда найдет это нужным». Руки русского министра были, таким образом, связаны, и речь могла идти только о тех или иных компенсациях. А. И. Извольский считал, что отказ Австрии от санджака, свобода плавания через проливы для России и независимость Болгарии (вместе с выгодным торговым договором для Сербии) представляются достаточными компенсациями. По-видимому, он также рассчитывал, что все эти изменения Берлинского трактата будут приняты одновременно – быть может, при помощи новой международной конференции.
Но барон Эренталь уже 24 сентября (7 октября) объявил в делегациях об аннексии Боснии и Герцеговины, объясняя такой шаг необходимостью дать этим провинциям представительные органы, дабы местное население не оказалось в невыгодном положении по сравнению с турецкими владениями.
Одновременно с этим князь Фердинанд Болгарский провозгласил полную независимость Болгарии и принял титул царя.
Оба этих акта, несомненно, были односторонним отказом от обязательств, заключавшихся в Берлинском трактате, хотя по существу они только закрепляли фактически давно существующее положение.
В международных отношениях «тон делает музыку», и общественное мнение в России и особенно в Сербии болезненно реагировало на эти шаги. В Белграде учитывали выступление Австрии как первый шаг к установлению ее гегемонии на Балканах. Решение Болгарии было воспринято как «получение независимости из рук Австрии», а аннексия Боснии и Герцеговины – как самовольное присвоение Австрией славянских земель.
В России, где как раз в этом году оживились в обществе славянские симпатии – весною в Петербург приезжали лидер младочехов д-р Крамарж и другие славянские деятели, летом в Праге состоялся многолюдный всеславянский конгресс с участием членов Государственной думы – началась резкая кампания протеста против действий Австро-Венгрии. Правительство пыталось бороться с этой агитацией, запрещая прения после докладов, тогда как весьма умеренные депутаты соперничали с левыми в резком осуждении таких действий власти. Граф В. А. Бобринский на одном собрании даже заявил, что, если правительство думает примириться с аннексией, ему придется «Думу распустить, а нас всех арестовать». Эта кампания захватывала все партии от умеренно правых до кадетов, и в стороне от нее оставались только крайние левые и правые, считавшие, что разрыв с Австрией и Германией приведет Россию к войне и через нее – к революции.
Франция и Англия также отнеслись отрицательно к нарушению Берлинского трактата и поддержали русские заявления о необходимости конференции. В то же время Англия не соглашалась на ту компенсацию, о которой мечтал А. П. Извольский, – на открытие проливов.
А. П. Извольский отказался дать Совету министров какие-либо объяснения о своей беседе с Эренталем, сославшись на то, что внешняя политика составляет прерогативу государя. Он, видимо, был смущен происшедшим и поражен реакцией общественного мнения. Он не мог отрицать, что «согласился» на аннексию, – тем более что он был связан прежними договорами; он только мог указывать, что его согласие было условным, – но для тех, кто возмущался самым фактом аннексии, разговор о компенсациях мог бы показаться постыдным торгом… К тому же, как основательно замечал «Вестник Европы» – «вырвать эти области из австрийских рук можно было бы теперь, как и раньше, не иначе, как путем победоносной войны». А Россия к войне не считала себя готовой. А. П. Извольский хотел подать в отставку, но государь ее не принял.
Формальное разрешение спора об аннексии было оттянуто; прошло более пяти месяцев, боснийский вопрос уже переставал волновать широкую публику в России – земельные реформы в Думе, а затем дело Азефа заслонили проблемы внешней политики. За это время Австрия и Болгария договорились с Турцией, и та примирилась с утратой своих суверенных прав – за финансовое вознаграждение. Россия оказала при этом содействие Болгарии, уступив ей на несколько лет причитающиеся с Турции взносы контрибуций за войну 1878 г. Затем Россия, не дожидаясь конференции, признала независимость Болгарии. Но вопрос о Боснии оставался неразрешенным, и в Сербии продолжалось сильное волнение, поддержанное надеждами на русскую поддержку. Австро-Венгрия решила воспользоваться случаем, чтобы силою утвердить свое преобладание на Балканах, и начала грозить Сербии войной, если та не признает аннексии. Сербия отвечала, что этот вопрос должен быть разрешен «международным трибуналом». Положение становилось угрожающим.
В этот момент Германия выступила с предложением посредничества. Она выдвинула следующий компромисс: Германия повлияет на Дунайскую монархию в смысле отказа от насильственных действий против Сербии и добьется, чтобы Австро-Венгрия формально испросила согласия держав на аннексию Боснии, если Россия, со своей стороны, обещает заранее дать такое согласие. Инструкция Бюлова германскому послу Пурталесу от 8 (21) марта гласила: «Ваше Превосходительство заявит г. Извольскому самым определенным образом, что мы ожидаем точный ответ – да или нет; всякий уклончивый, условный или неясный ответ мы были бы вынуждены счесть отклонением нашего предложения. В таком случае мы отошли бы в сторону и предоставили бы событиям идти своим ходом; ответственность за все дальнейшие последствия пала бы исключительно на г. Извольского».
Это заявление было бы неточно называть ультиматумом, но скрытая в нем угроза также была несомненна. Что значило «предоставить событиям идти своим ходом»? Очевидно – поход Австрии против Сербии, а если бы Россия захотела вмешаться, то Германия, по договору Тройственного союза, поддержала бы свою союзницу.
Германское предложение все же давало формальный выход из тупика, и государь (9 марта) телеграфировал императору Вильгельму, что оно «показывает желание найти мирный исход» и что он «сказал Извольскому пойти навстречу». Но он в то же время предупреждал, что «окончательное расхождение между Россией и Австрией неизбежно отразится на наших отношениях с Германией. Мне нечего повторять, как такой результат был бы мне тягостен…»
11 (24) марта А. П. Извольский дал утвердительный ответ германскому послу, который на радостях даже телеграфировал своему правительству: «Не исключено, что это – поворотный пункт» и что теперь «наступит новая ориентация русской политики в смысле сближения с Германией». Трудно было ошибиться более жестоко!..
Русское общественное мнение было плохо осведомлено о ходе переговоров, и, когда в газетах 14 марта появилось сообщение всем участникам Берлинского договора об австрийском вопросе и о заранее данном согласии России на аннексию, в печати и в думских кругах поднялась целая буря. Спрашивали – почему Россия все время требовала международной конференции и теперь признала аннексию раньше, чем менее в этом вопросе заинтересованные Англия и Франция? Чтобы как-нибудь объяснить это решение, в обществе говорили о том, будто Германия пригрозила объявить России войну, если та немедленно не согласится на признание. Писали о «дипломатической Цусиме». Изображали происшедшее как унизительное поражение России. Наряду с искренним чувством обиды тут действовали и политические факторы: желание оппозиции подчеркнуть и преувеличить новую неудачу «царского правительства» и стремление сторонников англо-французской ориентации углубить расхождение между Россией и Германией.
При всем том несомненно, что Австро-Венгрия всей своей политикой, начиная от Санджакской дороги и кончая угрозами похода на Сербию, проявила полное неумение или явное нежелание считаться с исконными традициями русской политики – тогда как Германия во время боснийского конфликта явно «оптировала» (сделала выбор) в пользу Австрии, разойдясь в этом случае с заветами Бисмарка, писавшего в своих мемуарах, что Германия никоим образом не должна «оптировать» между Россией и Австрией.
Боснийский кризис разрешился, но оставил весьма глубокий след в международных отношениях.
* * *
В начале 1909 г. русское общество было взволновано сенсационными событиями в среде крайних левых. Обе революционные партии, социал-демократы и социалисты-революционеры, переживали полосу отлива и разочарования. Влияние их падало даже в студенческой среде. В то же время, хотя убийства полицейских и «экспроприации» продолжались, все более смешиваясь с простым разбоем, за 1907 и 1908 гг. не было серьезных террористических актов, хотя и было раскрыто несколько революционных заговоров.
В январе 1909 г. в заграничной печати появилось сообщение, что член Центрального комитета партии социалистов-революционеров, Евгений Филиппович Азеф, бежал от партийного суда и признан «провокатором». В России это известие дней десять не разрешали печатать; газеты, сообщившие о разоблачении Азефа, были конфискованы. Но 19 января в Петербурге был неожиданно арестован бывший директор департамента полиции А. А. Лопухин – и с этого дня, в течение двух-трех недель, дело Азефа стало главным предметом разговоров.
В Государственную думу было внесено по этому поводу два запроса – один кадетами, другой крайними левыми.
Имя Азефа было новым для широкой публики, но оно было очень хорошо известно в революционной среде. Азеф считался лучшим техником революционного дела, стоял во главе боевой организации партии социалистов-революционеров, был членом ЦК партии (он же участвовал в свое время в «съезде оппозиционных и революционных организаций» осенью 1904 г.). Теперь оказывалось, что Азеф был агентом охранного отделения, и об этом рассказал социал-революционерам не кто иной, как бывший директор департамента полиции!
Положение было настолько необычным, что молва немедленно преувеличила значение Азефа до фантастических размеров. Читая иные газеты, можно было думать, что он одновременно руководил всею революцией и всей борьбой против нее. Теперь, хотя многое в деятельности Азефа так и осталось невыясненным, можно более точно определить его истинную роль.
Евгений (Евно) Азеф происходил из бедной еврейской семьи, жившей в Ростове-на-Дону; 22 лет он уехал за границу и поступил в политехникум в Карлсруэ; в том же 1893 г. подал прошение директору департамента полиции Дурново о зачислении его в секретные агенты для наблюдения за русскими учащимися за границей. В 1899 г. Азеф вернулся в Россию, работал в качестве инженера, участвовал в подпольной пропаганде социал-революционеров и в то же время представлял рапорты охранному отделению. В партии он – за свою энергию и отчасти как бы «по выслуге лет» – постепенно продвигался на более видные посты.
С 1903 г. – по одним данным, под впечатлением кишиневского погрома, по другим – под влиянием социал-революционера Гершуни, Азеф стал менее полно осведомлять полицию и все активнее участвовать в партии. Аресты и смерти других руководителей выдвинули Азефа на одно из первых мест среди организаторов террора, наряду с Б. Савинковым. Азеф едва ли был этому рад: он чувствовал себя под непрерывной угрозой разоблачения и смерти. Отмечают, что он боялся опьянеть, чтобы не проговориться, и что он во сне стонал, скрежетал зубами и разговаривал и потому на ночь запирался один в своей комнате. В то же время он широко пользовался субсидиями обеих сторон – кстати, он получал много больше денег из революционных фондов, нежели от полиции, – предавался кутежам в дорогих ресторанах и шантанах, объясняя террористам, что это лучший способ «отвести глаза»; тратил огромные суммы на одну шансонетную певицу.
Пока революция шла вверх, Азеф служил больше ей, чем полиции; когда правительство победило, Азеф снова стал ревностнее исполнять свои обязанности агента-осведомителя и в 1907 г. фактически совершенно дезорганизовал революционный террор. Систематические неудачи начали вызывать в партии подозрения; публицист В. Л. Бурцев (занимавшийся преимущественно историей революции) выступил против Азефа с открытым обвинением. Сначала лидеры партии ему не верили, ввиду революционных «заслуг» Азефа в прошлом. Но Бурцев вступил в сношения с бывшим директором департамента полиции Лопухиным (уволенным в свое время без пенсии), который подтвердил ему, а затем и посетившим его в Лондоне представителям партии, что Азеф – давнишний агент охранного отделения. Был созван партийный суд; Азеф сначала энергично защищался; но в перерыве между двумя заседаниями скрылся. Он так и пропал без вести.[150]
Для партии социалистов-революционеров это было жесточайшим ударом: несколько террористов даже покончили с собой. Но, желая превратить свой провал в орудие борьбы против власти, левые партии тотчас же перешли в наступление и стали обвинять правительство в «провокации». В запросе думских социал-демократов и трудовиков прямо говорилось, будто полиция сама организовала террор через своих агентов «в целях усиления реакции и для оправдания исключительных положений», хотя в действительности с момента наступления так называемой «реакции» сошел почти на нет и революционный террор…
А. А. Лопухин был арестован, как гласило правительственное сообщение, за то, что он выдал революционерам имя секретного агента, и это вызвало «прекращение для него возможности предупреждать полицию о преступных планах сообществ». До этого ареста лидер французских социалистов Жорес писал в Humanite: «Очевидно, правительство чувствует себя виноватым в деле Азефа, так как не решается задержать Лопухина. Во всякой стране государственный деятель, выдавший вверенный ему по службе секрет, подвергся бы немедленному аресту и понес бы соответствующую кару». Однако, когда А. А. Лопухин был затем приговорен к пяти годам каторги,[151] в русском обществе готовы были считать его чуть ли не безвинною жертвой.
Думское большинство в этом случае не поддалось на агитационный прием левых. «Благодаря делу Азефа партия социалистов-революционеров потерпела страшное поражение, – заявил в Думе октябрист фон Анреп, – и теперь она хочет выместить свою злобу». «Теперь, утопая и захлебываясь в этой грязи, они стараются этой грязью забрызгать и правительство», – говорил докладчик по запросу граф В. А. Бобринский.
П. А. Столыпин 11 февраля выступил в Думе с ответом по делу Азефа. Он указал, что термин «провокация» в данном случае неприменим. «По революционной терминологии, всякое лицо, доставляющее сведения правительству, есть провокатор… Это прием не бессознательный, это прием для революции весьма выгодный. Правительство должно совершенно открыто заявить, что оно считает провокатором только такое лицо, которое само принимает на себя инициативу преступления, вовлекая в эти преступления третьих лиц… Не странно ли говорить о провоцировании кем-либо таких лиц, как Гершуни, Гоц, Савинков, Каляев, Швейцер и другие?»
Изложив затем фактические сведения о деятельности Азефа как агента и члена партии социалистов-революционеров, Столыпин подчеркнул, что именно с тех пор, как Азеф попал на самые верхи партии, «все замыслы центральных организаций не приводят уже ни к чему, расстраиваются и своевременно разоблачаются… Насколько правительству в этом деле полезен свет, настолько для революции необходима тьма. Вообразите, господа, весь ужас увлеченного на преступный путь, но идейного, готового жертвовать собой молодого человека или девушки, когда перед ними обнаружится вся грязь верхов революции. Не выгоднее ли революции распускать чудовищные, легендарные слухи о преступлениях правительства… переложить ответственность за непорядки в революции на правительство» (смех и аплодисменты).
П. А. Столыпин заключил свою речь словами о том, что борьба с революцией – не цель, а средство; но там, где аргумент – бомба, единственный ответ – беспощадность кары. «Мы, правительство, только строим леса, которые облегчают вам строительство. Противники наши указывают на эти леса как на возведенное нами безобразное здание, и яростно бросаются рубить их основание. И леса эти неминуемо рухнут и, может быть, задавят и нас под своими развалинами, но пусть это случится тогда, когда из-за их обломков будет уже видно… здание обновленной, свободной – свободной в лучшем смысле этого слова, свободной от нищеты, от невежества, от бесправия – преданной, как один человек, своему государю – России!»
Дальнейшие прения не дали ничего существенного. Госдума, большинством центра и правых, признала объяснения премьера исчерпывающими и отвергла оба запроса об Азефе. «Гора родила мышь»… Большой думский день показал всю малость пресловутого дела Азефа», – писал в «Новом времени» писатель П. Перцов. Интерес к этому делу в широких кругах быстро упал. Но легенда об Азефе, «всесильном провокаторе», оказалась более живучей.[152]
Можно сказать, подводя итоги, что разоблачение Азефа в конечном счете принесло правительству несравненно больше пользы, нежели могла ему дать дальнейшая информационная деятельность Азефа. Моральное крушение террористической организации уничтожило ее вернее всяких арестов и репрессий. Боевая организация социалистов-революционеров так и не воскресла. Левой печати в известной мере удалось вызвать в легковерной широкой публике представление о том, будто дело Азефа «скандально» и для правительства; но это было бы верно лишь в том случае, если бы Азеф занимал в полиции или в администрации какой-либо руководящий пост. На самом деле власть отлично знала ему цену, никаких тайн ему не вверяла и только использовала его как шпиона в неприятельском лагере.
Арест Азефа не предотвратил бы ни одного покушения; отказ от его услуг только облегчил бы работу террористов, и власть, ведшая с ними борьбу не на жизнь, а на смерть, не имела никаких оснований отказываться от возможности такой глубокой разведки в штаб-квартире врага.
* * *
Идейная переоценка традиционных взглядов интеллигенции нашла себе наиболее яркое выражение в сборнике «Вехи», появившемся весною 1909 г. Это был целый обвинительный акт, тем более внушительный, что участники сборника не исходили из какой-либо общей программы. «Не для того, чтобы с высоты познанной истины судить русскую интеллигенцию, и не с высокомерным презрением к ее прошлому писаны статьи… а с болью за это прошлое и в жгучей тревоге за будущее родной страны, – говорилось в предисловии. – Революция 1905 года и последовавшие за ней события явились как бы всенародным испытанием тех ценностей, которые более полувека как высшую святыню блюла наша общественная мысль».
Авторы сборника провозглашали «теоретическое и практическое первенство духовной жизни над внешними формами общежития» и заявляли, что «путь, которым до сих пор шло общество, привел его в безвыходный тупик».
С разных сторон подходили к своей задаче авторы «Вех». Н. А. Бердяев показывал на ряде примеров, что интеллигенция совершенно не интересовалась объективной истиной и в философии искала только способа доказать свои политические взгляды: «Она начала даже Канта читать потому только, что критический марксизм обещал на Канте обосновать социалистический идеал. Потом принялась за с трудом перевариваемого Авенариуса, так как отвлеченнейшая, чистейшая философия Авенариуса, без его ведома и без его вины, представилась вдруг философией социал-демократов большевиков…» С. Н. Булгаков писал, что революция – «исторический суд над интеллигенцией». «Нет интеллигенции более атеистической, чем русская… Известная образованность, просвещенность есть в глазах нашей интеллигенции синоним религиозного индифферентизма». Он указывал, что русские напрасно воображают, будто бы таким путем они прививают себе подлинную европейскую цивилизацию: на западе есть не только эти «ядовитые плоды», но и здоровые корни. Бесплодному богоборческому героизму интеллигенции Булгаков противопоставлял смирение русских святых и подвижников.
М. О. Гершензон резко обличал оторванность интеллигенции от народа. «Мы не люди, а калеки, – писал он, – сонмище больных, изолированных в родной стране, – вот что такое русская интеллигенция… Мы для него (народа) не грабители, как свой брат деревенский кулак, мы для него даже не просто чужие, как турок или француз; он видит наше человеческое и именно русское обличье, но не чувствует в нас человеческой души, и потому ненавидит нас страстно… Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом – бояться мы его должны, пуще всех казней власти, и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной».
Б. А. Кистяковский показывал, что интеллигенция страдает совершенным неуважением к праву. Характерные примеры он находил в истории партии социал-демократов и цитировал слова Ленина на съезде 1903 г. о необходимости сурового подавления несогласных даже внутри собственной партии. («Меня нисколько не пугают, – говорил Ленин, – страшные слова об осадном положении, об исключительных законах. По отношению к неустойчивым и шатким элементам мы не только можем, но обязаны создавать осадное положение…»)
П. Б. Струве писал о «безрелигиозном отщепенстве от государства русской интеллигенции» и о том, что она одновременно понимала политику в самом узком смысле, как внешнее устроение жизни – и видела в этой политике «альфу и омегу всего бытия… Таким образом, ограниченное средство превращалось во всеобъемлющую цель».
С. Л. Франк говорил о своеобразном «нигилистическом морализме» интеллигенции, своего рода «религии служения земным нуждам»; высшее благо для нее – «удовлетворение нужд большинства». Русский интеллигент – это «воинствующий монах нигилистической религии земного благополучия».
Наконец, И. С. Изгоев разоблачал неприглядные стороны быта и психологии студенчества, считавшегося «авангардом» интеллигенции.
«Наши предостережения не новы, – говорилось в конце предисловия. – То же самое неустанно твердили, от Чаадаева до Соловьева и Толстого, все наши глубочайшие мыслители. Их не слушали, интеллигенция шла мимо них. Может быть, теперь, разбуженная великим потрясением, она услышит более слабые голоса».
«Вехи» действительно произвели большое впечатление – тем более что их участники сами считались видными представителями интеллигенции. Левая печать – от умеренно либерального «Вестника Европы» – резко на них обрушилась. «Слепые вожди слепых» – называл их Д. И. Шаховской. «Творцы нового шума» – писал о них «Современный мир». Группа писателей и публицистов во главе с П. Н. Милюковым выпустила даже в ответ целый сборник статей.[153]
С неожиданной страстностью в заседании Религиозно-философского общества выступил против «Вех» Д. С. Мережковский, сравнивший интеллигенцию с загнанной, измученной лошаденкой, а участников сборника – с мужиками, которые забивают лошаденку насмерть…
В печати «Вехи» встретили поддержку только справа. Большое приветственное письмо П. Б. Струве написал архиепископ Антоний Волынский. «Мы не знаем, – писал он, – чем больше восхищаться: научностью ли, разумностью ли ваших доводов, или примиренным любящим голосом вашего обращения к инакомыслящим, или вашею верою в силу человеческой совести даже у тех, кто ее отрицает и в теории и на практике, или, наконец, вашей суворовской храбростью, вашим восторженным мужеством, с которым вы, подобно уверовавшему Савлу, обращаетесь к своим собратьям по былому ложному увлечению».
«Вехи» оказали немалое влияние на учащуюся молодежь; они в некоторой мере оказались тем «последним словом» общественной мысли, по сравнению с которым прежние теории начинали казаться устарелыми. «Вехи» одно время были модными; но хотя эта мода затем прошла, брошенные идеи или, вернее, брошенные сомнения в прежних интеллигентских традициях оставили глубокий след в мировоззрении русских образованных классов.
Следует при этом отметить, что участники «Вех» тщательно отстранялись от политических выводов; они даже писали об «отвратительном торжестве реакции», а некоторые из них продолжали активно участвовать в деятельности Конституционно-демократической партии.
* * *
Думская комиссия государственной обороны установила наилучшие отношения с военным ведомством. Комиссия внимательно относилась ко всем проектам, касавшимся армии, часто даже повышала требуемые кредиты; это в особенности отразилось в проекте улучшения материального положения офицерства. В то же время комиссия занималась изучением вопросов организации армии, решение которых выходило за пределы ее компетенции. Это в свое время отразилось на известной речи А. И. Гучкова против «безответственных лиц» в военном ведомстве.
В правых кругах стали поэтому утверждать, что думский центр проявляет особое внимание к армии по политическим соображениям. Это же обвинение, в несколько уклончивой форме, выдвигает и граф Витте в своих мемуарах: он рассказывает, будто А. И. Гучков говорил каким-то русским, живущим во Франции: «В 1905 г. революция не удалась потому, что войско было за государя… в случае наступления новой революции необходимо, чтобы войско было на нашей стороне; потому я исключительно занимаюсь военными вопросами и военными делами, желая, чтобы в случае нужды войско поддерживало более нас, нежели Царский Дом».
Едва ли есть какие-либо основания сомневаться, что заботы Третьей думы об армии были в первую очередь вызваны самым искренним желанием увеличить ее боеспособность. Достаточно известно также отношение А. И. Гучкова к революции 1905 г. С другой стороны, вполне вероятно, что думский центр был рад возможности показать армии, что народное представительство – отнюдь ей не враг, как была радикальная интеллигенция. В то же время Государственная дума – следуя в этом примеру парламентов всех народов – желала расширения своей компетенции и пользовалась для этого всяким спорным случаем. На этой почве весной 1909 г. разразился серьезный политический кризис.
Еще летом 1908 г. морской министр (адмирал Диков) внес в Госдуму проект штатов морского Генерального штаба. Вопрос по существу не возбуждал спора, и Дума без прений приняла проект. Но в Государственном совете было указано, что одобрение штатов военных учреждений выходит за пределы компетенции законодательных палат, которых касаются только кредиты, отпускаемые на военные нужды; Государственный совет отклонил проект. Морское министерство вторично внесло его в Госдуму, на этот раз испрашивая только кредит. Но комиссия обороны, не желая допускать такого, с ее точки зрения, «ухудшения» проекта, восстановила его в прежнем виде. Проект был принят Думой и в начале 1909 г. вернулся в Государственный совет.
23 февраля П. А. Столыпин заболел гриппом, перешедшим затем в воспаление легких. Как раз в этот вечер, при обсуждении в Госдуме военного бюджета, А. И. Гучков выступил с знаменательным заявлением. «Полтора года мы работаем над этим делом, – говорил он. – Отказа в кредитах правительство от нас не видело… Мы не только не урезали ни одного кредита военного ведомства, но мы наталкивали его на испрошение новых кредитов… Несомненно, что в материальной стороне дела известные улучшения достигнуты. Но как раз в тех областях военного дела, которые находятся вне пределов нашей власти… мы не можем считать, что дело обстоит благополучно… Возьмите хотя бы область военного командования. Вы мне скажите, есть ли во главе всех округов люди, которые могут в мирное время воспитать нашу армию к боевому подвигу и повести к победе наши войска?
Нельзя, – продолжал Гучков, – все время на вопросы внешней политики смотреть под углом зрения нашего военного бессилия… Мы знаем, правительство знает, враги знают – но это мучительный вопрос: известно ли верховному вождю нашей армии положение нашей обороны?»
Военный министр А. Ф. Редигер, отвечая Гучкову, признал, что командный состав следует «улучшить, освежить»; но – добавил он – «при выборе на любую высшую должность приходится сообразоваться с тем материалом и с теми кандидатами, которые имеются налицо».
Эти слова вызвали резкий протест Н. Е. Маркова: «Я послан фракцией правых заявить, что в объяснении военного министра мы видим согласие с оценкой г. Гучкова, а так как военный министр послан сюда именем государя императора, то мы считаем, что он не имел права так поступить… Мы считаем, что это оскорбление для императорской русской армии – говорить, что в ней нет подходящего материала для хороших командиров».
Военный министр, однако, еще раз повторил, что «командный состав нашей армии в настоящее время не является идеальным», и А. И. Гучков приветствовал это «мужественное признание».
«Бывший депутат Зурабов, – не без ехидства писала на следующий день кадетская «Речь», – сказал, что при настоящих порядках наша армия будет всегда терпеть поражения. А. И. Гучков выразил это иначе, с присущим ему талантом, гораздо ярче и образнее…»
Государь был крайне недоволен тем, что военный министр не только не протестовал против вторжения в неподведомственную Думе область, но даже как бы согласился с критикой А. И. Гучкова. А. Ф. Редигер (11 марта) был уволен от должности военного министра; его преемником был назначен начальник Генерального штаба В. А. Сухомлинов. Следует вспомнить, что и в парламентарных государствах не принято критиковать высший командный состав армии в законодательных учреждениях…
В такой обстановке Государственный совет приступил ко вторичному обсуждению проекта морских штатов. Правительство стало на ту точку зрения, что следует принять проект в думской редакции, чтобы не задерживать дела и не вызывать осложнений; оно только предложило оговорить, что это не должно составлять какого-либо прецедента. Большинство комиссии Совета с этим согласилось, но правое меньшинство подало особое мнение, и в общем собрании возникли бурные дебаты.
Лидер фракции правых П. Н. Дурново, подчеркнув, что штаты военных учреждений составляют исключительную компетенцию монарха, заявил, что «такие вмешательства, как бы малозначительны они ни были, создают опасные для руководства обороной государства прецеденты и в результате тихо и медленно, зато безошибочно расшатывают те устои, на которых покоится у нас в России военное могущество государства».
Неожиданным союзником правых оказался граф Витте, произнесший страстную речь. «Под рассматриваемым на первый взгляд малым делом скрывается особливо важный вопрос о прерогативах императорской власти, – говорил он. – Нам не следует забывать, что Российская императорская армия исколесила почти всю Европу и создала необъятную Российскую Империю… Не рано ли, господа, менять Российскую императорскую армию на армию случайностей и дилетантизма?»[154]
Министр финансов В. Н. Коковцов, заменявший больного Столыпина, указал, что Государственный совет уже допускал отступления в этой области, утвердив проект штатов оперативного отделения Владивостокского порта, и просил принять проект «ввиду его практической неотложности». Граф Витте на это язвительно возражал: хотят провести проект как маленькое дело, – «а затем больше не будем»?.. Он называл такое незаметное нарушение прерогатив монарха «операцией под хлороформом».
Проект был принят, но всего большинством 85 против 73 голосов. Кампания по этому поводу не прекращалась. На страницах «Нового времени» М. О. Меньшиков (против А. А. Столыпина, брата премьера) защищал позицию правых, называя тот факт, что министры голосовали с левыми в вопросе о прерогативах монарха, «государственным скандалом».
Государь не сразу высказал свое решение. Опять, как десять лет перед тем в вопросе о «самодержавии и земстве», велась тяжба перед престолом, и опять Витте выступал в роли блюстителя прав монарха… П. А. Столыпин, медленно оправлявшийся от болезни, уехал на четыре недели отдыхать в Ливадию, и государь не хотел высказывать свою волю в отсутствие премьера, которому он доверял.
За это время в Константинополе вспыхнул военный бунт против младотурок; но уже через двенадцать дней их войска, прибывшие из Македонии, завладели столицей; младотурки победили, а султан Абдул-Гамид был объявлен низложенным. В тот же самый день, как в газетах появилось это известие, М. О. Меньшиков в статье «Наши младотурки» (воспользовавшись известной фразой А. И. Гучкова) обрушился на октябристов, доказывая, что в вопросе о морских штатах сознательно стремятся урезать права царя именно «левые октябристы». «Смешивать их с правыми, – писал Меньшиков, – то же, что смешивать змей и угрей. Они похожи, но совсем разные создания».
В левой печати появились сообщения о предстоящей отставке кабинета. П. А. Столыпин вернулся в столицу 20 апреля. Государь письмом от 25 апреля объявил ему, что, «взвесив все», он решил не утверждать проект. «О доверии или недоверии речи быть не может. Такова моя воля. Помните, что мы живем в России, а не за границей или в Финляндии, а потому я не допускаю мысли о чьей-либо отставке. Конечно, и в Петербурге, и в Москве об этом будут говорить, но истерические крики скоро улягутся… Предупреждаю, что я категорически отвергаю вашу или кого-либо другого просьбу об увольнении от должности».
Государь сделал все возможное, чтобы смягчить косвенное неодобрение действий правительства в этом вопросе: рескриптом (27. IV) на имя П. А. Столыпина ему было поручено самому выработать правила о том, какие проекты по военному и морскому ведомствам должны непосредственно утверждаться государем, а какие – вноситься в Госдуму и Государственный совет: «Вся деятельность состоящего под председательством вашим Совета министров, заслуживающая полного Моего одобрения и направленная к укреплению основных начал незыблемо установленного Мною государственного строя, служит мне ручательством успешного выполнения Вами и настоящего Моего поручения…»
Государь счел нужным положить сразу же решительный предел всяким вторжениям Государственной думы в компетенцию военного ведомства. Это вызвало в кругах думского центра глубокое разочарование и недовольство; это же явилось одной из причин отрицательного отношения общества к новому военному министру Сухомлинову, который должен был проводить на практике предначертания государя.
Для кабинета Столыпина конфликт по поводу морских штатов также был важным поворотным пунктом. «Оставшись у власти, кабинет значительно передвинулся вправо», – отмечал «Вестник Европы». Этот кризис был первым серьезным принципиальным вопросом, в котором государь принял решение, расходившееся с позицией Совета министров. Государь в то же время показал, что он не намерен превращать свое право утверждения или отклонения законопроектов в простую формальность. Авторитет Совета министров вышел несколько умаленным из этого кризиса. Правые сразу почувствовали принципиальное значение происшедшего. «Московские ведомости» Л. Тихомирова называли рескрипт 27 апреля «вторым случаем» (после 3 июня) исправления основных законов «прямым действием Высочайшей воли». Это было едва ли точно, так как ни с каким законом рескрипт 27 апреля в противоречии не был.
Государственная дума по-своему реагировала на происшедшее. Она провела, большинством центра и левых, закон о свободе старообрядческих общин и о разрешении перехода из одного исповедания в другое, а также приняла, тем же большинством, так называемый дубровинский запрос о незаконных действиях Союза русского народа, происходящих якобы при попустительстве властей (докладчиком по запросу был октябрист А. Д. Протопопов).
А. И. Гучков выступил сам по вопросу о старообрядцах и расширил рамки прений, заговорив о том, что было сделано для проведения в жизнь манифеста 17 октября. «Вы знаете, что мало, – отвечал Гучков. – Вы знаете, что вокруг этого создалась, сгустилась тяжелая атмосфера недовольства… Ну а здесь, в области религиозной свободы, что мешает? Какие вы можете придумать аргументы, чтобы здесь положить стеснительные рамки?»
Внутри правительственного большинства прошла трещина. Лидер умеренно правых П. Н. Балашов, подводя итоги сессии, заговорил в одном интервью о «вновь образовавшемся большинстве», но А. И. Гучков, желая смягчить впечатление, отвечал, что такое большинство имеется только по вероисповедным и национальным вопросам; в остальных случаях должно сохраняться прежнее большинство.
Этот кризис отразился и на фракции октябристов: часть правого крыла открыто критиковала политику Гучкова; тот, сложив с себя звание председателя фракции, добился не только переизбрания, но и удаления из фракции своих главных оппонентов. Человек двадцать из бывших октябристов перешли на положение умеренных «диких».
* * *
В начале июня 1909 г. группа членов обеих палат во главе с председателем Государственной думы Хомяковым выехала в Англию. В поездке участвовали представители всех групп, от националистов до кадетов. В Англии русских депутатов встретили самым радушным образом; всюду устраивались банкеты и приемы в их честь. Это было новым этапом англо-русского сближения. Некоторый диссонанс внесла английская рабочая партия, выступившая с манифестом, резко противопоставлявшим Госдуму государю и правительству. Русская делегация протестовала, заявив, что такое различие считает для себя оскорбительным; и даже наиболее левый из участников делегации, П. Н. Милюков, на банкете у лондонского лорд-мэра заявил: «Пока в России существует законодательная палата, контролирующая бюджет, русская оппозиция останется оппозицией Его Величества, а не оппозицией Его Величеству». Эти слова вызвали в России немалую сенсацию. Крайние левые негодовали. «Падение Милюкова представляет большую ценность для врагов народной свободы», – писал «Современный мир». Английский министр иностранных дел сэр Эдуард Грей, отвечая в парламенте на выпады рабочей партии против России, сослался на слова русских депутатов в качестве доказательства существования конституции в России.
* * *
Государь 6 июня встретился в финских шхерах с императором Вильгельмом. Встреча носила сердечный характер, но на следующий же день «Новое время» писало: «Не может быть и речи о каком-либо изменении в уже определившейся внешней политике нашего государства».
После празднования 200-летия Полтавской победы государь выехал за границу; он побывал во Франции и Англии; в обеих странах он присутствовал на морских парадах. До Парижа государь на этот раз не доезжал. В Каусе, где он был на пятнадцать лет раньше, вскоре после своей помолвки, государь, вспоминая о том времени, сказал: «Я всегда сохраню в памяти счастливые дни, проведенные с Вашей возлюбленной и чтимой матерью, Королевой Викторией». И в ответ на слова короля Эдуарда VII о приезде в Англию членов Государственной думы государь добавил: «Дружественный прием, оказанный Вашим Величеством и Вашим народом членам Государственной думы, а также – зимой – Моей эскадре, да будет залогом сердечных отношений между Нашими странами, основанных на общих интересах и взаимном уважении».
* * *
В 1909 г. был исключительный, обильный урожай. Вывоз русского хлеба за границу достиг небывалой, рекордной цифры – 748 миллионов рублей. Во всех областях народного хозяйства наблюдалось оживление. В то же время интерес к политике заметно падал. Оппозиционная печать называла это «реакцией», упадком общественного духа. «Газеты читают, но моментально по окончании процесса чтения прочитанное забывают… В выборе члена Государственной думы участвовало из 80 тысяч избирателей менее третьей части[155]… На предвыборные собрания рассылалось до десяти тысяч повесток, а являлись когда сто, когда двести, когда – самое большое – пятьсот человек…» Так сетовал «Вестник Европы», отмечая в то же время: «В ресторанах с музыкой нельзя найти свободного стола, на оперетку надо заранее записываться… Торжествует личный интерес», – заключал либеральный журнал.[156] Иначе оценивал положение П. А. Столыпин. В беседе с редактором саратовской газеты «Волга» он заявил:[157]
«По газетным статьям можно подумать, что страна наша охвачена пессимизмом, общим угнетением, между тем я наблюдал, да и Вы, я думаю, можете подтвердить, что в провинции уже замечается значительный подъем бодрого настроения, свидетельствующего о том, что все в России понемногу начинает втягиваться в бодрую работу.
Бодрый оптимизм, наблюдаемый в нашей провинции, совпадает с проведением в жизнь земельной реформы. Я полагаю, что прежде всего надлежит создать гражданина, крестьянина-собственника, мелкого землевладельца, и, когда эта задача будет осуществлена, гражданственность сама воцарится на Руси. Сперва гражданин, а потом гражданственность. А у нас обыкновенно думают наоборот».
П. А. Столыпин отметил самоотверженную энергичную работу по землеустройству, упомянув о стоящих на очереди реформах – местного управления и земских учреждений, и по поводу как раз предстоявшего открытия в Саратове университета сказал: «Есть высокая задача для газеты университетского города: сделайте наконец нашу молодежь патриотической! Развейте в ней чувство здорового, просвещенного патриотизма! Я недавно был в Скандинавии. Как приятно меня поразил вид тамошней молодежи, одушевленно и гордо проходившей стройными рядами с национальными флагами».
П. А. Столыпин заключил: «Итак, на очереди главная задача – укрепить низы. В них вся сила страны. Их более ста миллионов! Будут здоровы и крепки корни у государства, поверьте, и слова русского правительства совсем иначе зазвучат перед Европой и перед всем миром. Дружная, общая, основанная на взаимном доверии работа – вот девиз для нас всех, русских! Дайте государству двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России!»
Глава 3
Президент Лубе о государе и земельной реформе. – Попытки улучшить отношения с Германией: Потсдамское свидание. – Реорганизация обороны. – Борьба за флот. – Русско-японское соглашение 1910 г. – Расширение русской сферы влияния в Китае. – Законодательная работа. – Перемены в Государственной думе. – Смерть графа Л. Н. Толстого; уличные демонстрации. – Студенческая забастовка 1911 г. и ее преодоление. – Поворот во взглядах Гучкова. – Первые толки о Распутине. – Русский национализм: статьи Струве и Андрея Белого. – Законодательные меры: ограничение прав Финляндии; западное земство. – Борьба с епископом Гермогеном и с Илиодором. – Кризис из-за вопроса о западном земстве; непринятая отставка Столыпина; трехдневный роспуск палат; поворот настроения против Столыпина
В новогоднем номере венской Neue Freie Presse на 1910 г. были помещены воспоминания бывшего президента Французской республики Эмиля Лубе. В них говорилось о государе. Лубе писал: «О русском императоре говорят, что Он доступен разным влияниям. Это глубоко неверно. Русский император Сам проводит Свои идеи. Он защищает их с постоянством и большой силой. У Него есть зрело продуманные и тщательно выработанные планы. Над осуществлением их Он трудится беспрестанно. Иной раз кажется, что что-либо забыто. Но Он все помнит. Например, в наше собеседование в Компьене у нас был интимный разговор о необходимости земельной реформы в России. Русский император заверял меня, что Он давно думает об этом. Когда реформа землеустройства была проведена, мне было сообщено об этом через посла, причем любезно вспомянут был наш разговор»[158]… «Под личиной робости, немного женственной, царь имеет сильную душу и мужественное сердце, непоколебимо верное, – заключал Лубе. – Он знает, куда идет и чего хочет».
Эта последовательность, это умение возвращаться к тому, что казалось «забыто», характерны были как для внутренней, так и для внешней политики императора Николая II. Он порою останавливался перед препятствиями, но не забывал своих целей.
Сознавая, как П. А. Столыпин, что России нужны долгие годы внутреннего и внешнего мира, государь был сильно озабочен ухудшением отношений с Германией. С начала 1909 г., после Боснийского кризиса, враждебность к Германии резко проявлялась во всех кругах русского общества, за самыми малыми исключениями. В умеренно либеральных кругах большим успехом пользовалась унаследованная от славянофилов программа «Великой России» П. Б. Струве – идея русской гегемонии на Ближнем Востоке. Русское общество не учитывало, что осуществление этой программы вело к неизбежному столкновению с Германией, Австро-Венгрией и Турцией. Но государю это было ясно. И он, принимая меры для укрепления новых связей – этой цели служила предпринятая им поездка в Италию осенью 1909 г. (свидание в Раккониджи), – не упускал из виду восстановления добрых отношений с Германией.
Министр иностранных дел А. П. Извольский, заключивший англо-русское соглашение 1907 г., приобрел, силою вещей, репутацию врага Германии. За это к нему относилась сочувственно думская оппозиция, столь враждебная к другим министрам. Сам А. П. Извольский также считал себя левее других членов кабинета, и несогласие с правительственным курсом по финляндскому вопросу побудило его летом 1910 г. снова просить государя об отставке.[159] На этот раз уход Извольского соответствовал и видам государя.
В середине августа 1910 г. государь со всею царской семьей выехал в Германию и провел там два с половиною месяца в замке Фридберге, в Гессене, на родине императрицы, в тихой деревенской обстановке. За все царствование государя это было наиболее длительное пребывание царской семьи за границей. За это время как раз скончался русский посол в Париже Нелидов, и 21 сентября на его место был назначен Извольский. Его преемником стал товарищ министра С. Д. Сазонов, свойственник П. А. Столыпина.
Государь не желал покидать Германии, не воспользовавшись случаем откровенно переговорить с императором Вильгельмом. Прусский посланник при гессенском дворе, Иениш, отмечает, что государь «несколько раз подчеркивал желание того, чтобы установился прежний тон дружеских отношений». Вильгельм II отнесся к этому несколько скептически. («Тон и желание теперь ни к чему – после Triple Entente и шести новых русских корпусов», – пометил он на докладе Иениша.) В то же время германская газета Post – не особенно влиятельная – поместила высокомерную в отношении России статью, русские газеты не остались в долгу, и «атмосфера» казалась неблагоприятной. Тем не менее новый управляющий Министерством иностранных дел С. Д. Сазонов прибыл в Германию по вызову государя, имел беседу с канцлером Бетман-Гольвегом, а вслед за тем состоялась и встреча монархов.
22 и 23 октября 1910 г., в Потсдаме, государь и Вильгельм II имели длинные политические беседы. Исходя из солидарности монархических интересов и отсутствия прямых объектов спора между Россией и Германией, оба императора взаимно обязались не поддерживать политики, направленной против интересов друг друга. Германия обещала не поощрять агрессивной австрийской политики на Балканах, Россия – не участвовать в каких-либо английских начинаниях против Германии. На Ближнем Востоке это означало поддержание status quo с разграничением торговых интересов в Персии, до пределов которой должны были проникнуть отроги еще только строившейся Багдадской железной дороги.
За беседами монархов последовал обмен мнений между министрами – Сазоновым и Бетман-Гольвегом. Государь на докладе Сазонова пометил: «Я считаю результат этих бесед весьма удовлетворительным». Со своей стороны и Вильгельм II высказывал радость по поводу того, что царь «так откровенно говорил с ним о политике».
Потсдамское свидание, однако, не восстановило в полной мере прежних дружественных отношений. Этому отчасти помешал следующий эпизод: когда Сазонов предложил письменно закрепить результат переговоров, Бетман-Гольвег составил проект, основные пункты которого гласили, что Австрия обещала не преследовать на Востоке «экспансионную политику», а Германия «не обещала и не намерена поддерживать подобную политику, если бы Австро-Венгрия к ней прибегла»; Россия со своей стороны заявляла, что «не обещала и не намерена поддерживать враждебную Германии политику Англии, если бы та повела таковую». Далее говорилось о status quo на Балканах, о стремлении локализировать конфликты и т. д.
Но С. Д. Сазонов стал возражать, что обязательства неравноценны: Германия дает обещание только в отношении Балкан, а России предлагается связать себя более общими обязательствами. Статс-секретарь Кидерлен телеграфировал послу Пурталесу (21.XI): «Для нас обязательство в отношении Англии – альфа и омега всего соглашения». Государь нашел исход. Он поручил Сазонову заявить: его величество дал германскому императору твердое обещание не поддерживать антигерманскую политику Англии; германский император обещал не поощрять австрийскую экспансионную политику на Балканах. Это обещание монархов в глазах государя ценнее обмена письменными нотами. Его величество полагается на слово германского императора и ожидает, что ему поверят на слово.
При такой постановке вопроса германскому правительству, конечно, пришлось признать себя удовлетворенным. Но ему не нравился секретный характер этих обязательств. «Только не кланяйся мне на людях», – с некоторой горечью резюмировал Кидерлен словами песенки Гейне[160] содержание русского ответа. Тем не менее, когда германский канцлер в рейхстаге заявил, что в Потсдаме Германия и Россия обещали «не вступать в агрессивные комбинации друг против друга», русское правительство высказывало полное согласие с такой формулировкой.
Русская печать весьма холодно встретила Потсдамское соглашение. В Госдуме П. Н. Милюков с неудовольствием говорил: «Это значит, что наши союзные соглашения перестали быть наступательными и остались только в оборонительной функции». («Ему хочется войны», – крикнул с места правый депутат П. Березовский.)[161] На самом деле франко-русский союз (с Англией вообще общих соглашений не было) являлся чисто оборонительным еще со времен императора Александра III; а французский министр иностранных дел Пишон, отвечая на запросы в палате, заверил, что Потсдамское свидание ни в какой мере не противоречит франко-русскому союзу. Англия, однако, была явно недовольна, и новый английский посол, сэр Джордж Бьюкенен, прибывший в Санкт-Петербург в октябре 1910 г., приложил немало усилий для того, чтобы нейтрализовать результаты Потсдамского соглашения.
В беседе с представителем «Нового времени» С. Д. Сазонов призывал русскую печать к сдержанности по адресу Германии. «Должен сказать откровенно, – говорил министр, – что вы иной раз бываете слишком желчны… В интересах обоих народов был бы полезен более мягкий тон. Если бы я был магом, я свернул бы свиток судеб так, чтобы время сократилось лет на пять. За этот срок сами собой улягутся взаимное недоверие и раздражение. Время прольет бальзам на горящие раны».[162]
Реорганизация русской оборонительной системы на основании опыта японской войны между тем деятельно продолжалась. Летом 1910 г. было издано высочайшее повеление об упразднении четырех крепостей в царстве Польском и о перемене мобилизационного плана; центры сосредоточения армий относились далее на восток от границы. Мера эта мотивировалась следующими соображениями: при меньшем развитии русской железнодорожной сети Польский выступ мог быть зажат в тиски концентрическим наступлением австрийских и германских армий, а крепости при быстром развитии артиллерийской техники оказались бы только «ловушками» для своих гарнизонов. Русская армия должна закончить свое сосредоточение вне пределов досягаемости для врага и уже затем перейти в наступление.
«Эта мера основана на чисто стратегических соображениях», – доносил своему правительству германский военный агент фон Гинце.
Французские военные круги были заблаговременно осведомлены о намеченных мерах, и никакого противоречия между франко-русской конвенцией и этими чисто техническими мерами не было. Но так как сведения об этом в заграничных газетах появились около времени Потсдамского свидания, это вызвало немалый переполох во французской печати. Газеты стали писать, что Россия отказывается от возможности наступления на Германию, что она готова уступить царство Польское и т. д. Газета Journal (в феврале 1911 г.) разразилась сенсационной статьей La fin d’une alliance. Тревога, впрочем, довольно скоро улеглась, когда компетентные круги разъяснили, что для нее не было никаких оснований.[163]
* * *
Отношения Государственной думы с военным ведомством остались удовлетворительными и после конфликта по поводу «морских штатов». 26 августа 1909 г. были изданы правила, разъяснявшие подробно, какие вопросы решаются в порядке верховного управления, какие подлежат внесению в Госдуму и Государственный совет. Думское большинство примирилось с этими правилами. Социал-демократы внесли запрос по поводу правил 26 августа, но Дума его отвергла после долгих прений, в которых выступил также и П. А. Столыпин.
«История революций, история падений государств учит нас, – говорил премьер,[164] – что армия приходит в расстройство, когда она перестает быть единой – единой в повиновении одной безапелляционной священной воле. Введите в этот принцип яд сомнения, внушите нашей армии хотя бы обрывок мыслей о том, что она зависит от коллективной воли, и мощь ее перестанет покоиться на единственно неизменной, соединяющей нашу армию силе – на власти верховной». В той же речи Столыпин заявил, что «до настоящего времени Государственная дума в своем целом с величайшим уважением относилась к правам верховного водителя нашей армии и что правительство со своей стороны никогда на права Госдумы не покушалось».
Третья дума действительно не становилась на формальную точку зрения, когда речь шла о реальных интересах обороны. Так, в отношении флота в течение двух лет (с 1908 г.) велась борьба между Думой, исключавшей кредиты на дредноуты, и Государственным советом, который их восстановлял. Наконец, государь в перерыв сессии издал распоряжение о начале постройки этих судов. Дума после этого имела возможность отвергнуть кредиты, то есть остановить постройку, но она этого не сделала, чтобы не прерывать начатое восстановление флота. Четыре дредноута были спущены на воду в 1911 г.
* * *
В 1909 г. приамурский генерал-губернатор Унтербергер слал в Петербург донесения одно тревожнее другого, передавая слухи о грозящем новом нападении Японии и жалуясь на беззащитность дальневосточной окраины. Эти донесения немало тревожили государя. Между тем Министерство иностранных дел имело совершенно обратные сведения о намерениях Японии, и оно в данном случае оказалось право. Япония стремилась к сотрудничеству с Россией, а не к возобновлению борьбы, сулившей ей только – каковы бы ни были результаты первых боев – утрату всех приобретений войны 1904–1905 гг.
Соединенные Штаты занимали позицию резко враждебную японской политике в Китае, а Англия теперь преимущественно интересовалась привлечением на свою сторону России в соревновании с Германией. В то же время как Россия, так и Япония были заинтересованы в том, чтобы не допускать в Маньчжурию новых конкурентов. Обе державы встретили весьма отрицательно предложение американского министра иностранных дел Нокса о продаже всех маньчжурских железных дорог международной компании и о строгом проведении принципа открытых дверей в Маньчжурии.
Думская оппозиция протестовала против сотрудничества с Японией. «Поддерживая Японию, – говорил в Думе П. Н. Милюков, – мы ставим деньги не на ту лошадь, которая может выиграть».[165]
Летом 1910 г. (21 июня) между Россией и Японией было подписано соглашение о сотрудничестве. Обе державы обязывались оказывать друг другу поддержку в вопросе о маньчжурских железных дорогах, совместно принимали на себя гарантию status quo в Китае и обещали сноситься друг с другом по поводу всех мер, которые окажутся необходимыми для этой цели. По существу, это был сговор о совместном противодействии влиянию третьих держав в Китае, основанный на молчаливом размежевании сфер влияния: Корея и Южная Маньчжурия – Японии, Северная Маньчжурия и Внешняя Монголия (и, быть может, Китайский Туркестан) – России.
Япония первая воспользовалась этим соглашением и уже в сентябре 1910 г. провела официальную аннексию Кореи.
Для обследования положения в Азиатской России П. А. Столыпин и министр земледелия А. В. Кривошеин ездили в конце лета 1910 г. в Западную Сибирь.[166] Еще раньше, осенью 1909 г., выезжал в Маньчжурию и во Владивосток министр финансов В. Н. Коковцов. В Харбине он имел свидание с известным японским государственным деятелем князем Ито. Свидание это трагически закончилось – на глазах у В. Н. Коковцова князь Ито был убит на платформе харбинского вокзала корейским революционером. На отношениях между Россией и Японией это убийство никак не отразилось.
Высочайший доклад Столыпина и Кривошеина, как и заключения В. Н. Коковцова, показывают, что названные министры воочию убедились в громадном значении азиатских владений России и должным образом оценили последовательно проводимую с первого года царствования политику государя, направленную на утверждение русского влияния в Азии.
Китай находился в периоде полного разложения. В конце 1908 г. скончалась «железная» императрица Цыси, лет сорок самодержавно правившая страной; одновременно с нею умер и «пленный император» Куань Сю. Престол перешел к двухлетнему племяннику покойного императора, принцу Пу И; регентом стал его отец, принц Чун, не имевший особого авторитета. Молодой китайский генерал выразительно сказал В. Н. Коковцову во время его пребывания на Дальнем Востоке: «У Китая нет головы» («China has no head»). Революционная партия развивала усиленную агитацию, особенно в Южном Китае; отдельные сановники боролись при дворе за власть. Китайское правительство в то же время пыталось «натянуть вожжи» на окраинах, поощряло их колонизацию выходцами из Внутреннего Китая, старалось ограничить права иностранцев.
На этой почве возник в начале 1911 г. между Россией и Китаем конфликт, завершившийся ультиматумом. Россия требовала соблюдения русских торговых прав и привилегий в Монголии и грозила в случае притеснения русских купцов ввести войска в китайские пределы. Этот ультиматум вызвал резкие нападки в американской и отчасти в английской печати, тотчас же подхваченные русскими оппозиционными кругами, начавшими было протестовать против «новой дальневосточной авантюры». Но Китай безоговорочно принял ультиматум, русское экономическое преобладание в Монголии было признано; и когда осенью 1911 г. в Китае началась революция, Внешняя Монголия изгнала китайские власти и провозгласила свою независимость – при фактическом протекторате России, добившейся в 1912 г., чтобы Китай признал самостоятельность Внешней Монголии и удовлетворился таким же номинальным суверенитетом над этой областью, как турецкий суверенитет в Боснии после 1876 г.
Таким образом, в результате роста русской мощи и последовательной политики государя Россия без пролития крови приобретала обширную область с большими экономическими возможностями. Если левые круги, до П. Н. Милюкова включительно, оставались в резкой оппозиции к азиатской политике России, то беспартийные либеральные органы печати вроде «Русского слова» уже начинали проявлять понимание русских национальных задач в Азии, а октябристский «Голос Москвы» писал: «Мы должны не только пододвинуть свою государственную границу к пустыням, отделяющим нас от собственно Китая, но занять на возможно большем пространстве эти пустыни, чтобы сохранить их таковыми в виде естественной эспланады нашего государства… Северная Монголия должна стать, как и Восточный Туркестан с Джунгарией, в более тесную связь с Россией».[167]
* * *
Два обильных урожая – в 1909 и 1910 гг. – дали мощный толчок всему русскому хозяйству. Земельная политика успешно развивалась. П. А. Столыпин, желавший ускорить ход реформы, считал, что Крестьянский банк, находившийся в ведении министра финансов, недостаточно идет навстречу намерениям власти и слишком осторожен в своей кредитной политике. Он задумал передать Крестьянский банк в Министерство земледелия, но встретил в этом сопротивление В. Н. Коковцова, заявлявшего, что он подаст в отставку в случае изъятия Крестьянского банка из ведения министра финансов. Вокруг этого вопроса велась долгая «тяжба перед государем».
Вопросы сельского хозяйства – как упомянул Лубе в своих воспоминаниях – неизменно пользовались особым вниманием государя. «Прочное землеустройство крестьян внутри России и такое же устройство переселенцев в Сибири – вот два краеугольных вопроса, над которыми правительство должно неустанно трудиться, – писал он Столыпину из Германии (22.IX.1910). – Не следует, разумеется, забывать и о других нуждах – о школах, путях сообщения и пр., но те два должны проводиться в первую очередь».
* * *
Законодательная работа шла полным ходом: реформа местного суда, расширение народного образования, введение канализации в Петербурге, новый продовольственный устав,[168] широкие ассигнования на улучшение сельского хозяйства (в том числе 9 миллионов на орошение так называемой Голодной степи) и немало других важных мер были проведены через палаты за эти годы. Число репрессивных мер в то же время сокращалось: так, в 1910 г. смертных казней было 129 (против 537 в 1909 и 697 в 1908 г.); в не меньшей пропорции сократились и административные высылки (в 1908 г. еще около 10 000, в 1909 г. – меньше 3000). Интерес к политике в массе населения сильно упал. Тем не менее в той части населения, которая интересовалась общественными делами, по-прежнему преобладали оппозиционные настроения. Это сказалось осенью 1909 г. на дополнительных выборах в Думу: и в Петербурге, и в Москве, и в Одессе были избраны кандидаты кадетов. Больше того: земские и городские выборы, после поправения в революционные годы, снова начинали давать более левые результаты.
Правые партии, имевшие возможность легальной деятельности, являли печальное зрелище взаимных раздоров. От Союза русского народа отделился Союз Михаила Архангела во главе с депутатом В. М. Пуришкевичем. Но и в старом союзе грызня продолжалась, и его основатель А. И. Дубровин, отстраненный от дел, обвинял новый главный совет в том, что он хочет его смерти: «Пусть поднесут мне чашу с напитком в вечность, и я спокойно осушу ее до дна!..» В провинции правые организации нередко вступали в конфликты с губернаторами, обвиняя их в либерализме. В отношении кабинета Столыпина они пребывали в «оппозиции справа».
Националисты, ставшие в Госдуме наиболее близкой к правительству партией, составляли фракцию в 105 человек – почти сравнявшись с октябристами, которых к 1910 г. осталось во фракции 117. Но националисты не имели почти никакой организации в стране. Это были, в сущности, умеренно правые беспартийные элементы, объединившиеся только в Госдуме.
Октябристы, особенно после инцидента с морскими штатами, все чаще проявляли недовольство тем, что не проводятся в жизнь «обещанные свободы». При открытии думской сессии 1909–1910 гг. А. И. Гучков говорил, что сессия открывается «под знаком неопределенности». При обсуждении сметы Министерства внутренних дел лидер октябристов (22.XI.1910) заявил: «Мы находим, что в стране наступило успокоение, и до известной степени успокоение прочное», – и выразил пожелание об отмене административной ссылки и особых полномочий губернаторов в отношении печати. «Мы, господа, ждем», – закончил А. И. Гучков.
П. А. Столыпин (в своей речи 31 марта 1910 г.) отвечал: «Там, где с бомбами врываются в казначейства и в поезда, там, где под флагом социальной революции грабят мирных жителей, – там, конечно, правительство удерживает и удержит порядок, не обращая внимания на крики о реакции». Премьер дал такую характеристику состояния страны: «После горечи перенесенных испытаний Россия, естественно, не может не быть недовольной; она недовольна не только правительством, но и Государственной думой, и Государственным советом, недовольна и правыми партиями, и левыми партиями. Недовольна потому, что Россия недовольна собой. Недовольство это пройдет, когда выйдет из смутных очертаний, когда образуется и укрепится русское государственное самосознание, когда Россия почувствует себя опять Россией».
Крайние левые партии проявляли себя мало. Социалисты-революционеры еще не оправились от удара азефовского дела. У социал-демократов шла отчаянная внутренняя борьба, возникали самые противоположные течения: «отзовисты» и «ультиматисты» требовали отозвания фракции социал-демократов из Государственной думы или предъявления к ней ультиматума о «более революционной тактике» (которая едва ли была практически осуществима); наоборот, «ликвидаторы» хотели ликвидировать старую нелегальную организацию заговорщического типа и заменить ее рабочей партией по западноевропейским образцам, опираясь на легальные профессиональные союзы, которые, хотя и подвергались нередко полицейским стеснениям за революционную пропаганду, все же получили значительное развитие. Каждое социал-демократическое течение стремилось создать свою школу: Горький и Луначарский устроили партийную школу на острове Капри (осенью 1909 г.), крайние левые большевики (группа «Вперед») – в Болонье (1910), ленинская группа – в Лонжюмо около Парижа (1911) и т. д.
Одиноким актом политического террора было (в декабре 1909 г.) убийство начальника охранного отделения Карпова, которого заманил в ловушку один революционер, обещавший выдать партийные тайны. Думская оппозиция и тут попыталась заговорить о «провокации», но думское большинство отклонило запрос. «Наша задача, – говорил граф Бобринский, – отогнать от Карпова тех гиен, которые набросились на его труп».
7 ноября 1910 г. на станции Астапово (Рязанской губ.) умер граф Л. Н. Толстой. Ему было 82 года. За десять дней перед тем, 28 октября, он покинул Ясную Поляну, чтобы уйти от противоречий между своим учением и своей личной жизнью. Кончина великого писателя, притом в столь необычной обстановке, произвела огромное впечатление. Л. Н. Толстой стоял в стороне от русской повседневной борьбы; его не могли считать «своим» ни, разумеется, государство, ни оппозиционное общество. Но он был отлучен от церкви за богохульство – и это придавало ему в глазах многих революционный ореол. В то же время Л. Н. Толстой был в тот момент, без преувеличения, писателем с наиболее громким именем не только в России, но вообще во всем мире, – гордость русской литературы.
Для власти вставала трудная задача: как отнестись к чествованиям памяти Толстого? Церковные круги и правые идеологи, вроде Л. Тихомирова, считали, что православная государственность не имеет права воздавать посмертные почести человеку, отлученному от церкви. В то же время для русского общества, как и для иностранного общественного мнения, смерть Толстого была великой русской утратой.
Государь нашел выход: на докладе о кончине Л. Н. Толстого он поставил отметку: «Душевно сожалею о кончине великого писателя, воплотившего во времена расцвета своего дарования в творениях своих родные образы одной из славнейших годин русской жизни. Господь Бог да будет ему милостивым Судией».
Государственная власть не приняла участия в гражданских похоронах Толстого: но она и не препятствовала им, хотя это и противоречило русским обычаям. Великого писателя похоронили на холме около Ясной Поляны; в похоронах участвовало несколько тысяч человек, в большинстве – молодежи.
Государственная дума в знак траура прервала свои занятия (часть правых протестовала), а председатель Государственного совета Акимов сказал краткое слово памяти Толстого (большинство правых отсутствовало, а два епископа демонстративно отказались встать).
Смерть Толстого вызвала естественное волнение среди учащейся молодежи. В ученых заведениях собирались сходки, обсуждавшие способы откликнуться на это событие. Эти сходки порою приобретали политический характер: левые партии пользовались возбуждением студенчества, чтобы толкнуть его на выступления. Пользуясь тем, что Толстой года за два до кончины написал резкую статью против смертной казни («Не могу молчать»), левые партии стали призывать студентов к шествиям «памяти Толстого» под лозунгом «Долой смертную казнь». В Петербурге 8, 9 и 10 ноября происходили уличные демонстрации – впервые со времен 1905 г. К студентам присоединились группы рабочих. Движение на Невском было прервано на несколько часов. 15-го в Москве происходили демонстрации с черными флагами. Но в Московском университете сторонники демонстраций и забастовок встретили отпор со стороны части студенчества. Профессор Е. Н. Трубецкой выступил с обличением революционной агитации, за что студенческая сходка выразила ему «порицание».
«Не начало ли это поворота?» – писал Ленин в заграничном органе социал-демократов по поводу студенческих демонстраций. Левым удалось найти повод, чтобы продлить агитацию: получено было известие, что на каторге покончил с собою убийца Плеве, Е. Сазонов, из протеста против применения телесного наказания к каторжанам. Борьба в высшей школе возобновилась. Умеренная часть студентов энергично реагировала; в Москве была организована «защита дверей»: перед дверями аудиторий, где читались лекции, становились группы студентов, которые не пропускали «срывателей». Но не везде и не всегда удавалось справиться «внутренними силами»; советам профессоров приходилось несколько раз призывать полицию для восстановления порядка. Это, в свою очередь, создавало новые поводы для «забастовок протеста». В середине декабря наступили рождественские вакации, когда волнения уже явно шли на убыль.
Однако новый министр народного просвещения Л. А. Кассо (сменивший осенью 1910 г. А. Н. Шварца) счел нужным предпринять решительные действия для пресечения всякой агитации. 11 января 1911 г. было опубликовано распоряжение Совета министров, временно запрещавшее какие бы то ни было собрания в стенах высших учебных заведений. Эта мера означала не только прекращение разрешаемых начальством сходок, но и ликвидацию всех легальных студенческих организаций. Она вызвала протест в весьма умеренных студенческих кругах.
Как только занятия возобновились, волнения вспыхнули с новой силой. Летучие сходки самочинно собирались то в коридорах, то в аудиториях; почти во всех столичных высших учебных заведениях объявлена была забастовка на весь весенний семестр. Сходки были короткими; полиция появлялась обычно, когда они уже кончались.
В Московском университете совет профессоров протестовал против того, что полиция игнорирует университетские власти, и ректор А. А. Мануйлов, а также его помощник (Мензбир) и проректор (Минаков) подали в отставку. В ответ они были не только уволены со своих постов, но и отрешены от должности профессоров. Это вызвало демонстративный выход в отставку нескольких десятков профессоров и приват-доцентов Московского университета.
Л. А. Кассо не допускал компромиссных решений. Он требовал, чтобы профессора продолжали читать лекции, хотя бы при самом ничтожном числе слушателей; в университетах были размещены полицейские отряды, немедленно арестовывавшие всех, кто пытался срывать занятия. Забастовщики на это отвечали химической обструкцией.
В течение февраля шла упорная борьба. В некоторых учебных заведениях, как, например, на Высших женских курсах, число слушавших лекции спускалось до 20–30 человек. Затем понемногу число слушателей начало возрастать. Технические высшие учебные заведения одно за другим выносили решения о возобновлении занятий. К концу марта забастовка почти везде закончилась.
В отличие от забастовки 1908 г., ликвидированной «изнутри», забастовка 1911 г. была сломлена силою внешнего принуждения. На провинцию она почти не распространилась. Опыт показал, что это орудие борьбы перестает действовать. В обществе забастовка также не вызвала былого сочувствия. «Надо надеяться, – писал А. Изгоев в «Русской мысли», – что она будет последней студенческой забастовкой, что сами студенты поймут и моральную недопустимость, и полную нецелесообразность этого средства борьбы, разрушающего высшую школу». Но и действия Л. А. Кассо вызвали критику: указывали, что забастовки вообще можно было избежать. «Сор, конечно, нужно вымести, – говорил в Думе октябрист Капустин, – но, когда вы хотите навести порядок в своем письменном столе, вы не пошлете туда дворника с метлой».
* * *
В марте 1910 г. произошло событие, имевшее серьезные последствия; о нем в то время немало говорили в Петербурге, но в печати оно отражения не нашло – и найти не могло. 8 марта лидер октябристов А. И. Гучков был избран председателем Государственной думы на место отказавшегося Н. А. Хомякова. А. И. Гучков не имел технических председательских данных; он в то же время покидал ответственный пост руководителя думского центра. Что же побудило его принять звание председателя? По-видимому, А. И. Гучков при помощи высочайших докладов желал получить возможность влиять в желательном для него направлении на самого государя. Это оказалось роковой ошибкой.
Государь угадал (или приписал Гучкову) такое намерение; он, кроме того, считал, что Гучков стремится обходным путем урезать царскую власть; и на первом же приеме, 9 марта, отступив от своей обычной приветливой манеры, встретил крайне холодно нового председателя Думы, открыто показав ему свое недоверие. В газетном сообщении о приеме было только сказано, что аудиенция «продолжалась более получаса»; обычных слов о «высокомилостивом приеме» не было. В дальнейшем между царем и председателем Думы, конечно, установились корректные официальные отношения, но о влиянии Гучкова на государя не могло быть и речи.
А. И. Гучков, человек чрезвычайно самолюбивый – о чем свидетельствует хотя бы бесконечный ряд его дуэлей, – не простил государю такого отношения. Он стал видеть в нем главное препятствие не только для себя, но и для той эволюции русской жизни, к которой он стремился. Соединение политической и личной вражды к государю сделало А. И. Гучкова весьма опасным и последовательным его врагом – тем более опасным, что по своему положению лидера умеренной, строго монархической партии и председателя Государственной думы он не мог проявлять ее открыто. Глухо говорилось об этом в его вступительной председательской речи 12 марта 1910 г.: «Я убежденный сторонник конституционно-монархического строя, и притом не со вчерашнего дня… Вне форм конституционной монархии… я не могу мыслить мирного развития современной России… Мы часто жалуемся на внешние препятствия, тормозящие нашу работу… Мы не должны закрывать на них глаза: с ними придется нам считаться, а может быть, придется и сосчитаться…»
* * *
В том же году в печати стало впервые появляться имя «старца Григория» (Распутина). Было известно, что он, с одной стороны, пользуется большой популярностью в некоторых придворных кругах; с другой – распространялись слухи о его непристойном поведении. В «Московских ведомостях» появилась изобличавшая его статья «Духовный гастролер» известного церковного деятеля М. Новоселова. Когда в июне в Петербург прибыл саратовский епископ Гермоген, «Речь» сообщила, будто он приехал «хлопотать за Распутина». Епископ по этому поводу заявил: «Три года назад он произвел на меня впечатление человека высокой религиозной настроенности; после, однако, я получил сведения о его зазорном поведении… История Церкви показывает, что были люди, которые достигали даже очень высоких духовных дарований и потом падали нравственно».
Кадетская «Речь» продолжала заниматься личностью Распутина; и «Новое время», отметив неопределенность выдвигаемых фактов, писало (18.VI.1910): «На всю обличительную кампанию «Речи» трудно смотреть иначе, как на темную и в высшей степени опасную игру», – и само намекало на «высокопоставленных вдохновителей» этой кампании.
«Старец» Григорий Распутин, родом из крестьян Тобольской губернии, действительно бывал принимаем в высшем свете; в нем многие видели «вещего человека», своего рода «пастыря душ». Несомненно, что у Распутина бывали моменты искреннего религиозного вдохновения; но в то же время он умел и «грешить бесстыдно, непробудно». Достаточно владея собой, чтобы в придворном обществе выдерживать свою роль благочестивого проповедника, он затем, попадая в иную среду, давал волю самым низким своим страстям.
Государь видел Распутина впервые в 1906 г. и отметил, что он «производит большое впечатление». Впоследствии он говорил В. Н. Орлову, что Григорий – человек «чистой веры». Он также интересовался иногда тем, как Распутин отзывается на те или иные вопросы государственной жизни; в его ответах он чувствовал нередко подлинную «связь с землей»; но особого значения его отдельным мнениям государь, конечно, не придавал.
На государыню беседы старца Григория на религиозные темы производили более сильное впечатление. Однако особое значение он получил по иной причине. Он, по свидетельству самых разных лиц, обладал способностью «заговаривать кровь», путем внушения останавливать кровь.
Наследник-цесаревич Алексей Николаевич, как это определилось уже в раннем возрасте, страдал опасным наследственным недугом – гемофилией. При этой болезни кровеносные сосуды отличаются особой хрупкостью, а кровь – слабой способностью к свертыванию. Вследствие этого всякая, самая легкая рана могла привести к опасному для жизни кровотечению, а всякий ушиб – к тяжелому внутреннему кровоизлиянию. Болезнь наследника считалась государственной тайной, но толки о ней тем не менее были широко распространены. Необходимость тщательно оберегать наследника от ушибов и поранений создавала особые условия его воспитания. Это было тем более трудно, что наследник-цесаревич отличался живым, деятельным характером и неохотно переносил всякие стеснения.
Когда выяснилось, что Распутин путем внушения лучше справляется с проявлениями этой болезни, нежели все доктора-специалисты, – это создало, разумеется, для старца Григория совершенно особое положение. Государыня видела в нем человека, от которого, в самом реальном смысле этого слова, зависела жизнь ее горячо любимого сына.
К несчастью, за пределами дворца Распутин продолжал вести себя весьма неподобающе, и это вызывало нежелательные толки. Государыня, имевшая о «старце» совершенно иное представление, не хотела верить ничему, что о нем говорили плохого, и, во всяком случае, отказывалась – из-за «клеветы», как ей казалось, – лишиться человека, умевшего несколькими словами побеждать тяжелый недуг ее сына.
Распутин сам ни на какое политическое влияние не претендовал; но для врагов императора он оказался точкой приложения искусной клеветнической кампании, совершенно извратившей истинное положение вещей.
* * *
Авиация быстро развивалась, в том числе и в России. И в Москве, и в Петербурге устраивались «авиационные недели». П. А. Столыпин живо интересовался полетами и (22.IX.1910) сам поднимался на воздух с летчиком Мациевичем (который через два дня после этого разбился насмерть).[169] Столыпин был одним из первых премьеров, поднимавшихся на аэроплане.
6 января 1911 г. государь приехал неожиданно в Мариинский театр, где шла опера «Борис Годунов». После третьего действия занавес на мгновение опустился и затем снова взвился: весь хор «бояр», с Шаляпиным во главе, опустился на колени и трижды пропел «Боже, царя храни»; хором управлял известный дирижер Направник. Гимн был подхвачен публикой. «Такого исполнения гимна я никогда более в жизни не слышал», – пишет очевидец. Левые круги долго потом не могли простить Шаляпину этой манифестации.
* * *
В условиях преобразованного государственного строя «демофильское» направление в верхах русской власти приобретало перевес над «аристократическим». Настроения народных масс, особенно той их части, которая была верна государственной идее, становились фактором, с которым трудно было не считаться.
В тех частях России, где население было смешанное, где русским приходилось сталкиваться с другими народностями, большинство русских примыкало к правым течениям. Так было в Киеве, в Одессе, во всех городах Западного края и отчасти на Кавказе. Если в Москве и Петербурге правые собирали каких-нибудь 5–10 процентов голосов, на западе за них голосовало местами 40–50 процентов городского населения, и левые кандидатуры побеждали голосами только нерусских элементов.
Западные правые крути, опиравшиеся на массы, выступали с определенными требованиями к власти. В Государственном совете редактор «Киевлянина», профессор Д. И. Пихно, внес законопроект о реформе выборов в верхнюю палату от Западного края. Он указал, что от 9 губерний в Государственный совет избрано 9 поляков, тогда как в некоторых из этих губерний всего 2–3 процента польского населения. Пихно требовал, чтобы поляков выделили в особую курию, а большинство мест предоставили русским.
Этот проект нарушал имперский принцип равенства национальностей: поляки имели большинство не как таковое, а потому, что фактически большинство крупных землевладельцев в Западном крае было польского происхождения. В Государственном совете предложение Пихно не встречало большого сочувствия, и при его обсуждении бывший обер-прокурор Синода, А. Д. Оболенский, так формулировал старую «имперскую» точку зрения: «Основное начало нашей государственности заключается в том, что в Российской монархии есть Русский царь, перед которым все народы и все племена равны. Государь император выше партий, национальностей, групп и сословий. Он может спокойно сказать: «Мои поляки, мои армяне, мои евреи, мои финляндцы». Все они – его…»
Однако, к удивлению многих, председатель Совета министров П. А. Столыпин высказался сочувственно о проекте Пихно, который большинством голосов был передан на комиссию. С этого момента, в мае 1909 г., определился новый курс Столыпина – провозглашение нового принципа русского национализма.
В русском обществе, до 1905 г. чуравшемся национализма, в это время тоже начинали проявляться национальные течения. В. Б. Струве выступил в «Слове» с рядом статей о «национальном лице». «Русская интеллигенция, – писал он, – обесцвечивает себя в российскую… Так же как не следует заниматься обрусением тех, кто не желает «русеть», так же точно нам самим не следует себя «оброссиивать». В тяжелых испытаниях последних лет вырастает наше национальное русское чувство, оно преобразилось, усложнилось и утончилось, но в то же время возмужало и окрепло. Не пристало нам хитрить с ним и прятать наше лицо».[170]
В литературном журнале «Весы» известный поэт Андрей Белый выступил (в 1909 г.) с резкой статьей против «засилья» нерусских элементов в литературе и художественной критике. «Главарями национальной культуры, – писал он, – оказываются чуждые этой культуре люди… Чистые струи родного языка засоряются своего рода безличным эсперанто из международных словечек… Вместо Гоголя объявляется Шолом Аш, провозглашается смерть быту, учреждается международный жаргон… Вы посмотрите на списки сотрудников газет и журналов в России: кто музыкальные, литературные критики этих журналов? Вы увидите сплошь имена евреев… пишущих на жаргоне эсперанто и терроризирующих всякую попытку углубить и обогатить русский язык».
Такие статьи, необычные для русской интеллигенции, свидетельствовали о значительной перемене умонастроений. Но конечно, между этим национализмом в области культуры и великорусским государственным национализмом Столыпина разница была велика.
Осенью 1909 г. Столыпин внес в Совет по делам местного хозяйства проект введения земства в девяти западных губерниях, причем в задание входило, чтобы эти земства имели русское большинство. Правительство в то же время поддерживало выдвинутый епископом Холмским Евлогием проект выделения русских частей Седлецкой и Люблинской губерний в особую Холмскую губернию.
Возникший вновь конфликт между русской властью и Финляндией по поводу вопросов общеимперского законодательства побудил Столыпина вернуться на путь, оставленный в 1905 г., и провести без согласия Финляндского сейма законопроект о соотношении между Российской империей и Финляндией. К тому же циклу «националистических» мер принадлежал и проект ограничения немецкой колонизации в западных губерниях, где после 1905 г. значительно усилилась скупка помещичьих земель немцами-колонистами. Думское большинство, в общем, отнеслось сочувственно к этим мерам, тогда как оппозиция резко против них восставала.
Законопроект о Финляндии, внесенный в Думу 14 марта 1910 г., вызвал многочисленные протесты за границей: группы видных профессоров-юристов печатали «манифесты», доказывая неправомерность законодательства по финляндским делам без согласия сейма; свыше 400 французских депутатов и сенаторов прислали протест в Госдуму. Финский сейм отказался дать заключение по проекту, признав его противоречащим основным законам Великого княжества Финляндского.
П. А. Столыпин, защищая проект в Госдуме, признал юридическую спорность вопроса: «Масса материалов, документов, актов, касающихся отношений Финляндии к России, дает возможность защищать всякую теорию: достаточно для этого повыдергать из архивных груд нужные для этого материалы… Для этого не нужно особой недобросовестности. Достаточно некоторой предвзятости и предубежденности». Отстранив юридические соображения, премьер ссылался на государственные интересы России и утверждал, что отклонение проекта было бы сочтено в Финляндии признаком слабости: «Разрушьте, господа, этот опасный призрак, нечто худшее, чем вражда и ненависть, – презрение к нашей родине».
Думская оппозиция из протеста покинула зал, когда большинство высказалось за ускоренный порядок обсуждения; правые и националисты оказались в большинстве, и правительственный проект прошел полностью, хотя октябристы и собирались внести в него ряд смягчающих поправок.
В Государственном совете, несмотря на возражения не только левых, но и нескольких правых, проект был принят огромным большинством; он стал законом 17 июня 1910 г. По этому закону Финляндский сейм сохранял только совещательный голос во всех существенных вопросах как общеимперского, так и внутреннего законодательства (о печати, о собраниях и союзах, о народном образовании, о полиции и т. д.). До издания новых законов в силе, однако, оставались старые, и фактически особых перемен в Финляндии не произошло. Но антирусские течения в этой области значительно усилились: финляндцы сочли, что русская власть – на этот раз с согласия русских народных представителей – нарушила вторично их исконные права.
* * *
П. А. Столыпин, сам долго проживавший в Западном крае (у него было имение в Ковенской губернии, с 1897 г. он был назначен ковенским губернатором и предводителем дворянства), с особым вниманием относился к вопросу о западном земстве. Он решил отложить его введение в тех губерниях, где русских элементов было слишком мало (Ковенской, Виленской, Гродненской), а в остальных шести[171] ввести земское положение 1890 г. со значительными поправками. Так как почти все крупное землевладение было польским, ценз был вдвое понижен против общерусского; избиратели были разделены на две курии, польскую и русскую, причем русская везде избирала большее число гласных. Особые правила закрепляли преобладание русских в управах и в составе земских служащих.
В Государственной думе этот проект подвергся ожесточенной критике слева за нарушение равенства национальностей. Столыпин горячо защищал свой проект. «Мы стремимся, – говорил он (7.V.1910) оградить права русского экономически слабого большинства от польского экономически и культурно сильного меньшинства… Достойна ли русского правительства роль постороннего наблюдателя, стоящего на историческом ипподроме или в качестве беспристрастного судьи у призового столба и регистрирующего успехи той или иной народности? Цель проекта, – заключил премьер, – запечатлеть открыто и нелицемерно, что Западный край есть и будет край русский, навсегда, навеки!»
В этих же прениях Столыпин произнес свои известные слова (по адресу поляков, упрекавших его в мстительности): «В политике нет мести, но есть последствия».
Дума приняла проект со значительными поправками, смягчавшими его антипольский характер. Она уменьшила число представителей духовенства, отвергла требование, чтобы председатели управ и большинство служащих были русскими, но сохранила самый принцип национальных курий. При окончательном голосовании против проекта высказались как левые, так и правые; и даже националисты, устами епископа Евлогия, объявили, что только «с болью в сердце» голосуют за такой искаженный проект. Тем не менее проект был принят Думой большинством 165 против 139 голосов. Государственный совет приступил к его обсуждению только через восемь месяцев.
* * *
В Саратовской губернии были большие нелады между церковными и гражданскими властями. Властный епископ Гермоген с амвона обличал губернатора, графа С. С. Татищева, открыто критиковал политику правительства. Иеромонах Илиодор, еще молодой инок, обладавший редким демагогическим даром, собирал в Царицыне огромные толпы последователей и в еще более резкой форме нападал как на правительство, так и на частных лиц; называл министров «жидомасонами».
Гражданские власти добились, чтобы Синод перевел Илиодора в другую епархию. Но Илиодор с толпой в несколько тысяч человек заперся в монастыре, воздвигнутом руками его последователей, и отказывался повиноваться не только гражданской, но и церковной власти: «Уморю себя голодом, если меня не оставят в Царицыне».
Государь не хотел применения силы против религиозно настроенной, хотя и непокорной толпы и отправил своего флигель-адъютанта в Царицын для переговоров. («Народ должен знать, – писал он Столыпину, – что царю близки его горе и его радости».) Илиодора удалось уговорить подчиниться и уехать в монастырь в Тамбовской губернии.
Но государь, считая, что обер-прокурор Синода (С. М. Лукьянов) проявил во всем этом деле и слабость, и неумелость, решил заменить его бывшим помощником Победоносцева В. К. Саблером, который пользовался большим авторитетом в кругах высшего духовенства. Столыпин защищал Лукьянова. «За действия по отношению к Илиодору, – писал он государю (26.II.1911), – ответственен исключительно я. Если теперь вся видимость обстоятельств сложится, как будто С. М. Лукьянов отставлен за Илиодора, совесть меня будет мучить, что не отстоял. Для государственного человека нет большего греха и большего проступка, как малодушие».
Государь тем не менее назначил В. К. Саблера обер-прокурором Синода.
* * *
Государственный совет приступил к обсуждению вопроса о западном земстве 1 февраля 1911 г. Сразу определилось, что основная группа центра и левые против главного пункта проекта – национальных курий. Но от центра отделилось его правое крыло, и правительство считало, что при поддержке правых большинство в пользу проекта обеспечено. Между тем и среди правых имелись противники проекта. Одни считали, что понижение ценза – нежелательный прецедент для остальных губерний; другие исходили из имперского принципа равенства и не считали возможным ограничивать в правах консервативное польское дворянство в пользу русской «полуинтеллигенции». Председатель фракции правых П. Н. Дурново прислал государю записку, развивавшую довод противников проекта.
По просьбе Столыпина государь передал фракции правых через председателя Государственного совета, М. Г. Акимова, пожелание о том, чтобы правые в этом вопросе поддержали правительство. Это было многими воспринято как незаконное давление. Один из противников проекта, В. Ф. Трепов, добился аудиенции у государя, изложил свои соображения и спросил, следует ли понимать его слова, переданные через М. Г. Акимова, как прямой царский приказ. Государь ответил, что члены Государственного совета могут, разумеется, «голосовать по совести». Эти слова государя были доложены В. Ф. Треповым во фракции правых накануне решающего голосования о национальных куриях в Государственном совете, причем Столыпин об этом заранее осведомлен не был.
4 марта, после кратких прений, Государственный совет приступил к голосованию решающей статьи – и неожиданно для премьера она оказалась отвергнутой большинством 92 голосов против 68. Из правых 28 человек (П. Н. Дурново, В. Ф. Трепов, А. А. Ширинский-Шихматов и др.) голосовали против правительства. В числе противников правительственного предложения был Н. П. Балашов – отец лидера думских националистов.
П. А. Столыпин тотчас же покинул заседание Государственного совета. Он придавал вопросу о западном земстве огромное значение; но, быть может, еще более для него существенным показался факт голосования против правительства видных правых членов Государственного совета по назначению, недавно принятых в аудиенции государем. Он усмотрел в этом интригу, направленную лично против него.
Теперь, на основании всего имеющегося материала, можно сказать, что в данном случае интриги не было; правые члены Государственного совета действительно голосовали «по совести» – одни (как, например, Н. П. Балашов) не сочувствовали национальным куриям из общеимперских соображений, другие вообще не желали распространения земства на новые губернии. Можно не соглашаться с такой точкой зрения, но нельзя отрицать ее законность; и аудиенция В. Ф. Трепова у государя была только ответом на попытку сослаться на высочайшую волю для давления на правых в пользу проекта.
Тем не менее было бы также неосновательно видеть в резкой реакции Столыпина на решение Государственного совета проявление досады и личного самолюбия. На этом частном примере премьер убедился, что Государственный совет может обратиться в средостение между правительством и Госдумой, стать тормозом для реформ, которых одинаково желают и государственная власть, и выборное представительство. Кроме того, П. А. Столыпин ощущал, что в создавшейся обстановке умаление его престижа лишит его всякой возможности плодотворной работы.
5 марта Столыпин выехал с докладом к государю и сообщил ему о своем решении подать в отставку.[172] Государь был поражен, что председатель Совета министров хочет уходить по такому частному поводу. Столыпин сказал, что не может помириться с интригами, подрывающими его влияние, тем более что его противники ссылаются на волю монарха.
Государь ответил, что не считает возможным лишиться Столыпина. Кроме того, «во что же обратится правительство, зависящее от Меня, если из-за конфликта с Советом, а завтра с Думой будут сменяться министры». Он просил Столыпина придумать иной исход.
П. А. Столыпин тогда предложил распустить обе палаты на несколько дней и провести закон о западном земстве по 87-й ст. Государь спросил: «А вы не боитесь, что та же Дума осудит вас за то, что вы склонили меня на такой искусственный прием?» Столыпин ответил, что Дума «будет недовольна только наружно, а в душе довольна». Государь сказал: «Хорошо, чтобы не потерять вас, я готов согласиться на такую небывалую меру, дайте мне только передумать ее». Тогда Столыпин просил разрешения высказать еще одну мысль и, резко охарактеризовав действия Дурново и Трепова, «усердно просил» государя не только осудить их, но и подвергнуть взысканию, которое «устранило бы возможность и для других становиться на ту же дорогу».
«Государь, выслушав такое обращение, – рассказывает сам Столыпин, – долго думал и затем, как бы очнувшись от забытья, спросил: «Что же желали бы вы, Петр Аркадьевич, чтобы я сделал?» Столыпин сказал, что «этим лицам» следует предложить уехать из Петербурга и на некоторое время прервать свою работу в Государственном совете. Государь на это никак не отозвался и только обещал обдумать все, что Столыпин ему сказал, и ответить «так же прямо и искренне».
На следующий день П. А. Столыпин созвал частное совещание министров и рассказал о своей аудиенции у государя. Большинство министров молчало, видя по настроению премьера, что пытаться переубедить его бесполезно. А. В. Кривошеин и государственный контролер П. А. Харитонов пробовали указать, что для положения самого Столыпина был бы желателен более примирительный исход в вопросе о Дурново и Трепове. На это Столыпин резко ответил: «Пусть ищут смягчения те, кто дорожит своим положением, а я нахожу и честнее, и достойнее просто отойти совершенно в сторону, если только еще приходится поддерживать свое личное положение».
После ухода остальных министров В. Н. Коковцов, в свою очередь, высказал сомнение в желательности намеченных мер: едва ли и Дума будет довольна; во всяком случае, над законодательным порядком будет произведено насилие, а его вообще не прощают. Еще сомнительнее требовать от государя, чтобы он карал тех, кого сам принял в аудиенции. Коковцов советовал провести закон нормальным путем, вторично внеся его в законодательные учреждения. Столыпин возразил, что у него нет «ни умения, ни желания» проделывать «такую длительную процедуру; лучше разрубить клубок разом, чем мучиться месяцами над работой разматывания клубка интриг».
Государь обдумывал свой ответ четыре дня. За это время сведения о кризисе проникли в печать. В думских кругах возмущались «интригой крайних правых». Л. Тихомиров прислал Столыпину телеграмму: «Приношу дань глубокого уважения до конца стойкому защитнику национальных интересов». Из Западного края получались резкие протесты против решения Государственного совета. Оппозиционная печать держалась выжидательно. 8 марта в окне у известного петербургского фотографа Дациаро появился портрет В. Н. Коковцова с подписью: «Председатель Совета министров»; на следующий день его убрали…
Императрица Мария Феодоровна и некоторые великие князья убеждали государя согласиться на все условия Столыпина.
10 марта П. А. Столыпин был наконец снова вызван в Царское Село. Государь подписал указ о перерыве сессии палат от 12 по 14 марта и поручил председателю Государственного совета объявить П. Н. Дурново и В. Ф. Трепову его повеление выехать из столицы и до конца года не посещать заседаний Государственного совета.[173] Государь предпочел совершить действия, справедливость и даже законность которых ему представлялась сомнительной, чтобы только не лишиться П. А. Столыпина. Это ярко свидетельствует о том, как высоко он ценил его заслуги. «Неслыханный триумф Столыпина», – писал (12.III) в своем дневнике граф А. А. Бобринский.
Как только (12 марта) был опубликован указ о перерыве сессии, в обществе началось сильное волнение. Представители октябристов явились к премьеру и решительно заявили, что для них такое искусственное применение ст. 87-й абсолютно неприемлемо. П. А. Столыпин ответил, что это, конечно, известный «нажим на закон», но что проект будет проведен в думской редакции: все происшедшее – решительная победа над «реакционным заговором»; Госдуме совершенно не о чем беспокоиться. После этого П. А. Столыпин, в сознании одержанной победы, в самом бодром настроении уехал на несколько дней отдыхать в имение своей дочери. Вернувшись, он уже застал совершенно иную обстановку…
Когда 14 марта был действительно издан по 87-й ст. закон о западном земстве, общее впечатление можно было выразить словами: «Так играть законом нельзя». Эта формальная, правовая сторона происшедшего затмила все остальное.
А. И. Гучков из протеста сложил с себя звание председателя Думы и уехал в долгое путешествие на Дальний Восток. Несколько думских фракций внесли запросы о «нарушении Основных Законов». Правые были крайне раздражены репрессиями против Дурново и Трепова. «Возмущению Петербурга нет границ», – отмечал (14.III) в своем дневнике граф А. А. Бобринский, добавляя по адресу Столыпина: «Имел такую исключительно удачную партию на руках и так глупо профершпилился!» Л. Тихомиров, только что приветствовавший Столыпина, когда ожидалась его отставка, теперь писал: «Столыпин решился взять рекорд глупости… Хорош заговор! Все программы монархических союзов требуют восстановления самодержавия… Какой же тут заговор? Множество лиц, при всех аудиенциях, единолично и в депутациях, просили государя изменить учреждение 1906 г. Какие тут окольные пути! Не ожидал я, чтобы Столыпин в пылу борьбы мог унизиться до явно лживого доноса…»
В первом же заседании Госдумы, 15 марта, обсуждались запросы о 87-й ст. «К нам обращаются с искусительным предложением, – говорил октябрист С. И. Шидловский. – Раз мы стоим на почве законности, мы не должны отделять себя от Верхней Палаты… Смешно и трагично, что лица, руководящие русской политикой, настолько неосведомленны, что они считают возможным найти в Думе поддержку для грубых правонарушений».
«Как будут сконфужены заграничные газеты, – злорадно иронизировал П. Н. Милюков, – когда узнают, что наших членов Верхней Палаты за выраженное ими мнение не только подвергают дисциплинарной ответственности, как чиновников, но и отечески карают, как холопов… Благодарите нового Бориса Годунова!»
«Когда у Карамзина спросили об Аракчееве, – так закончил свою речь В. Н. Львов, – он ответил: священным именем Монарха играет временщик».
Н. Е. Марков от фракции правых заявил, что не поддерживает запроса: Думу можно распускать «и на час, и через час». Но граф А. А. Бобринский, от той же фракции, сказал, отвечая на свой же риторический вопрос, хорошо ли поступил Столыпин в отношении Дурново и Трепова: «Ох, Ваше Высокопревосходительство, нехорошо!»
Только националисты высказались за Столыпина. Из видных думских ораторов лишь В. В. Шульгин (по этому случаю перешедший от правых к националистам) выступил в его защиту. Запросы были приняты громадным большинством.
Если «Новое время» в передовых статьях еще продолжало поддерживать премьера, то М. Меньшиков, чуткий к «настроениям сфер», уже спрашивал насчет П. Н. Дурново: «Если бы он не обнаружил бесхитростного мужества, чисто солдатского, и чисто солдатской верности Престолу – как вы полагаете, сделал ли бы П. А. Столыпин какую-нибудь карьеру?»
Вслед за Госдумой запрос правительству предъявил и Государственный совет. В тех же тонах премьера критиковали А. Ф. Кони, поляк И. А. Шебеко и граф Д. А. Олсуфьев, сказавший, что от членов Государственного совета, очевидно, требуется «не служба царю, а прислуживание правительству». Столыпин, явно не ожидавший такой бурной реакции, видел, как почва ускользает у него из-под ног. Государь и В. Н. Коковцов оказывались правы в своих сомнениях: общество не испугалось «реакционного заговора», но решительно восстало против «нажима на закон».
П. А. Столыпин 1 апреля отвечал на запрос в Государственном совете. Он доказывал, что «чрезвычайные обстоятельства», дающие право применить ст. 87-ю, в том и состояли, что Государственный совет отверг меру, которой страстно ждало население Западного края: «Правительство не может признать, что Государственный совет безошибочен и что в нем не может завязаться мертвый узел, который развязан может быть только сверху. Хорош ли такой порядок, я не знаю, но думаю, что он иногда политически необходим, как трахеотомия, когда больной задыхается и ему необходимо вставить в горло трубочку для дыхания».
Государственный совет, большинством 99 против 53, признал объяснения премьера неудовлетворительными.
В Госдуме П. А. Столыпин выступил 27 апреля.[174] Он намекал на то, что указ 14 марта создает прецедент, благоприятный для Государственной думы:[175] проект проведен в думской редакции. «И как бы вы, господа, ни отнеслись к происшедшему, как бы придирчиво вы ни судили даже формы содеянного, я знаю, я верю, что многие из вас в глубине души признают, что 14 марта случилось нечто, не нарушившее, а укрепившее права молодого русского представительства!»
Из ответных речей наибольший успех в Думе имело выступление В. А. Маклакова; он сравнивал Столыпина с пастухом, который, «когда ему говорят: «Смотри, стадо в овсе!» – отвечает: «Это не наш овес, а соседский!» Избави нас Бог от таких пастухов… Председатель Совета Министров еще может удержаться у власти, но это агония», – заключил Маклаков, возвращая Столыпину его известные слова: «В политике нет мести, но последствия есть; эти последствия наступили, их не избегнуть!»
Государственная дума осудила действия премьера большинством 202 голосов против 82.
* * *
Даже сторонники П. А. Столыпина сознавали, что премьер попал в тупик; П. Н. Балашов советовал ему распустить Думу и произвести новое изменение избирательного закона. Но такая политика «диктаторского типа» была возможна только при полном одобрении со стороны верховной власти. А государь считал, что П. А. Столыпин в последнем кризисе поступил неправильно; что он ему уступил – и вышло только хуже; и у него уже не было прежнего доверия к политической прозорливости премьера.
«Престиж Столыпина как-то сразу померк. Клубы, особенно близкие к придворным кругам, в полном смысле слова дышали злобой… – отмечает в своих мемуарах граф В. Н. Коковцов. – Столыпин был неузнаваем… Что-то в нем оборвалось, былая уверенность в себе куда-то ушла, и сам он, видимо, чувствовал, что все кругом него молчаливо или открыто, но настроено враждебно».
Но дело с западным земством было доведено до конца: сессии Думы и Совета были закрыты за два дня до истечения того двухмесячного срока, который дается на внесение в палаты законов, проведенных по 87-й ст. Таким образом, закон остался в силе – теоретически хотя бы до осени, – а летом состоялись земские выборы в шести губерниях Западного края. Они не дали националистам ожидавшейся победы, состав гласных был в большинстве беспартийный.
Моментом, когда Столыпин подавал в отставку, воспользовался Илиодор и бежал из обители, куда его выслали, обратно в Царицын. Снова собралась многотысячная толпа вокруг монастыря – епископ Гермоген на этот раз стал открыто на сторону Илиодора. Только что прибывший в губернию новый саратовский губернатор П. П. Стремоухов запросил Петербург, что ему делать. Товарищ министра внутренних дел П. Г. Курлов ответил, что полиция ночью должна проникнуть в монастырь и арестовать Илиодора. П. П. Стремоухов, опасаясь, что это вызовет кровопролитие, запросил самого Столыпина; тот 24.III ответил: «Прекратить всякие действия против монастыря и Илиодора». Таким образом Илиодору удалось остаться в Царицыне. П. А. Столыпин затем говорил П. П. Стремоухову: «Ужасно то, что в своих исходных положениях Илиодор прав… но приемы, которыми он действует, и эта безнаказанность – все губят».
Летом Л. Тихомиров прислал Столыпину записку, в которой убеждал его взять на себя почин реформы, которая вернула бы царской власти свободу законодательного творчества, – иными словами, сделала бы Госдуму совещательным учреждением. Столыпин на этой записке пометил (9 июля): «Все эти прекрасные теоретические рассуждения на практике оказались бы злостной провокацией и началом новой революции».
П. А. Столыпин, ощущая себя в состоянии «полуотставки», на все лето уехал отдыхать в свое имение Колноберже и лишь ненадолго приезжал в июле в Петербург. За это время министр земледелия А. В. Кривошеин сговорился с замещавшим премьера В. Н. Коковцовым и отказался от требования о передаче Крестьянского банка из Министерства финансов в ведомство земледелия, на чем так усиленно настаивал премьер («Вы меня предали», – с горечью говорил ему Столыпин в июле).
Граф Витте – к утверждениям которого необходимо всегда относиться с осторожностью – пишет, будто государь на одном из докладов Столыпина сказал ему: «А для вас, Петр Аркадьевич, я готовлю другое назначение». Ходили слухи, что премьер будет назначен на пост либо посла, либо наместника на Кавказе, или же на новую должность, например наместника в Западном крае; что при этом он получит графский титул.
В международной политике лето 1911 г. ознаменовалось «агадирским инцидентом». Франция ввиду беспорядков в Марокко, угрожавших жизни иностранцев, отправила в глубь страны свои войска; Германия тогда прислала в южномарокканский порт Агадир канонерку «Пантера», претендуя на право самой защищать своих сограждан в этом районе. Во Франции это сочли вызовом, вторжением во французскую сферу влияния. Англия – устами Ллойд Джорджа в нашумевшей речи на банкете у лондонского лорд-мэра – обещала Франции свою поддержку. С обеих сторон было сильное возбуждение.
Россия в этом конфликте оставалась нейтральной. Оборонительный союзный договор с Францией не обязывал ее вмешиваться в марокканские дела. В отсутствие Столыпина и вследствие продолжительной болезни С. Д. Сазонова Россию в момент кризиса представлял товарищ министра иностранных дел А. А. Нератов, который на вопрос германского посла подтвердил, что «Россия поддержит все шаги, имеющие целью устранить из международной политики марокканский вопрос, как повод для трений».
6 (19) августа, в самый разгар кризиса, было подписано русско-германское соглашение по персидским делам, свидетельствующее о добрых отношениях между обеими державами. Определенно миролюбивая позиция России помогла французскому премьеру Кайо разрешить конфликт путем компромисса.
В конце августа в Киеве должно было состояться открытие памятника императору Александру II в присутствии государя и высших представителей правительства. П. А. Столыпин придавал особое значение этим торжествам, во время которых должно было в первый раз проявиться оживление общественной жизни в Юго-Западном крае в связи с введением земства. О том, что на киевские торжества прибудут высочайшие особы и виднейшие сановники, было известно заранее в самых широких кругах.
П. А. Столыпин приехал в Киев 25 августа, за четыре дня до прибытия царской семьи. Торжества начались с посещения киевских святынь: Софийского собора, Печерской лавры. Государю представлялись многочисленные делегации.
31 августа состоялся большой военный смотр, а вечером – концерт в роскошно иллюминованном Купеческом саду на крутом берегу Днепра. Празднества проходили с большим подъемом. Столыпин по ряду неуловимых признаков ощущал, однако, что его отставка становится все более вероятной. «Положение мое пошатнулось, – говорил он товарищу министра внутренних дел П. Г. Курлову, – я и после отпуска, который я испросил себе до 1 октября, едва ли вернусь в Петербург председателем Совета министров…»
1 сентября состоялся смотр «потешных», которыми государь всегда особенно интересовался. В тот же вечер в Городском театре был торжественный спектакль, ставили «Жизнь за царя». У киевской полиции были сведения, что какие-то террористы готовят покушение, и в первые дни торжества кордоны полиции и жандармов видны были повсюду. Они стесняли толпу, собравшуюся приветствовать царя, и по его настоянию были сведены к минимуму. Киевские народные массы были исполнены самого неподдельного монархического одушевления, и это радовало и трогало государя.
Спектакль в Городском театре уже близился к концу; министр финансов В. Н. Коковцов, уезжавший в Петербург, уже простился со Столыпиным, когда во время второго антракта, в 11 часов 30 минут вечера к премьеру, стоявшему перед первым рядом кресел, быстрыми шагами подошел неизвестный молодой человек во фраке и почти в упор произвел в него два выстрела. П. А. Столыпин пошатнулся, но выпрямился и, повернувшись к царской ложе, левой рукой осенил ее широким крестным знамением (правая была прострелена). Потом он опустился в кресло. Раздались крики ужаса; в возникшей суматохе убийца, медленно направлявшийся к выходу, едва не скрылся, но у двери его схватили. Чтобы остановить панику, оркестр заиграл народный гимн, и государь, подойдя к барьеру царской ложи, стал у всех на виду, как бы показывая, что он – тут, на своем посту. Так он простоял – хотя многие опасались нового покушения, – пока не смолкли звуки гимна.
Первую помощь Столыпину подал профессор Г. Е. Рейн. Раненого перевезли в клинику д-ра Маковского. Сразу же определилось, что одна из пуль задела печень и что положение весьма серьезно. «Передайте государю, что я рад умереть за Него и за Родину», – сказал П. А. Столыпин, когда его выносили из театра.
Первые два-три дня сильный организм премьера боролся с ранением, и в газетах писали, что он, вероятно, выживет. Ту же надежду высказывал и государь. Улицы, ведущие к больнице, были запружены народом. Со всех концов России поступали на имя Столыпина телеграммы с выражением скорби и ужаса и с пожеланием выздоровления. Исполнение обязанностей председателя Совета министров было возложено на В. Н. Коковцова.
* * *
Покушение на П. А. Столыпина произвело огромное впечатление, еще усилившееся толками, возникшими вокруг личности убийцы. На этом человеке, сыгравшем такую роковую роль в истории России, необходимо подробнее остановиться.
Дмитрий Богров (Мордко его стали называть только после ареста) был сыном богатого еврейского домовладельца, состоявшего даже членом киевского Дворянского клуба. К моменту покушения ему было 24 года. Он еще с гимназического возраста исповедовал крайние революционные убеждения, но ни одна партия его не удовлетворяла, хотя он и называл себя «анархистом-коммунистом». В 1907 г. он предложил свои услуги киевскому охранному отделению и сообщил ему немало данных (по проверке оказалось, что они «носили совершенно безразличный характер»).[176] В деньгах Богров никогда нужды не испытывал – есть все основания полагать, что с охранным отделением он связался в интересах революции. Киевская полиция ему верила, но, когда Богров, переехав в Петербург, попытался и там связаться с охраной, ее начальник, полковник фон Коттен, отнесся к нему с явным недоверием. После этого Богров на два-три года совершенно порвал с охраной и, окончив университет, поступил на частную службу.
В 1910 г. Богров явился к известному социал-революционеру Е. Е. Лазареву и заявил ему, что намерен убить Столыпина. «Это не шутка и не сумасшествие, а обдуманная задача, – говорил он. – В русских условиях систематическая революционная борьба с центральными лицами единственно целесообразна». Богров просил, чтобы после его казни объявили, что убийство совершено с ведома партии социалистов-революционеров, что это – начало новой кампании революционного террора. Е. Е. Лазарев, которому все это показалось фантастичным, отказался дать какие-либо обещания.
Примерно через год после этого разговора, накануне киевских торжеств, Богров пришел к начальнику Киевского охранного отделения Кулябке, который его знал четыре года перед тем как одного из своих агентов, и подробно рассказал ему (оказавшийся полностью вымышленным) план покушения, для которого в Киев будто бы должны прибыть два террориста. Богрову удалось так правдоподобно все изложить, что Кулябко всецело ему поверил. В течение нескольких дней Богров сообщал полиции разные «сведения» о ходе «заговора»; за это время он сумел внушить к себе такое доверие, что Кулябко выдал ему билет сначала на концерт в Купеческом саду, а потом и в Городской театр.
В Купеческом саду Богров имел возможность убить государя; он этого не сделал, так как счел, что убийство царя евреем могло бы вызвать массовые еврейские погромы. Совершив покушение на Столыпина, Богров не только не отрицал своей связи с охраной, но, наоборот, усиленно подчеркивал ее.
Данные о Богрове, опубликованные уже после революции (в особенности книга его брата), с большой убедительностью вскрывают истинный замысел убийцы: он хотел не только устранить Столыпина, но в то же самое время посеять смуту в рядах сторонников власти, внести между ними взаимное недоверие, заставить их начать «стрельбу по своим». Богров сознательно жертвовал своей «революционной честью», чтобы нанести более опасный удар ненавистному ему строю. И он действительно достиг обеих своих целей…
С того момента, как выяснилось, что Богров попал в театр по билету охранного отделения, начались толки, будто Столыпина убили какие-то правые «вдохновители» охраны. Чаще всего называли имя товарища министра внутренних дел Курлова. Дошло до того, что представители киевских правых организаций пожелали присутствовать при казни Богрова, дабы убедиться в том, что повесили действительно его, – так велико было в тот момент недоверие к власти.
С тех пор версия о Богрове как исполнителе какой-то «вендетты» охранного отделения (для которой не было решительно никаких оснований) глубоко укоренилась в психологии общества, создавая недоверие именно к тем органам, которые боролись с революцией; легенда о Богрове стала мощным революционным фактором.[177]
* * *
3 сентября клинику д-ра Маковского посетил государь; 4-го утром прибыла из Ковенской губернии супруга премьера, О. Б. Столыпина. К этому времени состояние раненого было уже признано безнадежным, и 5 сентября, в 10 часов 12 минут вечера, П. А. Столыпина не стало.
В эту минуту широкие круги русского народа почувствовали, какого большого государственного человека утратила Россия. Оппозиционная печать, ухватившаяся за версию «убийцы-охранника», конечно, писала, что Столыпин погиб «жертвой созданной им системы». Но геройская смерть на посту примирила со Столыпиным всех, кто готов был еще весною в нем усомниться. Едва ли не самым ярким был отклик Л. Тихомирова; он писал: «На разбитых щепках некогда великого корабля, с изломанными машинами, пробоинами по всем бортам, с течами по всему дну, при деморализованном экипаже, при непрекращающейся бомбардировке врагов государства и нации – П. А. Столыпин, страшным напряжением своих неистощимых сил, беспредельной отдачей себя долгу, редкими правительственными талантами, умел плыть и везти пассажиров, во всяком случае, в относительном благополучии… Были лица более глубокие в смысле философии государства, более, конечно, твердого характера, более обширных знаний и, конечно, более определенного миросозерцания. Но правителя, соединившего такую совокупность блестящих качеств, необходимых в то время, когда одному приходится заменять десятерых, правителя такого самоотвержения, такой напряженной сердечной любви к России – я не видел».
Тихомиров приводил слова самого Столыпина: «Что я такое – я не знаю. Но я верю в Бога и знаю наверное, что все мне предназначенное я совершу, несмотря ни на какие препятствия, а чего не назначено – не совершу ни при каких ухищрениях… Я верю в Россию. Если бы я не имел этой веры, я бы не в состоянии был ничего сделать».
П. Б. Струве в «Русской мысли» писал, что в русском обществе убийство Столыпина вызвало «непреодолимое естественное отвращение». Впервые совершилось «убийство государственного деятеля, которого столь многие люди знали как живую индивидуальность, а не как отвлеченный знак некой политической системы… Как революционный акт, убийство Столыпина совершенно случайно». Отметив как заслуги, так и ошибки покойного, Струве писал, что его характерными чертами были «большая, незаурядная сила духа и достойная удивления крепость и упругость воли».
В «Киевлянине» В. Шульгин вспоминал Вторую думу и историческую речь Столыпина с его «Не запугаете»: «Зверя укротили. Через полчаса на улицах Петербурга люди поздравляли друг друга. Россия могла потушить свой Диогенов фонарь: она нашла человека. Прошло пять лет: снова надо зажигать фонарь».
* * *
Государь, 6 сентября вернувшийся из Чернигова (куда он ездил на поклонение мощам святителя Феодосия Углицкого, прославленного в его царствование – 1896 г.), долго молился у тела Столыпина. «Ваше величество, – сказала ему О. Б. Столыпина, – Сусанины еще не перевелись на Руси…»
Столыпина похоронили 9 сентября, в Киево-Печерской лавре. Он как-то сам сказал: «Где меня убьют, там пусть меня и похоронят». У него было уже давно чувство обреченности. «Когда я выхожу на улицу, – говорил он, – я никогда не знаю, возвращусь ли я назад или меня привезут…» Много было произнесено надгробных речей; много по всей России состоялось собраний его памяти. Была открыта подписка на сооружение памятника – их было воздвигнуто три: в Киеве, Саратове, Гродно. На киевском памятнике стояли его слова: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». Со временем сознание великой утраты не проходило, а, наоборот, возрастало. Смерть Столыпина была тяжелым ударом для Русского государства. Ведь и в случае отставки такой крупный государственный деятель, как Столыпин, только отошел бы «в запас» и в нужную минуту мог быть снова призван к власти. Рука убийцы лишила Россию именно того человека, который наиболее подходил к сложным условиям думской монархии.
Глава 4
Министерство Коковцова. – Кампания Гучкова; запрос об убийстве Столыпина; агитация по поводу Распутина; речь Гучкова (9.III.1912); выпады против военного министра. – Закрытие Третьей думы. – Ленские события. – Выборы в Четвертую думу. – Роль духовенства. – Оппозиционный результат; «левая Дума». – Итало-турецкая война. – Балканский союз. – Первая Балканская война; вопрос о выходе Сербии к морю. – Славянская манифестация в Петербурге. – Вопрос о Скутари. – Вторая Балканская война. – Бухарестский договор. – 300-летие дома Романовых. – Поездка государя по Средней России. – Поправение Государственного совета. – Новое поколение земств и городов. – Речь Гучкова на конференции октябристов (ноябрь 1913 г.). – Дело Бейлиса. – Рост вооружений. – Встреча государя с Вильгельмом II (в мае 1913 г.). – Инцидент с Лиман фон Сандерсом. – Фаталистическое ожидание войны. – Вопрос о народной трезвости. – Отставка Коковцова. – Рескрипт на имя Барка о необходимости борьбы с пьянством. – Предостережение барона Розена
Трагическая кончина П. А. Столыпина не изменила курса русской государственной политики: ее направление было предначертано самим государем. Преемником Столыпина был назначен В. Н. Коковцов, уже заменявший премьера за последние месяцы перед его кончиной. Весьма вероятно, что В. Н. Коковцов стал бы премьером и в том случае, если бы пуля Богрова не сразила П. А. Столыпина. Новый председатель Совета министров относился к своему предшественнику с глубоким уважением и ставил себе задачей продолжать его дело.
Министром внутренних дел государь предполагал сначала назначить одного из молодых губернаторов правого толка, А. Н. Хвостова или Н. А. Маклакова (с последним он ближе познакомился при поездке из Киева в Черниговскую губернию в начале сентября 1911 г.), но согласился с В. Н. Коковцовым, что в данное время лучше назначить опытного старого чиновника, государственного секретаря А. А. Макарова, уже занимавшего пост товарища министра внутренних дел при Столыпине.
В земельном вопросе полностью сохранился прежний курс, проводившийся тем же министром земледелия А. В. Кривошеиным. Наряду с продолжением земельной реформы по-прежнему обращалось усиленное внимание на организацию кредита, на поднятие уровня сельского хозяйства. Результаты этих мер сказывались ощутительнее с каждым годом.
В отношении политики великорусского национализма, провозглашенной Столыпиным в 1908 г., В. Н. Коковцов держался менее определенных воззрений, но и тут не отвергал наследия своего предшественника. При нем был проведен через обе палаты закон о выделении Холмщины из состава царства Польского. Холмской Русью, или Холмщиной, называлась область с преобладанием русского населения, составлявшая часть Люблинской и Седлецкой губерний. Русскими в Холмщине были крестьяне, а также духовенство, которое, во главе с епископом Евлогием, в особенности настаивало на отделении области от польских губерний. Польские депутаты резко протестовали против «нового раздела Польши»; оппозиция доказывала бесполезность этого закона; с 1 сентября 1913 г. в составе Европейской России появилась 51-я губерния с главным городом Холмом.
В отношении Финляндии В. Н. Коковцов в своем первом выступлении в Госдуме подчеркнул преемственность имперской политики. В порядке общегосударственного законодательства были проведены законы об ассигновании кредита из финской казны на нужды обороны, о равноправии русских граждан в Финляндии. С другой стороны, проект выделения южной части Выборгской губернии для присоединения к Санкт-Петербургской губернии был оставлен ввиду единодушных протестов местного населения. В общем, сохраняя принципы общеимперского законодательства, русское правительство воздержалось от резкой ломки внутреннего уклада Финляндии.
Судебные и административные репрессии – смертные казни и высылки – ввиду наступившего успокоения продолжали сокращаться. Печать становилась свободнее. Появились на свет социалистические издания – уже не только толстые журналы вроде «Русского богатства», «Современного мира», «Образования» и «Заветов» (с 1912 г.), но и еженедельники («Звезда») и даже ежедневные газеты, в Петербурге даже две: беспартийно-социалистический «День» и орган социал-демократов большевиков «Правда».
Но в то время как П. А. Столыпин своим личным авторитетом, своим властным, метким и красивым словом умел отстаивать политику власти перед общественным мнением, новый кабинет, проводя по существу ту же политику (а в некоторых случаях даже более «либеральную»), только встречал возрастающую систематическую предвзятость и справа и слева и не умел в достаточной мере парировать нападки. Это объяснялось не только тем, что не всякому дано обладать таким ораторским даром, как у Столыпина, но и отсутствием единства в среде кабинета, делившегося на «правое» и «левое» крыло, причем это разделение порою выражалось совершенно открыто: случалось, что в Госсовете одни министры голосовали в пользу какого-либо законопроекта, а другие – против него…
* * *
Кампания против В. Н. Коковцова велась преимущественно справа. Ему ставили в укор отсутствие боевого национализма; обвиняли его также в несочувствии правым организациям. П. А. Столыпин считал полезным выдавать субсидии многим органам правой печати, В. Н. Коковцов эти ассигнования сильно урезал, а во многих случаях и совсем прекратил. Другие министры, наоборот, служили мишенью нападкам слева. Оппозиция, боровшаяся со Столыпиным, не прекратила, разумеется, борьбу и против его преемников.
Но гораздо более опасной для власти была кампания, которую против нее повел А. И. Гучков, умело пользуясь своим престижем лидера умеренной партии и зачастую прикрываясь именем покойного премьера. Эта кампания, состоявшая из отдельных выпадов, на первый взгляд лишенная общей руководящей нити, была по существу направлена против верховной власти и неизменно принимала характер общих намеренно недоговоренных, неопределенных, но тяжких обвинений.
Обстановка убийства П. А. Столыпина давала удобную почву для нападок и подозрений. Богров постарался недаром! В Госдуме отдельными партиями были внесены запросы, в разной степени обвинявшие власть: националисты говорили о «преступном бездействии», октябристы об «убийце и лицах, им руководивших», оппозиция выдвигала излюбленную теорию провокации.
А. И. Гучков (в заседании 15.X.1911) произнес речь, в которой он намекал на причастность охраны к убийству. «Для этой банды, – говорил он, – существуют только соображения личной карьеры и интересы личного благополучия… Это были крупные бандиты, но с подкладкой мелких мошенников. Когда они увидели, что их распознали, что им наступили на хвост, что стали подстригать им когти, стали проверять их ресторанные счета, – они предоставили событиям идти своим ходом… Власть в плену у своих слуг – и каких слуг!»
Обвинение звучало эффектно, но оно не имело под собой реальной почвы. Не было никакой вражды между Столыпиным и охранным отделением, подчиненным ему как министру внутренних дел; никакой выгоды из факта покушения для тех, кто заведовал охраной в Киеве, получиться не могло. Наоборот, они несли от этого прямой ущерб, даже в своей «личной карьере». Но Гучков и не обвинял никого прямо в лицо, а только неопределенно говорил об «этой банде»…
Министр внутренних дел Макаров, отвечая на запрос, указал, что полицейские власти в Киеве в одном только отношении отступили – не от закона, а от буквы одного циркуляра: «осведомителям» вроде Богрова не полагалось поручать обязанностей непосредственной охраны, и, следовательно, полковник Кулябко поступил неправильно, допустив Богрова в Купеческий сад и в театр. Против Кулябко, а также против представителей полицейской власти на киевских торжествах, во главе с товарищем министра Курловым, было начато дело. В департаменте Госсовета голоса разделились поровну, и перевесом голоса председателя было постановлено предать их суду за нерадение по службе (версию причастности к преступлению не защищал никто). Но государь, ознакомившись с делом и убедившись в отсутствии какой-либо объективной вины высших чинов (которые даже не знали о присутствии Богрова в театре) и какого-либо преступного намерения у полковника Кулябко, прекратил дело, не дав разрешения на предание их суду; Кулябко был отрешен от должности, а П. Г. Курлов сам вышел в отставку сразу после покушения. Этим решением государь прекратил наконец спровоцированную Богровым «стрельбу по своим».
* * *
Другой выпад А. И. Гучкова был гораздо серьезнее.
Григорий Распутин, совершивший в середине 1911 г. паломничество в Святую землю, писал с дороги прочувствованные письма своим почитателям и по возвращении, как бы очистившись от старых грехов, был снова принят в высших придворных кругах.
За это время епископ Гермоген, человек фанатически убежденный, но крайне неуживчивый, выдержавший в своей епархии борьбу с местными властями, был приглашен в состав Синода. Там он тотчас же вошел в конфликт с большинством иерархов и с обер-прокурором В. К. Саблером и обратился к государю в Ливадию с телеграммой, резко обличая Синод в попустительстве ересям, за допущение молитв за «инославных» и за благожелательное в принципе отношение к учреждению должности «диаконис». Видя, что епископ Гермоген мало подходит к коллегиальной работе в составе Синода, государь, по предложению В. К. Саблера, издал распоряжение о том, чтобы епископ Гермоген вернулся обратно в свою Саратовскую епархию.
Епископ Гермоген и состоявший при нем иеромонах Илиодор в это самое время предприняли попытку воздействовать на Распутина, с которым у них раньше были наилучшие отношения. Произошла безобразная сцена; после препирательства на словах Илиодор и один его сподвижник в присутствии епископа вступили в драку с Распутиным, избили его и силой отняли у него письма от членов царской семьи; Распутин еле спасся и потом утверждал, что его хотели изувечить. Эта сцена не могла, конечно, улучшить отношения государя к епископу Гермогену, но не она была причиной его возвращения в Саратов. Однако сам епископ, иеромонах Илиодор и близкие к ним люди стали утверждать, что все это «происки Распутина». Епископ Гермоген отказался повиноваться высочайшей воле, не захотел ехать в Саратов и в беседах с корреспондентами оппозиционных газет стал всячески обличать своих «недругов».
Налицо имелся факт открытого неповиновения верховной власти. Государь обождал недели две, но затем издал предписание – епископу Гермогену выехать уже не в Саратов, а в Жировицкий монастырь Гродненской губернии, Илиодора же отправить во Флорищеву пустынь.[178]
Тогда началась газетная кампания. Почитатель епископа Гермогена, церковный деятель Новоселов, поместил в органе А. И. Гучкова «Голос Москвы» неслыханное по резкости письмо к церковным властям, к санкт-петербургскому митрополиту Антонию, к обер-прокурору Саблеру, обвиняя их в попустительстве «еретику» Распутину. Номер «Голоса Москвы» был конфискован; тогда, по инициативе Гучкова, вопреки возражениям многих умеренных октябристов, в Думу был внесен запрос, в тексте которого повторялась статья, вызвавшая конфискацию «Голоса Москвы». Запрос почти без прений был принят на заседании 26 января.
Правительственные и придворные круги приложили около этого времени немало усилий, чтобы добиться устранения Распутина. Государю говорили, что старец Григорий – еретик, сектант-хлыст, ссылались на случаи его безобразных кутежей. Государь 26 февраля поручил председателю Государственной думы Родзянко проверить эти обвинения, которые сам он, особенно в отношении хлыстовства, считал слабо обоснованными, тогда как государыня вообще видела в них сплошную клевету.
В это время в Госдуме обсуждался бюджет. 9 марта очередь дошла до сметы Святейшего синода, и этим А. И. Гучков воспользовался для произнесения громовой обличительной речи. Гучков сказал: «Хочется говорить, хочется кричать, что церковь в опасности и в опасности государство… Вы все знаете, какую тяжелую драму переживает Россия… в центре этой драмы – загадочная трагикомическая фигура, точно выходец с того света или пережиток темноты веков, странная фигура в освещении XX столетия… Какими путями этот человек достиг центральной позиции, захватив такое влияние, перед которым склоняются высшие носители государственной и церковной власти? Вдумайтесь только – кто же хозяйничает на верхах, кто вертит ту ось, которая тащит за собою и смену направления, и смену лиц, падение одних, возвышение других?..» Гучков говорил далее про «антрепренеров старца», «суфлирующих ему то, что он шепчет дальше», и закончил речь резким выпадом против Саблера.
Эта речь произвела в Думе большое впечатление. Только Н. Е. Марков тут же с места отважился крикнуть: «Это бабьи сплетни!» Обер-прокурор Синода В. К. Саблер ответил Гучкову с большим достоинством: «Когда к врагам церкви примыкают люди, которые в загадочной форме выступают с обвинениями, я им прямо скажу, что они не правы. И по той простой причине, что эта таинственная загадочность неопределенных речей значения серьезных аргументов не имеет. Обер-прокурор Синода знает свой долг… Чувство сознания своих обязанностей перед Царем, перед св. Церковью и родиной всегда будут ему присущи, а таинственные неопределенные обвинения его никогда не страшат».
Это выступление Гучкова в корне уничтожило все попытки убедить государя в том, что Распутина не следует принимать при дворе. Государь знал лучше, чем кто-либо другой, что и «смена направлений», и «смена лиц» зависят только от него самого. Он всегда относился к своей власти как к священному служению, всегда так ревниво оберегал царскую совесть от посторонних влияний. Утверждения о влиянии Распутина на государственные дела поэтому не могли не казаться государю лживыми до фантастичности и в то же время оскорбительными. Видя, как в этом отношении вольно обращаются с истиной, он поневоле стал относиться скептически и к рассказам о личных пороках Распутина – тем более что все попытки установить причастность «старца» к секте хлыстов дали отрицательный результат.[179]
После выступления Гучкова государь не захотел принять Родзянко, письменный доклад которого он прочел – и нашел совершенно недоказательным. «Поведение Думы глубоко возмутительно, – начертал он на этом докладе, – особенно отвратительна речь Гучкова по смете Св. Синода. Я буду очень рад, если мое неудовольствие дойдет до этих господ, не все же с ними раскланиваться и только улыбаться».
«Я просто задыхаюсь в этой атмосфере сплетен, выдумок и злобы», – тогда же сказал государь В. Н. Коковцову.
Кампания, связанная с именем Распутина, не ограничивалась, однако, политическими выпадами в Госдуме. Вскоре после сцены между Илиодором и Распутиным, в начале 1912 г. в столицах, с ссылкой на А. И. Гучкова, стали распространяться гектографированные копии писем государыни и великих княжон к Распутину. Власти занялись этим делом, и им удалось достать подлинники писем, относившихся к 1908 или 1909 г.,[180] ко времени, когда про Распутина еще не ходило никаких темных слухов; в письмах выражалась преданность «Божьему человеку» и вера в него. Тем не менее копии этих писем – притом искаженные – пускались кем-то в оборот и сопровождались самыми низкими инсинуациями.
Более, чем когда-либо, государь после этого укрепился в убеждении, что на подобные клеветы один достойный ответ – презрение.
* * *
18 апреля в Комиссии государственной обороны последовал новый выпад со стороны А. И. Гучкова, на этот раз – против военного министра Сухомлинова. Получив от своих друзей в военном ведомстве ряд секретных сведений, Гучков заявил, что военный министр поручил организацию негласного надзора за офицерским составом своему приятелю, жандармскому полковнику Мясоедову, который, по словам Гучкова, был уже замешан в неблаговидной истории контрабандного ввоза революционной литературы с провокационными целями. Заметка об этом инциденте попала в газеты, Мясоедов вызвал Гучкова на дуэль, которая и состоялась 22 апреля (оба остались невредимы). В этой истории печать уже не так единодушно поддерживала Гучкова. Его критиковали не только правые органы. «Печать роковой бесцельности лежит на выступлениях Гучкова», – писала «Русская мысль» (ред. П. Б. Струве), называя его «тургеневским бретером Лучковым с жесткими усами, вышедшим на политическую арену».
Следует отметить, что и партия октябристов, видевшая раньше в А. И. Гучкове своего бесспорного вождя, далеко не разделяла резко оппозиционного направления, которое приняла его деятельность за последнюю сессию Третьей думы. Это в особенности сказалось в вопросе о флоте. Государь придавал огромное значение развитию военно-морского строительства. Представители морского ведомства во главе с капитаном первого ранга А. В. Колчаком доказывали в думских комиссиях необходимость постройки крупного надводного флота. А. И. Гучков противопоставил этой программе весь свой авторитет, упорно доказывая, что следует ограничиться «оборонительным флотом» из подводных лодок и миноносцев. Но тут против своего лидера пошли такие видные октябристы, как М. В. Родзянко, Н. В. Савич, М. М. Алексеенко, и Третья дума в одном из своих последних заседаний приняла новую морскую программу на полмиллиарда рублей большинством 228 против 71 голоса; за кредиты голосовали даже поляки и мусульмане, против – кадеты, крайние левые и А. И. Гучков.
Третья дума закончила свою работу в обстановке политической неопределенности и разброда. Все же, несмотря на происшедшую в Гучкове перемену, в Думе до конца преобладала основная линия – сотрудничества с властью и борьбы с революцией.
Принимая (8 июня) членов Думы в Царскосельском дворце, государь сказал им: «Не скрою от вас, что некоторые дела получили не то направление, которое Мне представлялось бы желательным. Считаю, что прения не всегда носили спокойный характер. А для дела главное – спокойствие. С другой стороны, Я рад удостоверить, что вы положили много труда и стараний на решение главных в Моих глазах вопросов: по землеустройству крестьян, по страхованию и обеспечению рабочих, по народному образованию и по всем вопросам, касающимся государственной обороны».
Государь напомнил также о желательности принятия кредита на церковные школы. Но на следующий день, когда на очередь стал вопрос о церковных школах, противники проекта покинули зал, кворума не оказалось, и вопрос остался нерешенным. На этом эпизоде и окончилось существование Третьей Государственной думы.
Весною 1912 г. всю Россию взволновали трагические события, разыгравшиеся в Восточной Сибири, на Ленских приисках. Там в тяжелых природных и материальных условиях (прииски на несколько месяцев в году бывали отрезаны от сообщения с внешним миром) несколько тысяч рабочих занимались добыванием золота. В начале 1912 г. на экономической почве там возникла забастовка. Когда она затянулась, отношения между рабочими и администрацией обострились. Вследствие численного перевеса рабочих они стали фактически распоряжаться в поселке как хозяева; полиция, насчитывавшая всего 35 человек, оказалась бессильной. Вызван был воинский отряд. Тогда возбуждение дошло до крайней степени, и 4 апреля произошло столкновение пятитысячной толпы рабочих с воинским отрядом. Убито было около 200 рабочих и ранено свыше 200…
Вести об этом кровавом событии произвели огромное впечатление в стране. Число жертв, трудные условия работы среди тайги, наконец, тот факт, что среди солдат ни убитых, ни раненых не было, и, очевидно, нельзя было говорить о вооруженной борьбе, – все это вызвало в общественном мнении волну негодования. В Думе были приняты резкие запросы. Протестовали и крайние правые (причем Н. Е. Марков особенно подчеркивал, что ленским товариществом заведуют евреи). Министр внутренних дел Макаров, защищая действия полиции (в заседании 11 апреля), сказал: «Когда, потерявши рассудок, под влиянием злостной агитации, толпа набрасывается на войска, тогда войску не остается ничего делать, как стрелять. Так было и так будет впредь».
Печать тотчас же подхватила слова «так было и так будет», и возбуждение в обществе только усилилось. По всей России на фабриках и заводах начали возникать забастовки протеста, были и попытки уличных демонстраций. Министр торговли С. И. Тимашев, считая на основании докладов с мест, что правота полицейских властей в данном случае отнюдь не бесспорна, по соглашению с В. Н. Коковцовым выступил в Госдуме с примирительным заявлением, обещав, что на Ленские прииски будет послано компетентное лицо для производства расследования. Государь возложил эту миссию на бывшего министра юстиции С. С. Манухина, пользовавшегося общим доверием.
Забастовки постепенно пошли на убыль; общество удовлетворилось ревизией Манухина, который в своем докладе пришел к выводу, что правление Ленского товарищества проявило непонимание нужд рабочих, отказывая в улучшении их быта (все правление после этого вышло в отставку), и что местная полиция допустила как бездействие, так и превышение власти, стоившее стольких жизней. Дело закончилось преданием суду начальника местной полиции, который, однако, года через два после событий был судом оправдан, так как было признано, что он находился в состоянии обороны перед лицом огромной разъяренной толпы.
* * *
Государственная дума стала настолько существенным фактором русской жизни, что правительство не могло не интересоваться исходом предстоящих выборов. Столыпин в свое время предполагал оказать широкую поддержку умеренно правым партиям, в особенности националистам. В. Н. Коковцов считал, наоборот, что вмешиваться в выборы следует как можно меньше. Общее заведование выборами было возложено на товарища министра внутренних дел А. Н. Харузина; ведение избирательной кампании было предоставлено местной инициативе губернаторов. Только в одном отношении была сделана более серьезная попытка повлиять на выборы. Закон 3 июня предоставлял решающее значение курии землевладельцев. Там, где крупных помещиков было мало, большинство принадлежало уполномоченным от мелких землевладельцев, а среди них, в свою очередь, преобладали сельские священники, считавшиеся как бы владельцами церковных участков земли. Обер-прокурор Синода через местных архиереев предложил духовенству принять возможно более активное участие в выборах. Результат этого предписания получился неожиданно внушительный: на съездах мелких землевладельцев повсюду стали избираться священники; в двадцати губерниях они составили свыше 90 процентов уполномоченных, а в общем итоге 81 процент! Печать забила тревогу. Стали писать, что в новой Думе будет чуть ли не двести священников. Забеспокоились и крупные землевладельцы. Но духовенство, в общем, политикой интересовалось мало; явившись на выборы по указанию епархиального начальства, оно не составило какой-либо особой партии и далеко не всегда голосовало за правых. Священники только забаллотировали нескольких видных октябристов, защищавших в Третьей думе законопроекты о свободе совести. Сам председатель Государственной думы М. В. Родзянко прошел только благодаря тому, что правительство, вняв его просьбам, выделило священников в особую курию по тому уезду, где он баллотировался в выборщики.
В отдельных губерниях (например, в Вятской, Нижегородской, Черниговской) местная администрация прибегала к более прямому давлению, вычеркивая из списков наиболее видных кандидатов оппозиции, с расчетом, чтобы их жалобы на неправильное лишение избирательных прав рассматривались уже после окончания выборов. Были также (в виде общей меры) исключены из списков те евреи, которые пользовались только «условным» правом жительства в данной местности.
Все эти меры вызвали много раздражения и протестов – и в общем итоге весьма мало повлияли на исход выборов, происходивших в течение сентября и октября 1912 г.
В городах, не только по второй, но и по первой курии, обозначилось определенное полевение. В Петербурге и Москве сразу же полностью прошли списки кадетов и прогрессистов.[181] То же произошло во всех больших городах, кроме Одессы, где исключение из списков большого числа евреев дало неожиданную победу правым. Официальное Санкт-Петербургское телеграфное агентство изо дня в день печатало статистику выборов, из которой вытекало, что правые имеют 57 процентов выборщиков, оппозиция – около 50 процентов, октябристы – всего 10 процентов. Все уже готовились к тому, что Дума будет правая, и оппозиционная печать писала о «комедии выборов».
Первая официальная статистика новой Думы как будто подтверждала эти сведения: правых числилось 146, националистов – 81, октябристов – 80, всей оппозиции – 130… Но как только депутаты съехались, выяснилась совершенно иная картина: агентство огульно зачислило чуть не всех крестьян и священников в правые, тогда как многие из них были октябристами, а то и прогрессистами… Существовавшее на бумаге правое большинство растаяло. Оказалось, что если несколько пострадали октябристы (их осталось около 100), то усилились кадеты и прогрессисты; националисты раскололись, от них влево отделилась «группа центра»; в итоге правое крыло почти не возросло.[182]
Еще существеннее был тот факт, что октябристы на этот раз проходили по большей части вопреки желанию властей. Тот же самый результат, который в 1907 г. был победой правительства, оказывался в 1912 г. успехом оппозиции. Это не замедлило сказаться на выборах президиума. Октябристы вошли на этот раз в соглашение с левыми. М. В. Родзянко был переизбран председателем против голосов националистов и правых; товарищем председателя был избран прогрессист.[183] В своей вступительной речи Родзянко говорил об «укреплении конституционного строя», об «устранении недопустимого произвола» – причем правые демонстративно покинули зал заседаний. Меньшиков писал в «Новом времени» про «опыт с левой Думой». При обсуждении декларации В. Н. Коковцова Дума (15.XII.1912) приняла левым большинством 132 против 78 формулу прогрессистов, которая заканчивалась словами о том, что Государственная дума «приглашает правительство твердо и открыто вступить на путь осуществления начал манифеста 17 октября и водворения строгой законности». Третья дума таким тоном с властью никогда не говорила.
При всем том в новой Думе не было ни определенного большинства, ни желания вести систематическую борьбу с правительством, тем более что события внешней политики в конце 1912 г. заслоняли внутренние конфликты.
15 сентября 1911 г. – всего через десять дней после кончины Столыпина – международное равновесие на Ближнем Востоке было нарушено выступлением государства, свыше пятнадцати лет не проявлявшего политической инициативы: Италия первая решила приступить к разделу турецкого наследства. Момент был выбран для нее удачно. Еще не закончился франко-германский конфликт из-за Марокко. Тройственное согласие – как уже называли Англию, Францию и Россию – стремилось привлечь Италию на свою сторону, тогда как Тройственный союз, несмотря на германские симпатии к Турции, не мог себе позволить открытого выступления против своей союзницы. Италия могла действовать, не встречая протеста ни с чьей стороны.
Под предлогом плохого обращения с итальянскими подданными в портах Турецкой Африки Италия ультимативно потребовала, чтобы Турция разрешила ей оккупировать своими войсками Триполи, Бенгази и другие портовые города, и, получив отказ в таком необычайном требовании, 16 (29) сентября объявила ей войну.
Игра была беспроигрышной для Италии не только в дипломатическом, но и в военном отношении. Турция почти не имела флота, и ее африканские владения были отделены от метрополии «нейтральным» (фактически английским) Египтом. Трудные природные условия и воинственность малочисленных арабских племен Триполитании только могли оттянуть развязку, по существу неизбежную. Но итало-турецкая война затянулась на целый год и поставила на очередь общий вопрос о турецком наследстве, хотя великие державы всячески стремились от этого уклониться.
Русская дипломатия, впрочем, осенью 1911 г. попыталась воспользоваться этим нарушением status quo, чтобы добиться от Турции открытия проливов для русского флота. Она запросила по этому поводу Германию, и канцлер Бетман-Гольвег, желая действовать в духе Потсдамского соглашения, высказался положительно; но Вильгельм II захотел запросить Австрию, а барон Эренталь ответил, что австро-русские отношения с 1908 г. значительно ухудшились и что теперь за открытие проливов Австрия будет требовать «платы». С. Д. Сазонов, только что оправившийся от долгой болезни, из Давоса проехал в Париж и, убедившись, что русской инициативе относительно проливов не сочувствуют ни Англия, ни Франция, не стал на ней настаивать.
Хотя было ясно, что утрата Турцией африканских провинций – только вопрос времени, борьба в Триполи затягивалась. Внутренние враги младотурок поднимали голову; в Албании шло открытое сопротивление реформам. В то же время Балканские государства, наиболее заинтересованные в разделе Европейской Турции, решили, что пришло время взять дело в свои руки. Глубокие, застарелые противоречия между Болгарией и Сербией, как и между Болгарией и Грецией, долгое время препятствовали соглашению этих государств. Но в начале 1912 г. – 29 февраля – Болгария и Сербия подписали тайный союзный договор против Турции, к которому вскоре присоединились Греция и Черногория.
Положение русской дипломатии было весьма сложным. Она считала своей первой задачей обеспечить России те «двадцать лет мира», о которых говорил П. А. Столыпин. Но Балканские государства знали, что, как бы Россия ни призывала их к сдержанности, в худшем для них случае она все равно их спасет и никогда не допустит посягательств Турции на их территорию. Это придавало им смелость для развития собственной инициативы.
Во Франции Агадирский кризис оставил глубокий след; патриотическая тревога не проходила, а усиливалась. Кабинет Кайо, подписавший соглашение с Германией, распался в начале 1912 г. и заменен был министерством Пуанкаре, составленным под знаком национального объединения. Этот кабинет повел активную внешнюю политику и, в частности, занялся укреплением связи с Россией.
Свидание государя императора с императором Вильгельмом в Балтийском порте (в конце июня 1912 г.) не принесло никаких практических результатов. В официальном сообщении прямо говорилось, что не следует ожидать от этого свидания каких-либо перемен в группировке европейских держав. Канцлер Бетман-Гольвег благодарил русское правительство за успокоительное действие России во время марокканского кризиса; Сазонов говорил, что, пока Россия и Германия в добрых отношениях, ничего на свете стрястись не может. Германский канцлер остался несколько дней в России, виделся с В. Н. Коковцовым, ездил в Москву. Но почти в то же самое время была подписана франко-русская морская конвенция, дополняющая союзный договор; а приезд Пуанкаре в Петербург через месяц после свидания в Балтийском порте превратился в яркую манифестацию франко-русской дружбы.
Этому способствовало настроение русского общества. Отчасти по соображениям внутренней политики, отчасти на основании впечатлений боснийского кризиса русское общество – не только интеллигенция, но в значительной своей части также и военные, и придворные круги – относилось недружелюбно к Германии. «Мы не должны с легким сердцем проповедовать ту активную германофобию во внешней политике, которая у нас иногда считается признаком прогрессивного образа мыслей», – мимоходом отмечала, как факт общеизвестный, «Русская мысль» (в мае 1912 г.). Приезд английской парламентской делегации в Россию в начале 1912 г. (в ответ на визит членов Государственной думы и Госсовета в Англию) был крупным общественным событием: газеты были полны описаниями банкетов, речей, портретами делегатов. Правительство проявляло сдержанность (кроме военного министра Сухомлинова, министры в банкетах не участвовали), но этого факта никто не подчеркивал. А о пребывании в Санкт-Петербурге и Москве канцлера Бетман-Гольвега в газетах почти ничего не писалось.
Русская политика стремилась сохранить мир в Европе. На этом сходились и государь, и покойный П. А. Столыпин, и его преемник В. Н. Коковцов, и министр иностранных дел С. Д. Сазонов. Так как раздел турецкого наследства мог легко привести к европейскому конфликту, Россия в 1912 г. играла давно не свойственную ей роль – она стремилась сохранить неприкосновенность Турции, по крайней мере до более удобного момента. Но Балканские государства, хотя они и заверяли Россию, что не предпримут ничего без ее благословения, считали Турцию достаточно ослабленной, чтобы пойти на риск борьбы с нею без посторонней помощи. Болгария при этом в известной мере рассчитывала на благожелательность Австрии.
Итало-турецкая война приходила к концу. Сопротивление в Триполитании слабело. Италия заняла беспрепятственно несколько островов в Эгейском море и грозила дальнейшими захватами. В Турции произошел (в июле 1912 г.) бескровный переворот, младотурки были отстранены от власти, новое правительство соглашалось на мирные переговоры. Балканским государствам надо было торопиться, если они не хотели пропустить случая.
Резня болгар в селении Кочане, устроенная турецкими солдатами после взрыва бомбы, брошенной македонскими «комитаджиями», послужила поводом для активной кампании всей балканской печати. Великие державы сделали попытку задержать события. По инициативе России, к которой присоединились Франция, Англия, Германия и Австрия, было решено обратиться к Балканским государствам и к Турции с предупреждением о том, что, «если война вспыхнет, державы не допустят, чтобы в результате конфликта произошли какие-либо перемены в территориальном status quo Европейской Турции». 25 сентября это заявление было сделано в балканских столицах – и на следующий же день Черногория объявила Турции войну и приступила к военным действиям. Балканские государства отлично учитывали, что державы не будут настаивать на своем предостережении. Вильгельм II понимал их точку зрения и даже ей сочувствовал. «Зачем ждать такого момента, когда Россия будет готова? – писал он. – Пусть дойдет до войны. Пусть Балканские государства себя покажут. Если они решительно побьют Турцию – значит, они были правы и им подобает известная награда. Если их разобьют, они притихнут и долгое время будут сидеть смирно…»
Русский министр иностранных дел С. Д. Сазонов, наоборот, был крайне недоволен, что Балканские государства, обещавшие при заключении союза считаться с волей России, начинали войну в неудобный для нее момент. С. Д. Сазонов в разговорах с французскими политиками даже заявлял, что считал бы меньшим злом поражение Балканских стран, особенно Болгарии, так как в этом случае было бы легче настоять на сохранении status quo.
События пошли быстрым темпом: 26.IX войну объявила Черногория, 2 (15). X был подписан итало-турецкий мир, 4 (17). X начали войну Болгария, Сербия и Греция. Война была крайне популярна на Балканах: мобилизация проходила при общем ликовании как в Софии, так и в Белграде, и в Афинах. С первых же дней определился разгром Турции. Болгары у Кирк-Килиссе и Люле-Бургаса, сербы у Куманова разбили наголову турецкую армию, и не прошло месяца с начала войны, как турки были оттеснены на позиции у Чаталджи в 40 км от Константинополя, и, кроме нескольких осажденных крепостей (Адрианополь, Янина, Скутари), ничего не оставалось от их европейских владений. Уже 22 октября (4.XI) Турция просила великие державы о посредничестве.
Победы балканских славян пробудили ликование и сочувствие в широких русских кругах. На задний план отступили вопросы внутренней политики. После победы союзников, конечно, не могло быть и речи о сохранении status quo на Балканах. Произошло то, чего хотел избежать С. Д. Сазонов: приходилось приступать к разделу турецкого наследства в условиях для России неблагоприятных.
Россия предложила, чтобы все великие державы заявили о своей полной незаинтересованности в разделе Турции. Франция и Англия охотно присоединились к такому предложению; не возражала и Германия. Австрия и Италия отнеслись гораздо сдержаннее: они сходились на желании создать новое государство, Албанию, из турецких провинций, прилегающих к Адриатическому морю; и, не требуя ничего для самих себя, они для Албании требовали очень многого.
Во избежание европейского конфликта великие державы решили действовать сообща и начали вырабатывать свои условия ликвидации Балканской войны. Австрия сразу резко поставила вопрос о недопущении Сербии к Адриатическому морю. Она стала производить частичные мобилизации и сосредотачивать войска к русской границе. Россия в ответ задержала под знаменами целый призывной возраст, срок службы которого истек. В ноябре был момент, когда война казалась возможной.
4 (17) декабря в Лондоне начались работы конференции послов шести великих держав. Наиболее спорным был вопрос о границах Албании. По настоянию Англии Россия пошла на уступки в вопросе о сербском порте (тем более что и Франция предупреждала о нежелательности конфликта по этому вопросу); и ей удалось добиться согласия самой Сербии.
Когда начались мирные переговоры между воюющими сторонами и Турция стала проявлять неуступчивость, великие державы обратились к ней с угрожающей нотой, рекомендуя уступки и напоминая о возможности осложнений в ее азиатских владениях. Турецкое правительство созвало «совещание нотаблей» и уже было готово согласиться, но в Константинополе произошел новый переворот, младотурки вернулись к власти и отказались подписать условия мира. Война возобновилась по истечении срока перемирия. Она свелась к осадным операциям. Адрианополь держался долго; на помощь болгарам прибыли и сербские войска; и только 13 марта 1913 г. старая турецкая крепость наконец пала.
Ликование по поводу взятия Адрианополя привело и в России к уличным демонстрациям в честь балканских славян. Полиция по обыкновению рассеяла их, за что получила выговор от властей – хотя демонстрации и не соответствовали видам русского правительства. В течение всей Балканской войны оно стремилось к сохранению согласия между великими державами, тогда как значительная часть русского общества требовала активной поддержки балканских славян и даже прямого выступления против Турции. «Крест на Св. Софию» – стояло на плакатах, с которыми ходили по Невскому манифестанты. Председатель Государственной думы Родзянко в своих воспоминаниях рассказывает, что в феврале 1913 г. он призывал государя вмешаться в войну! Это показывает, с какой легкостью относились некоторые крути к возможности европейского конфликта. Выступление России на Балканах весною 1913 г. означало бы войну со всем Тройственным союзом, включая Италию (которая в этом вопросе была солидарна с Австрией) и, вероятно, Румынию, при весьма неопределенной позиции Англии. Государь, конечно, не мог серьезно отнестись к таким опасным советам. Но в некоторых кругах это вызывало большое недовольство, и на так называемых «славянских банкетах» можно было слышать речи, антидинастический характер которых смущал многих участников.
Последним испытанием для европейского мира был вопрос о Скутари. Черногорцы продолжали осаждать этот город после того, как все великие державы уже сговорились отдать его Албании. В России шла усиленная агитация под лозунгом «Скутари – Черногории». Но русское правительство осталось верным сговору держав; перед черногорскими портами была устроена морская демонстрация, и, наконец, черногорский король, в обмен на территориальные и финансовые компенсации, сам отказался от Скутари.
17 (30) мая был в Лондоне заключен мир между Турцией и Балканским союзом, но тотчас же между союзниками возникли серьезные разногласия. По тайному договору 1912 г. Сербия должна была получить выход к Адриатическому морю, Греция – Эпир, а Болгария – почти всю Македонию, включая Салоники. Великие державы уменьшили турецкое наследство, выкроив из него Албанию за счет частей, предназначавшихся Греции и Сербии. Болгария тем не менее настаивала на своей договоренной доле, указывая, что не по ее вине урезаны доли остальных союзников. Сербия и Греция требовали перераспределения «наследства», подчеркивая, что их войска участвовали в борьбе и на болгарском участке фронта.
Русская дипломатия пыталась сыграть роль посредника и арбитра согласно договору Балканского союза. Но не подействовали даже обращения самого государя к балканским монархам. Болгария, надеясь на свою армию и на австрийское нерасположение к Сербии, не хотела уступать. В ночь на 17 (30) июня болгары попытались вытеснить сербов и греков из занятых ими македонских земель. Началась Вторая Балканская война, но длилась она очень недолго. Болгария жестоко просчиталась. Разбить сербов и греков ей не удалось; в тылу против нее выступила Румыния; а Турция, без формального объявления войны, двинула свои войска на Адрианополь и без боя заняла эту крепость, недавно взятую союзниками ценой стольких жертв.
Болгарии пришлось сдаться уже через десять дней. В Бухаресте ей был продиктован суровый мир. Она теряла все свои приобретения, кроме небольшой полосы берега с Дедеагачем, и уступала Румынии большой кусок Добруджи. Великие державы не протестовали против этого мира, хотя и Россия, и Австрия хотели сохранить – неожиданно на этом сойдясь – за Болгарией хотя бы порт Каваллу. Но в этом случае Германия и Франция, в свою очередь, сошлись с Англией и Италией на том, чтобы Кавалла осталась за Грецией. Австрия также хотела урезать сербскую долю турецкого наследства, но ни Италия, ни Германия не согласились в этом ее поддержать. Болгарии пришлось примириться с утратой Адрианополя.
Бухарестский договор был подписан 25 июля (7 августа) 1913 г. «Для Европы настали каникулы после десяти месяцев тяжелых трудов», – писала Revue des deux Mondes.
В начале 1913 г. – 21 февраля – исполнилось 300 лет со дня призвания на царство Михаила Феодоровича Романова. 300-летний юбилей династии был отпразднован с большой торжественностью.[184]
«Совокупными трудами венценосных предшественников Наших на Престоле Российском и всех верных сынов России создалось и крепло Русское государство. Неоднократно подвергалось наше Отечество испытаниям, но народ русский, твердый в вере православной и сильный горячей любовью к Родине и самоотверженной преданностью своим государям, преодолевал невзгоды и выходил из них обновленным и окрепшим. Тесные пределы Московской Руси раздвинулись, и империя Российская стала ныне в ряду первых держав мира», – говорилось в высочайшем манифесте 21 февраля 1913 г.
По традиции, по поводу юбилея были объявлены всевозможные льготы – прощение недоимок, дарение на благотворительные цели, смягчение кар. Государь в Зимнем дворце принимал поздравления высших чинов империи; горячую приветственную речь произнес председатель Государственной думы Родзянко, поднесший государю икону Христа Спасителя. В Москве в тот же день состоялся крестный ход; в шествии несли наиболее чтимые иконы Владимирской, Иверской, Казанской Божией Матери. За крестным ходом последовал парад войск на Красной площади перед Кремлем. По поводу юбилея были выпущены почтовые марки; на них впервые воспроизведены были портреты русских государей, от царя Михаила Феодоровича до императора Николая II. Некоторые почтовые чиновники первое время не решались штемпелевать эти марки, боясь «замарать царский портрет».
Государь не ограничился торжествами в столицах. Он решил с наступлением весны предпринять поездку по тем местам, где выросла и окрепла Суздальская и Московская Русь, где была вотчина бояр Романовых. 15 мая государь со всею царской семьей, несмотря на недомогание государыни и наследника, отбыл из Царского Села и проехал через Москву во Владимир; оттуда на автомобиле в Суздаль; посетил село Боголюбово. Прибыв в Нижний Новгород, царская семья проследовала оттуда на пароходе «Межень» по Волге в Кострому и Ярославль. Оба берега Волги были покрыты толпами крестьян, которые десятками тысяч собрались взглянуть на государя. Пристани и дома на берегах были украшены флагами и зеленью.
Особенно сердечным был прием в Костроме (19 и 20 мая). Все население города и окрестных селений вышло встречать царскую семью. Великие князья и княгини, духовенство, министры – все собрались приветствовать государя на родине Романовых. В Ипатьевском монастыре, где посланные от Земского собора умоляли инокиню Марфу благословить своего сына на царство, государя принимал костромской архиепископ Тихон; он говорил: «Если бы летописец был свидетелем настоящего высокого торжества, если бы он видел это царственное пришествие к нам, если бы слышал этот благовестный гул колоколов, эти клики всеобщего восторга – без сомнения, сказал бы он о настоящем дне: и была тогда великая радость в Ипатьевском монастыре и во всей Костроме…» В присутствии царской семьи на краю высокого обрыва над Волгой состоялась закладка памятника 300-летию дома Романовых. Когда государь покидал Кострому, толпа долго провожала его вдоль берега, а многие входили в воду по пояс. Государь был взволнован и тронут приемом в Костроме.[185]
После Костромы государь посетил еще Ярославль и Ростов и к 25 мая вернулся в Москву. Десятидневная поездка по Средней России произвела на государя сильное впечатление – как проявлением народной преданности, так и теми картинами бедности и нужды, которые ему случилось наблюдать при проезде через деревни.
Первая половина 1913 г. прошла под знаком Балканской войны и романовского юбилея, но с осени снова вступила в свои права политическая борьба.
Министром внутренних дел, вскоре после неудачных для правительства выборов в Четвертую думу, на место А. А. Макарова был назначен черниговский губернатор Н. А. Маклаков, которого государь уже и раньше хотел назначить на этот пост. В Н. А. Маклакове государь ценил человека близкого к нему по общему государственному мировоззрению, чего он не мог сказать о большинстве министров. В то же время в Госдуме к Н. А. Маклакову относились отрицательно – отчасти потому, что в своей губернии он применил административное давление на выборы и провалил несколько видных левых октябристов.
Государственный совет понемногу правил – отчасти путем новых выборов от дворянства и землевладельцев, но главным образом вследствие постепенного заполнения вакансий по назначению правыми отставными сановниками. В верхней палате создавалось большинство, стоявшее правее кабинета. Оно отвергало или сильно видоизменяло почти все большие законопроекты, принятые Госдумой: введение земства в Сибири и в Архангельской губернии; создание волостного земства; реформу местного суда. В проект городского самоуправления в царстве Польском Госсовет большинством 94 против 74, вопреки настояниям В. Н. Коковцова, внес статью, требующую, чтобы в городских думах и управах прения и делопроизводство велись исключительно на русском языке. После случая с западным земством правительство уже не пыталось применять какое-либо давление на Госсовет.
В Москве в конце 1912 г. состоялись городские выборы, причем голоса в новой думе делились почти поровну между левой и правой. Кандидатами в городские головы были избраны князь Г. Е. Львов и Н. И. Гучков, но последний, получив меньше голосов, отказался. Государь не хотел утверждать городским головой Первопрестольной представителя оппозиции, и весь 1913 г. эта должность оставалась вакантной. Н. А. Маклаков советовал назначить городским головой гофмейстера В. В. Штюрмера, видного правого члена Госсовета, но В. Н. Коковцов убедил государя, что такой шаг вызвал бы резкие протесты во всех московских кругах, и обязанности городского головы так и продолжал исполнять его заместитель В. Д. Брянский.
Все эти факты вызывали недовольство не только левых, но и октябристских кругов: А. И. Гучков, который после своего поражения на выборах почти год провел на Балканах, прибыл на съезд городских деятелей в Киеве, обсуждавший деловые вопросы муниципального хозяйства, и 21 сентября произнес «под занавес» резкую оппозиционную речь. Он говорил, что «над всеми работами съезда печать уныния, безверия в плодотворность наших усилий» и что наблюдается «паралич всего государственного организма, застой законодательного творчества, расстройство управления», и призывал съезд принять политическую резолюцию. Хотя председатель, киевский городской голова Дьяков, отказался поставить ее на баллотировку, члены съезда, собравшись в коридоре наподобие студенческой сходки, приняли ее «поднятием рук».
8 ноября на конференции октябристов в Санкт-Петербурге А. И. Гучков выступил с докладом, подробно обосновывающим перемену его позиции. «Октябризм, – говорил он, – был молчаливым, но торжественным договором между исторической властью и русским обществом. Манифест 17 октября был актом доверия к народу со стороны верховной власти; октябризм явился со стороны народа актом веры в верховную власть». Гучков далее утверждал, что наступила «реакция», что действуют «новые странные фигуры»; он ссылался на роль правого крыла Госсовета и объединенного дворянства, напоминал о попытке давления на выборах в Думу, указывал на слух о будто бы предстоящем новом изменении основных законов.
«Договор нарушен и разорван правительством, – заключал Гучков. – Мы вынуждены защищать монархию против тех, кто является естественными защитниками монархического начала, церковь – против церковной иерархии, армию против ее вождей».
Эта опасная и двусмысленная формула, как бы оправдывающая всякое нарушение дисциплины, не вызвала прямых возражений. Конференция единогласно одобрила доклад Гучкова.
Но когда в думской фракции был поставлен вопрос о переходе в оппозицию, только 22 депутата (из 100) на это согласились. Фракция распалась на три части, и большинство, около двух третей, с М. В. Родзянко, Н. В. Савичем, Е. П. Ковалевским и другими главными работниками фракции, образовали группу «земцев-октябристов».
Печать отмечала «полевение в стране». С весны 1912 г. – ленских событий и выхода в свет газеты «Правда» – заметно увеличилось число политических забастовок в рабочей среде. Но по большей части это были однодневные демонстративные забастовки протеста.[186]
* * *
С 24 сентября по 28 октября 1913 г. в Киевском суде разбирался процесс, привлекший сотни иностранных корреспондентов и наблюдателей: знаменитое дело Бейлиса.
Еще в марте 1911 г. в Киеве был найден убитым 12-летний мальчик, Андрей Ющинский; тело его было почти обескровленным, на нем было 47 колотых ран. Тотчас же пошла молва, будто мальчика убили евреи в целях использования его крови для каких-то таинственных обрядов.
Некоторые представители судебной власти, в частности прокурор судебной палаты Чаплинский, взяли на себя задачу доказать эту версию. Местный полицейский розыск указывал в совершенно другую сторону – были данные, что мальчика убила воровская шайка, – но сторонники «ритуальной» версии убийства заявляли, что полиция подкуплена евреями. В Третьей думе правыми был даже внесен запрос по этому поводу (в мае 1911 г.).
Отстраняя агентов розыска, не веривших «ритуальной» версии, следователь наконец нашел свидетелей, показывавших, будто Ющинского похитил служащий кирпичного завода Мендель Бейлис и вместе с другими, не найденными лицами умертвил его. Бейлиса в августе 1911 г. арестовали. Вопреки русским обыкновениям, следствие тянулось свыше двух лет, и только осенью 1913 г. дело было доведено до суда.
Русская и заграничная печать проявляли огромный интерес к этому делу. Видные русские писатели и публицисты левого направления выступили с протестом против «кровавого навета» на евреев. Защищать Бейлиса собрались самые известные русские адвокаты: Н. П. Карабчевский, В. А. Маклаков, А. С. Зарудный, О. О. Грузенберг и т. д. Со своей стороны, правая печать, начиная с «Нового времени», доказывала ритуальный характер убийства, и в помощь прокурору гражданскими истцами выступили член Государственной думы Г. Г. Замысловский и известный московский адвокат А. С. Шмаков, автор ряда антисемитских исследований.
С первых же дней суда определилась слабая обоснованность обвинения. Большую сенсацию вызвала статья В. В. Шульгина в старом правом органе «Киевлянин» (27.IX.1913). Шульгин писал, что у гроба покойного редактора газеты, Д. И. Пихно, он поклялся печатать в ней только правду. Он рассказывал, со слов полицейских чинов, как им сверху внушалось во что бы то ни стало найти «жида»; он приводил слова самого следователя, говорившего, что не так важно, виновен ли Бейлис, – главное доказать существование ритуальных убийств. «Вы сами совершаете человеческое жертвоприношение, – писал Шульгин. – Вы отнеслись к Бейлису как к кролику, которого кладут на вивисекционный стол…» Номер «Киевлянина» – впервые со дня основания газеты – был конфискован. Фракция националистов высказала, хотя и в мягкой форме, порицание Шульгину, который после этого перешел в группу центра.
Полицейские чиновники в своих донесениях в Петербург день за днем отмечали слабость свидетельских показаний обвинения, убедительность экспертов защиты. Среди экспертов обвинения были видные профессора судебной медицины, но они могли только доказать, что тело было намеренно обескровлено – из чего еще не вытекало, что это было сделано с «ритуальной» целью.
Состав присяжных был, как говорится, «серый» – крестьяне, мещане и один почтовый чиновник. Левые газеты заранее обвиняли власть в желании воспользоваться «народной темнотой», В. Г. Короленко писал, что решение таких присяжных не может быть авторитетным. Но простые русские люди отнеслись к своей задаче серьезно. «Як судить Бейлиса, колы разговоров о нем на суде нема?» – говорили они между собою (по донесению жандармов).
Речи обвинителей не переменили этого впечатления: в них много говорилось о ритуальных убийствах вообще, о том, что «евреи погубят Россию» – и почти ничего о Бейлисе. 28 октября присяжные вынесли Бейлису оправдательный приговор. Они ответили утвердительно на вопрос о том, совершено ли убийство на кирпичном заводе, принадлежавшем еврею Зайцеву, и обескровлено ли было при этом тело; но хотя «Новое время» в первый момент придавало этому ответу большое значение, оно само через два дня в статье Меньшикова заявило: «Россия понесла поражение…» Торжество левой печати по поводу провала этого процесса понятно. Но самая возможность подобного исхода прежде всего является высшим свидетельством свободы и независимости русского суда присяжных и опровергает толки о давлении власти на суд.
* * *
Несмотря на то что войну за турецкое наследство удалось ликвидировать без общеевропейского конфликта, напряжение в международной обстановке не проходило. Весною 1913 г. в германский рейхстаг были внесены огромные военные кредиты (на миллиард марок); тогда же и Франция восстановила трехлетний срок военной службы, что означало увеличение состава армии мирного времени почти в полтора раза.
Германский канцлер Бетман-Гольвег мотивировал в рейхстаге необходимость новых кредитов несколько неожиданными соображениями. «Набегает славянская волна», – говорил он, ссылаясь на успех балканских славян. Казалось бы, эти малые государства не могли угрожать Германии. Но канцлер только повторил мысль, которую в более резкой форме с 1913 г. выражал не раз в своих пометках на донесениях дипломатов германский император. Еще осенью 1912 г. он относился скорее благожелательно к победам Балканского союза над Турцией; теперь ему начала представляться неизбежной «борьба славян и германцев».
Совершенно иначе был настроен государь. В мае 1913 г. он прибыл на свадьбу дочери императора Вильгельма II с принцем Кумберлендским, имея намерение при этом свидании договориться о прочном улучшении русско-германских отношений.[187] Государь заявил, что со своей стороны удовлетворяется существующим положением на Балканах и готов отказаться от старых русских притязаний на Константинополь и проливы, оставив Турцию в роли «привратника», – если и Германия со своей стороны удержит Австрию от политики захватов, дабы Балканские государства могли сами устроить свои судьбы. Это была последняя встреча государя с Вильгельмом II. Она прошла в дружеских тонах, но не привела к прочному улучшению отношений. Вильгельм II все более проникался фаталистическим представлением о неизбежности войны.
Новые сведения о перемене, происшедшей в германском императоре, дошли до государя после поездки В. Н. Коковцова за границу в ноябре 1913 г. Вильгельм II принял русского премьера весьма приветливо, но в беседе с директором Кредитной канцелярии Л. Ф. Давыдовым он жаловался на тон русской печати и говорил, что это ведет к катастрофе, что он видит «надвигающийся конфликт двух рас: романо-славянской и германской», что война «может сделаться просто неизбежной» и тогда «совершенно безразлично, кто начнет ее».
В. Н. Коковцов, вернувшись в Россию, представил государю в Ливадии (в середине ноября) доклад о своей поездке, в том числе о беседах с германским императором. Государь долго молчал. «Он смотрел в окно, – пишет В. Н. Коковцов в своих мемуарах, – в безбрежную морскую даль, и, наконец, точно очнувшись от забытья, сказал: «На все – воля Божия!» Государь знал, что он войны не вызовет, но сознавал в то же время, что не от него одного зависит, удастся ли ее избежать.
Следует отметить, что в то же самое время и германское правительство на одном случае проявило готовность считаться с желаниями России. Осенью 1913 г. командующим турецкими войсками в Константинополе был назначен германский генерал Лиман фон Сандерс. Немецкие офицеры и раньше были инструкторами в турецкой армии, но тут речь шла о командной должности, притом в районе проливов. Русская печать стала резко протестовать. В. Н. Коковцов во время своего пребывания в Берлине указал, что назначение Лиман фон Сандерса представляется России неприемлемым. Вильгельм II возмущался, но в конце концов уступил. Так как назначение уже состоялось, его отменили своеобразным образом: германский император произвел Лиман фон Сандерса в чин генерала от кавалерии, турецкий султан пожаловал ему звание маршала; после этого он сделался слишком высоким лицом, чтобы занимать должность простого корпусного командира, и уступил место турецкому генералу.
Государь был очень этим доволен. «У меня теперь для Германии только приветливые улыбки», – сказал он полушутливо германскому послу Пурталесу на одном обеде (14.I.1914). Но германский император на докладе посла по этому поводу сделал сердитую пометку: «Этого уже достаточно! Только это мы от него всегда и видели!»
За зиму 1913/14 г., внешне спокойную в международной политике, на политических верхах во всех государствах происходил своеобразный психологический процесс. Только очень немногие открыто и сознательно желали войны; это были главным образом военные, из которых, кажется, только австрийский фельдмаршал Конрад фон Гетцендорф решился это высказать в письменной форме. Но очень многие, если не большинство, ответственных деятелей постепенно переходили от учитывания возможности войны – к фаталистическому убеждению в ее неизбежности, и на этом основании начали строить свои дальнейшие предположения и планы.
Только сравнительно немногие сохраняли веру в то, что войны можно избежать, если проникнуться твердым желанием ее не допускать. К их числу принадлежал император Николай II. Его точку зрения вполне разделял и председатель Совета министров В. Н. Коковцов. Однако другие члены русского правительства все более проникались фаталистическим взглядом на войну. Военный министр Сухомлинов, отличавшийся оптимизмом, порою несколько легкомысленным, министр земледелия Кривошеин, а со второй половины 1913 г. и министр иностранных дел Сазонов – все они исходили в своих суждениях из того, что войны все равно едва ли избежать.
На секретном совещании под председательством В. Н. Коковцова в самом конце 1913 г., при участии Сазонова, Сухомлинова, морского министра адмирала Григоровича и начальника Главного штаба генерала Жилинского, обсуждались возможности на случай войны, причем было признано, что Россия может рассчитывать на успех, только если поддержка Англии и Франции будет обеспечена; но из участников совещания один В. Н. Коковцов подчеркнул, что война вообще была бы величайшим бедствием для России.
Быстрый экономический рост России, столь явный, что его не мог никто отрицать, привлекал внимание критики к отдельным отрицательным сторонам хозяйственного быта. Налоги давали с каждым годом все больше – без повышения ставок. Несмотря на растущие военные расходы и ежегодное повышение кредитов на нужды образования, дефицитов по бюджету не бывало. Но огромная часть государственного дохода поступала от винной монополии. (По смете на 1914 г. – почти миллиард на общую сумму в три с половиной миллиарда.) Появление в деревне свободных средств вызывало увеличение пьянства; потребление водки с 1911 по 1913 г. увеличилось на 16 миллионов ведер (на 17 процентов за два года). Газеты были полны обличениями «хулиганства» в деревнях и городах.
В народе появились, в виде отпора, трезвеннические секты, получившие широкое распространение. Источником зла объявили казенную винную лавку. Хотя частные кабаки ничуть не меньше, а скорее больше способствовали распространению пьянства, хотя во всех странах существовали с незапамятных времен налоги на напитки – в широкой народной и обывательской среде большое впечатление производили речи о «пьяном бюджете», о том, что «казна спаивает народ». Государь болезненно воспринимал этот народный укор государству, выразившийся в трезвенническом движении. Он ощущал известную моральную обоснованность этого укора.
На трезвенников обратили внимание и политические партии. Союз 17 октября устроил несколько больших собраний, посвященных этому движению. На одном из них (14.V.1913) профессор И. М. Громогласов и известный член Третьей думы П. В. Каменский выражали сожаление о том, что сейчас у власти не Столыпин, «чуткий ко всяким подобным народным движениям». Насколько известно, и Распутин, на личном опыте хорошо знакомый с «соблазнами вина», не раз говорил, что «нехорошо спаивать народ».
Еще Третья дума, по инициативе фанатика-трезвенника, самарского миллионера «из народа» Челышева, приняла проект усиления мер борьбы с народным пьянством. Основной чертой этого проекта было предоставление городским думам и земским собраниям права запрещать открытие и требовать закрытия винных лавок в определенных местах. Этот проект дошел до Госсовета только зимой 1913/14 г. и вызвал бурные прения.
В. Н. Коковцов мало верил в действенность запретительных мер против пьянства и заботился о том, чтобы эти меры не нанесли ущерба государственным финансам. На этой почве пришлось столкнуться в Госсовете с коалицией самых разнообразных элементов.
Государь все более проникался убеждением в том, что пьянство – порок, разъедающий русское крестьянство, и что долг царской власти вступить в борьбу с этим пороком. Он в то же время видел, что В. Н. Коковцов не верит в возможность такой борьбы. Слухи о взглядах государя проникли в «сферы», и граф Витте начал выступать в Госсовете с яростными обличениями политики Министерства финансов, которое якобы совершенно «извратило» винную монополию и довело народ до такого состояния, что приходится кричать «караул». Витте выступал чуть ли не в каждом заседании Госсовета, настаивая на «фиксации» дохода от продажи питей: казна должна была брать себе только определенную сумму (например, 600 миллионов), а остальное должно было идти на «меры борьбы с пьянством» – пропаганду, устройство народных развлечений, изготовление всяческих фруктовых вод и т. д. Предложение это было в достаточной мере нелепым, так как оно сокращало доход казны, ничуть не уменьшая пьянства.
Государь некоторое время, видимо, колебался – ему не хотелось расставаться с В. Н. Коковцовым; он высоко ставил его деятельность, глубоко уважал его спокойную твердость, вполне разделял его точку зрения о повелительной необходимости сохранить мир. Против В. Н. Коковцова велась кампания с разных сторон: на него нападал в «Гражданине» князь В. П. Мещерский, с ним часто расходились его коллеги по кабинету – Сухомлинов, Маклаков, Кривошеин. Против него направлялись, по должности премьера, нападки А. И. Гучкова на «преемников Столыпина». Но государь не раз в свое царствование показал, что умеет поддерживать своих министров в самых неблагоприятных условиях – пока он сам с ними согласен. Есть поэтому все основания считать, что отставку В. Н. Коковцова вызвало в конечном счете убеждение государя в невозможности приступить при нем к коренным преобразованиям в деле борьбы с народным пьянством.
Слухи о предстоящей отставке Коковцова распространились в середине января 1914 г.; но еще 28 января государь принимал доклад председателя Совета министров, долго говорил с ним о текущей работе, в частности о пересмотре торгового договора с Германией. На следующее утро В. Н. Коковцов получил с курьером собственноручное письмо от государя.
Государь писал: «Не чувство неприязни, а давно и глубоко сознанная Мною государственная необходимость заставляет Меня высказать Вам, что Мне нужно с Вами расстаться. Делаю это в письменной форме потому, что, не волнуясь, как при разговоре, легче подыскать правильные выражения. Опыт последних 8 лет вполне убедил Меня, что соединение в одном лице должности Председателя Совета Министров с должностью Министра Финансов или Министра Внутренних дел – неправильно и неудобно в такой стране, как Россия. Кроме того, быстрый ход внутренней жизни и поразительный подъем экономических сил страны требуют принятия решительных и серьезнейших мер, с чем может справиться только свежий человек».
Государь далее указывал, что за последнее время не во всем одобрял деятельность финансового ведомства, но благодарил В. Н. Коковцова за «крупные заслуги в деле замечательного усовершенствования государственного кредита России» и выражал сожаление, что вынужден расстаться со своим долголетним докладчиком.
Особым рескриптом, опубликованным в «Правительственном вестнике», В. Н. Коковцову была выражена благодарность за понесенные труды (причем его отставка объяснялась «расстроенным здоровьем»), и он был возведен в графское достоинство. Принимая бывшего министра, государь не мог сдержать слез: ему было до боли жаль, что заслуженный сановник и уважаемый им человек испытывает чувство горечи и обиды. Он согласился по его просьбе назначить в Госсовет всех трех товарищей министра финансов, подавших в отставку вследствие увольнения В. Н. Коковцова, хотя ему и не нравился такой демонстративный жест. Он предложил бывшему премьеру единовременную выдачу в 300 000 рублей на устройство личных дел, но В. Н. Коковцов, со свойственной ему щепетильностью, просил государя этого не делать. В этом отношении он сильно отличался от графа Витте, который в то самое время, как писал свои мемуары, полные выпадов против государя и В. Н. Коковцова, обратился через того же В. Н. Коковцова к государю с просьбой о пособии в 200 000 рублей, которое и получил в память прошлых заслуг (в июле 1912 г.).
Преемником В. Н. Коковцова был назначен И. Л. Горемыкин; говорили о возможности назначения А. В. Кривошеина, но он как раз в это время был тяжело болен и выехал лечиться за границу. И. Л. Горемыкина государь особо ценил за исключительную лояльность, за умение подчиняться указаниям монарха и выполнять их, не отклоняясь от задания. Сам новый премьер в шутку сравнивал себя со «старой шубой, вынутой из нафталина», и эта острота подошла к общему мнению; но на самом деле И. Л. Горемыкин, которому к тому времени было 74 года, обладал живым и острым умом.
Причины перемены во главе правительства были изложены в высочайшем рескрипте на имя П. Л. Барка, назначенного управляющим Министерством финансов: государь указал, что при своей поездке по великорусским губерниям он видел «светлые проявления даровитого творчества и трудовой мощи; но рядом с этим с глубокой скорбью приходилось Мне видеть печальные картины народной немощи, семейной нищеты и заброшенных хозяйств – неизбежные последствия нетрезвой жизни и подчас – народного труда, лишенного в тяжелую минуту нужды денежной поддержки путем правильно поставленного и доступного кредита. С тех пор, постоянно обдумывая и проверяя полученные Мною впечатления, Я пришел к твердому убеждению, что на Мне лежит перед Богом и Россией обязанность безотлагательно ввести в заведование государственными финансами коренные преобразования во благо Моего возлюбленного народа. Нельзя ставить в зависимость благосостояние казны от разорения духовных и хозяйственных сил множества Моих верноподданных».
Эти слова указывали на предстоящие широкие реформы, направленные на борьбу с алкоголизмом и до того времени еще не испробованные ни в одной большой стране.
* * *
29 января 1914 г., когда весть об отставке В. Н. Коковцова, еще не опубликованная, была получена в Госсовете, она вызвала большое волнение; и, быть может, поэтому председатель М. Г. Акимов не остановил оратора, который произнес речь самого общего содержания, хотя на повестке стоял только вопрос о борьбе с пьянством. Этот оратор, посланник в Токио барон Р. Р. Розен, говорил: «Я никоим образом не разделяю ни самодовольного равнодушия, ни благодушного оптимизма относительно положения дела, как внутреннего, так и внешнего. Этот оптимизм я не разделяю потому, что твердо верую в причинную связь и неумолимую логику события. Вам, господа, известно, что уже два десятилетия Европа живет под режимом двух союзов, в которые две непримиримо враждебные державы сумели втянуть остальные большие державы… Единственный выход – либо в устранении этого коренного антагонизма, интересам России совершенно чуждого, либо в вооруженном столкновении, от которого России, всегда верной принятым на себя обязательствам, отклониться будет невозможно… Никому не дано предрешать будущего, но такие чрезвычайные меры, как миллиардный налог на вооружение, свидетельствуют о том, что наступление кризиса является уже не столь далеким. Но, во всяком случае, в одном можно быть уверенным: этот час наступит тогда, когда мы всего меньше его будем ожидать».
Перейдя к внутренней политике, барон Розен сказал: «Русский народ еще свято хранит культ царя и царской власти; только в этом, как учит история, Россия всегда в конце концов находила свое спасение. Но разлад между правительством и обществом обостряется все более… Господа, я думаю, едва ли найдется в России мыслящий человек, который не чувствовал бы инстинктивно, что мы, выражаясь языком моряков, дрейфим, относимся ветром и течением к опасному берегу, о который наш государственный корабль рискует разбиться, если мы не решимся своевременно положить руль на борт и лечь на курс ясный и определенный».
Глава 5
Политическая неудовлетворенность и хозяйственный расцвет. – Рост потребления. – Увеличение производства. – Быстрое повышение уровня жизни. – Блестящее состояние финансов. – Усиление армии и флота. – Отзывы иностранных наблюдателей (Тэри, Беринг). – Развитие народного образования. – Программа всеобщего обучения. – Всероссийский учительский съезд на Рождество 1913 г. – 50-летний юбилей земских учреждений. – Быстрое распространение кооперации. – Статьи князя Е. Трубецкого, Щербины, Бунакова о подъеме русской деревни. – Перемены в настроении интеллигенции; религиозные и патриотические настроения; увлечение спортом. – Оборотная сторона. – Кризис в церкви. – Призывы к хозяйственному творчеству. – Литература, искусство, театр. – Упадок политической партийности. – Значение царской власти. – Развитие Азиатской России. – Землеустройство на Алтае. – Переселение. – Постройки железных дорог. – План Сибирской водной магистрали. – Сношения с Сибирью через Ледовитый океан. – Орошение в Туркестане. – Записка Дурново по внешней политике (февраль 1914 г.); его предсказания. – Антирусские течения в Германии и антигерманские – в России. – Статья «Кельнише цайтунг» и «Биржевых ведомостей» («Россия готова»). – Кабинет Горемыкина и Дума. – Рост забастовочного движения. – Инцидент с Малиновским. – Хронический конфликт между обеими палатами: поиски выхода. – Международная обстановка летом 1914 г. – Сараевское убийство. – Пуанкаре в гостях у государя. – Рабочие беспорядки в Петербурге
«Чтобы сказать, что 1914 г. не сулит ничего крупного в нашей общественно-политической жизни, не нужно быть пророком», – писал в новогоднем обзоре «Вестника Европы» известный либеральный политический деятель В. Д. Кузьмин-Караваев. В настроениях русского общества действительно не замечалось каких-либо заметных вовне перемен. Россия, по меткому слову Столыпина, была по-прежнему «недовольна собой». В земско-городской среде, преобладавшей и в Госдуме, снова проявились оппозиционные течения. Распространялись слухи о предстоящем ограничении прав народного представительства; резко критиковалась деятельность отдельных министров, особенно Н. А. Маклакова, И. Г. Щегловитова, Л. А. Кассо и В. К. Саблера. Разброд царил в правых кругах, где отдельные организации вроде Союза Михаила Архангела, с В. М. Пуришкевичем во главе, больше занимались сведением счетов с другими правыми, чем «борьбой с революцией». На внутреннеполитической жизни был налет какой-то серости, неопределенности, глухой фронды без определенных лозунгов и целей.
Л. Тихомиров писал в «Московских ведомостях» (1.I.1914): «В современных настроениях заметна самая тревожная вялость. Может быть, мы живем спокойно. Но это – спокойствие безжизненности. Мы не только не видим порывов к чему-нибудь великому, идеальному, всенародно охватывающему, но даже сама вера в реальность чего-либо подобного как будто исчезла…»
Внутреннеполитическое положение России могло казаться неудовлетворительным и даже напряженным – и в то же время страна жила полной жизнью, очень мало соответствовавшей обличительным речам оппозиционных политиков. В беседе с редактором «Берлинер тагеблатт» Т. Вольфом В. Н. Коковцов во время своей поездки за границу осенью 1913 г. сказал, отвечая на вопросы о недовольстве внутренней политикой: «Это, может быть, верно для больших городов, но на расстоянии ста километров от крупных центров и тридцати километров от губернских городов уже ничего не знают об этой политике». Хотя русская печать иронизировала по поводу этих слов, они были весьма близки к истине.
На двадцатом году царствования императора Николая II Россия достигла еще невиданного в ней уровня материального преуспеяния. Прошло еще только пять лет со слов Столыпина: «Дайте нам двадцать лет мира, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России», – а перемена уже начинала сказываться. После обильных урожаев 1912 и 1913 гг. период с лета 1912 по лето 1914 г. явился поистине высшей точкой расцвета русского хозяйства.
За двадцать лет население империи возросло на 50 миллионов человек – на 40 процентов; естественный прирост населения превысил 3 миллиона в год.
Наряду с естественным приростом, равно свидетельствующим о жизненной силе нации и о наличии условий, дающих возможность прокормить возрастающее число жителей, заметно повысился общий уровень благосостояния. Количество товаров, как русских, так и иностранных, потребляемых русским внутренним рынком, более чем удвоилось за двадцать лет. Так, например, потребление сахара с 25 миллионов пудов в год (8 фунтов на душу; 1894) превысило 80 миллионов пудов (18 фунтов на душу) в 1913 г. Хотя в 1911–1912 гг. был неурожай свекловицы и цена значительно поднялась – это не вызвало уменьшение спроса: сахар стал предметом необходимости широких масс. О повышении уровня благосостояния свидетельствовали: неуклонный рост дохода от винной монополии (вызвавшей такие нарекания с моральной точки зрения); удвоение производства пива и увеличение спроса на вино. Увеличилось и потребление чая (75 млн кг в 1913 г.; 40 млн в 1890 г.).
Благодаря росту сельскохозяйственного производства, развитию путей сообщения, целесообразной постановке продовольственной помощи «голодные годы» в начале XX в. уже отошли в прошлое. Неурожай более не означал голода; недород в отдельных местностях покрывался производством других районов.
Урожай хлебных злаков (ржи, пшеницы и ячменя), достигавший в начале царствования в среднем немногим более 2 миллиардов пудов, превысил в 1913–1914 гг. 4 миллиарда. Состав хлебного производства несколько видоизменился: более чем удвоились урожаи пшеницы и ячменя (пшеница по количеству приближалась ко ржи, тогда как ранее одна рожь составляла более половины урожая). Если принять во внимание рост вывоза (за границу уходило около четверти русских хлебов) и увеличение численности населения, все же количество хлеба, приходящегося на душу населения, бесспорно возросло. В городах белый хлеб стал соперничать с черным.
Удвоилось количество мануфактуры, приходящейся на голову населения: несмотря на то что производство русской текстильной промышленности увеличилось процентов на сто, ввоз тканей из-за границы также увеличился в несколько раз. Вклады в государственных сберегательных кассах возросли с 300 миллионов в 1894 г. до 2 миллиардов рублей в 1913 г. Количество почтовых отправлений увеличилось с 400 миллионов до 2 миллиардов, число телеграмм с 60 до 200 миллионов в год.[188]
* * *
Одновременно с расцветом сельского хозяйства продолжался и рост промышленного производства, не отставая по интенсивности от роста первой половины царствования. Некоторое замедление развития, обозначившееся в первые годы XX в., с 1909 г. заменилось новым ускоренным ростом. Добыча каменного угля увеличивалась непрерывно. Донецкий бассейн, дававший в 1894 г. меньше 300 миллионов пудов, в 1913 г. давал уже свыше полутора миллиардов. За последние годы началась разработка новых мощных залежей Кузнецкого бассейна в Западной Сибири. Добыча угля по всей империи за двадцать лет возросла более чем вчетверо.
Добыча нефти в старом Бакинском районе после пожаров 1905 г. более не достигла прежнего уровня, но новые нефтяные прииски, как на том же Апшеронском полуострове, так и в других местах (Грозный, Эмба), почти уравновесили этот ущерб, и в 1913 г. добыча нефти снова приблизилась к 600 миллионам пудов в год (на две трети больше, чем в начале царствования).
Спрос на топливо в связи с ростом обрабатывающей промышленности неизменно возрастал. Наряду с углем, нефтью и с самым старым видом топлива – дровами, сохранявшими еще преобладание на севере и северо-востоке России, – разрабатывались также торфяные залежи, производились изыскания о горючих сланцах.
С открытием изобильных залежей железной руды в Кривом Роге (юг России), марганцевой руды в Никополе и Чиатурах (Закавказье) в России быстро вырастала металлургическая промышленность. Выплавка чугуна увеличилась за двадцать лет почти вчетверо; выплавка меди – впятеро; добыча марганцевой руды (шедшей в больших количествах за границу) – также в пять раз.
Если некоторые виды машин, особенно фабрично-заводское оборудование, ввозились еще из-за границы (главным образом из Германии), то паровозы, вагоны, рельсы производились преимущественно на русских заводах. Но и в области машиностроения за самые последние годы проявился быстрый рост: основной капитал главных русских машинных заводов за три года (1911–1914) возрос со 120 до 220 миллионов рублей.
Текстильная промышленность развивалась быстро, еле поспевая за еще более растущим спросом. Производство хлопчатобумажных тканей с 10,5 миллиона пудов в 1894 г. удвоилось к 1911 г. и продолжало возрастать далее. С быстрым развитием хлопководства в Туркестане Россия становилась все менее зависимой от привозного хлопка; уже в 1913 г. туркестанский хлопок покрывал половину потребности русских мануфактур: с начала царствования сбор туркестанского хлопка увеличился в шесть раз. Льняная, шерстобитная и шелковая промышленность увеличили свой оборот на 75–80 процентов. Общее число рабочих, занятых в текстильной промышленности, с полумиллиона дошло до миллиона. Вообще же число рабочих за двадцать лет с 2 миллионов приблизилось к пяти.[189]
Подъем русского хозяйства был стихийным и всесторонним. Рост сельского хозяйства – огромного внутреннего рынка – был во второе десятилетие царствования настолько могучим, что на русской промышленности совершенно не отразился промышленный кризис 1911–1912 гг., больно поразивший Европу и Америку: рост неуклонно продолжался. Не приостановил поступательного развития русского хозяйства и неурожай 1911 г.
Спрос деревни на сельскохозяйственные машины, мануфактуру, утварь, предметы крашения создавал соревнование между русской и иностранной, главным образом немецкой, промышленностью, которая выбрасывала на русский рынок растущее количество дешевых товаров. Иностранный дешевый товар достигал русской деревни и способствовал быстрому повышению хозяйственного и бытового уровня.
Этот стихийный рост отражался и на доходе казны. С 1200 миллионов в начале царствования бюджет достиг 3,5 миллиарда.[190] Из этой суммы более половины приходилось на доходы от винной монополии и от железных дорог. Год за годом сумма поступлений превышала сметные исчисления; государство все время располагало свободной наличностью. За десять лет (1904–1913) превышение обыкновенных доходов над расходами составило свыше 2 миллиардов рублей. Золотой запас Госбанка с 648 миллионов (1894) возрос до 1604 миллионов (1914).
Бюджет возрастал без введения новых налогов, без повышения старых, отражая стихийный рост народного хозяйства. Увеличение оборота железных дорог, спроса на спиртные напитки, на сахар, на табак, рост поступлений от промыслового налога, от таможенных пошлин – все это не означало увеличения налогового бремени, так как общий народный доход возрос в гораздо большей пропорции, нежели бюджет.
Протяжение железных дорог, как и телеграфных проводов, более чем удвоилось. Удвоился и речной флот – самый крупный в мире.[191]
Русская армия возросла приблизительно в той же пропорции, как и население: к 1914 г. она насчитывала 37 корпусов (не считая казаков и нерегулярных частей), с составом мирного времени свыше 1 300 000 человек. После японской войны армия была основательно реорганизована.
Начальник германского Главного штаба генерал Ф. Мольтке в докладе на имя статс-секретаря по иностранным делам Ф. Ягова писал (24.II.1914), так оценивая результаты реформ, проведенных в русской армии за период 1907–1913 гг.: «Боевая готовность России со времени Русско-японской войны сделала совершенно исключительные успехи и находится ныне на никогда еще не достигавшейся высоте. Следует в особенности отметить, что она некоторыми чертами превосходит боевую готовность других держав, включая Германию: а именно устранением зимнего периода военной слабости вследствие задержания призывных под знаменами впредь до окончания подготовки рекрутов; частыми проверками всего мобилизационного аппарата путем пробных мобилизаций; возможностью необыкновенного ускорения мобилизации при помощи периода подготовки к войне».
Генерал Ф. Мольтке также подчеркивал, что благодаря переводу нескольких корпусов из западной пограничной области в глубь страны (мера эта вызвала, как известно, некоторую тревогу во Франции в 1910 г.) Россия получила большую свободу развертывания: «В то время как раньше боевые силы, предназначенные против Австрии и против Германии, были зафиксированы заранее и перемещение центра тяжести в ту или другую сторону было сопряжено с большими трудностями, теперь образована центральная армия из войск Московского и Казанского округов, которая может быть двинута, куда потребуется».
Русский флот, так жестоко пострадавший в японскую войну, возродился к новой жизни, и в этом была огромная личная заслуга государя, дважды преодолевшего упорное сопротивление думских кругов. Четыре дредноута были почти готовы в Балтийском море; четыре сверхдредноута строились в петербургских верфях.[192] В Черном море строились три дредноута, из них первый близился уже к окончанию.[193]
Из судов старого типа имелось в Балтийском море восемь броненосцев и бронированных крейсеров, в Черном море – семь броненосцев. Строились также легкие крейсера, миноносцы, подводные лодки. За исключением нескольких малых судов, весь новый русский флот строился на русских верфях (в Санкт-Петербурге и в Николаеве).
Происходящую в России перемену отмечали иностранцы. В конце 1913 г. редактор Economiste Europien, Эдмон Тэри, произвел по поручению двух французских министров обследование русского хозяйства. Отмечая поразительные успехи во всех областях, Тэри заключал: «Если дела европейских наций будут с 1912 по 1950 г. идти так же, как они шли с 1900 по 1912 г., Россия к середине текущего века будет господствовать над Европой, как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении».[194]
Исследователи аграрной реформы – датчанин Вит-Кнудсен (в 1913 г.) и немец Прейер (в марте 1914 г.) отмечали успехи закона 9 ноября, «переворота, не отстающего по своему значению от освобождения крестьян». «Это было смелое начинание, своего рода скачок в неизвестность, – писал Прейер. – Это был отказ от старой основы с заменой чем-то неиспытанным, неясным. Столыпин взялся с решимостью и отвагой за эту великую задачу, и результаты показали, что он был прав».[195]
Морис Бэринг, известный английский писатель, проведший несколько лет в России и хорошо ее знавший, писал в своей книге: «Основы России» (весной 1914 г.): «Не было, пожалуй, еще никогда такого периода, когда Россия более процветала бы материально, чем в настоящий момент, или когда огромное большинство народа имело, казалось бы, меньше оснований для недовольства». Бэринг, наблюдавший оппозиционные настроения в обществе, замечал: «У случайного наблюдателя могло бы явиться искушение воскликнуть: да чего же большего еще может желать русский народ?» Добросовестно изложив точку зрения интеллигентских кругов, Бэринг отмечает, что недовольство распространено главным образом в высших классах, тогда как «широкие массы, крестьянство в лучшем экономическом положении, чем когда-либо… то, что верно в отношении крестьян, верно в известной мере в отношении остальных слоев населения. Оно в настоящий момент процветает, и причины его недовольства не настолько остры и сильны, не настолько обильны, чтобы температура этого недовольства поднялась до точки кипения».
* * *
О материальной стороне говорили больше всего, так как она резче бросалась в глаза. Но, быть может, еще существеннее был сдвиг, происшедший в области народного образования.
«Снова более и более выпукло выступает одна знаменательная черта, – писал в «Вестнике Европы» (XI.1913) бывший лидер фракции трудовиков в Первой думе И. Жилкин, – стихийно растет дело народного образования. Неслышно, почти неуследимо (главным образом потому, что на поверхности громыхают события, сегодня волнующие нас досадой, раздражением, ожиданием, а завтра сменяющиеся такими же скучными и дутыми явлениями и быстро забываемые) совершается громадный факт: Россия из безграмотной становится грамотной… Вся почва громадной российской равнины как бы расступилась и приняла в себя семена образования – и сразу на всем пространстве зазеленела, зашелестела молодая поросль».
О росте народного образования свидетельствуют следующие цифры: к 1914 г. расходы государства, земства и городов на народное образование составляли около 300 миллионов рублей[196] (в начале царствования – около 40 миллионов). Докладчик по смете Министерства народного просвещения в Госдуме Е. П. Ковалевский указал (6.IV.1914), что к 1 января 1915 г. всеобщее обучение будет достигнуто в 51 уезде, к 1920 г. – в 218 уездах (всего в России было около 800 уездов). Число учащихся к 1 января 1912 г. уже превышало 8 миллионов (около 5 процентов населения).[197]
По данным Е. П. Ковалевского,[198] число учащихся в высших учебных заведениях достигало в 1914 г. 80 000 человек (в том числе 40 000 в университетах); в средних учебных заведениях было свыше 700 000 учащихся, в ремесленных и низших технических училищах – около 50 000. По настоянию Третьей Государственной думы был принят принцип ежегодного увеличения кредитов по народному образованию на 20 миллионов (10 миллионов на постройки новых школ, 10 миллионов на их содержание). Учительских семинарий, готовивших преподавателей в народные школы, в 1912 г. было уже 122, с 20 000 учащихся.
В деле народного образования государственная власть, отрешившись от опасений политического характера, оказала широкий «кредит» интеллигентским кругам; сохраняя некоторый надзор, стремясь не допускать открытой революционной пропаганды в школах, правительство в то же время широко шло навстречу почину Государственной думы, земств и городов в деле осуществления всеобщего обучения.[199]
* * *
На Рождество 1913 г. в Санкт-Петербурге открылся Первый Всероссийский учительский съезд. Оппозиционные газеты пророчили в один голос, что съезд этот будет запрещен, что его закроют на первых же шагах. Народные учителя считались с давних пор элементом неблагонадежным. Левые круги недоумевали, каким образом при министре просвещения Кассо и министре внутренних дел Маклакове допускаются такие «скопища».
Число участников съезда достигло 7000 человек. Они заседали в Народном доме, самом большом театральном зале Петербурга. «На Святках Петербург был изумлен невиданной и внушительной картиной: подлинная живая провинция нахлынула в столицу», – писал «Вестник Европы». «Значит, не апатична и не мертвенна провинция, если с такой отзывчивостью двинулись на съезд учителя… Становится, наконец, и Россия на эту единственно верную, единственно надежную дорогу культурного укрепления страны», – добавлял либеральный журнал, напоминая известные слова о германском школьном учителе, победившем в 1870 г.
Съезд заседал десять дней; он разделился на секции; были прочитаны сотни докладов по самым разнообразным вопросам, связанным с педагогической деятельностью. Вынесено было около двухсот резолюций. Руководители съезда старались тщательно избегать политики, опасаясь закрытия. Но учительская масса, к удивлению столичной печати, сама не проявила никакой склонности к политическим выступлениям. Неуместной оказалась брошюра В. Пуришкевича «Школьная подготовка второй русской революции». Кадетская «Речь» почти с разочарованием замечала: «Вместо закрытия съезда к нему проявили внимание, участие и терпимость» – и добавляла: «Уж лучше бы вместо двухсот резолюций – десять самых главных и внушительных…»
Официальная газета «Россия» (5.I.1914) так оценивала съезд: «Кружковщина напрягала все усилия. В основной своей массе народные учителя пошли не за ней, а своей дорогой… Русская жизнь осложняется, требования к школе повышаются, видоизменяются и требования к учителям. Но во всяком случае, это не та дорога, на которую изо всех сил тащат народного учителя деятели кружковщины».
Одна только отрицательная черта обнаружилась на съезде: рост культурного сепаратизма среди нерусских народностей. В секции, обсуждавшей вопросы национальных школ, раздавались резкие протесты против обрусительной политики, причем учителя – «украинцы», татары, поляки и т. д. – вообще возражали против обязательности преподавания русского языка и русской литературы. На эту сторону съезда обратили особое внимание как недоброжелатели съезда справа, так и левые, недовольные «отсутствием политики» в остальных секциях. «Эти настроения, – писала Е. Кускова в «Современном мире», – дают основания ждать всяких случайностей во время великих народных переживаний и потрясений».
Петербургский съезд был поучительным опытом. Конечно, в учительской массе преобладали социалистические воззрения. Но реальная работа в рамках существующего строя была возможной; она становилась все более разнообразной и живой. На выборах учителя голосовали бы за партию левых кадетов; в деловой работе они готовы были идти рука об руку с Н. А. Маклаковым и Л. А. Кассо. В заключительном заседании съезда, как естественное окончание его работ, была послана приветственная телеграмма государю. За самыми малыми исключениями, эта теоретически левая масса оказывалась гораздо менее активно оппозиционной, чем думские прогрессисты, московские промышленники или группа А. И. Гучкова, считавшиеся неизмеримо «правее».
Оплата народных учителей была скромной; они получали меньше, чем рабочие некоторых отраслей промышленности. Однако возникшая в 1909 г. в Москве по частному почину (графини В. Н. Бобринской) организация учительских экскурсий за границу за несколько лет дала возможность многим тысячам русских народных учителей[200] посетить за самую скромную плату Германию, Альпы, Италию, Францию и т. д. (Наибольшим успехом среди учителей пользовался «итальянский маршрут».) Русская власть содействовала этим экскурсиям, освобождая от паспортных сборов и предоставляя льготный проезд по железным дорогам.
* * *
В январе 1914 г. русское земство праздновало свой 50-летний юбилей. Императорское правительство, несмотря на постоянное фрондирование земцев, приняло самое близкое участие в этом чествовании. Этим оно хотело подчеркнуть, что ценит полезную деятельность местных людей, проявлявшуюся в улучшении условий хозяйственной жизни, в прекрасной постановке медицинской помощи, в развитии школьной сети и в сооружении дорог.
Земские торжества начались 7 января панихидой по императору Александру II, отслуженной в Петропавловском соборе, и молебном, совершенным в Казанском соборе. 8 января, в годовщину распубликования Положения о губернских и уездных земских учреждениях, государю в Зимнем дворце представлялись земские деятели, съехавшиеся со всех концов России. Председатель Московской губернской земской управы обратился к государю со следующими словами: «Низко кланяемся Вам, Государь, просим принять нашу русскую хлеб-соль и соизволить на приношение Наследнику – Цесаревичу, надежде верноподданной России, скромного дара, отражающего поприща земской работы». Поднесен был при этом «хуторок в виде образцовой деревни», сделанный кустарями московского земства.
Государь, поблагодарив земцев, так закончил свое обращение к ним:
«Я выражаю твердую уверенность, что всякая земская работа в тесном единении с Моим правительством будет проникнута и воодушевлена безграничною заботою о бесчисленных местных нуждах населения и о его благе. Разумное удовлетворение местных нужд является главным залогом развития и подъема благосостояния всего государства.
Духовному взору Моему ясно представляется спокойная, здоровая и сильная Россия, верная своим историческим заветам, счастливая любовью своих благодарных сынов и гордая беззаветной преданностью их Нашему Престолу».
9 января министром внутренних дел Н. А. Маклаковым устроен был раут, на котором присутствовали многочисленные земские деятели, не исключая и самых либеральных. 10 января государь присутствовал на рауте в дворянском собрании. В память юбилея был высочайше установлен особый нагрудный знак.
Фрондируя на местах против губернаторов в угоду левым кругам, вынося порою постановления, явно неприемлемые для власти, те же земцы проявляли в столице нередко и настоящее государственное понимание, и готовность работать в положительном деле рука об руку с консервативными министрами. Лучшим тому доказательством была, например, работа земцев в созываемом периодически Совете по делам местного хозяйства, в котором со времен П. А. Столыпина рассматривались земцами и чинами Министерства внутренних дел подготовлявшиеся соответственными ведомствами законопроекты, касавшиеся важнейших сторон местной жизни. Празднование земского юбилея, подобно учительскому съезду, тоже было чрезвычайно характерно в этом отношении.
* * *
Хозяйственная самодеятельность широких народных масс выразилась в беспримерно быстром развитии кооперации. До 1897 г. в России было всего около сотни потребительских обществ с небольшим числом участников и несколько сот мелких ссудосберегательных товариществ. В 1897 г. был издан нормальный устав потребительных обществ; для их открытия было достаточно разрешения местных властей. В том же году были основаны первые кредитные товарищества при содействии государства или земства.
Уже к 1904 г. было около тысячи потребительных обществ, около полутора тысяч кооперативных кредитных учреждений. Но настоящий расцвет кооперации начался уже после 1906 г. Кооперация, как в виде торговой организации, так и в виде органов мелкого кредита, из городов распространилась и в деревне. Уже к 1 января 1912 г. число потребительных обществ приближалось к 7000, за пять лет увеличившись в шесть раз, причем сельские кооперативы составляли две трети общего количества, а число их возросло в двенадцать раз.
Отдельные кооперативы (например, Общество забайкальских железнодорожных служащих) имели обороты по нескольку миллионов рублей. Московский союз потребительных обществ к 1914 г. объединял до 800 кооперативов с общим оборотом в 10,5 миллиона рублей и занимал пятое место среди кооперативных объединений Европы.
Кредитные кооперативы к 1914 г. увеличили в семь раз свой основной капитал (против 1905 г.) и насчитывали до 9 миллионов членов. В мае 1912 г. открылся Московский народный банк, акционерами которого на 85 процентов были кредитные кооперативы; кооперация получила новый толчок к дальнейшему развитию.
Рост кооперации создавал спрос на полуинтеллигентский труд; создавался новый общественный слой, как и учительские круги, в большинстве «народно-социалистический» по своим теоретическим взглядам; но теория очень мало влияла на их практическую деятельность. Кооператоры, в общем, чуждались «чистой политики». В их среде создавалась даже особая идеология, придававшая кооперации всеобъемлющее значение: она должна была преобразить экономические отношения, упразднить «эксплуатацию», основать народное хозяйство на общечеловеческой солидарности.
Правительство не только не препятствовало развитию кооперации (как это иногда утверждали по поводу арестов отдельных кооператоров, причастных к революционной пропаганде), наоборот, только благодаря широкому финансовому содействию государства кредитная кооперация получила возможность так быстро развиваться. Ссуды Госбанка органам мелкого кредита достигали сотен миллионов рублей. «Ни в одной другой стране, за исключением, может быть, Индии, кредитная кооперация не пользовалась такой поддержкой государства, как в России», – писал впоследствии известный кооперативный деятель.[201]
Россия становилась иной. В политических речах еще пестрели слова «реакция», «застой», «паралич государственного организма». Но факты, противоречившие этим фразам, становились слишком красноречивыми. Их начинали замечать не одни иностранцы.
В конце 1913 г. в «Русской мысли» появилась статья князя Е. Н. Трубецкого «Новая Земская Россия». «Два новых факта в особенности поражают наблюдателя русской деревни за последние годы, – писал князь Трубецкой, – подъем благосостояния и поразительно быстрый рост новой общественности». Улучшение техники, рост цен на рабочие руки, появление городской одежды (от «черепаховых гребешков» до «калош и зонтиков») у крестьян – все это идет параллельно с поразительным развитием сельской кооперации. И этот рост идет не вопреки власти, а при ее прямой материальной поддержке: «Правительство не жалело средств в помощь земству для всяких мер, клонящихся к улучшению крестьянского благосостояния… Совершается то, что в 1905 г. казалось невозможным. Кооперативное движение происходит на почве совместной культурной «органической» работы интеллигенции и массы и протекает при благосклонном участии правительства, которое финансирует это сближение… Крестьяне действительно приобщаются к благосостоянию и собственности. Им есть чем дорожить и что охранять.
Из этого князь Е. Н. Трубецкой делал вывод, что старый «пугачевский» социализм отходит в прошлое, что в России создалась основа «буржуазной демократии», опирающейся на крестьян-собственников.
«Да, – отвечал на это И. Бунаков, видный публицист-народник,[202] – подъем крестьянского благосостояния в связи с ростом земледельческой культуры и развитием крестьянской общественности, главным образом в форме кооперативной организации, – вот те глубокие социальные сдвиги русской деревни, которые так обидно почти не заметила наша городская интеллигенция… Именно за эти годы так называемой «реакции» и «застоя» в русской деревне, а следовательно, в основном массиве русского социального строя происходили сдвиги, значение которых для будущего страны должно быть громадным».
И. Бунаков признавал, что «народники», предсказывавшие в 1905 г. наступление «разложения деревни», если не будет проведена (очевидно, народническая) земельная реформа, ошиблись: «Земельная реформа не удалась. Но и разложения не наступило. Наоборот, деревня вступила на путь земледельческого прогресса. Нет никаких оснований думать, что она скоро может сойти с этого пути». Но И. Бунаков, в отличие от князя Е. Н. Трубецкого, еще сомневался в том, возможна ли такая быстрая перемена «психики и идеологии» в русском крестьянине, «еще несколько лет тому назад так непочтительно относившемся к собственности… Бывают ли в истории такие внезапные социальные метаморфозы?». Сомневаясь поэтому в прочности новых течений в деревне, И. И. Бунаков, по крайней мере, не отрицал их, присматривался к ним.
Рядовые интеллигенты вообще отказывались их видеть и по-прежнему усматривали в русской действительности только «гнет», «произвол», «нищету», «подавление всякой самодеятельности». П. Б. Струве указал на это в «Русской мысли» (III.1914), в статье «Почему застоялась наша духовная жизнь?». Он отмечал, что раньше у русского интеллигента мысли опережали действительность, теперь же наоборот – «жизнь неуклонно, со стихийной силой движется вперед, а мысль, идейная работа безнадежно отстает, ничего не производит, топчется на месте».
Чем вызывалось это явление? Интеллигенция утратила уверенность в своих былых идеалах. Она уже усомнилась в материализме, в идеях XVIII и XIX вв., даже во всеспасающем значении революции, но как бы не решалась сама себе в этом сознаться. Между тем это разочарование шло очень глубоко, оно отражалось на молодом поколении, на студенчестве, даже на подростках, только начинающих сознательно жить. «Авторитет старшего поколения еще больше понизился в глазах младшего, чем это бывает обычно среди отцов и детей… Он давно так низко не опускался в России, как в эти годы политического и нравственного кризиса», – писал профессор В. И. Вернадский в кадетском «Ежегоднике» газеты «Речь» за 1914 г.
Упадок старых интеллигентских верований породил в период вокруг 1910 г. волну самоубийств среди учащейся молодежи. Эта волна затем начала спадать и заменяться религиозными исканиями. В высшей школе, где политика совершенно замерла – не столько из-за энергичных репрессивных мер Л. А. Кассо, сколько вследствие перемены настроений самого студенчества, – начали возникать – явление доселе неслыханное – различные религиозные кружки. В 1913 г. русское студенчество впервые участвовало в съезде мировой организации христианской молодежи в Соединенных Штатах. «В России в студенчестве рост религиозных кружков есть акт освобождения личности, – писал в упомянутой статье профессор Вернадский. – Еще недавно религиозное чувство здесь скрывалось, религиозная организация была немыслима… Целью было благо массы, и задачи экономического и политического освобождения ставились на первое место, давили все…»
Новой чертой совершенно иного рода было пробуждение интереса ко всем видам спорта. Еще недавно русская учащаяся молодежь считала спорт «неинтеллигентным» занятием; теперь везде вырастали футбольные, теннисные клубы. Широкое развитие начали получать гимнастические организации для детей и подростков: «потешные», названные так в память первых товарищей игр Петра Великого, занимавшиеся своего рода допризывной военной подготовкой; сокола, славянская спортивная организация, имевшая наибольшее развитие у чехов; бойскауты, по английскому типу, созданному полковником Баден-Поуэлем.
Государь с особым интересом следил за развитием этих организаций, особенно потешных. Он предоставлял на них средства из находившегося в его распоряжении десятимиллионного фонда и предполагал создать особое ведомство физического воспитания; но В. Н. Коковцов указал, что Государственная дума вряд ли захочет отпустить кредиты на новое ведомство. В этом вопросе (как и в организации особого Министерства народного здравия) Государственная дума значительно стесняла правительственную инициативу.
Русская молодежь становилась спортивной – это был тоже новый факт, вызывавший порою сетования в радикальных журналах, иронически отзывавшихся о «бицепсах», о «рекордах» и т. д. В газетах и журналах печатались старые формулы; только очень немногие, как авторы «Вех», решались открыто говорить о необходимости пересмотра интеллигентского мировоззрения, но и в молодежи, и на культурных верхах интеллигенции наблюдался глубокий идейный перелом, и разочарование начинало сменяться новыми исканиями.
* * *
Русское общество начинало сходить с избитой тропы; оно уже не проповедовало с прежней фанатической уверенностью атеизм, материализм и социализм. Но до широкой полуинтеллигентной массы эта перемена еще не доходила. Там, наоборот, посев XIX в. только еще всходил; там старые догматы считались еще бесспорными, а с ростом грамотности они быстро распространялись в народной массе.
Деревня богатела; голод отходил в область предания; грамотность быстро распространялась; но в то же время деревенская молодежь отрешалась от вековых духовных традиций. Огромное впечатление по своей неприкрашенной правдивости произвел роман И. А. Родионова «Наше преступление», ярко рисовавший рост бессмысленного, жестокого озорства («хулиганства») в деревне. Отовсюду шли сведения об упадке религиозности в крестьянской среде, особенно среди подрастающих поколений.
Князь Е. Н. Трубецкой в той же статье о «Новой земской России» писал: «Несомненный, бросающийся в глаза рост материального благосостояния пока не сопровождается сколько-нибудь заметным духовным подъемом. Духовный облик нашей мелкой буржуазной демократии едва ли может быть назван симпатичным… Растет какой-то могучий организм, но вырастет ли из этого со временем человеческое величие или же могущество большого, но не интересного животного?.. Если у нас есть основание верить в будущее духовного величия России, то это основание скорее в прошлом, чем в настоящем…» Опасения князя Е. Н. Трубецкого были, по существу, того же порядка, как опасения, высказанные П. А. Столыпиным в письме к государю о «грубой демократии» в Сибири.
«Движение кооперативное и движение религиозное идут рука об руку, – отвечал на это в той же «Русской мысли» Ф. Щербина. – Подъем благосостояния масс является необходимым условием для того, чтобы они могли подумать о душе и о предметах высшего порядка…»
* * *
Пробуждение религиозных течений в интеллигенции и упадок веры в народных массах совпали с глубоким кризисом в русской церкви. Церковный собор, намеченный в начале 1905 г., так и не был созван. Первое предсоборное присутствие закончило свои работы 15 декабря 1906 г.[203]
Затем в 1911 г. было созвано вторичное предсоборное присутствие, в значительно меньшем составе, почти исключительно из духовенства. Но вопрос о поместном соборе так и не сдвигался с места, хотя его добивались многие известные церковные деятели.
Одной из главных причин задержки созыва собора и церковной реформы было, как это ни кажется парадоксальным на первый взгляд, существование законодательных учреждений. Основные законы не предусматривали особого порядка законодательства по церковным делам; руководящие церковные круги в то же время испытывали колебание при мысли, что внутренние вопросы церковного устройства будут решаться голосами атеистов и иноверцев. Эти сомнения разделял и государь. Государственная дума, со своей стороны, относилась ревниво к возможности изъятия из ее ведения целой области народной жизни, и вопрос о порядке прохождения церковной реформы так и оставался открытым.
Однако и в самой церкви не было единодушия по самым существенным вопросам церковного строительства, в частности в вопросе о восстановлении патриаршества. Роль церкви поэтому оставалась крайне пассивной, и в стране замечалось усиленное развитие всевозможных сект, как мистического, так и рационалистического характера (баптисты).
Религиозно-философское общество, в начале 1900-х гг. пытавшееся отыскать общий язык между интеллигенцией и церковью, уклонилось в сторону политики; это проявилось в той агитации, которую общество развило по поводу дела Бейлиса: такого крупного писателя, как В. В. Розанов, оно решило исключить за то, что тот допускал возможность ритуальных убийств. П. Б. Струве, назвав всю эту кампанию отвратительной шумихой, вышел из совета общества.
Большой интерес и оживленную полемику вызвала зимой 1913/14 г. статья А. М. Рыкачева в «Русской мысли» «О некоторых наших предубеждениях». Автор ее, молодой ученый, доказывал, что наряду со стихийным экономическим прогрессом в России «чувствуется слабость организующих сил, отсутствие общественного подъема и радости созидания». Причина этого явления в том, что в русском обществе сильны предубеждения против предпринимательской деятельности. Под влиянием марксистских теорий интеллигенция считает предпринимателей «эксплуататорами»; она готова служить им за жалованья, подчас даже очень высокие, но она не хочет сама браться за предпринимательскую деятельность. «Считается, что честнее быть агрономом на службе земледельческого земства, чем землевладельцем; статистиком у промышленника, чем промышленником. Бедность общественной культуры и приниженность личности – вот что проявляется в этом пристрастии к третьим местам, в этом страхе перед первыми ролями, в этом отказе от неприкрытого мужественного пользования властью!»
А. М. Рыкачев указывает, что «фактически возможно быть преуспевающим и влиятельным предпринимателем, не поступаясь ни своими политическими убеждениями, ни своим пониманием нравственного долга… Не здесь ли прекрасное приложение сил для всех, кого не удовлетворяет окружающая действительность… кого влечет к борьбе и творчеству?.. Хочется сказать детям и внукам тех, кто когда-то «шли в народ»: «Идите в торговлю и промышленность!»
Эти мысли, вызывавшие язвительные нападки социалистических критиков, встретили живой интерес на верхах интеллигентской молодежи.
* * *
На русской художественной литературе особенно сильно отражался глубокий духовный кризис интеллигенции. Это сказывалось не столько на более крупных писателях, обычно свободных от шаблона, сколько на «писательской массе», на рядовых сотрудниках толстых журналов. Прежние обличительные рассказы, с положительными типами из «борцов за народ», стали заменяться новеллами в стиле модерн, с разочарованными героями; личному давалось предпочтение перед «общественным».
Писателей, имевших мировую известность, после смерти Л. Н. Толстого не осталось. Максим Горький и Леонид Андреев заметно утратили популярность в широких кругах интеллигенции (хотя Горький за эти годы написал несколько выдающихся романов автобиографического характера). Наибольшей известностью пользовались И. Бунин, А. Куприн; из новых имен – Б. Зайцев, граф А. Н. Толстой, Д. Мережковский и З. Гиппиус – из области литературы все более переходили к политико-религиозной публицистике.
В поэзии общее признание получили декаденты – Бальмонт, Брюсов, Блок, Белый (причем наибольшей популярностью пользовался Блок). Из нового поколения выделялись своей острой личной лирикой Анна Ахматова и Марина Цветаева; вокруг Н. С. Гумилева создавалась группа поэтов-акмеистов, стремившихся улучшить культуру стиха. Посмертное признание получил Иннокентий Анненский, почти не замеченный при жизни. Выделялись также из многочисленной плеяды поэтов начала XX в. В. Ходасевич, Осип Мандельштам, Б. Садовский.
Новые искания в области поэзии приняли крайние формы – от стихов Хлебникова и Бурлюка, лишенных всякого смысла, кроме звукового, до поисков новых слов и особенно новых окончаний слов у Игоря Северянина, имевшего наибольший успех у широкой читающей публики, – и до футуристов, пытавшихся создать причудливую смесь поэзии и балаганного фиглярства; из футуристов несомненным дарованием обладал Вл. Маяковский.
Ни у кого из писателей этого времени уже не чувствовалось той цельности интеллигентского мировоззрения, которая преобладала в 90-х гг. и в последний раз ярко проявилась в пьесах А. П. Чехова. Из писателей старой школы В. Г. Короленко, отойдя от чистой литературы, писал свою автобиографию («История моего современника»).
В живописи передвижники и представители утилитарного искусства утратили всякое значение. Тенденциозные, поучительные картины признавались проявлением дурного вкуса. Как в поэзии символисты, так и в живописи центральное положение заняла группа «Мира искусства». Посмертная выставка картин В. А. Серова в начале 1914 г. показала, какого большого художника лишилась в нем Россия. Сомов, Шухаев, Серебрякова, Б. Григорьев, А. Н. Бенуа, как декораторы Бакст, Добужинский – вот главные имена этого периода.
Скульптура зато дала мало интересного; из многочисленных памятников, воздвигнутых на площадях и улицах русских городов, своеобразной силой выделялся памятник императору Александру III на площади перед Николаевским вокзалом в Санкт-Петербурге.
В архитектуре было мало оригинального и нового. Музей изящных искусств (имени императора Александра III) в Москве, в классическом стиле церкви Спаса на Водах и Романовская «юбилейная» в Петербурге, Федоровский собор в Царском Селе, созданные по древнерусским образцам, – наиболее заметные здания этого периода. (Менее удачна была церковь Спаса на Крови, построенная на месте убиения императора Александра II, в стиле Василия Блаженного.)
Организованная в 1913 г. в Москве Романовская церковно-археологическая выставка, устроенная в 1913 г. в Чудовом монастыре, и выставка древнерусского искусства императорского археологического института дали возможность широким русским кругам познакомиться с русским искусством XIV–XVII вв., которое так ценил государь. Художественное значение русской иконописи впервые получило должную оценку. «Эти выставки, – отмечал кадетский «Ежегодник» «Речи», – самое крупное событие в русской художественной жизни за последние годы».
В области театра также проявлялись новые течения. Московский Художественный театр, с его совершенством отделки и сотнями репетиций, переставал быть «последним словом»; начиналось увлечение «стилизациями». В театре Комиссаржевской выдвинулся режиссер Мейерхольд, ставивший пьесы в упрощенных декорациях, с условно подчеркнутой игрой артистов. Возник своеобразный и остроумный театр пародий «Кривое зеркало», подобных которому не было в Западной Европе. «Старинный театр» старался воскресить средневековые мистерии, пьесы Сервантеса, Лопе де Вега, Кальдерона. Большой успех имели театры художественных миниатюр (самый известный из них – «Летучая мышь» Балиева). В «кабачках поэтов» такие миниатюры соединялись с декламацией стихов, с художественными танцами.
Мировую известность получил в эти годы русский императорский балет; его гастроли за границей были подлинным событием художественной жизни; имена антрепренера С. Дягилева, Анны Павловой, Нижинского, Фокина прославились далеко за пределами России.
* * *
Россия 1914 г. была в гораздо меньшей степени отравлена политикой, чем Россия 1904 г. Политические партии имели весьма малое значение. Партией интеллигенции оставались по преимуществу кадеты; партией земцев – октябристы; промышленные круги за последние годы от октябристов передвинулись к прогрессистам, тогда как более правые течения не имели за собой (кроме разве поместного дворянства) какого-либо определенного общественного слоя, но находили немало сторонников в русских народных массах, преимущественно городских, в Западном крае.
Социалисты-марксисты (социал-демократы) пользовались значительным влиянием в рабочей среде и обладали, пожалуй, наиболее совершенной партийной организацией, несмотря на то что не имели «легального» существования. Социалисты-народники (социалисты-революционеры, трудовики, народные социалисты) имели много сторонников среди деревенской полуинтеллигенции. Но, кроме, быть может, социал-демократов, ни одна партия не развивала широкой планомерной пропаганды в стране.
Ни интеллигенция, усомнившаяся в своей прежней вере и не нашедшая новой, ни примитивно-социалистическая полуинтеллигенция не обладали ни политическим опытом, ни широким государственным кругозором. Среди бесформенной «общественности» по-прежнему только царская власть, опиравшаяся на крепкие традиции и долгий опыт правления, обладавшая испытанными кадрами исполнителей своих предначертаний, могла направлять жизнь многообразной страны. Эта власть, стоявшая вне и выше интересов отдельных групп и слоев населения, одна могла проводить глубокие реформы, как доказал пример закона 9 ноября. Законодательные учреждения могли служить ей не столько опорой, сколько порою полезным тормозом, а также измерительным прибором, показывающим «температуру» и «высоту давления» в стране.
«Царская власть, – писал бывший член Государственной думы барон А. Д. Мейендорф (как бы повторяя слова Пушкина в его известном письме к Чаадаеву), – представляется мне наиболее европейским из русских учреждений, может быть, единственным европейским… Россия была страной причудливых мечтаний, в которой императорская власть была наименее эксцентричным центром».[204] Отметив, какую малую роль играло происхождение при назначениях на высшие государственные должности в России, барон Мейендорф заключал: «Российская империя была самой демократической монархией в мире».
Несмотря на рост народного богатства и просвещения, еще оставались верными слова К. Н. Леонтьева, написанные почти полвека перед тем, о глубокой подвижности всей почвы и всего строя в России.
«Особенно благоприятную почву для социальных потрясений, – писал в феврале 1914 г. П. Н. Дурново, – представляет, конечно, Россия, где народные массы исповедуют принципы бессознательного социализма. Несмотря на оппозиционность русского общества, столь же бессознательную, как и социализм широких масс населения, политическая революция в России невозможна, и всякое революционное движение неизбежно выродится в социалистическое. За нашей оппозицией нет никого, у нее нет поддержки в народе…»
И Дурново указывал, что самой большой ошибкой в случае возникновения смуты были бы уступки интеллигентским кругам: этим правительство только ослабило бы себя в борьбе с социалистическими элементами. «Хотя это и звучит парадоксально, но соглашение с оппозицией в России безусловно ослабляет правительство. Более чем странно требовать, чтобы оно серьезно считалось с оппозицией и ради нее отказалось от роли беспристрастного регулятора социальных отношений».
Государь, без сомнения, разделял эти мысли. Он не имел намерения без крайней государственной необходимости отступать от дарованных им самим основных законов; в этом отношении упорные слухи в стране не имели под собой реальной почвы. С 3 июня 1907 г. было допущено всего одно отступление, и то не от буквы, а от духа основных законов: проведение П. А. Столыпиным закона о западном земстве по ст. 87-й. Но государь в то время не считал возможным увеличить влияние «общественности» на ход государственных дел: он не видел ни в Думе, ни в русском обществе вообще таких элементов, которым императорская власть имела бы право передоверить судьбы России.
С первого года своего правления – и даже раньше, еще будучи наследником, – государь уделял особое, исключительное внимание азиатской миссии России. Это одинаково относилось и к внешней, и к внутренней политике.
На фоне общей картины могучего роста Российской империи особо выделялось развитие ее азиатских владений. Сбывались слова Ломоносова: «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном».[205] Конечно, северные пространства Сибири, с их тундрами и вечной мерзлотой, не открывали широких возможностей; на их 8 миллионах квадратных верст как было, так и оставалось всего около полумиллиона жителей, на две трети якутов и кочевых северных инородцев.[206] Но к югу от 55–58-й параллелей простиралась полоса в несколько сот верст шириной, от Урала до Тихого океана, с площадью свыше 4 миллионов квадратных верст. Гористый характер местности и отдаленность от морей делали ее климат суровее европейского; ее скорее можно было сравнить с Канадой, чем с Соединенными Штатами. Это был плодородный край, с большими, почти неиспользованными естественными богатствами. А дальше, за полосой пустынь, была еще Средняя Азия, сравнительно густо населенная инородческими племенами, область хлопка, плодовых садов, виноградников. Вассальные княжества Хива и Бухара составляли как бы переход к полосе сфер влияния – Северной Маньчжурии и Монголии, где русское преобладание было официально признанным, и Китайского Туркестана, где оно начинало пускать корни.
Д. И. Менделеев в своей книге «К познанию России» писал, что хозяйственный центр России передвигается на восток, примерно на линию Самара – Саратов. Рост русских азиатских владений оправдывал предсказания великого ученого. Население Азиатской России за двадцать лет возросло с 12 до 21,5 миллиона. Но при этом население центральной полосы увеличилось с 4,5 миллиона до 10 миллионов; а колонизационный район Западной Сибири[207] – с неполных 3 до 7 миллионов.
Центром этого главного колонизационного района был Алтайский округ, составлявший до 1906 г. личную собственность царствующего императора и состоявший в ведении кабинета его величества. Еще в 1899 г. государь издал положение о земельном устройстве крестьян и инородцев, поселившихся в Алтайском округе; указом 16.IX.1906 он повелел передать все свободные земли округа Переселенческому управлению для устройства безземельных и малоземельных крестьян Европейской России. На основании этих двух указов из кабинетских земель, пространством в 41 миллион десятин, было передано крестьянам (как старожилам, так и переселенцам) около 25 миллионов десятин.[208] (За кабинетом остались главным образом леса и «неудобные земли» – горные хребты, по высоте почти равные Альпам: Монблан – 4800 м, Белуха – 4500 м.) Население Алтайского округа в 1914 г. превысило 3 миллиона (свыше 10 чел. на кв. версту). Со сказочной быстротой росли на Алтае города; Ново-Николаевск, основанный в 1895 г., к 1914 г. насчитывал около 100 000 жителей; Славгород, где в 1909 г. еще был на пустом месте водружен деревянный крест, в 1913 г. уже имел 7000 жителей и развивал торговлю на 6 миллионов рублей в год.
За двадцать лет около 4 миллионов переселенцев из внутренних губерний нашли себе место в Сибири – из них более 3 миллионов в центральной полосе, около полумиллиона – на Дальнем Востоке (Приморье и Приамурье), около 100 000 в Туркестане. Их размещением и устройством занималось Переселенческое управление, бюджет которого достигал в 1914 г. 30 миллионов рублей (в 1894 г. – менее миллиона).
Великий сибирский путь, законченный в 1905 г., в разгар японской войны, уже оказывался недостаточным для растущих потребностей края. Амурская дорога, начавшая строиться в 1908 г. (окончание было намечено на 1916 г.), проходила по районам, еще почти незаселенным. Для основного колонизационного района были поэтому намечены: Южно-Сибирская магистраль, шедшая примерно в 300 верстах параллельно Великому сибирскому пути, от Орска к Семипалатинску; три ветки в Алтайском округе (из них одна от Ново-Николаевска через Барнаул на Семипалатинск, одна к Кузнецкому угольному бассейну); ветка Минусинск – Ачинск и, наконец, дорога к китайской границе в Забайкалье (на Кяхту). Постройка новых железных дорог в Алтайском районе началась в 1913 г.; в этом же году была закончена железная дорога Тюмень – Омск, сильно сокращающая путь из Петербурга в Сибирь. Концессия на постройку Южно-Сибирской магистрали была предоставлена летом 1914 г. акционерной компании во главе с бывшим членом Госсовета В. Ф. Треповым.
В Туркестане после окончания (в 1906 г.) линии Оренбург – Ташкент, соединявшей Среднюю Азию с русской железнодорожной сетью, были построены ветки местного значения; но уже разрабатывались планы линии из Туркестана в Сибирь и начата была постройка линии из Туркестана на Семиречье (на Верный и Пишпек).
Недостатком Сибирской речной системы было то, что все большие реки – кроме Амура – текли параллельно, с юга на север. Образованная в 1909 г. особая комиссия при Министерстве путей сообщения разработала грандиозный проект сибирской водной магистрали от Урала до Владивостока, протяжением свыше 10 000 верст, соединенной с системой Камы и Волги путем канала со шлюзами в районе Южного Урала.
С 1910 г. начались попытки установить правильные сношения с Сибирью через Ледовитый океан. Из Владивостока экспедиции доходили до устьев Лены и Колымы; наиболее успешным было плавание капитана Вилькицкого, открывшего по пути в 1913 г. большой неизвестный остров, названный им Землей Императора Николая II. В том же году норвежский пароход «Коррект» с известным полярным путешественником Нансеном прошел с запада к устью Енисея и поднялся на 300 верст вверх по реке; там его встретил русский пароход «Туруханск», и был произведен обмен грузами около 100 000 пудов. Тем же летом 1913 г. на западносибирском побережье Ледовитого океана заработали первые радиостанции.
Сибирь уже давала хлебные избытки до 100 миллионов пудов в год (при посевной площади в 12 миллионов и урожае в 400–450 миллионов пудов). Но главное ее значение для русского экспорта выражалось в необыкновенно быстром развитии вывоза масла (главным образом в Англию), преимущественно из Алтайского округа: почти от нуля в 1894 г. вывоз поднялся к 1913 г. до 70 миллионов рублей.[209]
Крестьянство в Сибири было заметно зажиточнее, чем в Европейской России. Так, сенокосилок, конных грабель, молотилок в Сибири было всего вдвое меньше, чем в Европейской России, при населении меньшем в двенадцать раз. За последние 15 лет Сибирь купила сельскохозяйственного инвентаря больше чем на 150 миллионов рублей, причем в первое пятилетие покупала в среднем на 2,3 миллиона рублей в год, а за последние годы – более чем на 20 миллионов рублей.[210]
Туркестан, с его сухим и жарким климатом, ставил иные задачи. Здесь главным был вопрос о воде. Государево Мургабское имение показало, как много можно сделать при правильной постановке орошения. На площади в 104 000 десятин степи, где раньше рос только редкий колючий кустарник, были созданы водохранилища, в которые весной собиралась вода реки Мургаб. В 15 лет (1895–1910) там образовались хлопковые плантации из 25 000 десятин, фруктовые сады, поселения, освещаемые электричеством (для чего использовалась сила падения воды на запруде).
В самаркандской Голодной степи в октябре 1913 г. открыт был оросительный канал, получившей название Романовского; в 1915 г. только из одного этого канала должно было быть орошено 45 000 десятин, тогда как в общей программе гидротехнических работ Министерства земледелия в Центральной Азии было предусмотрено в том же году орошение еще 35 000 десятин.
В ознаменование трехсотлетия дома Романовых Государственная дума в 1913 г. постановила отпустить на орошение и другие сельскохозяйственные мелиорации 1 миллиард рублей (постройка русской железнодорожной сети стоила около 6 миллиардов рублей), причем программа использования первой части этого кредита в размере 150 миллионов рублей была совершенно разработана и готова к осуществлению.
Поистине поразительный пример того, как землеустройство, переселение, раскрепощение личности и развитие промышленности вдохнули и в русскую технику новую жизнь, блестяще развивая до тех пор прозябавшие ее отрасли.
* * *
Вскоре после отставки графа Коковцова, в феврале 1914 г. П. Н. Дурново представил государю записку,[211] в которой высказывал опасения за будущее России в случае сохранения прежнего курса внешней политики.[212] Дурново писал, что чисто оборонительный франко-русский союз был полезен: «Франция союзом с Россией обеспечивалась от нападения Германии, эта последняя – испытанным миролюбием и дружбой России от стремлений к реваншу со стороны Франции, Россия необходимостью для Германии поддерживать с нею добрососедские отношения – от чрезмерных происков Австро-Венгрии на Балканах».
Это равновесие было нарушено англо-русским сближением. Австрии было бы легко осуществить свои балканские планы во время японской войны и революции 1905 г., но тогда Россия «еще не связала своей судьбы с Англией», и Австро-Венгрия вынуждена была упустить момент. Наоборот, с англо-русского соглашения 1907 г. начались осложнения для России.
П. Н. Дурново указывал, что даже победа над Германией не дала бы России ничего ценного: «Познань? Восточная Пруссия? Но зачем нам эти области, густо населенные поляками, когда и с русскими поляками нам не так легко управиться? …Галиция? Это рассадник опасного «малорусского сепаратизма». А «заключение с Германией выгодного торгового договора вовсе не требует предварительного разгрома Германии». Наоборот, в случае такового разгрома «мы потеряли бы ценный рынок». К тому же Россия попала бы в «финансовую кабалу» к своим кредиторам-союзникам. Германии также война не нужна; она могла бы отторгнуть от России только малоценные для нее густонаселенные области: Польшу и Остзейский край. «Немецкая колонизационная война идет на убыль. Недалек тот день, когда Drang nach Osten отойдет в область исторических воспоминаний».
* * *
П. Н. Дурново далее предсказывает такой ход событий, если бы дело дошло до войны: Россия, Франция и Англия с одной стороны, Германия, Австрия и Турция с другой. Италия на стороне Германии не выступит: она даже может присоединиться к противогерманской коалиции, «если жребий склонится в ее пользу». Румыния также будет колебаться, «пока не склонятся весы счастья». Сербия и Черногория будут против Австрии, Болгария – против Сербии. Участие других государств «явится случайностью», хотя Америка и Япония враждебны Германии и на ее стороне, во всяком случае, не выступят.
«Главная тяжесть войны выпадет на нашу долю. Роль тарана, пробивающего толщу немецкой обороны, достанется нам… Война эта чревата для нас огромными трудностями и не может оказаться триумфальным шествием в Берлин. Неизбежны и военные неудачи – будем надеяться, частичные, – неизбежными окажутся и те или другие недочеты в нашем снабжении… При исключительной нервности нашего общества этим обстоятельствам будет придано преувеличенное значение… Начнется с того, что все неудачи будут приписываться правительству. В законодательных учреждениях начнется яростная кампания против него… В стране начнутся революционные выступления… Армия, лишившаяся наиболее надежного кадрового состава, охваченная в большей части стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и порядка. Законодательные учреждения и лишенные авторитета в глазах населения оппозиционно-интеллигентские партии будут не в силах сдержать расходившиеся народные волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается даже предвидению».
Нарисовав эту мрачную картину, П. Н. Дурново заключал: «Тройственное согласие – комбинация искусственная, и будущее принадлежит не ей, а несравненно более жизненному тесному сближению России, Германии, примиренной с нею Франции и связанной с Россией строго оборонительным союзом Японии… Притом само собой разумеется, – добавлял П. Н. Дурново, – что и Германия должна пойти навстречу нашим стремлениям… и выработать совместно с нами… условия нашего с нею сожительства».
Нет сведений о том, как отнесся к этой записке государь. Быть может, она явилась запоздалой. Во всяком случае, в Германии в это время не замечалось никакого желания «пойти навстречу».
В Германии сложилось убеждение в непреодолимой враждебности России. Этому способствовал в известной мере тон русской печати (хотя на печать германские послы жаловались еще при Александре III); этому сильно содействовала та демагогическая кампания, которая велась в России по поводу возобновления русско-германского торгового договора.
Договор, заключенный в 1904 г. (срок его истекал в 1916 г.), несомненно, был для России менее выгодным, нежели договор 1894 г.: таможенные ставки на русские сельскохозяйственные продукты были значительно повышены. При всем том Германия была не только главным поставщиком, но и лучшим клиентом России, русский вывоз в Германию превышал полмиллиарда рублей, баланс все время оставался активным в пользу России.[213] Коковцов в своих мемуарах отмечает, что А. В. Кривошеин разослал по поводу подготовки торгового договора циркуляр, как бы призывающий земства, торговые палаты и т. д. к антигерманской кампании. Может быть, с точки зрения торга при заключении договора такая тактика имела известный смысл – можно было добиваться более выгодных условий, ссылаясь на общественное мнение, – но в напряженной обстановке 1914 г. это способствовало тому, что в Германии укрепилось мнение: «Наше дело в России проиграно, нам остается только вооружаться и затем, уповая на Бога, ждать, пока на нас нападут…»[214] А от «ждать нападения» до «предупредить нападение» – один шаг…
Представление о том, будто Россия готовится напасть на Германию, подогревалось в германском обществе сенсационными сообщениями о французском займе на постройку стратегических железных дорог, заключенном в начале 1914 г., о какой-то «военной партии» при русском дворе, причем в нее обычно зачислялись «великие князья» без более точного обозначения…
Создание такого неверного представления о русских намерениях немало содействовало позиции германских правящих кругов, начиная с императора Вильгельма II (канцлер Бетман-Гольвиг и некоторые дипломаты, в частности посол в Петербурге граф Пурталес, видимо, не вполне разделяли эти антирусские предубеждения). Что касается германской печати, то в вопросах внешней политики она всегда была несравненно «послушнее» указаниям «сверху», нежели «из принципа» оппозиционная русская печать.
Но и с русской стороны находились также люди, подливавшие масло в огонь. И русские, и иностранные источники свидетельствуют об антигерманской кампании Гучкова; резкого тона придерживалось «Новое время», помещавшее тирады вроде: «Мы не против дружбы с Германией… но считаем, что она должна быть основана исключительно на признании немцами нашей силы…» Бывали выпады и слева: кадет Шингарев в бюджетной комиссии (в феврале 1914 г.) высказывал предположения, что Германия создает для России внешнеполитические затруднения, чтобы заставить ее подписать невыгодный торговый договор. Министр иностранных дел Сазонов на это возражал, но в печати его слова были изложены так, будто он соглашался с Шингаревым. Германский посол протестовал; ему было обещано, что в печати появится успокаивающее разъяснение.
Однако вместо «успокаивающего» разъяснения в вечерних «Биржевых ведомостях» появилась (27 февраля) статья с огромным заголовком: «Россия хочет мира, но готова к войне». «С гордостью мы можем сказать, – говорилось в ней, – что для России прошло время угроз извне. России не страшны никакие окрики. Русское общественное мнение, с благоразумным спокойствием относившееся к поднятому за последние дни за границей воинственному шуму, было право: у нас нет причин волноваться. Россия готова! Русская армия, бывшая всегда победоносной, воевавшая обыкновенно на неприятельской территории, совершенно забудет понятие «оборона»… Русскому общественному мнению важно сознание, что наша родина готова ко всем случайностям, но готова исключительно во имя желания мира».
«Воинственный шум», о котором говорилось в этой статье, был вызван сообщением петербургского корреспондента Koelnische Zeitung (2.III – 17.II), доказывавшего, что Россия готовится к войне и будет готова к ней осенью 1917 г. Статья «Биржевых ведомостей», которую общий голос (как оказалось, основательно) приписал военному министру Сухомлинову, вызвала шумную радость во французской печати; в германской же воцарилось недоброе молчание.
Успокоительные статьи официозов – «России» и Norddeutsche Allgemeine Zeitung – произвели после этого мало впечатления, как и речи представителей дипломатического ведомства – фон Ягова и С. Д. Сазонова, которые – один в рейхстаге, 1 мая, другой в Госдуме, 10 мая, говорили о неизменности русско-германских добрососедских отношений и о вреде несдержанности в газетной полемике между странами. «В Германии – расхождение между правительством, полным разумных намерений, и общественным мнением, обуреваемым страстными порывами», – замечал обозреватель Revue des deux Mondes (15.V.1914).
* * *
И. Л. Горемыкин после своего назначения на пост премьера сообщил председателю Государственной думы Родзянко, что он желает «сдвинуть законодательство с мертвой точки». 1 марта под его председательством состоялось совещание представителей всех партий, кроме крайних левых, по вопросу о новой большой военной программе. Но думские круги оставались настороженными и недоверчивыми. То их волновал вопрос о депутатской неприкосновенности (привлечение к суду депутата Чхеидзе за оскорбление величества, допущенное в думской речи);[215] то возникала тревога из-за того, что при опубликовании одного закона было произведено редакционное изменение заголовка в принятом палатою тексте. Сенсацию вызвало заявление И. Л. Горемыкина о том, что запросы могут предъявляться только к отдельным министрам, а не к председателю Совета министров (хотя формальную правоту премьера никто не отрицал).
В марте на рижских и петербургских заводах, изготовляющих резиновые изделия (а затем и на других), стали наблюдаться массовые заболевания работниц, выражавшиеся в тошноте, судорогах, обмороках. Так, на заводе «Треугольник» за шесть дней было отмечено свыше трехсот случаев, на табачной мануфактуре – за четыре дня свыше полутораста. Смертных случаев при этом не было ни одного.
Печать забила тревогу; в Думу были внесены запросы. Правые высказывали предположение, что это революционеры устраивают «химическую обструкцию», и в Госдуме происходили бурные сцены. Заболевания вскоре совершенно прекратились. По-видимому, первые случаи объяснялись духотой и испарениями резины, а затем действовала психологическая зараза. Но эта «эпидемия» послужила поводом для многочисленных забастовок протеста.[216]
Вообще забастовки становились все более частыми: петербургские рабочие бастовали по поводу не понравившейся им речи товарища министра внутренних дел о ленских событиях, по поводу конфискации номера газеты «Правда»; на 1 мая работу прекратили почти все заводы.
22 апреля «Правда» праздновала двухлетие своего выхода (ее несколько раз закрывали, но она тотчас выходила под другими названиями). На заводах производили сбор в Фонд рабочей печати. В этот самый день крайняя левая Государственной думы по поводу первого выступления И. Л. Горемыкина устроила обструкцию. Группа в двадцать человек начала стучать пюпитрами и громко кричать, и скандал прекратился лишь после того, как 21 депутат (с лидером социал-демократов Чхеидзе и лидером трудовиков, молодым адвокатом Керенским во главе) были исключены на пятнадцать заседаний. Горемыкин обратился к Думе с кратким приветствием: «Положение мое самое простое, оно заключается в совместной и дружной с вами работе… чтобы каждый из нас мог, в пределах начертанных ему законами обязанностей, посвятить свои силы служению родине».
Государственная дума отнеслась к новому премьеру сдержанно, а речь министра внутренних дел Маклакова встречена была недружелюбно; при обсуждении сметы его ведомства думское большинство впервые прибегло к демонстративному отклонению кредитов. Зная, что по закону в случае отклонения кредитов остается в силе цифра прошлой сметы, думские партии решили отвергнуть все повышения кредитов по смете Министерства внутренних дел. В их числе были кредиты «на наем и содержание помещений в губ. городах». Правый октябрист Танцов указал, что это невыгодно отразится на земских сметах; земец-октябрист Стемпковский, признавая этот факт, возразил, что зато это «заставит министра призадуматься». Кредит был отклонен большинством 159 против 147 голосов. Но когда было предложено отклонить кредит на землеустройство в польских губерниях – поляки голосовали с правым крылом, и кредит был спасен. Так и в Четвертой думе могло случиться, что решение зависело от польских голосов…
Среди депутатов, исключенных за обструкцию, был социал-демократ большевик Малиновский, состоявший с 1910 г. на службе в тайной полиции. Он пользовался доверием Ленина и был членом Центрального комитета партии; через него Министерство внутренних дел было хорошо осведомлено о планах большевиков. Но его резкие агитационные речи в Госдуме возмутили нового товарища министра внутренних дел Джунковского, который решил прервать с ним сношения и сообщил М. В. Родзянко об истинной роли Малиновского, которому, разумеется, пришлось сложить депутатские полномочия и уехать за границу.
Ленин долго отказывался признать, что Малиновский был агентом полиции; «Правда» объясняла его уход нервным переутомлением и порицала его за недостаток выдержки. Меньшевики, наоборот, злорадствовали. С этого момента правительство утратило свой главный источник осведомления о внутренних делах партии большевиков.
Так как правительство взяло курс в сторону трезвости, общество стало относиться к этой проблеме с иронией. Дума отвергла кредит в 300 000 рублей на субсидии обществам трезвости. «Если хотите трезвости, – провозглашал Ф. И. Родичев, – добывайте свободу!» Когда в виде опыта винные лавки в Петербурге были закрыты на второй и третий день Пасхи – рабочие на многих заводах объявили забастовку, «так как вследствие закрытия мест продажи спиртных напитков в предшествующие два дня они лишены были возможности привычным образом провести праздничные дни».
Тем не менее министр финансов Барк уже в апреле мог сообщить, что за последние месяцы вынесено 416 приговоров сельских сходов о закрытии винных лавок. Деревня отозвалась на кампанию в пользу трезвости совершенно иначе, нежели город.
Соотношение партий в Думе оставалось неопределенным, прочного большинства не было. При резком столкновении октябриста Н. П. Шубинского с П. Н. Милюковым думское большинство исключило лидера кадетов, но против исключения Шубинского получилось большинство в три голоса. Председательствовавший в этом заседании прогрессист А. И. Коновалов вышел из президиума, и на его место (303 голосами против 11) избран был товарищем председателя Государственной думы октябрист А. Д. Протопопов.
В одном из своих последних заседаний (10 июня) Дума, при закрытых дверях, полностью приняла военную программу. Государь поручил М. В. Родзянко «передать Госдуме изъявление Моего искреннего удовольствия по поводу принятого Думой патриотического постановления об отпуске кредитов на усовершенствование обороны государства».
Хотя И. Л. Горемыкин вслед за В. Н. Коковцовым отстаивал в Госсовете допущение польского языка в городских самоуправлениях царства Польского – Госсовет вторично отверг этот проект. Он также отклонил проект введения волостного земства. При различии настроений обеих палат проводить новые законы становилось затруднительно.
«В наше действительно переходное время, – говорил в Госдуме товарищ министра народного просвещения барон М. А. Таубе, – писать органические уставы чрезвычайно нецелесообразно… Какое бы ни было правительство… при настоящей комбинации и констелляции сил и в Госдуме, и в Госсовете закон этот пройти не может». («Спасибо за признание, это верно!» – отозвались голоса слева.) «Новое время» вспоминало последние речи Столыпина о «волшебном круге», создающемся для законодательства, о необходимости «трахеотомии»…
Сессия Государственной думы закрылась 14 июня. Под занавес она приняла так называемую «поправку Годнева» к государственной росписи, запрещающую министрам использовать по своему усмотрению неупотребленные остатки кредитов по их сметам. Госсовет эту поправку отверг, и левая печать утверждала, что, следовательно, отвергнут и весь бюджет; но дело ограничилось тем, что роспись была опубликована и введена в действие без вступительной части. 30 июня на каникулы разошелся и Госсовет.
* * *
В международной политике первая половина 1914 г. прошла довольно тихо. Много писали о злоключениях принца Вида, избранного князем Албании; ему никак не удавалось добиться признания со стороны местного населения. Во Франции парламентские выборы прошли под знаком борьбы против трехлетнего срока военной службы: большой успех имели социалисты. Тем не менее президент Пуанкаре не согласился предоставить власть противникам нового военного закона, и после неудачного опыта с кабинетом Рибо (который был свергнут в тот же день, как предстал перед парламентом) премьером был назначен независимый социалист Вивиани, человек дипломатичный, удовлетворивший левое крыло палаты обещанием изучить вопрос о способах замены трехлетней службы, – а пока закон оставлен был в силе. Кайо, считавшийся возможным лидером левого большинства, был временно отстранен от власти, так как предстоял процесс его жены, убившей редактора «Фигаро» Кальметта за опубликование личных писем ее мужа к ней.
В Англии угрожающие формы принимал ирландский вопрос. Закон о гомруле должен был войти в силу летом 1914 г.; протестантское население Ольстера готовилось к вооруженному сопротивлению, а в английском офицерстве проявлялось открытое нежелание идти против «верных Англии» ольстерцев ради «ирландских сепаратистов».
Австро-русские отношения оставались натянутыми. В начале 1914 г. в Мармарош-Сигете (Карпатская Русь) и во Львове разбирались дела о русофильской пропаганде. Член Государственной думы граф В. А. Бобринский ездил свидетелем защиты в Мармарош-Сигет. Часть обвиняемых была оправдана.
Столетие рождения малорусского поэта Тараса Шевченко было официально отпраздновано в Галиции, тогда как в России ему пытались придать антирусский характер. В петербургских газетах даже появились сведения, будто в Киеве малорусскими сепаратистами («мазепинцами», как их называли противники) устроена была демонстрация с лозунгом «Да здравствует Австрия». Киевский губернатор Н. И. Суковкин, однако, опроверг эти сообщения.
2 июня государь со всей царской семьей выезжал в Румынию и в Констанце встречался с румынской королевской семьей (в марте в Россию приезжал наследный принц Фердинанд с супругой и с сыном). Ходили упорные слухи о предстоящей помолвке великой княжны Ольги Николаевны с молодым румынским принцем Королем.
* * *
15 (28) июня в Сараеве, столице Боснии, был убит наследник австрийского престола, эрцгерцог Франц-Фердинанд. Он считался сторонником превращения Дунайской монархии в триединое германо-венгро-славянское государство, с расчетом на расширение в сторону Балкан, а то и за счет России; немецкие и особенно венгерские националисты его недолюбливали.
«Русское общественное мнение не считало покойного эрцгерцога в числе друзей России. Но оно не может не испытывать чувства глубокой скорби перед его трагической кончиной и негодования к убийцам, в фанатическом ослеплении сеющим смерть направо и налево», – писало «Новое время». Государь выразил соболезнование престарелому императору Францу-Иосифу; австрийского посла графа Чернина посетили великие князья, министры, видные сановники.
Но уже 18 июня «Новое время» указывало, что против Сербии «началась очень опасная кампания». Хотя оба задержанных участника убийства были австрийские подданные, австро-венгерская печать обвиняла в организации убийства Сербию. Начались аресты среди сербов, живущих в Боснии; происходили демонстрации, толпы громили сербские магазины. В России относились с негодованием к этим попыткам использовать возмущение, вызванное убийством эрцгерцога, для политических целей Австро-Венгрии на Балканах.
В эти тревожные дни скоропостижно скончался русский посланник А. А. Гартвиг (28 июня, в кабинете австрийского посланника в Белграде). Его кончина была большим горем и для Сербии, справедливо считавшей его своим горячим заступником. Сербское правительство держало себя очень осторожно; оно даже запретило собрания протеста против сербских погромов в Боснии. В Петербурге надеялись, что Германия окажет на Австрию умеряющее влияние.
К началу июля «злобой дня» в России стали забастовки, принявшие угрожающие размеры. В Баку около месяца тянулась забастовка на нефтяных приисках. Социал-демократическая печать в Петербурге призывала рабочих поддержать бакинских товарищей. 3 июля в Петербурге перед Путиловским заводом состоялся митинг; полиция рассеяла толпу, причем в свалке было ранено камнями несколько городовых и ушиблено девять рабочих.
На следующий день начались забастовки протеста, сопровождавшиеся уличными демонстрациями. Социал-демократы и социалисты-революционеры выпустили прокламации, призывающие к борьбе. 6 июля было воскресенье; 7-го забастовка не только не прекратилась, но приняла боевой характер. В Петербурге бастовало уже свыше 100 000 рабочих; движение перекинулось в Москву, в Ревель. В рабочих кварталах Петербурга стали останавливать трамваи, разбирать мостовую, кидать камнями из окон в полицию. Так как в этот самый день в Россию прибыл французский президент, великий князь Николай Николаевич (как отмечает в своих мемуарах Пуанкаре) высказывал предположение, не устраиваются ли забастовки немцами, чтобы испортить франко-русские манифестации.
8 июля весь день шли нападения на трамваи. Было испорчено 200 вагонов (из 500). Работали только казенные заводы; 9-го стали и они. На Приморской железной дороге рабочие повалили телеграфные столбы поперек рельсов. В ходу осталось только 40 трамвайных вагонов. Но в ночь на 9-е в помещении газеты «Правда» была задержана группа руководителей забастовки; газета «Трудовая правда» была закрыта, типография опечатана, и движение с этого момента пошло на убыль. Оно вообще по телеграммам иностранной печати выглядело страшнее, чем было: так, беспорядки на окраинах ничуть не помешали франко-русским торжествам в центре города (президент Пуанкаре посещал Петербург 8 июля).
10-го было объявлено о закрытии заводов ввиду забастовки. Трамвайное движение зато возобновилось везде, кроме рабочих кварталов. Забастовки, однако, еще распространялись в провинции – на Ригу, на Николаев.
Президент Пуанкаре пробыл в России с 7 по 10 июля. В Кронштадте его встретил государь; он остановился в Петергофе, на вилле «Александрия», в гостях у царской семьи. 9-го и 10-го были смотры в Красном Селе. По традиции были произнесены речи со взаимными заверениями в дружбе и в преданности идеалу мира. Вечером 10 июля французская эскадра вышла в море.
В тот же вечер, 10-го, скончался в Царском Селе князь В. П. Мещерский; ему было за 75 лет, но он оставался деятельным до конца и еще в последних числах июня имел с государем последнюю продолжительную беседу. Государь всегда прислушивался к его мнениям, хотя часто с ним не соглашался.
На следующее утро, 11 июля, Министерство иностранных дел получило телеграмму из Белграда: накануне вечером австрийский посланник Гизль вручил сербскому правительству ультиматум с требованиями, явно неприемлемыми для независимого государства.
Мировая война 1914–1917
Глава 6
Австрийский ультиматум и русский ответ. – Единодушие в России. – Общая мобилизация. – Германский ультиматум и объявление войны; патриотический подъем. – Манифесты 20 и 26 июля. – Сближение общества с властью. – Воззвание к полякам. – Запрещение продажи спиртных напитков. Французские требования помощи; поход в Восточную Пруссию; Сольдау. – Договор 22 августа (5 сентября) 1914 г. – Успехи в Галиции. – Маневренная война в царстве Польском. – Война на море. – Выступление Турции. – Положение в стране; агитация против немцев. – Процесс депутатов социал-демократов. – Надежды на голод в Германии; угроза снарядного голода. – Январская сессия Думы. – Операции союзников у Дарданелл. – Взятие Перемышля. – Дело Мясоедова. – Поездка государя в Галицию. Прорыв у Тарнова. – Отход в Галицию. – Беженцы и «выселенцы». – «Немецкий погром» в Москве. – Конференция кадетов, лозунг министерства общественного доверия. – Ставка и правительство. – Шаги навстречу обществу: увольнение четырех министров; созыв Госдумы. – Оставление Варшавы. – Сдача Ковно. – Летняя сессия Думы. – Создание особых совещаний. – Принятие государем верховного командования
Министр иностранных дел С. Д. Сазонов получил телеграмму от русского поверенного в делах В. Н. Штрандтмана около 10 часов утра 11 (24) июля. Он тут же сказал: «C’est la guerre europeenne». Таково было первое же впечатление от требований Австрии. Оно еще усилилось, когда в 10 часов утра от австро-венгерского посольства был получен полный текст ноты. Тотчас же об этом сообщили по телефону в Царское Село государю, который воскликнул: «Это возмутительно!» – и повелел созвать экстренное заседание Совета министров. Оно состоялось в 3 часа дня. Было решено снестись с другими великими державами и дать Сербии совет – не оказывать сопротивления, чтобы не обострять конфликта. Но в то же время, чтобы не создалось впечатления, будто Россия считает возможным остаться в стороне, было составлено краткое сообщение, появившееся в военном официозе «Русский инвалид» на следующее утро 12 июля: «Правительство весьма озабочено наступившими событиями и посылкой Австро-Венгрией ультиматума Сербии. Правительство зорко следит за развитием австро-сербского столкновения, к которому Россия не может оставаться равнодушной».
Этим кратким и сдержанным сообщением русское правительство давало понять, что оно не намерено бездействовать, если Австро-Венгрия попытается силой навязать Сербии свою волю. Австрийский ультиматум и русский ответ по существу уже предрешали неизбежность войны.
Возможно, что Австрия, а также Германия, знавшая о предстоящем выступлении своей союзницы, рассчитывали добиться бескровного дипломатического успеха, полагаясь на то, что Россия будет во что бы то ни стало избегать войны. Миролюбие государя было известно; однако хотя бы бывший канцлер Бюлов мог припомнить и то предупреждение, которое сам государь ему дал еще пятнадцать лет перед тем.[217]
Существовали традиции, от которых Россия не могла отступить, во всяком случае под внешней угрозой.
Издавна Россия считала себя преемницей Византии и покровительницей остальных славянских народов. Она могла сама видоизменить свою политику и сознательно перенести свой центр на Восток. В этом отношении правительство даже шло впереди общества, которое никогда не понимало всего значения дальневосточной политики государя. Так называемое «передовое» общественное мнение оставалось гораздо ближе к традициям середины XIX в. Особенно за последние годы, после боснийского кризиса, интерес к Ближнему Востоку, к балканским славянам, распространился и на широкие слои интеллигенции. Кроме того, события последних лет создали между Россией и Сербией связь взаимных обязательств, хотя и не закрепленных формальным договором. Сербия и в боснийском кризисе (1909), и в вопросе о выходе к морю (1912), и в вопросе о Скутари (1913) последовала указаниям русского правительства и помогала ему избежать международных осложнений. Россия, со своей стороны, этим самым обязывалась не допускать насилия над Сербией. В этом сходились все русские государственные деятели, не исключая тех, которые предпочли бы дружбу с Германией сближению с Англией. Так, П. Н. Дурново в своей записке прямо указывал, что для возможности сближения Германия, со своей стороны, должна «пойти навстречу нашим стремлениям» и обеспечить Россию «от чрезмерных происков Австро-Венгрии на Балканах».
11 июля сербский королевич-регент Александр в телеграмме на имя государя писал: «Мы не можем защищаться. Посему молим Ваше Величество оказать нам помощь возможно скорее… Мы твердо надеемся, что этот призыв найдет отклик в Его славянском и благородном сердце».
Государь на это ответил 14 июля: «Пока есть малейшая надежда избежать кровопролития, все наши усилия должны быть направлены к этой цели. Если же, вопреки нашим искренним желаниям, мы в этом не успеем, Ваше Высочество может быть уверенным в том, что ни в коем случае Россия не останется равнодушной к участи Сербии». Телеграмма эта была получена как раз в тот день, когда Австрия объявила Сербии войну, и произвела огромное впечатление. Председатель Совета министров Никола Пашич «был настолько взволнован, что мог говорить только урывками: «Господи, милостивый русский царь, какое утешение». Он не был в силах сдержать своих слез».[218]
«Тяжкие времена не могут не скрепить уз глубокой привязанности, которыми Сербия связана со святой славянской Русью, и чувства вечной благодарности за помощь и защиту Вашего Величества будут свято храниться в сердцах всех сербов», – писал (16 июля) в ответной телеграмме королевич Александр.
Иной позиции государь занять не мог, и в этом он был поддержан всем русским общественным мнением. Но и в Австро-Венгрии создалось положение, при котором правительство не считало возможным отступить и этим уронить свой престиж в глазах разноплеменного населения Дунайской монархии. Россия не могла предоставить Австро-Венгрии поступить с Сербией по своему усмотрению; Австро-Венгрия поставила вопрос так, что всякое вмешательство в ее спор с Сербией она рассматривала как посягательство на ее честь.
После того как Австрия зашла сразу так далеко, а Россия заявила, что есть вещи, на которые она согласиться не может, – международное положение стало, в сущности, сразу безвыходным, хотя переговоры еще продолжались несколько дней. Был, пожалуй, только один момент, когда Австрия еще могла отступить, в то же время провозглашая свою победу: сербский ответ, врученный 13 июля, шел дальше в удовлетворении австрийских требований, чем можно было ожидать; Сербия не принимала только вмешательства австро-венгерских властей в судебное следствие на ее территории; но даже и в этом вопросе готова была вести дальнейшие переговоры. Так, германский император, прочтя сербский ответ, счел, что он удовлетворителен. Но Австрия этого не сочла. Она в тот же день (13-го) прервала с Сербией дипломатические сношения, а 15-го объявила ей войну.
В русских правительственных кругах сперва имелась надежда на то, что Германия окажет на Австрию умеряющее действие. Государь в этом смысле телеграфировал несколько раз императору Вильгельму. Но Германия не считала возможным отказать в поддержке Австро-Венгрии, своей единственной союзнице. Кроме того, действовал широко распространившийся фатализм, представление о том, что война все равно неизбежна. Даже такой радикальный германский орган, как Frankfurter Zeitung, писал сразу же после австрийского ультиматума (11–24 июля): «Если сейчас и удастся избежать европейской войны, то, к сожалению, приходится опасаться, что русский национализм через несколько лет попытается изгладить свое теперешнее унижение…»
Такой же фатализм господствовал и во Франции, и в Англии. Позиция Франции была при этом проста. Непосредственно не заинтересованная в конфликте, она только строго придерживалась своих союзных обязательств; при этом те круги, которые считали франко-германское столкновение неизбежным, были скорее довольны, что данный конфликт начинается именно с России, которая уже не может оказать умеряющее влияние, как во время марокканского кризиса. Англия также знала, что германская пропаганда последних лет толковала все происходящее как англо-германское соперничество; и она не видела большого вреда в том, чтобы в открытую борьбу против Германии втянулась Россия и за нею Франция.
При общей готовности принять войну и при отсутствии где-либо твердой воли ее предотвратить, хотя бы ценою жертв, все державы только выполняли некий обряд, продолжая переговоры о мирных путях ликвидации конфликта – и в то же время выискивая способ возложить на противоположную сторону ответственность за войну.
Русское общественное мнение было весьма единодушно в отпоре австрийскому ультиматуму. Только кадетская «Речь» сперва отнеслась с известным осуждением позиции русского правительства. «Что Сербия, особенно после русского поощрения, не даст вполне удовлетворительного ответа, – писала «Речь» 12 июля, – это можно считать несомненным. Поощрение Сербии уже оказано, и известная доля ответственности за последствия нами уже взята. Таким образом, остановить ход событий, по-видимому, уже не в нашей власти…» Но через два дня и «Речь» признавала, что сербский ответ оказался более чем удовлетворительным…
В воскресенье, 13 июля, в Санкт-Петербурге состоялись уличные манифестации; толпа кричала: «Да здравствует армия, да здравствует война». «Это необычный вечер, – писало «Новое время» (14.VII), – это вечер народного ликования, народного восторга перед возможностью той войны, которая, быть может, со времени Освободительной турецкой войны одна так популярна и так возвышенна».
Поскольку Россия решила «не остаться равнодушной к судьбе Сербии», необходимо было принять подготовительные военные меры. 15 июля Австрия объявила Сербии войну; в тот же день русское правительство решило объявить мобилизацию четырех военных округов (приблизительно половины армии). Желая до последней возможности не порывать с Германией, государь считал, что мобилизация должна коснуться тех войск, которые сосредотачиваются к австрийской границе.
Но начальник Генерального штаба Н. Н. Янушкевич и другие военные авторитеты не без веских оснований считали, что частичная мобилизация может спутать все планы и маршруты и помешать в дальнейшем проведению общей мобилизации, а было заранее ясно, что Германия не оставит Австрию без поддержки. С другой стороны, объявление общей мобилизации означало бы признание неизбежности общей войны.
Получилось роковое сцепление: Россия вынуждена была объявить хотя бы частичную мобилизацию, раз Австрия начинала военные действия против Сербии, но частичная мобилизация могла в качестве угрозы оказаться недостаточной. Тогда пришлось бы прибегнуть к общей мобилизации. А ее проведение было весьма затруднено, если бы раньше начались уже частичные. Опять-таки, общая русская мобилизация не могла не вызвать германской, а также французской мобилизации. А германский мобилизационный план был в то же время соединен с быстрым началом военных действий.
Государь не сразу согласился на общую мобилизацию; весь день 17 июля он еще настаивал на проведении частичной. Как представитель военного ведомства, так и министр иностранных дел несколько раз обращались к нему с настойчивыми уговорами. К вечеру 17-го государь наконец согласился на замену частичной мобилизации общей. Он при этом, однако, телеграфировал императору Вильгельму: «Технически невозможно остановить наши военные приготовления, ставшие неизбежными ввиду мобилизации Австрии. Мы далеки от того, чтобы желать войны. Пока будут длиться переговоры с Австрией по сербскому вопросу, мои войска не предпримут никаких военных действий. Я торжественно даю тебе в этом мое слово».
Со стороны Германии соответственного обещания, однако, не последовало. Война была политически предрешена; но тот факт, что Россия первой объявила всеобщую мобилизацию, давал германскому правительству удобный предлог для того, чтобы изобразить в глазах своего народа объявление войны как акт самозащиты. В полночь с 18-го на 19-е германский посол Пурталес явился к С. Д. Сазонову и предъявил ультимативное требование – немедленно приостановить мобилизацию. Такое требование было, конечно, невыполнимо – ни по соображениям государственного достоинства, ни по военно-техническим основаниям. Россия только повторила свое заверение в том, что ее войска не перейдут границу, пока длятся переговоры. Тогда, 19 июля (1 августа), в 7 часов 10 минут вечера, германский посол Пурталес вручил министру иностранных дел Сазонову официальное объявление войны. Великая война началась.
Из вечерних газет 19 июля Россия узнала о германском ультиматуме, а на следующий день она уже прочла про объявление войны. Огромные толпы, во много раз большие, чем при вести о нападении японцев на Порт-Артур, наводнили 20 июля улицы столицы. Площадь перед Зимним дворцом заполнилась народом; когда государь вышел на балкон, толпа опустилась на колени. Не смолкали крики «ура» и пение народного гимна.
В большом зале Зимнего дворца государь принимал высших чинов армии и флота. «Я здесь торжественно заявляю, – сказал он, – что не заключу мира до тех пор, пока последний неприятельский воин не уйдет с земли нашей».
Верховным главнокомандующим был назначен великий князь Николай Николаевич, командующий войсками Санкт-Петербургского военного округа. Государь сам предполагал стать во главе армии; закон о полевом управлении войсками был составлен в предвидении, что Верховным главнокомандующим будет сам император. На заседании Совета министров, однако, почти все высказались за назначение другого лица – имелось два кандидата, военный министр В. А. Сухомлинов и великий князь, и выбор государя остановился на втором.
Великий князь Николай Николаевич быстро получил широкую известность и популярность, как в армии, так и во всей стране. Начальником штаба Верховного главнокомандующего был назначен генерал Н. Н. Янушкевич, генерал-квартирмейстером – генерал Ю. Н. Данилов.
В течение первого года войны армия делилась на два «фронта» – Юго-Западный с главнокомандующим генералом Н. И. Ивановым во главе и Северо-Западный, где генерала Я. Г. Жилинского вскоре сменил генерал Н. В. Рузский.
В высочайшем манифесте 20 июля излагался ход переговоров, завершившихся объявлением войны со стороны Германии. «Ныне предстоит, – говорилось в заключение, – уже не заступаться только за несправедливо обиженную родственную Нам страну, но оградить честь, достоинство, целость России и положение ее среди великих держав… В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укрепится еще теснее единение царя с Его народом и да отразит Россия, поднявшаяся, как один человек, дерзкий натиск врага».
«Видит Господь, что не ради воинственных замыслов или суетной мирской славы подняли Мы оружие, – гласил манифест 26 июля (о войне с Австрией), – но, ограждая достоинство и безопасность Богом хранимой Нашей Империи, боремся за правое дело… Да благословит Господь Вседержитель Наше и союзное нам оружие, и да поднимется вся Россия на ратный подвиг с железом в руках, с крестом в сердце».
Объявления войны следовали одно за другим: 19 июля Германия объявила войну России; 21 июля она объявила войну Франции, так как по военно-техническим соображениям она не могла долее задерживать свое наступление, а выполнение Францией союзного долга для нее сомнений не представляло. Тот факт, что Германия в обоих случаях первая объявила войну, дал Италии формальное основание уклониться от выполнения военного договора; германское правительство, правда, пыталось внушить Италии, будто русские войска первыми перешли границу Германии без объявления войны,[219] но Италия этих доводов не приняла.
Вслед за тем, из-за нарушения бельгийского нейтралитета, внезапно и сразу в борьбу вмешалась Англия: она ультимативно потребовала от Германии уважения неприкосновенности территории Бельгии, когда германские войска уже переходили границу, и в ночь с 22 на 23 июля объявила Германии войну.
Австро-Венгрия медлила несколько дней, с очевидным расчетом, что Россия сама ей объявит войну и что это создаст законный casus belli для Италии; но Россия торопиться не стала, и Австрии пришлось самой объявить войну (24 июля), чтобы не отстать от своей союзницы в развитии военных операций.
Война начиналась в условиях весьма благоприятных для держав согласия: к России, Франции и Сербии сразу же присоединилась Англия и (с 11 августа) ее союзница Япония, тогда как Германия и Австро-Венгрия не встретили поддержки ни со стороны Италии, ни со стороны Румынии (где коронный совет, вопреки мнению короля Карла I, высказался за нейтралитет); нейтральной осталась и Швеция, на которую в Германии возлагали большие надежды.
* * *
Великая война застала русское общество врасплох. Но с самого начала конфликта, с 11 по 19 июля, в России царило полное единодушие; позиция правительства встречала общее одобрение, и, когда Германия предъявила ультиматум о прекращении мобилизации, а затем объявила войну, – в России это было всеми встречено как необоснованное нападение; в необходимости дать отпор ни у кого не возникало сомнений.
Как и во время японской войны, Россия только отвечала на нападения (в 1904 г. даже еще более грубое, чем в 1914-м). Но на этот раз русское общество приняло войну не только как ответ на вражеское нападение. Именно эта война была логическим следствием политики, встречавшей полное одобрение либеральных интеллигентских кругов: союза с Францией, сближения с Англией, более активной политики на Балканах.
Слились воедино непосредственное патриотическое чувство отпора внешнему врагу и убеждение в том, что именно эта война идеологически соответствует стремлениям «передовой» части общества. Сторонники сближения с Германией поневоле должны были умолкнуть, так как налицо был факт австро-германского наступления на Россию.
В городах почти везде происходили большие патриотические манифестации. Народные массы, особенно в деревнях, не проявляли, правда, особого энтузиазма, но отнеслись к участию в войне как к выполнению естественного долга перед царем и отечеством. Мобилизация прошла успешно, скорее, чем ожидалось; не только нигде не было протестов, не было и нередких в подобных случаях пьяных бесчинств: по высочайшему повелению на время мобилизации была воспрещена продажа спиртных напитков.
Для русской интеллигенции начало войны было огромным душевным сдвигом. Та смутная патриотическая готовность, которая в ней накоплялась за последние годы, постепенно сменяя веру в революцию, нашла себе исход. Желание принять участие в общем деле охватило и круги, враждебно державшиеся в стороне в дни японской войны. «Что-то неописуемое делается везде. Что-то неописуемое чувствуешь в себе и вокруг. Какой-то прилив молодости. На улицах народ моложе стал, в поездах – моложе», – писал о первых днях войны В. В. Розанов. «Теперь дождались безработные / Больших, торжественных работ. / Бодры и светлы лица потные, / Как в ясный урожайный год». Эти слова одной «декадентской» поэтессы метко определяют основное настроение интеллигенции в первые месяцы войны.
Когда 26 июля открылась чрезвычайная сессия обеих палат, единение законодательных учреждений с властью было полным. «Тот огромный подъем патриотических чувств, любви к Родине и преданности Престолу, который как ураган пронесся по всей земле Нашей, служит в Моих глазах, да, Я думаю, и в ваших, ручательством в том, что наша великая Матушка-Россия доведет ниспосланную ей Господом Богом войну до желанного конца, – говорил государь на приеме членов законодательных палат. – Уверен, что вы все и каждый на своем месте поможете Мне перенести ниспосланное испытание и что все мы, начиная с Меня, исполним свой долг до конца. Велик Бог земли Русской!»
Государственная дума единогласно приняла все кредиты и законопроекты, связанные с ведением войны. Даже трудовики, устами А. Ф. Керенского, заявили о своем присоединении к большинству;[220] социал-демократы не стали голосовать за кредиты, но воздержались от голосования.
На экстренной сессии, открывшейся 25 июля, Московское земское собрание решило привлечь все земства к совместной работе на нужды армии, в первую очередь для помощи раненым и больным. Созванный для этого съезд горячо одобрил эту идею, но только во главе общеземского союза стали не инициаторы этого предложения (Ф. В. Шлиппе и др.), а руководители старой полулегальной общеземской организации с князем Г. Е. Львовым на посту председателя. Но это в ту минуту не вызывало возражений.
Представители общественности, без различия партий, провозгласили единение с властью во имя борьбы с внешним врагом. Правительство, со своей стороны, шло навстречу своим недавним противникам. Оно сразу же разрешило организацию Общеземского союза, а также Союза городов, несмотря на их кадетское возглавление, и отпускало им значительные казенные средства.[221] Оно прекратило процессы, связанные со старыми счетами (дело адвокатов, принявших резкую резолюцию по делу Бейлиса, дело Шульгина). Московским городским головой был утвержден известный кадетский деятель М. В. Челноков. Газета «Речь», закрытая было приказом Верховного главнокомандующего, была через два-три дня вновь разрешена, так как ее редакция заверила власть в своем искреннем желании всеми силами содействовать общенациональной цели.
Патриотический подъем в русской интеллигенции был бесспорным и новым явлением. Левые круги, как бы стыдясь таких необычных настроений, «оправдали» их соображениями о том, что поражение Германии приведет к водворению социализма на развалинах монархии Гогенцоллернов, что речь идет о борьбе за демократию против «феодального милитаризма». Протестов слышно не было. Ленин, которого война застала в Кракове, был почти одинок, когда еще в августе 1914 г. писал в своих «тезисах по поводу настоящей войны»: «С точки зрения рабочего класса и трудовых масс России, наименьшим злом было бы поражение царской монархии и ее войск». В этот период войны не только старый соратник Ленина, Г. А. Плеханов, горячо проповедовал борьбу против германского милитаризма, но и бывший председатель Петербургского Совета рабочих депутатов Л. Троцкий (Бронштейн) писал (в эмигрантской газете «Наше слово»), что желать поражения России нельзя, ибо это значило бы – желать победы реакционной Германии.
Период мобилизации и развертывания армий продолжался недели две; первые вести о боях пришли с Западного фронта. Своевременно (в 1910 г.) осуществленное перемещение мест сосредоточения войск в районы более удаленные от границы оставляло русскому командованию значительный простор в выборе объекта военных действий. Но из Франции настаивали на том, чтобы главные операции русской армии были направлены не против Австрии, а против Германии. Немцы, со своей стороны, держались на Восточном фронте оборонительной тактики и заняли только несколько незащищенных городов в западной части Польского выступа (Калиш, Ченстохов). Австрийцы, готовившие наступление из Галиции, в направлении на Люблин – Холм, несколько рассчитывали на восстание в царстве Польском; в их армии имелись польские добровольческие части в особой форме, во главе которых стал испытанный революционер Иосиф Пилсудский.
Но Россия разрушила эти расчеты на поляков. От имени Верховного главнокомандующего, великого князя Николая Николаевича, 1 августа было обнародовано обращение к польскому народу: «Пробил час, когда заветная мечта ваших отцов и дедов может осуществиться. Полтора века тому назад живое тело Польши было растерзано на куски, но не умерла ее душа… Пусть сотрутся границы, разрезавшие на части польский народ. Да воссоединится он воедино под скипетром Русского царя. Под скипетром этим да возродится Польша, свободная в своей вере, в языке, в самоуправлении. Одного ждет от вас Россия – такого же уважения к правам тех народов, с которыми связала вас история. С открытым сердцем, с братски протянутой рукой идет вам навстречу Великая Россия. Она верит, что не заржавел меч, разивший врага при Грюнвальде…»
Этот призыв, вместе со старыми франко-польскими связями, привел к тому, что все видные общественные деятели русской части Польши громко провозгласили свою верность союзникам; легионы Пилсудского почти не нашли себе пополнения в царстве Польском. Державы согласия обещали полякам больше, чем их противница, так как Австрия не могла дать им Познань и Поморье – провинции, так усиленно колонизовавшиеся немцами.
Все прочие народности империи в минуту испытания оказались лояльными; в начале войны не было племенных различий. Исключение составляла только Финляндия, где недавние законы об общеимперском законодательстве оставили в населении затаенную обиду. Финляндцы, так и не призывавшиеся с 1899 г. к отбыванию воинской повинности, остались в стороне от борьбы и в 1914 г.; больше того, несколько тысяч финских молодых людей окольными путями, через Швецию, бежали за границу и составили добровольческие «егерские» батальоны в рядах германской армии. Однако попыток восстания в самой Финляндии не было, так как там стояло большое количество русских войск.
В первые дни войны самые трудные вопросы внутренней жизни казались легкоразрешимыми. Государь воспользовался этой минутой для того, чтобы провести смелую реформу, которая была за последние годы особенно близка его сердцу: запрещение продажи спиртных напитков. Сначала запрет был введен как обычная мера, сопровождающая мобилизацию; затем (22 августа) было объявлено, что запрет сохранится на все время войны; он был постепенно распространен не только на водку, но также и на вино, и на пиво. Наконец в начале сентября, принимая великого князя Константина Константиновича в качестве представителя Союзов трезвенников, государь сказал: «Я уже предрешил навсегда воспретить в России казенную продажу водки». И эти слова монарха соответствовали в то время общему народному мнению, принявшему запрет спиртных напитков как очищение от греха; никому поэтому не приходило в голову, что такая законодательная мера, предрешенная царем, могла бы встретить сопротивление в представительных учреждениях.
Только условия военного времени, опрокинувшие всякие нормальные бюджетные соображения, позволили провести меру, которая означала отказ государства от самого крупного из своих доходов. Ни в одной стране до 1914 г. еще не принималось такой радикальной меры борьбы с алкоголизмом. Это был грандиозный, неслыханный опыт. Конечно, через некоторое время развилось тайное винокурение и появились всевозможные суррогаты спиртных напитков; но – особенно при отсутствии ввоза из-за границы – можно сказать, что потребление спирта в России за первые годы войны уменьшилось в несколько раз.
* * *
4 августа начались первые крупные боевые столкновения на Восточном фронте. Русские наступали с востока в пределы Германии, вдоль железной дороги Петербург – Берлин; австрийцы из Галиции вели наступление с юга к линии Люблин – Холм, тогда как русские готовили им удар во фланг со стороны Волыни. К этому времени определилась неудача французского наступления в Эльзасе и Лотарингии; бельгийская «плотина» была прорвана, и германские армии через Бельгию передвигались в Северную Францию.
Французский посол Палеолог в личной аудиенции у государя настоятельно просил о скорейшем оказании помощи. В западных странах вообще господствовало преувеличенное представление о возможностях русской армии, которую изображали в виде «парового катка», давящего все перед собой своей огромной массой. Не учитывались при этом ни медленность передвижения вследствие более слабого развития железных дорог, ни германский перевес в артиллерии, особенно в тяжелых орудиях. Русская армия, вместе с призванными под знамена запасными и ратниками ополчения I разряда, насчитывала, правда, около 5 миллионов человек; из них в действующую армию входило около 3 с половиной миллионов. Все это количество могло быть сосредоточено на театре военных действий не раньше чем через два месяца с начала мобилизации. Союзники, однако, оценивали русские возможности весьма оптимистически. Французский военный министр (Мессими), говоря с русским военным агентом в начале августа, совершенно серьезно считал возможным вторжение русских в Германию и движение на Берлин со стороны Варшавы.
Западные державы желали еще более непосредственной помощи: 17 августа, в разгар боев в Восточной Пруссии и в Галиции, английское посольство просило через Сазонова о посылке 3–4 русских корпусов на Западный фронт и обещало доставить для этого в Архангельск потребное количество судов.
* * *
«Ввиду нетерпения, с которым французское правительство относится к нашему наступлению в Германии, – писал 10 августа управляющий дипломатической канцелярией при ставке Н. А. Базили, – начальник штаба Верх. Главнокомандующего просил передать, что наступательное движение наших войск против Германии производится большими массами и выполняется с наибольшей возможной скоростью, совместно с требованиями благоразумия». Но желание помочь союзникам в трудную минуту заставило русское командование отойти от «требований благоразумия» и предпринять ускоренное наступление против сильно укрепленного района Восточной Пруссии. Желание помочь союзникам превозмогло все прочие соображения.
Кроме армии генерала Ренненкампфа, двигавшейся в Восточную Пруссию с востока, в германские пределы вторглась с юга другая армия под командованием генерала Самсонова. Немцы начали отступать; большие пространства их территории переходили в русские руки; но между обеими русскими армиями еще оставалась сильно укрепленная полоса, снабженная густой сетью железных дорог. Немцы этим воспользовались, чтобы бросить все свои силы против армии, шедшей с юга, оставив перед армией Ренненкампфа только заслон на укрепленных позициях. Армия генерала Самсонова, продолжая наступать, попала в кольцо, которое сомкнулось. Произошло сражение, известное в России под названием боя при Сольдау, а в Германии прозванное битвой под Танненбергом, как бы для того, чтобы изгладить память о былом поражении Тевтонского ордена.[222] Армия генерала Самсонова была разгромлена, ее командующий покончил с собой, десятки тысяч русских были взяты в плен. На этой битве создали себе имя генералы Гинденбург и Людендорф.
После этого немцы перебросили освободившиеся силы навстречу армии генерала Ренненкампфа и заставили, в свою очередь, и ее отойти к границе. Первое форсированное наступление против Германии, таким образом, закончилось неудачей; но цель, о которой говорил французский посол, была достигнута: из-за боев в Восточной Пруссии два корпуса были переброшены с Западного фронта на Восточный и еще четыре корпуса задержаны в пути. Это ослабило германскую армию в самый решающий момент похода на Францию, дало генералу Жоффру возможность дать бой на Марне и сорвало весь план германского командования, рассчитывавшего кончить войну на западе быстрым ударом.
* * *
Война уже продолжалась около месяца, когда по предложению английского министра иностранных дел Грея (через несколько дней после русской неудачи при Сольдау) союзные великие державы подписали договор о незаключении сепаратного мира. Между Россией и Францией такое обязательство уже существовало на основе старого союзного договора.
«Российское, английское и французское правительства взаимно обязуются не заключать сепаратного мира в течение настоящей войны, – гласила декларация 23 августа (5 сентября) 1914 г. – Все три правительства соглашаются в том, что, когда настанет время для обсуждения условий мира, ни один из союзников не будет ставить условий мира без предварительного соглашения с каждым из остальных союзников».
Союзные державы уже и раньше предпринимали совместные выступления, в частности на Балканах и в Турции. Теперь возникла потребность обмена мнениями насчет условий мира. Характерно, что эти цели войны слагались только постепенно; никакого заранее обдуманного плана не было. Кроме французского требования о возвращении Эльзаса и Лотарингии, остальные цели выдвигались постепенно и неоднократно изменялись. Так, пока Турция оставалась нейтральной, союзники предлагали гарантировать ее территорию, и русские требования сводились к Галиции и Познани (во исполнение известного обращения к полякам). Со стороны Франции и Англии неоднократно проявлялось желание щадить Австро-Венгрию, чтобы оторвать ее от Германии, тогда как Россия стояла за возможно радикальный раздел Дунайской монархии.
* * *
Одновременно с неудачами в Восточной Пруссии Россия услышала совершенно иные вести с австрийского фронта. Там австрийцы после первых успехов вынуждены были отступать, и русские войска заняли 21 августа Львов, столицу Восточной Галиции, и древний русский город Галич. Австрийская армия была разбита наголову; число пленных превосходило сотни тысяч, русские войска, продолжая двигаться вперед, перешли реку Сан, осадили крепость Перемышль. К первой половине сентября победы в Галиции совершенно затмили для русского общественного мнения неудачу при Сольдау, тем более что и на германском фронте русские войска возобновили наступательные действия, хотя и в менее широком масштабе.
В то время во Франции центр боев перемещался все севернее, и постепенно создавалась застывшая укрепленная линия фронта. Положение Австрии сделалось настолько угрожающим, что Германия решила прийти на помощь своей союзнице. Большие австро-германские силы двинулись через царство Польское к среднему течению Вислы и подошли к Варшаве на расстояние нескольких верст. Но после боев, длившихся около недели (1–7 октября), это наступление было отбито, немцы и австрийцы начали отступать.
Опять русские армии двигались вперед; на этот раз они зашли много дальше, они уже угрожали Кракову; они достигли западных пределов царства Польского; русские кавалерийские части проникали в провинцию Познань. «Расширяя в течение 18 дней наш успех по всему 500-верстному фронту, – гласило русское сообщение 24 октября, – мы сломили повсюду сопротивление врага, который находится в полном отступлении».
В начале ноября со стороны Германии последовал, однако, новый контрудар «между Вислой и Вартой»; русские передовые части стали опять отходить; немцы, под командой генерала Макензена, прорвали было фронт – но тут они, в свою очередь, оказались окруженными. 13 ноября петербургские вечерние газеты уже сообщали, что на фронт посланы поездные составы для эвакуации нескольких десятков тысяч пленных; но ценой огромных потерь дивизии Макензена вырвались из кольца под Бжезинами. Немецкая контратака была отражена; но уже не возобновилось и русское наступление. Начиналась зима. К концу ноября маневренная война закончилась, установился сплошной фронт – от Балтийского моря до Румынии; и вместе с тем стало ясно, что близкого конца войны ожидать не приходится. Около того же времени «застыл» и на западе твердый фронт от Северного моря до Швейцарии.
* * *
Русский флот в Балтийском море, которым командовал адмирал Эссен, был настолько численно слабее германского, что о наступательных операциях думать не приходилось. Но и германский флот, который был заметно слабее английского, не пытался предпринимать набегов в русские воды, не желая рисковать потерей нескольких крупных боевых единиц. Боевые действия ограничивались с обеих сторон встречами небольших судов. На мине взорвался германский крейсер «Магдебург», что имело значение совершенно особого порядка: русские нашли на нем германский секретный морской шифр, который сообщили союзникам, и знание этого шифра сильно помогло им в борьбе с германским шпионажем. На мине взорвался и русский крейсер «Паллада», пошедший ко дну со всем экипажем.
Иное положение было на Черном море. Два германских новейших судна – крейсер-дредноут «Гебен» и легкий крейсер «Бреслау», находившиеся в Средиземном море в момент возникновения войны, – избегли погони английского и французского флота, укрывшись в Дарданеллах. Турция сначала интернировала их, как полагалось, но вслед за тем было объявлено, что эти суда продаются турецкому правительству; фиктивность этой продажи была ясна хотя бы из того, что на судах остались германские экипажи.
Россия строила три дредноута в Черном море, но ни один из них еще не был готов; Черноморский флот состоял из устаревших судов. Возможность иметь хотя бы временный перевес в Черном море, вместе с расчетами на мусульманские восстания на Кавказе, побудила турецкие военные круги пойти на риск выступления против России. Турция сначала закрыла Дарданеллы для русской торговли, а затем 16 октября «Гебен» и «Бреслау» появились без всякого предупреждения перед русскими черноморскими портами (Одесса, Феодосия) и начали их обстреливать. Великий визирь пытался утверждать, что начало военных действий было «вызвано русским флотом», но русское правительство немедленно порвало дипломатические сношения с Турцией, тем охотнее, что именно турецкие владения могли быть для России наиболее желанным «приростом» в случае победоносного окончания войны (проливы, Армения). На Кавказе возник, таким образом, новый фронт. Его командующим был назначен наместник на Кавказе генерал-адъютант граф И. И. Воронцов-Дашков, начальником штаба – генерал Мышлаевский, замененный вскоре генералом Н. Н. Юденичем.
* * *
Первые наступательные действия на суше были начаты русскими, занявшими горную крепость Баязет. Но когда подошли турецкие подкрепления, турецкий военный министр Энвер-паша, в свою очередь, повел наступление; в середине декабря турки быстрым движением проникли глубоко на русскую территорию; в грузинских областях уже начиналась паника, но русские войска, несмотря на численный перевес противника, сломили его натиск под Сарыкамышем и вытеснили турок обратно через границу.
* * *
Можно сказать, что в течение первых месяцев войны в России не было «внутренней политики». Царило общее единодушное желание победы. Ждали скорой развязки, и все спорные вопросы, естественно, откладывали до окончания войны. Армия и ее вожди пользовались огромной популярностью. На общем ходе жизни «тыла» война отражалась сравнительно мало – много меньше, чем во Франции или в Германии. В высших учебных заведениях шли занятия; театры и кинематографы были переполнены; промышленность и торговля так или иначе приспосабливались к новым условиям, получившимся вследствие закрытия всех главных границ.
Для сношения с внешним миром – особенно после закрытия Дарданелл – оставались только далекий Владивосток и Архангельск, замерзающий больше чем на полгода; провоз через нейтральные страны (Швецию и Румынию) подвергался все больше возраставшим ограничениям. Недостатка в продовольствии, конечно, не было и в помине. В то же время запрещение продажи спиртных напитков и широкое оказание помощи семьям запасных, призванных на войну, вызывали огромный приток вкладов в сберегательные кассы:[223] в массах наблюдался несомненный рост благосостояния. В самом начале войны опасались, что прекращение вывоза хлеба и других продуктов (масла, яиц, птицы) за границу приведет к катастрофическому падению цен, разоряющему производителей. Но это опасение не оправдалось: возросший внутренний спрос, особенно на нужды армии, быстро заменил закрывшиеся внешние рынки.
С самого начала войны императрица Александра Феодоровна и великие княжны Ольга Николаевна и Татьяна Николаевна, пройдя курс сестер милосердия, работали в качестве таковых в лазарете государыни в Царском Селе. В Зимнем дворце императрицей был создан большой склад белья, отправлявшегося войскам на фронт. Такой же склад имени ее величества образован был на средства чинов Министерства внутренних дел.
Великая княжна Ольга Николаевна была поставлена во главе комитета помощи семьям запасных. Когда же с 1915 г. появились в значительном числе беженцы, то по высочайшему повелению для заведования ими был образован особый комитет во главе с великой княжной Татьяной Николаевной.
* * *
«Всю первую половину минувшего года оппозиционное настроение общественности возрастало… – отмечал в обзоре на новый 1915 г. «Вестник Европы». – Вспыхнула война, и все явления нарастания оппозиционности и недовольства вдруг исчезли. Война, как магический нож, отрезала первую половину года от второй… Война дала народу отрезвление. То, что в условиях мира было неосуществимо, осуществилось… На шестом месяце жестокой из жестоких войн страна вступает в новый год без малейших признаков утомления».
Имелись, конечно, и оборотные стороны. Война породила в России, как во всех воюющих странах, большую обличительную литературу. Дело началось с жестокого обращения немцев с оставшимися в Германии иностранцами; затем пошли свидетельства о поведении немцев в Калише и других занятых ими городах Русской Польши; с началом военных действий в крупном масштабе рассказы о «немецких зверствах» только умножились. Были и случаи уличных эксцессов, вроде разгрома здания немецкого посольства в Петербурге. Министерство иностранных дел в докладной записке государю назвало этот факт «ужасающим и прискорбным событием». В общем, однако, случаев насилия было меньше, чем в других странах. Зато огульное отрицание всего немецкого перекинулось и на интеллигенцию: различные научные общества стали исключать из своей среды германских и австрийских ученых; были философы, доказывавшие, что Кант и Крупп по существу – одно и то же…
Очень быстро это обличение всего немецкого обратилось и против немецких элементов внутри России. Как балтийское дворянство, так и немцы-колонисты, не исключая меннонитов, поселившихся на Волге при Екатерине II, начали подвергаться заподазриванию и обличениям. Еще в заседании Государственной думы 26 июля представители русских немцев бароны Фелькерзам и Люц выступали с такими же патриотическими заявлениями, как остальные.[224] Через несколько месяцев все немецкое население России оказалось взятым на подозрение. Закрывались все немецкие газеты, в том числе существовавшая со времен Петра Великого St. Petersburger Zeitung. Некоторые органы печати, в первую очередь «Вечернее время», занимались разыскиванием немецких фамилий по всем ведомствам. Эта кампания была первым проявлением внутренней розни во время Великой войны. Со стороны левых кругов она не встречала особого протеста, так как немцы считались всегда элементом консервативным.
Сначала репрессивные меры применялись только к подданным неприятельских держав (для австрийских славян и для эльзасцев делались исключения). Но 2 февраля 1915 г. был издан по 87-й ст. закон о принудительном отчуждении земель у выходцев из Германии и Австро-Венгрии во всем 150-верстном приграничном районе; на добровольную ликвидацию оставлялись сроки от 10 до 16 месяцев.
Сенат большинством 56 против 32 голосов решил, что подданные вражеских держав не должны пользоваться судебной защитой. Для должников германских и австрийских подданных открывалась, таким образом, возможность освободиться от платежей; многие, в том числе и городские учреждения, этим воспользовались. Это распространение военных законов на частноправовые отношения вообще было новой чертой в международной жизни: во время Крымской кампании, например, Россия считала еще себя обязанной платить англичанам проценты по займам, хотя она и состояла с Англией в войне.
Великая война подобно землетрясению перевернула психологию народов и опрокинула представления о праве и добре, казавшиеся незыблемыми. Наряду с героизмом и жертвенностью война порождала психологию: «Добро есть то, что содействует успеху». Такая «военная психология» была преддверием революционных перемен. Это сказывалось одинаково на обеих сторонах, но только немногие сознавали эту опасность. К их числу принадлежала императрица Александра Феодоровна. При первых вестях о том, что и действия русских войск тоже вызывают иногда нарекания в занятых местностях, государыня писала государю (20.X.1914): «Война подняла дух, очистила много застоявшихся умов… Одного бы я только желала, чтобы наши войска вели себя примерно во всех отношениях, не грабили бы и не разбойничали; пусть эти гадости творят только прусские войска. Во всем есть всегда уродливая и красивая сторона, то же самое и здесь. Такая война должна бы очищать душу, а не осквернять ее… Я хотела бы, чтобы имя наших русских войск вспоминалось впоследствии во всех странах со страхом и уважением, но и с восхищением».
* * *
Когда определилось к концу года, что война затягивается, в стране стали воскресать старые настроения. В оппозиционных кругах каждый раз, как местные власти принимали репрессивные меры против революционной агитации, начинали говорить, что правительство недостаточно считается с новым положением вещей. Во время процесса пяти депутатов-большевиков, обсуждавших пораженческие тезисы Ленина, в обществе утверждали, будто социал-демократы только хотели протестовать против «интриг крайних правых».[225]
Исподволь, из кругов, враждебных верховной власти, начали распространяться слухи о том, будто какие-то правые круги при дворе хотят сепаратного мира. Между тем только граф С. Ю. Витте, весьма далекий как от правых, так и от придворных кругов, открыто высказывался за прекращение войны и пророчил великие бедствия в случае ее продолжения. Заявления графа Витте, хотя и не попадавшие в печать, тревожили союзных дипломатов; и когда (27 февраля 1915 г.) граф Витте скончался, французский посол Палеолог отметил с удовольствием в своем дневнике: «Угас великий очаг интриг». На самом деле бывший премьер не имел ни малейшего влияния именно в придворных кругах.
В обывательских массах, наряду с легкомысленным оптимизмом, начинала замечаться некоторая усталость от войны. Это чувствовалось, несмотря на военную цензуру, даже по некоторым ноткам, проскальзывавшим в печати.
Русские поэты сначала откликнулись на войну бесчисленными стихами (которые по большей части не отличались, впрочем, ни силой, ни оригинальностью). Федор Сологуб предсказал: «Прежде, чем весна откроет / Лоно влажное долин, / Будет нашими войсками / Взят заносчивый Берлин». Еще смелее выражался Игорь Северянин: «Германия, не забывайся. / Ах, не тебя ли строил Бисмарк. / Но это тяжкое величье / Солдату русскому на высморк». З. Н. Гиппиус, кажется, одна призывала к сдержанности: «Поэты, не пишите слишком рано. / Победа еще в руке Господней. / Сегодня еще дымятся раны, / Никакие слова не нужны сегодня». Но к середине зимы настроение уже изменилось. Газеты печатали стихи (например, того же Игоря Северянина) о том, что «еще не значит быть изменником – / Быть радостным и молодым, / Не причиняя боли пленникам / И не спеша в шрапнельный дым…». (Это стихотворение вызвало целую полемику путем писем в редакцию «Биржевых ведомостей».) Обывательские надежды возлагались в это время не столько на чисто военные успехи, сколько на неизбежность голода в Германии. Введение германским правительством (в январе 1915 г.) хлебных карточек было воспринято как признак близкого крушения врага. Газеты перечисляли, какие разнообразные сорта булок – сайки, плюшки, калачи, розанчики и т. д. – можно найти во всех русских городах, и противопоставляли русское изобилие германской скудости («Как бедны они в своих шелках и бархатах, как богаты мы в своем рубище»).
* * *
Между тем, если теоретически и можно было предвидеть наступление в Германии известного недостатка продовольствия – Германия ввозила часть продуктов из-за границы, в том числе 15 процентов своего хлеба, – с такой же, если не с большей, очевидностью можно было ожидать для России другого «голода», во время войны еще более страшного, – недостатка в военном снабжении. Потребность в нем – по словам генерала Данилова – сразу же «превысила самые фантастические ожидания». Для короткой войны – а вначале все ожидали, что война будет короткой, – русская армия оказалась снабженной довольно удовлетворительно. Было известно, что производительность русских военных заводов весьма невелика, но к лету 1914 г. имелись относительно большие запасы.
Бесспорно, что русское военное ведомство с В. А. Сухомлиновым не проявило за первые месяцы войны достаточной заботы об усилении производства военного снабжения. Тут прежде всего сказывалось влияние все того же представления о том, что война будет короткой. Казалось бесполезным тратить средства на постройку заводов, которые могли бы начать работать в лучшем случае через полтора или два года. В России, правда, военные заводы не останавливались из-за мобилизации рабочих, как, например, случилось во Франции, где в первые месяцы войны не было сделано достаточных изъятий для мобилизованных рабочих военной промышленности; но все же, например, русские ружейные заводы производили не больше, а порою и меньше, чем в мирное время, так как были заняты починкой ружей, присылавшихся из армии.
Так, в 1914 г. Россия имела около 5 миллионов винтовок; уже и тогда их не вполне хватало на общее число мобилизованных (6 с половиной миллионов). Русское производство достигало 600 000–700 000 ружей в год. Еще много хуже обстояло дело с орудиями и со снарядами. Уже 8 сентября 1914 г. великий князь Николай Николаевич отмечал, что на некоторых фронтах наблюдается недостаток снарядов, тормозящий операции. Русское производство снарядов достигало около 100 000 штук в месяц, тогда как расход превышал миллион. Трагичность положения была в том, что за оставшийся до весенней кампании короткий срок, при почти полном отсутствии сообщения с внешним миром, не было физической возможности восполнить недостаток в снарядах. Оставалось только по мере возможности скрывать его от врага и рассчитывать на то, что продовольственный голод в Германии или события политического характера (например, капитуляция Венгрии, вмешательство Италии) прекратят войну раньше, чем проявится во всей силе «снарядный голод». Стараясь скрыть это слабое место от глаз врага, руководители русского военного ведомства тем самым вынуждены были скрывать его и от русского общества и этим впоследствии навлекли на себя тяжелые нарекания, доходившие до обвинения в измене.
Вся безвыходность положения для данного года сознавалась только очень немногими. Тех, кто знал, оно давило, как кошмар. Начальник штаба генерал Н. Н. Янушкевич писал в начале 1915 г. военному министру Сухомлинову: «Если бы могли сразу хлынуть новобранцы и прибыть в армию лишние 12 парков, то сразу инициатива была бы вырвана у немцев. А сейчас это недостаточно, и на сердце прямо тяжко. Мне так по ночам и чудится чей-то голос: продал, продал, проспал…»
Подвоз извне был затруднен отсутствием и дальностью путей сообщения. Россию недаром сравнивали с домом, в который можно было попасть только по дымоходам и водосточным трубам; к тому же не только союзные, но и нейтральные заводы были уже завалены заказами с Западного фронта, который союзники неизменно считали главным.
Недостаток снарядов и ружей сыграл немалую роль в том замедлении боевых действий, которое ощущалось на фронте с конца ноября по начало марта. Были все основания опасаться, что во время летней кампании 1915 г. этот недостаток даст себя почувствовать еще более грозно.
* * *
В январе на три дня собралась Государственная дума; перед тем недели две работала бюджетная комиссия. Бюджет и все кредиты были приняты без возражений; министру иностранных дел Сазонову была устроена единодушная овация. «Прими, Великий Государь, земной поклон народа своего! Народ твой твердо верит, что отныне былому горю положен навеки прочный конец!» – заявлял председатель Госдумы Родзянко.
Председатель бюджетной комиссии М. М. Алексеенко воздал хвалу запрещению продажи спиртных напитков. «Законодательные палаты, – говорил он, – в этом вопросе пошли на путь ухищрений… Вопрос решен иначе. Вопрос решен прямо, радикально… Это была атака в лоб. Эта мера вызвала в стране одобрение всех».
И. Л. Горемыкин впервые открыто заговорил о Константинополе: «Все отчетливее обрисовывается перед нами светлое историческое будущее России, там, на берегах моря, у стен Царьграда».
Социал-демократы на этот раз голосовали против бюджета, а трудовики воздержались. Среди депутатов различных национальностей, выступавших с патриотическими заявлениями, на этот раз уже не было представителя немцев. В остальном январская сессия прошла как июльская.
* * *
В конце февраля 1915 г. союзники предприняли военную операцию, которая могла проложить в Россию путь «караванам» со снарядами и тем самым устранить опасность, грозившую Восточному фронту. Союзный англо-французский флот начал обстрел Дарданельских фортов; передние были быстро снесены огнем дредноутов. Но попытка флотом форсировать проливы, предпринятая 5 марта, привела к тому, что несколько крупных военных судов затонуло от плавучих мин. После этого англичане не пожелали более рисковать своими дредноутами; попытка форсирования Дарданелл была оставлена. Вышло так, что эта неудавшаяся операция только обратила внимание турок на грозившую в этом месте опасность и, когда весной союзники произвели десант на Галлипольском полуострове, они уже встретили хорошо подготовленного противника.
9 марта сдалась австрийская крепость Перемышль на Сане, осаждавшаяся русскими войсками в течение четырех месяцев; в плен попало 117 000 человек. Падение Перемышля снова вызвало по всей России большие патриотические манифестации. Русская власть в Восточной Галиции казалась окончательно установившейся; область была разделена на губернии; во главе ее стал генерал-губернатор (граф Г. А. Бобринский). Велась усиленная борьба с «украинскими» элементами, державшимися австрийской ориентации.
В марте начали распространяться слухи о раскрытии какой-то крупной шпионской организации во главе с жандармским полковником Мясоедовым. Появилось официальное сообщение о том, что этот Мясоедов приговорен военно-полевым судом к смертной казни и повешен. Все это дело осталось окутано покровом военной тайны.[226] Но в обществе вспомнили, что этого самого полковника Мясоедова несколько лет назад обвинял в измене А. И. Гучков, что военный министр Сухомлинов, наоборот, ему покровительствовал; и «делом Мясоедова», подробности которого никто не знал, пользовались для своей агитации враги правительства, попутно подчеркивавшие прозорливость А. И. Гучкова.
В начале апреля положение на театре военных действий казалось вполне благоприятным. Русские войска занимали более двух третей Галиции и Буковины; они владели хребтом Карпат на значительном протяжении, пролагая себе путь к Венгерской равнине. Считалось, что вторжение в Венгрию приведет к ее отделению от Австрии и к быстрому крушению Дунайской монархии. Фронт в царстве Польском стоял почти неподвижно более четырех месяцев; попытки немецкого зимнего наступления были отбиты под Праснышем (к северу от линии Бобр – Нарев). Севернее русские войска находились у самой границы Пруссии и еще в начале марта совершили успешный налет на города Мемель и Таурогген.
Союзники, после неудачной попытки форсировать Дарданеллы флотом, высадили в апреле десант на Галлипольском полуострове. С Италией заканчивались переговоры о ее вступлении в войну на стороне союзников; для этого ей пришлось обещать обширные территории адриатического побережья, населенные славянами.
В такой обстановке государь по приглашению Верховного главнокомандующего прибыл в Галицию, чтобы осмотреть области, присоединение которых к России считалось уже бесспорным. 9 апреля он был во Львове, где ему представлялись новые власти города; 10-е и 11-е государь провел в недавно отвоеванном Перемышле, где подробно осматривал полуразрушенные мощные укрепления. Во Львове толпы местного населения приветствовали русского царя.
* * *
17 апреля произошел взрыв большого военного завода на Охте, изготовлявшего трубки для снарядов; сотрясение почувствовалось на десятки верст вокруг Петербурга. Разрушение этого завода, произведенное вражескими агентами, было серьезным ударом для снабжения русской армии.
Вечером 18 апреля (1 мая н. ст.) на галицийском фронте началось большое австро-германское наступление, с применением – в первый раз – нового приема борьбы, с тех пор вошедшего в правило, – «ураганного огня», особенно действенного в отношении противника, страдавшего недостатком военного снабжения.
Генерал Н. Н. Головин[227] дает такое картинное описание этого приема:
«Подползая, как огромный зверь, германская армия придвигала свои передовые части к русским окопам достаточно близко, чтобы приковать внимание противника и занять эти окопы немедленно по их очищении. Затем гигантский зверь подтягивал свой хвост – тяжелую артиллерию. Она занимала позиции, находящиеся за пределами досягаемости для русской полевой артиллерии, и тяжелые орудия начинали осыпать русские окопы градом снарядов… Это продолжалось до тех пор, пока ничего не оставалось от окопов и их защитников. Затем зверь осторожно протягивал лапы – пехотные части – и занимал разрушенные окопы. За это время русская артиллерия и русский тыл подвергался жестокому огню германских тяжелых орудий, тогда как германская полевая артиллерия и пулеметы должны были защищать наступающую пехоту от русских контратак.
…Окончательно завладев русскими окопами, зверь опять подтягивал свой хвост, и тяжелые орудия начинали методически разрушать следующую русскую оборонительную линию. Никакое препятствие не мешало немцам повторять этот прием наступления».
Это применение метода «ураганного огня» внезапно и резко обнаружило огромное неравенство сил: двумстам тяжелым орудиям на фронте реки Дунаец, между Горлице и Тарновом, русская армия могла противопоставить всего четыре; на «ураганный огонь» русские могли отвечать всего пятью или десятью снарядами на орудие в день и ружейной стрельбой. «Вследствие превосходства неприятеля в огне тяжелой артиллерии наши войска несут значительные потери. Однако и неприятель при своих атаках жестоко страдал от нашей шрапнели и ружейного огня», – красноречиво говорилось в официальном сообщении от 23 апреля.
Газеты тогда же отмечали, что немцы выбросили в районе Дунайца 700 000 снарядов за несколько часов, тогда как русские заводы производили такое количество за полгода. Результат не замедлил сказаться.
Русский фронт между Вислой и Карпатами был прорван; германская «фаланга» под командою генерала Макензена подвигалась вперед почти беспрепятственно, и русские войска, занимавшие хребет Карпат, были вынуждены поспешно отступать; некоторым частям путь отступления был отрезан, настолько быстрым было продвижение противника по Галицийской равнине. С остатками своей дивизии попал в плен и выделившийся своей храбростью генерал Л. Г. Корнилов.
Немцы одновременно повели наступление на северном участке фронта. Их передовые части заняли Либаву еще раньше прорыва под Горлице. Но на север оборонительная линия рек Немана, Бобра и Нарева оказалась серьезным препятствием, которое так и не позволило немцам с обеих сторон зажать в тиски русскую армию, занимавшую царство Польское.
В Галиции наступление фаланги неуклонно развивалось. К началу мая русские уже отошли на линию реки Сана; но и эта линия продержалась всего две-три недели. В ночь на 21 мая был оставлен Перемышль, триумфальное взятие которого было еще свежо в памяти у всех. 9 июня австро-венгерские войска заняли Львов, столицу Восточной Галиции, где всего за два месяца перед тем торжественно праздновали приезд государя. Военные события какого-нибудь одного месяца уничтожили плоды борьбы, тянувшейся три четверти года. Вести с фронта, одна трагичнее другой, распространялись в столицах. С северного фронта, из Ковенской, Гродненской, Курляндской губерний внутрь страны текла волна беженцев.
Недостаток снарядов, недостаток ружей проявились особенно ярко именно в тот момент, когда австро-германцы перешли в наступление. Это оказало самое деморализующее действие на солдатскую массу. Начались всеобщие толки о том, что это – измена, что армию нарочно оставляют без снарядов, что солдатам нарочно не выдают ружей, что изменники – генералы, что изменники – министры…[228]
Легко себе представить, какое впечатление такой оборот событий должен был произвести на русское общество, уже и без того, по традиции, готовое во всем обвинять власть. Особенное впечатление на широкие круги населения произвела утрата Перемышля. В Москве 27–29 мая разразились серьезные беспорядки, в которых патриотическое негодование сочеталось с революционными и погромными настроениями. Началось с того, что кучки народа стали обходить заводы, фабрики, магазины и частные дома, чтобы «проверять», не имеется ли там германских и австрийских подданных. Имущество таковых тут же уничтожалось. Полиция сперва относилась совершенно пассивно к происходящему. Но скоро кучки выросли в толпы; «проверка» обратилась в огульный разгром предприятий, попавших под руку расходившейся толпе; к ночи беспорядки выродились в массовый грабеж. «С наступлением толпы, – говорилось в правительственном сообщении, – начали попадаться на улице с награбленными вещами даже прилично одетые люди…» В итоге пострадало 475 торговых и промышленных предприятий, 207 квартир и домов. Пострадавшими оказались: 113 подданных вражеских держав; 489 русских с иностранными фамилиями и подданных союзных и нейтральных держав и даже 90 русских с русскими фамилиями. Убытки за три дня погрома определились в сумме около 40 миллионов рублей.
Наиболее грозной чертой этого взрыва народных страстей было ярко проявлявшееся недоверие к властям, подозреваемым в «потворстве немцам». В народе не могли объяснить иначе, как изменой, внезапный поворот военного счастья.
Собравшийся в той же Москве, чуть ли не в дни погрома, торгово-промышленный съезд отразил в иной форме те же настроения. Промышленные круги изъявляли готовность бороться до конца с внешним врагом, но требовали перемен во власти; тут же был организован военно-промышленный комитет, который должен был ведать вопросами добровольной «мобилизации промышленности» для нужд войны, и во главе комитета стал А. И. Гучков, отношение которого к правительству было достаточно известно.[229]
Конференция кадетской партии, собравшаяся 6 июня, протекала под знаком той же тревоги. Депутаты, прибывшие с фронта, свидетельствовали об озлоблении в армии и в то же время – об ее патриотическом духе. Повторялись те же обвинения в измене. П. Н. Милюков на этот раз занял несколько умеряющую позицию. «Вряд ли здесь была измена, – говорил он, – скорее причина была в том, что иностранные заводы не могли выполнить в срок сделанные им заказы. Возможно, что вначале само правительство было уверено, что недостатка не будет». Кадетская конференция постановила настаивать на скорейшем созыве Госдумы и выдвинула требование министерства общественного доверия. В своем очень показательном докладе П. Н. Милюков пояснял, почему именно такая формула наиболее приемлема для оппозиции: формула «ответственного министерства» – будто бы более левая – на самом деле была бы менее выгодна: «Достаточно себе представить, чем было бы «ответственное министерство» при правом большинстве Четвертой Госдумы… Правительству, которое уступает, мы не говорим: вот те, кто вас заменит. Мы говорим, напротив: вот то, что вы должны делать. Те из нас, которые по горькому опыту и убеждению партии этого делать не могут и не хотят, – уйдите. Те, кто их заменит, пусть именем и деятельностью заслужат общественное доверие». Таким образом, «министерство общественного доверия» означало власть, которая слушалась бы указаний «партий» и «общественности», выражаемой печатью и так называемыми «общественными организациями», при этом партия все же не принимала на себя никаких обязательств. Легко понять, что такое правительство было бы для левых кругов много приемлемее, чем «ответственное министерство», которое бы формально опиралось на думское большинство; в то же время такая формула казалась более «безобидной» и приемлемой для более широких кругов. На кадетской конференции 7–9 июня 1915 г., таким образом, впервые был выдвинут тот лозунг, вокруг которого затем начала развиваться широкая агитация по всей стране.
С самого начала войны, возложив на великого князя Николая Николаевича командование армиями, государь сознательно воздерживался от непосредственного вмешательства в ход военных действий, чтобы избежать и тени двоевластия. Он несколько раз выезжал в Ставку для ознакомления с положением на месте. Он устраивал смотры войскам, отправляемым на фронт. Посещал он и некоторые участки фронта – например, крепость Осовец, отразившую несколько вражеских атак. Но управление боевыми операциями оставалось в руках великого князя, который приобрел в армии и в стране огромную популярность. Возникали даже толки, что роль великого князя Николая Николаевича в происходящих событиях порождает «бонапартовские настроения» («Эта популярность – не на пользу стране и династии», – писал, например, великий князь Николай Михайлович). Известную «ревность» испытывала и государыня, не раз упоминавшая в своих письмах государю, что великий князь в своих обращениях к армии и к обществу принимает тон, который приличествует только монарху.
* * *
Однако государь был уверен в преданности Верховного главнокомандующего и, пока положение на фронте не стало угрожающим, отклонял все предложения о более активном вмешательстве в руководство военными действиями. Но когда фронт в Галиции был прорван, государь 5 мая приехал в Ставку и оставался там более недели. «Мог ли Я уехать отсюда при таких тяжелых обстоятельствах? – писал он государыне. – Это было бы понято так, что Я избегаю оставаться с армией в серьезные моменты. Бедный Н., рассказывая все это, плакал в моем кабинете и даже спросил Меня, не думаю ли я заменить его более способным человеком… Он все принимался меня благодарить за то, что я остался здесь, потому что мое присутствие успокаивало его лично». В минуту испытания спокойная твердость государя была нравственной поддержкой Верховному главнокомандующему.
Но положение – и на фронте, и в тылу – требовало немедленных мер, выходивших за пределы чисто военных задач. Многие действия Ставки создавали осложнения, отражавшиеся в глубоком тылу. По инициативе начальника штаба генерала Н. Н. Янушкевича было предпринято массовое выселение евреев из Галиции и из прилегающих к фронту русских областей. Штаб установил, что именно среди еврейского населения имелось наибольшее количество неприятельских шпионов, либо доставлявших сведения через фронт или путем сигналов, либо поджидавших прихода неприятеля с готовыми данными о численности и вооружении русских войск. Было весьма правдоподобно, что евреи, особенно в Галиции, больше сочувствовали австро-германской армии, нежели русской. В журнале «Новое звено» (весной 1915 г.) граф М. М. Перовский-Петрово-Соловово изложил причину такого отношения в виде статьи, якобы касавшейся Южной Америки: там будто бы шла война между Колумбией и Венесуэлой, причем в одной из этих стран индейское племя ицкасрулейбас пользовалось всеми правами, а в другой подвергалось ограничениям – «нетрудно понять, которой стране сочувствовало это индейское племя…» (цензор эту статью пропустил, но затем этот номер был конфискован, и журнал «Новое звено» был закрыт).
В то же время огульное обвинение всего еврейского населения в шпионаже было, конечно, необоснованно; меры, принятые Ставкой, едва ли были целесообразными. Десятки тысяч, а затем и сотни тысяч евреев из Галиции и Западного края получили предписание в 24 часа выселиться, под угрозой смертной казни, в местности, удаленные от театра военных действий; вся эта масса еврейского населения, зачастую не знавшая русского языка, эвакуировалась принудительно в глубь России, где она могла служить рассадником сначала паники и эпидемий, а затем – жгучей ненависти к властям.
Другие распоряжения Ставки – менее категорические, носившие скорее характер поощрения, нежели прямого принуждения, – касались эвакуации населения других народностей. Руководясь представлением о том, что враг, попадая в опустошенную местность, должен испытывать затруднения в продовольствии и расквартировке войск, русское командование способствовало массовому исходу населения на восток, причем деревни сжигались так же, как и посевы, а скот убивался на месте либо погибал в дороге – лишь бы ничего не досталось врагу. Эта «тактика 1812 года» подвергалась резкой критике в Совете министров, но, так как весь театр военных действий был подчинен Верховному главнокомандующему, кабинет был бессилен что-либо предпринять.
Толки об измене в связи с недостатком снарядов сделались настолько всеобщими, что государь распорядился в конце мая образовать совещание под председательством военного министра, с участием председателя Государственной думы Родзянко и нескольких депутатов, для ознакомления представителей общества с действительным положением вещей. Но из армии шли вести о невероятном возмущении офицерства; вина за недостаток снарядов возлагалась на Военное министерство, и государь, желая внести успокоение, решил расстаться с В. А. Сухомлиновым; он считал, что военный министр в данном случае только «козел отпущения» за неудачи, предотвратить которые не было возможности, и, увольняя В. А. Сухомлинова, обратился к нему с ласковым прощальным словом.
На очередь становился вопрос о реорганизации правительства. Государь во время первого года войны держался принципа: избегать всяких внутренних обострений, не меняя ничего по существу. Так, когда скончался (еще в конце 1914 г.) Л. А. Кассо, столь ненавистный всем левым кругам министр народного просвещения, его преемником был назначен граф П. Н. Игнатьев, который на посту товарища министра земледелия приобрел популярность в думских кругах; это назначение было встречено в обществе сочувственно.
Когда на очередь стали вопросы о создании особого совещания по снабжению армии, о «мобилизации промышленности», когда стали раздаваться требования скорейшего созыва Госдумы, государь решил сделать новую попытку пойти навстречу обществу, в то же время твердо сохраняя всю полноту власти в своих руках. Один за другим были уволены в отставку те министры, деятельность которых особенно резко критиковалась в Госдуме: министр внутренних дел Н. А. Маклаков (6 июня), В. А. Сухомлинов (12-го); обер-прокурор Святейшего синода В. К. Саблер (5 июля), министр юстиции И. Г. Щегловитов (6 июля). На их места были назначены: министром внутренних дел – умеренно правый князь Н. Б. Щербатов; министром юстиции – А. А. Хвостов, член правой группы Государственного совета; обер-прокурором Синода – московский предводитель дворянства А. Д. Самарин, в свое время приобретший известность как сторонник неограниченного самодержавия. Только на пост военного министра был назначен человек, пользовавшийся более «левой репутацией»: бывший товарищ военного министра А. А. Поливанов, которого в армии считали хорошим «техником» своего дела. Его близость к А. И. Гучкову во времена Комиссии государственной обороны создавала против него некоторое предубеждение, но государь счел возможным пренебречь этим соображением после продолжительной беседы с А. А. Поливановым в Ставке.
14 июня в Ставке состоялось заседание Совета министров под председательством государя, при участии великого князя Николая Николаевича и его ближайших советников. Было решено оказать доверие патриотизму общества, созвать в ближайшее время Госдуму, смягчить цензуру для печати.
* * *
На фронте положение оставалось по-прежнему тяжелым. Везде, где только германские войска производили решительный нажим, русский фронт обваливался, оседал. Почти вся Галиция была очищена к концу июня; на севере немецкие войска проникли в глубь Курляндии; Польский выступ оказался обойденным с обеих сторон. В то же время, благодаря боевой стойкости русских войск и умелой стратегии командования, удавалось, по крайней мере, избежать «Седана» или «нового Танненберга»: весь фронт медленно откатывался назад, но прорывов не было; немцам так и не удавалось окружить сколько-нибудь значительные воинские части. Территорию приходилось уступать, но живую силу в известной мере удавалось сберечь. Конечно, потери при неравенстве в артиллерии были весьма велики, и число пленных сильно возросло: нередки были случаи, когда отдельные части сдавались, расстреляв все свои снаряды и патроны. Упадок духа, особенно выражавшийся в толках об измене начальников, был весьма ощутителен. И все же отступление совершалось в порядке, нигде не переходя в паническое бегство.
Смена министров и созыв Госдумы, назначенный на 19 июля – годовщину объявления войны, были, можно сказать, мерами «обоюдоострыми». Несомненно, что они были встречены в обществе с большим сочувствием; они вызвали и в армии надежду на перемену к лучшему. Но в то же время эти уступки – так и понимало оппозиционное общество – не столько успокаивали, сколько создавали желание дальнейших, более крупных перемен. Создавалось убеждение, что под флагом войны можно добиться тех реформ, в которых власть отказывала в мирное время. Между государем и обществом слагалось некое недоразумение: государь считал нужным для целей войны сосредоточить власть в своих руках и управлять через людей, которым он мог безусловно доверять; для него популярность или непопулярность этих людей в обществе была на втором плане, хотя и оставалась существенным соображением. Общество, наоборот, сочло, что настал момент, когда оно получает возможность не только «свергать», но и «назначать» министров. В создании такого недоразумения почти одновременная отставка Н. А. Маклакова, В. К. Саблера и И. Г. Щегловитова сыграла немалую роль. Увольнение Сухомлинова, с другой стороны, было действительно неизбежным – хотя бы как «символический жест», показывающий, что в деле снабжения армии можно ожидать решительных перемен.
Расширительное толкование значения смены нескольких министров распространилось и за пределами России; так, Ллойд Джордж, в то время – министр снабжения, в своих речах касался довольно смело русских внутренних дел и выражал радость по поводу того, что от грома германских пушек «рушатся тысячелетние оковы русского народа», который теперь выпрямляется и встает на борьбу с врагом.
Сессия Госдумы открылась 19 июля. В речах депутатов по-прежнему звучала готовность продолжать войну до победного конца. В этом отношении общество, наоборот, всячески заподазривало власть и правые круги в том, будто именно они хотят мира с Германией, и притом сепаратного мира.
Но, в отличие от прежних «военных» сессий, действия правительства на этот раз подвергались весьма резкой критике. Меры против евреев, меры против немцев, а с другой стороны – непринятие достаточных мер против «немецкого засилья»; требование амнистии для всех политических заключенных, требование «правительства народного доверия» – все это открыто обсуждалось в заседаниях Думы и на столбцах газет; только изредка наиболее резкие выступления задерживались военной цензурой, и на страницах газет в таких случаях появлялись белые места.
Фронт продолжал «оседать». 22 июля была оставлена Варшава. Говорили, что армия задержится на линии Ковно – Брест-Литовск. Но Ковно был взят штурмом (комендант генерал Григорьев проявил полную неспособность и был предан за то суду), форты Бреста были взорваны, когда немцы еще не подошли к крепости; при этом были уничтожены большие интендантские запасы, которые не успели эвакуировать. Неприятель подходил к Западной Двине; была объявлена спешная эвакуация Риги с ее крупной промышленностью; ожидали, что австро-германцы из Галиции пойдут на Киев. Не было видно рубежа, на котором задержалась бы армия.
В стране – не в печати – много говорили о бездействии союзников. Западный фронт так и не двинулся с апреля, тогда как Восточный выносил на себе всю тяжесть германского натиска. Английский посол Бьюкенен в августе даже счел необходимым выступить в «Новом времени» с большим интервью, объясняющим кажущееся бездействие союзников: Западный фронт, говорил посол, превратился в цепь маленьких крепостей, и наступать там возможно только при значительном перевесе в военном снабжении; союзники накапливают орудия и снаряды, и когда они достигнут перевеса, то перейдут в наступление.
Италия, на которую возлагалось столько надежд, действительно вмешалась в войну еще в самом начале галицийского разгрома (11 мая), но ее армия, оказавшаяся перед сильно укрепленными горными позициями – и в Тироле, и на путях к Триесту, – не могла отвлечь достаточного количества австрийских войск, чтобы это отразилось на положении русского фронта.
В эту трудную для России минуту государь принял решение – стать во главе своих войск. В письме к государыне он вспоминает так эту минуту: «…Хорошо помню, что, когда стоял против большого образа Спасителя, наверху в большой церкви (в Ц. Селе), какой-то внутренний голос, казалось, убеждал меня прийти к определенному решению и немедленно написать о моем решении Ник…»
С распространением театра военных действий на всю западную часть России двоевластие между Ставкой и Советом министров должно было стать совершенно непереносимым. В Совете министров действия Ставки подвергались резкой критике; генерал А. А. Поливанов, князь Н. Щербатов – новые министры – не уступали в этом отношении А. В. Кривошеину или С. В. Рухлову. «Так или иначе, но бедламу должен быть положен предел. Никакая страна, даже многотерпеливая Русь, не может существовать при наличии двух правительств», – говорил (в заседании 16 июля) А. В. Кривошеин. «Что творится с эвакуацией очищаемых нами местностей? Ни плана, ни согласованности действий. Все делается случайно, наспех, бессистемно» (А. А. Хвостов). «Мы, министры, попали в страшное положение перед Ставкой. Это учреждение призвано руководить военными действиями и бороться с врагом. А между тем оно проникает во всю жизнь государства и желает всем распоряжаться» (С. В. Рухлов).
Между тем начальник штаба Н. Н. Янушкевич, по-видимому, действительно полагал, что на него падает ответственность за общую политику страны, и прислал министру земледелия А. В. Кривошеину целый проект наделения землей солдат и конфискации земли у тех, кто дезертирует или сдается в плен. Этот проект вызвал насмешки и негодование в Совете министров.
«От г. Янушкевича можно ожидать всего, – говорил министр иностранных дел Сазонов. – Ужасно, что Великий Князь в плену у подобных господ. Ни для кого не секрет, что он загипнотизирован Янушкевичем и Даниловым, в кармане у них…»
Такие толки шли и в армии. Великий князь продолжал пользоваться популярностью у солдат, ходили легенды про его храбрость, про его резкое обращение с «нерадивыми генералами», – но Ставка как таковая утратила авторитет. Имена ближайших помощников великого князя вызывали такую же вражду в офицерстве, как еще недавно имя Сухомлинова. Те же лица – особенно генерал Н. Н. Янушкевич – вызывали и в обществе самую резкую вражду – главным образом из-за мер по принудительному выселению евреев.
Было необходимо устранить двоевластие – Ставки и Совета министров; было необходимо произвести перемены в самой Ставке. Между тем великий князь Николай Николаевич не был склонен жертвовать своими ближайшими сотрудниками, которым он продолжал доверять. В то же время замена великого князя другим лицом, «меньшим» по общественному рангу, имела бы характер обиды, немилости и не отвечала бы ни намерениям государя, ни настроениям общества.
При таких условиях принятие командования самим государем представлялось единственно возможным исходом. Оно устраняло двоевластие; недаром, как подчеркивал в Совете министров А. В. Кривошеин, полевое управление войсками было составлено «в предположении, что верховным главнокомандующим будет сам император; тогда никаких недоразумений не возникало бы, и все вопросы разрешались бы просто; вся полнота власти была бы в одних руках».
В то же время, уступая место своему государю, который уже и ранее оговорил такую возможность, великий князь сходил со сцены с почетом без какого-либо «урона». А так как ближайшие его советники были тесно с ним связаны всей работой, их уход вместе с ним был только естественным. Новые люди – среди них наибольшей известностью пользовался генерал М. В. Алексеев, начальник штаба Северного фронта, которого государь называл «мой косоглазый друг», – должны были занять место генерала Янушкевича и его помощников.
Однако, когда государь сообщил о своем намерении военному министру А. А. Поливанову, тот «не счел себя вправе скрыть» это от кабинета, и решение государя вызвало сразу же ряд возражений. На нескольких заседаниях кабинета министры с величайшим возбуждением обсуждали это решение государя, хотя, казалось бы, оно только было логическим выводом из всех суждений о соотношении между министерством и Ставкой. Начались разговоры о том, что в случае дальнейших поражений страна будет винить самого государя.
«Подумать жутко, – говорил А. А. Поливанов, – какое впечатление произведет на страну, если Государю императору пришлось бы от своего имени отдать приказ об эвакуации Петрограда или, не дай Бог, Москвы». Князь Н. Б. Щербатов выдвигал несколько странные доводы: «Через гущу беженцев, по загроможденным дорогам царский автомобиль не будет в состоянии быстро двигаться. Как оберегать государя от тысяч бродящих в придорожных лесах дезертиров, голодных, озлобленных людей?..»
А. В. Кривошеин говорил: «Народ давно, со времен Ходынки и японской кампании, считает Государя царем несчастливым, незадачливым». Немалую роль в настроениях министров играли также слухи о том, будто это решение, давно лелеемое государем, было внушено… пресловутым Распутиным.
И. Л. Горемыкин, со своей стороны, заявил: «Должен сказать Совету министров, что все попытки отговорить Государя будут все равно без результатов. Его убеждение сложилось давно. Он не раз говорил мне, что никогда не простит себе, что во время японской войны Он не стал во главе действующей армии. По его словам, долг Царского служения повелевает Монарху быть в момент опасности вместе с войском, деля и радость, и горе… Когда на фронте почти катастрофа, Его Величество считает священной обязанностью Русского царя быть среди войска и с ним либо победить, либо погибнуть… Решение это непоколебимо. Никакие влияния тут ни при чем. Все толки об этом – вздор, с которым правительству нечего считаться».
И. Л. Горемыкин оказался прав; все обращения отдельных министров, председателя Госдумы, наконец – коллективное письмо всех министров, за исключением премьера и министра юстиции А. А. Хвостова, – не могли поколебать решения, сознательно принятого государем. Все эти шаги только показали государю, на кого из своих сотрудников он может безусловно положиться, а на кого только условно.
21 августа, накануне отъезда государя в Ставку, министры еще раз обратились к нему, на этот раз с письменным заявлением, повторяя просьбу не увольнять великого князя и указывая на свое «коренное разномыслие» с председателем Совета министров. «В таких условиях, – заканчивалось это письмо, – мы теряем веру в возможность с сознанием пользы служить Вам и Родине».
И. Л. Горемыкин, со своей стороны, сказал: «Я не препятствую Вашему отдельному выступлению… В моей совести Государь император – помазанник Божий, носитель верховной власти. Он олицетворяет собою Россию. Ему 47 лет. Он царствует и распоряжается судьбами русского народа не со вчерашнего дня. Когда воля такого человека определилась и путь действий принят, верноподданные должны подчиняться, каковы бы ни были последствия. А там дальше – Божия воля. Так я думаю и в этом сознании умру».
22 августа состоялось торжественное открытие особых совещаний – новых совещательных учреждений, с участием выборных от обеих палат и от общественных организаций, под председательством соответственных министров, которые должны были обсуждать вопросы, связанные с ведением войны.
Совещание открыл сам государь. Он выразил уверенность в том, что все участники совещаний будут дружно работать на победу России.
«Оставим на время заботы о всем прочем, хотя бы и важном, государственном, но не насущном для настоящей минуты, – говорил государь. – Ничто не должно отвлекать мысли, волю и силы от единой теперь цели – прогнать врага из наших пределов».
В тот же день, 22 августа, государь выехал в Ставку, которая незадолго перед тем была перенесена из Барановичей в Могилев-Губернский, чтобы принять на себя командование всеми вооруженными силами России.
Глава 7
Положение на фронте в августе 1915 г. – Циммервальдская конференция. – Образование прогрессивного блока. – Атака против власти и закрытие думской сессии; московские съезды. – Улучшение на фронте. – Положение тыла: рост цен. – Отставка министров, стоявших за уступки. – Монархический съезд. – Австро-германский поход на Сербию. – Рост циммервальдских настроений. – Вопрос о судьбе Думы. – Отставка Горемыкина. – Штюрмер и политика благожелательства. – Государь в Таврическом дворце (9.II.1916). – Общественные организации. – Отставка А. Н. Хвостова и распутинская легенда; ее истинное значение. – Арест Сухомлинова. – Согласование деятельности союзников. – Угроза Италии. – Русская победа на Юго-Западном фронте (Брусиловское наступление). – Русская парламентская делегация за границей; еврейский вопрос и союзники. – Отставка Сазонова. – Инцидент с Булацелем. – Толки о диктатуре. – Выступление Румынии. – Возрастающие тяготы войны – продовольственный вопрос; забастовка деревни и товарный голод. – Назначение Протопопова и кампания против него. – Достижения за 15 месяцев: на театре военных действий; в области военных снабжений; Мурманская железная дорога. – Постройка флота. – Усиление циммервальдизма; поход блока против власти; совещание перед открытием думской сессии
«Мы узнали, что доблестная наша армия, истекая кровью и потеряв уже свыше 4 000 000 убитыми, ранеными и пленными, не только отступает, но, быть может, будет еще отступать… Со стесненным сердцем узнали мы, Государь, о том, что свыше 1 200 000 русских воинов находится в плену у врага…» – говорилось в записке, составленной в августе 1915 г. военно-морской комиссией Государственной думы.
Данные эти не были преувеличены. В действительности общие потери русской армии к моменту принятия командования государем превышали 4 миллиона воинов; число пленных на самом деле достигало 1 600 000 человек. За четыре месяца отступления, с мая по август, армия теряла убитыми и ранеными около 300 000, а пленными до 200 000 человек в месяц. Несмотря на то что под оружие было призвано с начала войны уже свыше 10 миллионов воинов, действующая армия была менее многочисленной, чем в начале войны; около полутора миллионов, призванных в августе, еще только начинали обучение, и, кроме Западного фронта, существовал еще и Кавказский.
Но и на эту армию имелось менее миллиона винтовок. Кроме убыли чисто количественной, давало себя знать истребление офицерского состава и огромная убыль в перволинейных кадрах, так беспощадно растраченных в первые полгода, при наступлении, спасшем Францию от германского натиска.
Русский фронт отодвинулся глубоко в пределы России; бои шли на линии Западной Двины, от окрестностей Риги до Двинска; германские армии на Северо-Западном фронте уже оставляли позади себя преграду Беловежской Пущи и стояли в районе Пинских болот. К югу от них австро-германские войска, пройдя царство Польское, проникли глубоко в пределы Волыни и оттеснили русскую армию в Галиции почти до государственной границы.
Следя по карте за движением противника, русские граждане уже высчитывали расстояние от фронта до столиц; уже назначена была комиссия по эвакуации Киева, и в Совете министров обсуждался вопрос, следует ли увозить с собою мощи и другие святыни из Киево-Печерской лавры. «Псков, древний Псков укрепляется на скорую руку, кое-как, впопыхах, при общем беспорядке и сумятице», – говорилось в упомянутой записке думской военно-морской комиссии.
Трудное наследие доставалось государю, когда он прибыл в Ставку 23 августа. «Сего числа, – гласил его приказ, – я принял на себя предводительство всеми сухопутными и морскими силами, находящимися на театре военных действий. С твердой верой в помощь Божью и с непоколебимой уверенностью в конечной победе будем исполнять наш святой долг защиты Родины до конца и не посрамим земли Русской».
Своим ближайшим помощником – начальником штаба – государь избрал генерала М. В. Алексеева; фронт был разделен на три части (вместо двух). Северным фронтом (на Двине) командовал генерал Рузский; Западным (от Двинска до Пинских болот) – генерал Эверт; на Юго-Западном фронте остался генерал Н. И. Иванов. Великий князь Николай Николаевич, назначенный наместником на Кавказ, отбыл в Крым на отдых после изнурительной, более чем годовой, непрерывной работы в Ставке.
Государь хотел все усилия сосредоточить на ведении войны. Но как раз в те дни, когда он принимал на себя командование, произошли политические события, существенно отразившиеся на всем дальнейшем ходе русской жизни.
* * *
23 августа (5 сентября) в швейцарской деревне Циммервальд собралась конференция представителей левых социалистических партий. Это была первая попытка восстановить разрушенный войной Интернационал. За год войны настроения в социалистической среде переменились очень сильно; стихийное патриотическое течение, увлекшее вождей вслед за массами, распылилось. Вожди, уже связавшие себя определенными заявлениями, не могли отступить; но в рядовой социалистической среде протесты против войны раздавались все громче, и новые лидеры выдвигались на смену старым. Этот процесс коснулся, разумеется, и русских социалистов. Те из них, которые, как Ленин, были с самого начала против войны, вдруг стали приобретать огромное влияние в своей среде.
По инициативе итальянских и швейцарских социалистов в Циммервальде собралось 33 делегата из десяти государств – Германии, Италии, России,[230] Франции, Голландии и т. д. Конференция заседала четыре дня. Она вынесла резолюцию, в которой выражалось осуждение «империалистической войне»; высказывалось порицание всем социалистам, которые под предлогом «защиты отечества» идут на сотрудничество с буржуазией, входят в правительства, голосуют за бюджет и т. д. Целью пролетариата объявлялась борьба за немедленный мир. Около трети делегатов, с Лениным во главе, считала и эту резолюцию недостаточной. Ленин говорил, что необходимо «империалистическую войну превратить в гражданскую» и, воспользовавшись тем, что под оружием десятки миллионов «пролетариев», отважиться на захват власти в целях социального переворота. Однако для начала группа Ленина удовлетворилась циммервальдской резолюцией.
Последствия Циммервальдской конференции были весьма велики. Было сказано от имени международного социалистического центра, хотя и «самочинного», то слово, которого во всех странах ждали социалистические крути и вообще все элементы, уставшие от войны. Циммервальдская резолюция, запрещенная во всех воюющих странах, стала быстро известна повсюду, включая Россию; и она дала сильный толчок революционному движению в рабочей и полуинтеллигентской среде. Отдельные прежние лидеры социал-демократов, как Плеханов или бывший член Второй думы Алексинский, резко ополчились против Циммервальда; но партийные массы сразу схватились за резолюцию о мире и только делились на сторонников «большинства» и «левой».
* * *
25 августа была подписана программа так называемого прогрессивного блока. С начала летней сессии Государственной думы представители кадетов и прогрессисты вошли в постоянные сношения с думскими умеренными фракциями: левыми октябристами, земцами-октябристами и группой центра. Была сделана попытка привлечь и националистов; большинство фракции высказалось против сближения с левыми, но левое крыло, образовав особую фракцию под названием прогрессивных националистов во главе с В. В. Шульгиным и А. И. Савенко, продолжало переговоры о создании левоцентрового большинства.
Основой для объединения служило недовольство существующей властью. Умеренные круги объединялись с оппозицией, чтобы добиться перемены правительства. Левые группы предложили выработать общую программу, которая обсуждалась в течение двух-трех недель на совещаниях делегатов от фракций. Участники блока исходили из двух основных положений: война должна быть доведена до победного конца; для этого необходимо единение между властью и обществом. Из этих общепризнанных положений руководители объединения делали вывод: власть должна быть приведена в соответствие с требованиями общества. Тут и начиналась наклонная плоскость: «обществом» называли либеральную интеллигенцию, и выражение его воли видели в тех «общественных организациях», которые создались за время войны: общеземском Союзе, Союзе городов и военно-промышленных комитетах. Эти организации, созданные первоначально для деловых задач, связанных с войной, вдруг приобрели значение выразителей политической воли страны. Когда союзы возникали, никого особенно не заботило, что руководят ими по преимуществу «кадетские» элементы: лишь бы они исправно помогали раненым и больным… Теперь сказывалась оборотная сторона одностороннего политического возглавления союзов. Так, председателем Центрального военно-промышленного комитета был А. И. Гучков; никто не отрицал ни его энергии, ни его патриотического отношения к войне; но было также известно, что он непримиримый враг правительства, и больше того – он относится с личной враждебностью к носителю верховной власти.
Переход власти в другие руки был главной целью блока. Его программа сама по себе особого значения не имела; она была составлена главным образом для того, чтобы оправдать в глазах левой общественности соединение кадетов с такими еще недавно «одиозными» элементами, как октябристы или националисты вроде Шульгина. Первые пункты программы были даже уступкой более левым элементам, не вошедшим в блок: требования широкой политической амнистии и возвращения всех административно высланных. Такие меры при наличии новых настроений в среде социалистов могли только привести к чрезвычайному усилению агитации против войны: нельзя же было серьезно думать, что Каменевы и Сталины, возвращенные из ссылки, из благодарности заняли бы вдруг патриотическую позицию.
Другими пунктами программы были: польская автономия, примирение с Финляндией, отмена репрессий против так называемых «украинцев» и «вступление на путь отмены ограничений в правах евреев» (этот последний пункт особенно трудно дался правому крылу блока). Наконец, Госдуме предлагалось заняться законопроектами: о равноправии крестьян (закон был уже проведен по 87-й ст. в 1906 г., но Думой еще не рассмотрен), о волостном земстве, о реформе земского и городского самоуправления, о кооперативах и т. д. Все это были вопросы, говоря словами государя, «хотя и важные, государственные, но не насущные для настоящей минуты».
Программа блока еще не была подписана, когда в стране начала развиваться агитация в пользу «министерства доверия», согласно формуле июньской конференции Конституционно-демократической партии. А. И. Гучков от Военно-промышленного комитета обратился к И. Л. Горемыкину с резким письмом, требуя ухода правительства.[231] Затем Московская городская дума 18 августа единогласно приняла резолюцию, требующую «правительства, облеченного доверием страны». Другие думы, а также и земские собрания стали присоединяться к московской резолюции. О правительстве «из лиц, пользующихся доверием страны и согласившихся с законодательными учреждениями» насчет программы работ говорилось и в программе блока.
Шесть думских фракций – около 300 депутатов из 420 – во шли в прогрессивный блок, к которому примкнули также три группы Государственного совета (левые, центр и беспартийные). «Да будет мне позволено назвать этот блок не красным, – говорил 25 августа в Госдуме лидер правых Н. Е. Марков, – ибо красные определенно кровавого цвета в него не вошли… Его правильнее назвать желтым блоком». – «Не желтым, а трехцветным», – возражал на это В. В. Шульгин. «Немыслимо всех включить в блок, – говорил известный кадетский деятель князь Д. И. Шаховской. – Всегда останется кое-кто направо и океан – налево».
Блок был орудием борьбы за власть; имея большинство в Госдуме, он мог наносить правительству чувствительные удары. Вошедшие в него группы фактически подчинились руководству фракции кадетов, наиболее политически опытной и яснее других знавшей, чего она хочет. Кадеты нередко оказывали сдерживающее влияние на своих более «умеренных» коллег, когда те в порыве раздражения были готовы идти на резкие, необдуманные шаги; они берегли блок.
Некоторые члены кабинета в момент образования блока сочли возможным вступить с ним в переговоры и даже склонялись к соглашению на почве отставки части министров и замены их «общественными деятелями». Но государь отнесся к этому с решительным неодобрением. Он считал, что власть должна быть единой; особенно во время войны недопустимо, чтобы министры «служили двум господам»: монарху, на котором вся ответственность, и «обществу», неуловимому и изменчивому в своих настроениях. Ввиду того что Госдума закончила обсуждение всех проектов, связанных с ведением войны, государь поручил И. Л. Горемыкину, приезжавшему к нему с докладом в Ставку, объявить перерыв думской сессии. Этот акт был в то же время ответом на требование о передаче власти в другие руки.
Думская сессия была прервана 3 сентября. Некоторые депутаты хотели тут же «устроить скандал», демонстративно уйти из всех особых совещаний, но большинство решило подчиниться, соблюдая строгую корректность. Зато на съездах Земского и Городского союзов, открывшихся в Москве 6 сентября, оппозиционные круги получили возможность выразить охватившие их чувства. В. И. Гурко, воскрешая распутинскую легенду, восклицал: «Нам нужна власть с хлыстом, а не власть, которая сама под хлыстом»; А. И. Гучков прославлял Госдуму, «хилого ребенка Саблеров и Харузиных», поднявшегося до общегосударственного значения. А. И. Шингарев говорил: «После севастопольского грома пало русское рабство. После японской кампании появились впервые ростки русской конституции. Эта война приведет к тому, что в муках родится свобода страны, и она освободится от старых форм и органов власти…» Это указание на «благие последствия» проигранных войн помимо воли оратора совпадало с настроениями пораженцев.
Оба съезда избрали депутации к государю для передачи резолюции, требующей смены правительства. Государь, естественно, отказался их принять.
15 сентября в Ставке состоялось заседание кабинета, на котором государь отчетливо выразил министрам свою волю – посвятить все силы ведению войны и не допускать политической борьбы, пока не достигнута победа. Те из министров, которые стояли за уступки блоку, один за другим должны были оставить кабинет (первыми были уволены А. Д. Самарин и князь Н. Б. Щербатов; вскоре за ними последовали А. В. Кривошеин и П. А. Харитонов).
* * *
Пока в тылу развивалась борьба за «министерство доверия», на театре военных действий произошли существенные перемены. На Юго-Западном фронте русские войска имели крупный успех в районе Тарнополя и Трембовли; было взято несколько десятков тысяч пленных, обратно отвоевана широкая полоска Галиции: только недостаток снарядов не дал возможности развить далее этот успех и двинуться на Львов.
На всем Северном фронте, вдоль Двины, атаки неприятеля на русские тет-де-поны были отбиты. Только на Западном фронте немцы нанесли в начале сентября еще один сильный удар, прорвав русскую линию около станции Ново-Свенцяны на Варшавской железной дороге; немецкая кавалерия проникла далеко на восток, в район Молодечно; немецкие разъезды достигли даже линии Московско-Брестской железной дороги. Русской армии пришлось очистить Вильно; но германские части, прорвавшиеся на русскую линию, были частью уничтожены, остальные оттеснены обратно; клин, вбитый в русский фронт, был полностью ликвидирован, и «зарвавшемуся врагу был нанесен огромный урон», как гласило сообщение от 19 сентября…
Германское наступление на этом закончилось. Фронт начал опять «застывать»: вдоль Двины, по линии озер, немного впереди Минска, на линии Пинских болот и южнее, на реках Горыня и Стырь. Угроза Риге – Пскову – Киеву, не говоря уже о столицах, отпадала. Начались осенние дожди. Германский технический перевес уменьшался по мере удаления от баз. Первые же успехи подняли дух русских войск. Великое отступление наконец нашло свой предел.
В армии, вопреки паническим заявлениям в столицах, смена Верховного командования была воспринята как должное. Солдатская масса разделила мнение царя о том, что именно он должен был взять на себя командование в такую трудную минуту; а офицеры (по словам английского генерала сэра А. Нокса, состоящего при Ставке) «были охотно готовы ценой отставки Великого Князя купить столь желанное для них увольнение Янушкевича и Данилова…».
Кампания 1915 г. на Восточном фронте закончилась. «Россия в настоящее время внесла свой вклад – и какой героический вклад – в дело борьбы за европейскую свободу, – писал Ллойд Джордж, – и в течение многих месяцев мы не можем рассчитывать со стороны русской армии на ту активную поддержку, которой мы до сего пользовались… Кто займет место России, пока ее армии перевооружаются?» «Как мы можем отплатить России за все, что она сделала для Европы?» – спрашивал Times (24.II.IX). Действительно, за 1915 г. Россия вынесла на себе главную тяжесть борьбы. К осени 1915 г. на Восточном фронте было сосредоточено 137 пехотных австро-германских дивизий и 24 кавалерийских; на Западном оставалось 85 пехотных и одна кавалерийская. За все лето никакие боевые действия на англо-французском фронте не доставили России того облегчения, которое русские армии принесли союзникам за первые месяцы войны.[232] Это объяснялось главным образом чрезвычайной трудностью продвижения на сильно укрепленном Западном фронте. В сентябре 1915 г. (12–25) союзники, однако, предприняли наконец сильные атаки одновременно около Арраса и в Шампани; они прорвали первые германские линии, захватили около 25 000 пленных. «Кажущееся бездействие союзников, – писало по этому поводу «Новое время» (15.IX), – было периодом подготовки удара». Но дальнейшего продвижения не последовало, и потери союзников при этой атаке чуть не вдвое превысили германские потери. Все же это внезапное пробуждение Западного фронта сыграло, вероятно, известную роль в прекращении германского наступления на Россию.
Жизнь страны в сильнейшей степени зависела от событий на фронте. Отступление 1915 г. потрясло, всколыхнуло широкие массы, далекие от всякой политики. «Весь народ был возбужден, это настроение было неизбежно, я сам переживал его во время военных неудач», – свидетельствовал не кто иной, как бывший министр внутренних дел Н. А. Маклаков. Это возбуждение, однако, отнюдь не было тождественно с той кампанией против власти, которую пыталась на нем построить оппозиция; агитация блока оставалась на поверхности; «Циммервальд», со своей стороны, пускал в стране более глубокие корни по мере роста усталости от войны.
Когда фронт застыл, когда миллионы беженцев были так или иначе размещены в тылу[233] и движение на железных дорогах вошло более или менее в норму – в стране вдруг наступило успокоение. Экономическая жизнь была затронута еще сравнительно мало. В конце августа возникал, правда, кризис разменной монеты – серебряные, а затем и медные деньги исчезли из оборота чуть не со дня на день, – но правительство выпустило вместо них разменные марки, и публика, сначала поворчав на «деньги, которые улетают», быстро к ним привыкла. Рост цен был сравнительно умеренный против довоенного уровня, хлеб к концу 1915 г. вздорожал на 40 процентов, масло на 45 процентов, мясо на 25 процентов, сахар на 33 процента и т. д. Обилие денег в стране, повышение заработной платы делали этот рост не особенно чувствительным для широких масс, хотя и начали раздаваться жалобы на дороговизну. Губернаторы боролись с ростом цен, вводя таксировку продуктов; это иногда приводило к перебоям в снабжении. В столицах временами ощущался недостаток сахара и мяса; это объяснялось тем, что потребление этих продуктов сильно возросло за год войны: запрещение спиртных напитков, выдача усиленных пайков в армии, обилие денег в деревне – все это привело к тому, что в первый год войны русские массы стали лучше питаться, чем в довоенное время (например, потребление сахара в 1915 г. достигло 24,4 фунта на душу против 18 фунтов до войны).
В стране развивалась в спешном порядке военная промышленность; строились огромные новые казенные заводы, переоборудовались старые. С союзниками было достигнуто финансовое соглашение относительно оплаты больших заказов – преимущественно в Америке и в Англии.
* * *
Государь жил в Ставке, примерно раз в месяц приезжая на несколько дней в Царское Село. С ним вместе большей частью находился наследник-цесаревич. Все ответственные решения принимались государем, который в то же время поручал императрице поддерживать постоянные сношения с министрами и держать его в курсе происходящего в столице.
Императрица Александра Феодоровна была наиболее близким государю человеком; только она бывала посвящена в его планы; государыня полностью восприняла миросозерцание своего супруга, и государь мог всегда на нее положиться. Если тем не менее, уезжая в Ставку, государь не возложил на государыню никаких формальных прав и обязанностей (как в свое время Петр Великий на Екатерину I или Наполеон I – на Марию-Луизу, Наполеон III – на императрицу Евгению и т. д.), – это, скорее всего, объяснялось личной непопулярностью императрицы в широких кругах: вспоминали ее немецкое происхождение, ее слепую веру в Распутина. Сам же государь вполне доверял своей супруге, которая ежедневно писала ему подробные письма – «донесения», и это было хорошо известно всем министрам; через государыню они часто сообщали монарху свои соображения по текущим вопросам.
Увольнение министров, стоявших за соглашение с думским блоком, придало кабинету более – хотя и не вполне – однородный характер. Министром путей сообщения был назначен энергичный правый сановник А. Ф. Трепов. Пост министра внутренних дел достался А. Н. Хвостову, бывшему нижегородскому губернатору, председателю фракции правых в Государственной думе, которого государь намечал на пост министра еще в 1911 г., после убийства П. А. Столыпина. Обер-прокурором Синода стал политически бесцветный А. Н. Волжин, а министром земледелия – А. Н. Наумов, член Государственного совета по выборам от самарского земства. Назначение Наумова, человека умеренно либеральных воззрений, должно было как бы смягчить впечатление от остальных назначений. Государственным контролером был назначен Н. Н. Покровский.
А. Н. Хвостов начал развивать энергичную, несколько даже демагогическую деятельность под флагом борьбы с дороговизной и борьбы с немецким засильем; оба этих лозунга были популярны в широкой беспартийной среде.
Сессия Государственной думы первоначально была прервана до ноября; но затем, по предложению И. Л. Горемыкина, было решено отсрочить ее созыв до окончания работ бюджетной комиссии. Намеченные на декабрь съезды общественных организаций не были разрешены А. Н. Хвостовым. Деловой необходимости в созыве этих съездов каждые три месяца не было – они могли только служить ареной для агитации. Как отсрочка созыва Думы, так и запрещение съездов были встречены в стране довольно спокойно. Перерыв думской сессии продолжался в общем около пяти месяцев (с 3 сентября по 9 февраля).
Бюро прогрессивного блока скоро стало ощущать произошедшие перемены. «Я замечаю коллапс, – говорил П. Н. Милюков (на заседании 29 октября). – Общество реагирует вяло». «Изменилось настроение в самой толще общественности, – признавал Н. И. Астров. – Политика резвого министра (А. Н. Хвостова) имеет успех». А. И. Шингарев констатировал «резкое падение настроения в гуще населения». В. А. Маклаков указывал и причину этой перемены: «Мы тогда говорили, что нас ведут к поражению… Если будет полная победа, не воскресим злобу против Горемыкина, будем без резонанса». Глава союза городов М. В. Челноков вообще высказывался за то, чтобы отложить счет с властью до окончания войны.
«Мы относились трагически к перемене командования, – заявлял (на заседании 28 октября) граф Д. А. Олсуфьев. – Все мы ошиблись. Государь видел дальше. Перемена повела к лучшему… Мы предлагали для войны сместить министров. Самый нежелательный (Горемыкин) остался, а война пошла лучше. Прекратился наплыв беженцев, не будет взята Москва, и это бесконечно важнее, чем кто будет министром и когда будет созвана Дума». «Положение улучшается, – соглашался граф В. А. Бобринский. – Появились снаряды, мы остановили неприятеля». Фактически получалось, что улучшение на фронте и успокоение в стране были поражениями думского блока, пророчившего катастрофу.
Блок тем не менее решил продолжать «беспощадную войну» с правительством, причем В. И. Гурко заявил: «Обращение к улице? Может быть, в крайнем случае».[234] А. И. Гучков стоял даже за отклонение бюджета, но члены Госдумы на это не соглашались.
В конце ноября в Петрограде состоялся съезд правых организаций под председательством И. Г. Щегловитова. Съезд единодушно высказался за войну до победного конца, но отнесся с осуждением к требованиям блока. «Монархист, идущий с требованием министерства общественного доверия, – не монархист», – говорил Щегловитов. Профессор Левашов протестовал против «вакханалии лжи». Левая печать отнеслась к съезду с большим раздражением, но государь ответил на его резолюцию благодарственной телеграммой. В «Московских ведомостях» известный дворянский деятель Н. А. Павлов выступил со статьей «Не мешайте», доказывая, что так называемые общественные организации и политические партии служат не поддержкой, а помехой правительству в деле ведения войны.
Когда русская армия остановилась на новой линии фронта и только начинала восстанавливать свои силы, германо-австрийская коалиция воспользовалась этим моментом, чтобы нанести удар Сербии. В Болгарии в это время находилось у власти правительство Радославова, державшееся «австрийской» ориентации; правда, оно вело переговоры и с союзниками, стремясь добиться через них обещания уступки македонских земель, доставшихся Сербии после Балканских войн; и некоторые русские деятели были склонны упрекать сербов за «несговорчивость». Однако и царь Фердинанд, и Радославов руководились не столько обещаниями воюющих сторон, сколько положением на театре военных действий. Ослабление России открывало болгарским политикам возможность «реванша за 1913 г.».
Когда только выяснилось, что Болгария делает приготовления к нападению на Сербию, русское правительство попыталось оказать дипломатическое воздействие, но голос его не был услышан, и 23 сентября Россия прервала с Болгарией дипломатические сношения.
В этот же день, 23 сентября, австро-германская армия начала наступление на Сербию на Дунайском фронте, и одновременно болгары ударили сербам в тыл. Государь, несмотря на трудное положение русской армии, распорядился сосредоточить в Бессарабии пять корпусов, чтобы через Румынию двинуться на Болгарию. Но для этой армии не хватило ружей. Союзники, сначала обещавшие немедленно доставить 500 000 винтовок, затем сообщили, что могут дать только 300 000, и то не ранее декабря. Румыния, ссылаясь на угрозу австро-германских армий, отказывалась пропустить русские войска через свою территорию, а Греция заявила, что ее союз с Сербией обязывает ее только к вмешательству в болгаро-сербскую войну, а не к участию в великой мировой схватке…
Высадка союзных войск в Салониках оказалась запоздалой и недостаточной. В течение октября и ноября Сербия (а в декабре и Черногория) были завоеваны противником; сербская армия вынуждена была отступить к морю по горным тропам через Албанию. Государь предписал русскому посланнику (князю Г. Н. Трубецкому) сопровождать при отступлении сербское правительство и разделить его судьбу; Россия настояла перед союзниками на том, чтобы сербскую армию доставили на остров Корфу, где она получила возможность отдохнуть и восстановить свою боевую силу.
К концу года (27 декабря) союзники очистили Галлипольский полуостров, где им за восемь месяцев так и не удалось овладеть главными турецкими позициями. Англичане хотели оставить и Салоники; но по настоянию русского правительства (поддержанного новым французским премьером Брианом) было решено сохранить этот опорный пункт на Балканах, чтобы не дать вражеской коалиции овладеть всем полуостровом.
* * *
1915 г. дал союзникам тяжелые разочарования: застой на западе, германское продвижение на востоке, завоевание Сербии. Но ни в одной из стран согласия не наблюдалось склонности заключить мир. Не было в этом отношении никаких колебаний и у государя. Не проявляли наклонности к миру и думские оппозиционные круги. Наоборот, блок все время заподазривал власть и правых в желании заключить сепаратный мир. Слухи об этом проникли и в западную печать. Revue de France утверждала в конце 1915 г., будто И. Г. Щегловитов, Н. А. Маклаков и другие правые «интригуют» в пользу прекращения войны. Это сообщение было решительно опровергнуто. Но представление о каких-то «реакционерах», стремящихся к сепаратному миру, стало, по-видимому, одним из шаблонов союзной пропаганды. Тут, быть может, был известный психологический расчет: толками о кознях «реакционеров» союзники думали вызвать в левых и либеральных кругах отталкивание от мысли о возможности мира. Такой прием, поскольку этим слухам начинали верить, извращал перспективу и приводил к тому, что действительную опасность слева замалчивали и игнорировали.
В широких массах, особенно рабочих, идея мира – «Циммервальдского» мира – действительно пускала все более глубокие корни. Когда еще в сентябре 1915 г. должны были происходить в Петербурге выборы делегатов рабочей группы Военно-промышленного комитета (от заводов с 219 000 рабочих), большинство неожиданно получила партия социал-демократов большевиков; собрание выборщиков (27.IX) вообще отказалось выбирать делегатов и приняло резолюцию, в которой говорилось: «Лозунг защиты отечества и его разновидности – защиты свободы, культуры, национальных интересов, прав, морали и т. д… есть лишь прикрытие хищнических притязаний правящих классов и приманка, при помощи которой рабочий превращается в слепое орудие их империалистических интересов…»
Только на два месяца позже (29.XI), при помощи сочетания репрессий и отбора выборщиков удалось добиться избрания делегатов рабочей группы, причем члены ее, чувствуя непрочность своего положения в рабочей среде, старались загладить свое отношение к войне решительным отстаиванием крайних экономических требований рабочих и усиленными нападками на власть. Так, руководитель группы К. А. Гвоздев говорил (на собрании 29.XI.1915), что единение необходимо «для борьбы с нападающей Германией и для борьбы с нашим страшным внутренним врагом – самодержавным строем. Для достижения этих двух целей необходимо деятельное участие в работах Военно-промышленного Комитета…».
Циммервальдские настроения распространялись и в студенческой среде. Значительная часть студентов ушла на войну добровольцами; те, кто остались, были настроены иначе. Когда был объявлен призыв студентов в действующую армию, то (в начале 1916 г.) во многих учебных заведениях были митинги протеста, на которых ораторы заявляли, что если они и пойдут в армию, то исключительно с целью революционной пропаганды.
В декабре 1915 г. начал выходить журнал «Летопись» под редакцией Максима Горького. В нем, как и в других левых журналах, сквозь цензурные преграды определенно пробивалась «циммервальдская» тенденция. Не имея возможности открыто нападать на власть, левые публицисты изощряли свою иронию за счет деятелей блока и тех социалистов, которые продолжали отстаивать лозунг «война до победного конца».
В обывательской массе – но отчасти и в армии – начинало проявляться недовольство союзниками. Возникла весьма популярная формула: «Англия и Франция решили воевать до последнего русского солдата». Генерал Нокс отмечает в то же время, что не кто иной, как генерал Лебедев, генерал-квартирмейстер Западного фронта, говорил ему самому (в октябре 1915 г.): «История отнесется с презрением к англичанам и французам, которые месяц за месяцем сидят, точно кролики, в своих норах, оставляя на России всю тяжесть войны».
Подобное ощущение, только в противоположном смысле, видимо, было и у французов: в декабре 1915 г. генерал Жоффр говорил генералу Жилинскому: «Войну ведет только одна Франция, остальные только просят у нее содействия».[235]
Осенью 1915 г. в царскую Ставку прибыл известный французский политический деятель Поль Думер, впоследствии президент республики; он настаивал на том, чтобы Россия присылала на Западный фронт по 40 000 человек в месяц; их доставку и вооружение союзники брали на себя. («Помогите нам, чем вы богаты, помогите нам людьми», – говорил впоследствии А. И. Шингареву французский министр финансов Рибо.)
Государь отклонил посылку крупных войсковых частей и согласился только отправить во Францию «символические» отряды – первая партия была намечена в 8000 человек. Такой жест подчеркивал солидарность союзников, не ослабляя в то же время многострадальный Восточный фронт.
В начале 1916 г. перед государем стоял вопрос: какой политики держаться в отношении Государственной думы? Положение власти было несравненно крепче, чем осенью. Она могла, не рискуя крупными осложнениями, отложить созыв Государственной думы до окончания войны (в Австрии, например, рейхстаг так и не собирался с 1914 по 1917 г.). Чрезвычайные обстоятельства небывалой по своим размерам войны оправдывали бы такое отступление от обычных законных норм. Срок полномочий Четвертой думы истекал через полтора года; данный состав в таком случае мог бы уже и не собираться более; а исход выборов в новую Думу зависел бы всецело от исхода войны.
Но государь не был склонен к такому решению. Он предпочитал средний путь. Считая исключенной передачу власти в руки думского большинства – которое он, в полном согласии с оценкой «общества» в известной записке П. Н. Дурново, вообще не считал реальной силой, способной оказать поддержку правительству, – государь в то же время не хотел обострять положения, создавать новые поводы для агитации в стране. Кампания «общественных кругов» была направлена в первую очередь против И. Л. Горемыкина. («Если старец придет – нельзя ручаться за спокойствие», – говорил А. И. Шингарев в бюро блока.) Сам Горемыкин полагал, что думскую сессию – если она вообще состоится – надо свести к нескольким дням и ограничить рассмотрением бюджета. Государь, наоборот, решил сделать шаг навстречу Думе и, не меняя политики по существу, «сгладить острые углы».
20 января 1916 г. И. Л. Горемыкин был уволен в отставку – с теплым благодарственным рескриптом и пожалованием ранга «особы I класса». Его преемником был назначен Б. В. Штюрмер, член правой группы Государственного совета. Менее определенный в своих воззрениях, в то же время готовый всецело подчиниться указаниям государя, человек культурный и обходительный, Б. В. Штюрмер первым делом заявил о своем благожелательном отношении к Государственной думе и к «общественным организациям», о готовности считаться с их «приемами, навыками и традициями». Было объявлено, что Дума соберется в начале февраля и будет заседать, сколько сама сочтет нужным.
Смена премьера, несомненно, разрядила напряженную атмосферу и привела в замешательство руководителей блока. На заседании бюро (28.I) большинство высказалось за возможность сотрудничества. Увольнение Горемыкина рассматривалось как победа Государственной думы: «Будет протянута рука – будем совместно работать» (член Государственного совета Меллер-Закомельский). «На первое время будет легче вести переговоры, чем с Горемыкиным» (С. И. Шидловский). «Нельзя в первый день сказать, что правительству не верим. Раз Горемыкина нет – нельзя» (В. А. Маклаков). П. Н. Милюков предлагал выждать, уживется или не уживется новый премьер с Думой, а В. В. Шульгин заключал: «Мы должны быть мягче Штюрмера…»
Государь, однако, не ограничился сменой премьера. Он сам прибыл с фронта в столицу к открытию думской сессии, 9 февраля присутствовал на молебне в Таврическом дворце и обратился к депутатам – впервые после открытия Первой думы – с приветственным словом.
«Счастлив находиться посреди вас и посреди Моего народа, избранниками которого вы здесь являетесь, – сказал государь. – Призывая благословение Божие на предстоящие вам труды, в особенности в такую тяжкую годину, твердо верую, что все вы, и каждый из вас, внесете в основу ответственной перед Родиной и передо Мной вашей работы весь свой опыт, все свое знание местных условий и всю свою горячую любовь к нашему отечеству, руководствуясь исключительно ею в трудах своих. Любовь эта всегда будет помогать вам и служить путеводной звездой в исполнении долга перед Родиной и Мной. От всей души желаю Государственной думе плодотворных трудов и всякого успеха».
В своих мемуарах М. В. Родзянко пишет, будто после этой речи он сказал государю: «Воспользуйтесь этим светлым моментом, Ваше Величество, и объявите здесь же, что даете ответственное министерство», – на что государь кратко ответил: «Об этом Я еще подумаю». Такое обращение, по всей обстановке, представлялось просто-напросто неуместным…
Приезд государя в Думу, смена Горемыкина и радостно всколыхнувшие страну вести с Кавказского фронта, где только что была одержана большая победа над турками – пала (4 февраля) мощная крепость Эрзерум, – все это создавало атмосферу, весьма мало подходящую для оппозиционных выступлений. С. И. Шидловский тем не менее огласил заранее составленную декларацию блока, в которой снова требовалось «создание правительства из лиц, способных и знающих, сильных доверием страны, готовых решительно изменить применявшиеся до сих пор способы управления и могущих работать в согласии с народным представительством».
Думские прения, однако, теперь далеко не вызывали того интереса в стране, как во время сессии 1915 г. Кадетские газеты, разумеется, защищали действия блока, но левые над ними иронизировали, а умеренно правые, некогда приветствовавшие его возникновение, теперь иронически говорили, что борьба продолжается «по преемству от осенней сессии».
«Все они застыли в старых своих рамках. Все, что они говорят, так знакомо, так старо и так беспросветно серо!» – писали «Московские ведомости». Еще резче, разумеется, выражались органы крайних правых («Земщина», «Русское знамя»).
* * *
Правое крыло Госдумы, насчитывавшее до ста депутатов, вело постоянную борьбу против блока. Главными ораторами справа были Н. Е. Марков, Г. Г. Замысловский, профессора Левашов и П. А. Сафонов. Думское большинство относилось к ним весьма нетерпимо и постоянно прерывало их речи шумом и возгласами с мест.
В заседании 11 февраля Н. Е. Марков выступил с резкими нападками на «общественные организации». «Все эти общественные военно-промышленные комитеты, – говорил он, – ничего до сих пор для армии не сделали: ни одного ружья, ни одной пушки. Вы не дали снарядов, вы не дали пушек, вы не дали ружей, и этого вы никакими криками не уничтожите!»
На следующий день М. В. Родзянко, Н. В. Некрасов и А. И. Коновалов выступили с обстоятельными речами в защиту общественных организаций. Эти прения дали возможность подойти ближе к истине. Если справа были склонны преуменьшать пользу этих организаций – печать блока действительно ее безмерно преувеличивала. («Военно-промышленные комитеты, – писала «Речь», – опоясали всю страну и покрыли ее лязгом и грохотом машин и станков, вырабатывающих снаряжение».)
Общеземский союз, как и Союз городов, широко развил дело помощи раненым и больным; в некоторых отношениях – например, по доставке раненых с фронта в тыловые лазареты, по устройству питательных пунктов – их заслуги были велики. Общеземский союз взял на себя некоторые интендантские поставки (например, кожи) и выполнял их вполне успешно. Наоборот, в области чисто военного снабжения деятельность этих союзов была весьма скромной. Т. И. Полнер,[236] один из ближайших сотрудников князя Г. Е. Львова, прямо признает, что Земгор (комитет по военному снабжению, организованный обоими союзами 10.VII.1915) дал на деле очень мало: большинство учреждений Земгора не имело оборудования и мало понимало в технике дела; местные комитеты были еще беспомощнее, чем центральный; их поставки запаздывали, оказывалось до 50 процентов брака.
П. Н. Милюков в ответ на слова Н. Е. Маркова («Вы не дали ни одного снаряда…») крикнул: «Но мы заставили дать»; так и Т. И. Полнер видит заслугу Земгора не в собственной работе, а в том, что он побудил (?) Военное министерство «стать менее беззаботным»: в 1916 г. «количество военного снабжения стало почти достаточным». Размеры деятельности обоих союзов лучше всего определяются цифрами. Общеземский союз насчитывал около 8000 учреждений с сотнями тысяч служащих, получавших освобождение от воинской повинности (правые иронически называли их «земгусарами»). Как и Союз городов, он существовал на средства, отпускавшиеся казной. Оба союза за первые 25 месяцев войны (по 1.IX.1916) получили от государства 464 миллиона рублей, кроме того, земства и города ассигновали им около 9 миллионов. Если учесть, что к этому времени сумма военных расходов России достигала примерно 20 миллионов, будет ясно, что «общественные организации» играли несравненно более скромную роль в обслуживании нужд армии, чем это принято было считать во время войны.[237]
Что касается военно-промышленных комитетов, то они занимались главным образом размещением заказов, а также производством различных анкет – о потребностях армии, о производительных силах страны и т. д. Военное ведомство неоднократно жаловалось, что комитеты недостаточно заботятся о том, чтобы поставки производились по ценам выгодным для казны.[238] Это соображение, впрочем, не имело особого веса в период быстрого общего роста цен. С другой стороны, «общественные организации» играли немалую политическую роль. Блок склонен был считать их своими кадрами в стране; на самом деле состав служащих в большинстве был еще гораздо левее. Комитеты Земского и Городского союзов, ссылаясь на то, что им хорошо знакомы настроения армии, пытались даже говорить от ее имени. На заседании бюро блока (2.XI.1916) обсуждалась записка, про которую сначала было заявлено, что она «от армии», но затем выяснилось, что она составлена комитетом Земгора на Юго-Западном фронте. В ней положение армии изображалось в самых мрачных красках. Это вызвало протест А. И. Шингарева, который, как председатель военно-морской комиссии, был более осведомлен о положении вещей. «В 1917 г., – говорил он, – мы достигнем апогея. Это – год крушения Германии… Архангельская дорога перешита, Мурманская кончается осенью. Приходят все паровозы и вагоны из Америки, снабженные ружьями, патронами, тяжелыми снарядами. Количество бомб измеряется десятками миллионов». Возражая Шингареву, Н. И. Астров сказал: «Объективное изображение – не наше дело». Целью записки было показать, что при этом правительстве все должно пойти прахом. «Общественные организации» в политическом отношении вели упорную борьбу с властью, не особенно стесняясь в средствах.
Продолжая свою «политику благожелательности», Б. В. Штюрмер разрешил устроить в Москве съезды Земского и Городского союзов. Съезды состоялись в середине марта. Они повторили резолюцию о призыве к власти «людей, пользующихся доверием страны». Но подъема не было. «В кулуарах отмечали, – писала кадетская «Речь», – что съезд был серый, скучный; говорили об упадке настроения, об обывательской усталости».
* * *
А. Н. Хвостов уже не был министром внутренних дел к моменту открытия московских съездов. Его увольнение было вызвано причинами особого порядка. А. Н. Хвостов должен был уйти, так как проникся верой в значение «распутинской легенды» и увлекся мыслью ее уничтожить – при помощи уничтожения самого Распутина.
Тщательно подготовленная враждебными государю кругами еще в 1911–1912 гг., эта легенда, как известно, приписывала Распутину огромное закулисное влияние на государственные дела, «на смену направлений и даже смену лиц», выражаясь словами Гучкова, одного из главных творцов этой легенды (если не главного). С этого времени в известных кругах вошло в обычай приписывать влиянию Распутина все «непопулярные» увольнения и назначения, все неугодные «обществу» действия власти. Эта пропаганда, которая велась умело и упорно, находила немало легковерных слушателей; и от упорного повторения распутинская легенда понемногу приобретала в умах многих характер некоего «общепризнанного факта». Могло случиться, что эта легенда так бы и осталась недоказанной, но и не опровергнутой. Те, кто уверовали в нее, передавали свою веру другим и ни за что не хотели признать, что на самом деле они жестоко заблуждались. Но переписка государя и государыни, опубликованная советской властью, дает возможность документально установить, насколько неверно было представление о властном влиянии Распутина на ход государственных дел. Эти письма показывают с очевидностью, что, если государыня действительно верила Распутину, как «Божьему человеку», и готова была бы следовать его указаниям, государь совершенно с этими указаниями не считался.[239]
Представление о политическом влиянии Распутина было поэтому легендой – вредной легендой. Она вносила смуту в умы, сбивала с толку людей правых взглядов.
Не находя другого способа борьбы с этой легендой, А. Н. Хвостов решил попытаться устранить то лицо, вокруг которого она создавалась. Он предлагал некоторым чинам своего ведомства заняться «устранением» Распутина. Те были смущены подобным предложением, однако сперва не решались возражать. Но организация убийства совершенно не соответствовала нравам русской полиции. Как выразился товарищ министра внутренних дел С. П. Белецкий, правительственная власть не могла превращаться «в какую-то мафию». Одни чины перелагали неприятное поручение на других; в поисках исполнителя вошли даже в сношения с пресловутым Илиодором, проживавшим за границей. Дело затянулось, планы Хвостова стали известны самому Распутину, а через него и государыне. За Хвостовым и его агентами было поручено следить контрразведке, зависевшей от военного ведомства. В это время государь как раз находился в Царском Селе. Он возмутился таким образом действий министра и тотчас же уволил А. Н. Хвостова от должности, возложив на председателя Совета министров Б. В. Штюрмера заведование Министерством внутренних дел.
Причины отставки А. Н. Хвостова стали известны в обществе – и это только способствовало росту распутинской легенды. Между тем министры, как и товарищи министров, относившиеся к Распутину отрицательно, не желавшие его принимать и отвергавшие его «записочки» с просьбами и рекомендациями, продолжали пользоваться доверием государя; те же, кто, уверовав в распутинское влияние, пытались, по слабости, ему угождать, ничуть не упрочивали этим свое положение. Можно сказать, что в это трудное время свой долг до конца исполнили те министры, которые нашли в себе нравственную силу игнорировать не столько самого Распутина – это было сравнительно легко, – сколько распутинскую легенду: которые своему государю служили так, как будто никакого Распутина на свете не было. К чести русского служилого сословия, таких министров оказалось большинство. Это, впрочем, не мешало кругам, враждебным власти, приклеивать кличку «распутинцев» чуть ли не ко всем неугодным для них государственным деятелям.
* * *
Государь пошел навстречу настроениям общества и еще в одном вопросе, для него весьма болезненном: он согласился на производство следствия о деятельности бывшего военного министра В. А. Сухомлинова, хотя сам государь был совершенно убежден в его невинности.[240] Нападки на Сухомлинова настолько вошли в обычай, что в Государственной думе правый националист Л. В. Половцов назвал его «злодеем» и требовал его немедленного предания суду. Разрешив производство следствия, государь уже не считал возможным вмешиваться в судебную процедуру; и когда первый департамент Государственного совета высказался за предание Сухомлинова суду, когда 20 апреля бывший военный министр был заключен в Петропавловскую крепость – государь ощущал это как большую несправедливость. Сухомлинов мог быть повинен в нераспорядительности, в нерадении; не было никаких оснований считать его изменником. Однако только уже осенью, и то после больших колебаний, государь поручил подлежащим министрам изменить меру пресечения и перевести Сухомлинова из крепости под домашний арест.
Предание суду по обвинению в измене (как оказалось, на основании явно недостаточных данных) бывшего военного министра, занимавшего этот пост весь первый год войны, – официальное признание возможности подобного факта – было мерой, которая вызвала недоумение в кругах союзников; эта мера расшатывала дух страны, сеяла в народе сомнения в высших носителях власти и способствовала зарождению толков о дальнейших «изменах». Эта уступка «общественному мнению» имела только самые вредные последствия.
* * *
Думская сессия тянулась (с перерывом в один месяц) с 9 февраля по 20 июня. Интерес к заседаниям слабел у самих депутатов; не раз оказывалось, что нет кворума. Блок – как выразился в заседании его бюро Н. Н. Щепкин – считал, что «нужно сохранить хотя бы видимость работы Государственной думы, ради свободной кафедры». Месяца два заняло обсуждение бюджета (Дума рассматривала только обычный бюджет, в который не входили расходы по ведению войны). Было принято несколько запросов – о министерском циркуляре против евреев, о проекте введения предварительной цензуры и т. д. Подвергся рассмотрению закон о крестьянском равноправии, проведенный Столыпиным по 87-й ст. еще в октябре 1906 г. Некоторое оживление в прения внесла кадетская фракция, неожиданно предложившая в крестьянский проект ввести статью о том, что равноправие предоставляется и евреям.
Это вызвало возражения не только среди других фракций блока, но даже со стороны докладчика по законопроекту, кадета В. А. Маклакова; поправка была отвергнута. Правые настаивали на том, чтобы был поставлен на очередь вопрос о немецком засилье: они знали, что внутри блока большие разногласия на этот счет; Государственная дума, однако, решила отложить вопрос до осени. В общем, сессия Думы прошла так же тускло, как московские съезды.
В апреле делегация, состоявшая из видных членов обеих палат, во главе с товарищем председателя Государственной думы А. Д. Протопоповым, выехала в союзные страны (Англию, Францию, Италию) и вернулась только к концу сессии. Делегацию всюду принимали весьма торжественно. 12 (25) мая на большом собрании в Париже речами обменялись Эррио, Думер и Протопопов. Эррио в своей речи сказал, между прочим, о государе: «Во все моменты Он воплощал народный дух, и, как вовне, так и внутри, Он защищал его с непоколебимой верностью, которая вызывает восхищение и внушает уважение». А. Д. Протопопов заявил, что франко-русский союз нерушим и что «во время этой страшной войны для всякого русского всякий француз стал братом».
* * *
Для настроений начала 1916 г. характерны выборы в Петроградскую городскую думу. В 1913 г. в ней образовалось значительное большинство из обновленцев; дума, по предложению А. И. Гучкова, принимала несколько раз политические резолюции. На выборах в феврале 1916 г. обновленцы понесли полное поражение: по I разряду прошло 27 стародумцев: по II – 35 стародумцев и 19 обновленцев. Вместе со старыми членами (переизбиралась только половина состава думы) стародумцы получили большинство (93 голоса из 160). Петроградская городская дума перестала быть одним из опорных пунктов блока; городским головой был избран беспартийный Лелянов, некогда уже занимавший этот пост.
Вскоре по принятии государем верховного командования была сделана первая серьезная попытка согласования военных действий на отдельных союзных фронтах. Начальник штаба генерал М. В. Алексеев выработал смелый стратегический план, который был быть доложен генералом С. Г. Жилинским на совещании представителей союзных штабов в Шантильи в декабре 1915 г. По алексеевскому плану союзники должны были в 1916 г. предпринять общее наступление на Венгрию: русские со стороны Карпат, англо-французская (и сербская) армии – от Салоник, с тем чтобы «встретиться в Будапеште»; такой удар лишил бы Германию всех ее союзников и отрезал ее от источников снабжения. План этот был отвергнут союзниками, продолжавшими считать французский фронт главным, а остальные вспомогательными. Вместо этого было решено, накопив силы, одновременно начать наступление на Западном и на Восточном фронтах в середине лета 1916 г.
Немцы, однако, предупредили это наступление, начав уже в феврале атаку против Вердена. В разгар первых боев на верденском фронте русская армия, впервые после отступления 1915 г., проявила наступательный почин – в районе озер Нарочь и Вишневское к югу от Двинска (бои шли с 5 по 17 марта). Это пробуждение русской армии настолько обеспокоило немцев, что они примерно на неделю приостановили свои атаки против Вердена, пока не убедились, что это операция местного значения.
Пока под Верденом продолжалась изнурительная борьба, истощившая резервы обеих сторон – французы несли не меньшие потери, чем немцы, – австрийский главнокомандующий Конрад фон Гетцендорф предпринял смело задуманный поход на Италию. Австрийские войска, наступая из Южного Тироля, продвигались к равнине реки По и грозили отрезать от базы все главные итальянские силы, боровшиеся в горах Карсо, на путях к Триесту.
Как в 1914 г., союзники обратились к России – и русская армия, пополнившая свои потери, значительно усилившаяся количественно, если не качественно, снова ранее намеченного срока перешла в наступление.
22 мая армии юго-западного фронта под начальством генерала А. А. Брусилова (который незадолго перед тем сменил генерала Иванова) прорвали в нескольких местах неприятельский фронт на Волыни и в Галиции и начали быстро продвигаться вперед, занимая города Луцк, Дубно, захватывая сотни тысяч пленных.
Блестящая русская победа над австрийцами сразу же ликвидировала итальянский поход генерала Конрада фон Гетцендорфа – который к тому же был обвинен в том, что не предусмотрел русского наступления; он вынужден был сложить командование. Италия была спасена от страшной угрозы. Но брусиловское наступление отразилось и на бое под Верденом: немцы вынуждены были спешно отправить подкрепления на Восточный фронт, и у них больше не осталось резервов для продолжения верденской «борьбы на истощение».
Русская победа на Волыни была первым крупным успехом союзников после долгой полосы неудач. Она сильно подняла дух во всех союзных странах и поколебала у нейтральных слагавшуюся было уверенность в том, что война кончится вничью.
Наступление на Юго-Западном фронте успешно развивалось; из Волыни оно распространилось на Галицию и Буковину. Уже за первые три недели наступления число пленных (главным образом австрийцев) превысило 200 000.
Атака на Верден прекратилась. Союзники, в свою очередь, перешли в наступление на Сомме; они продвигались вперед очень медленно, с огромными жертвами, «как немцы под Верденом», но все же продвигались. Если немцам удалось предотвратить одно временное общее наступление союзников – они уже не могли помешать тому, что к середине лета инициатива попала в руки их противников: на обоих фронтах Германия вынуждена была перейти к обороне.
Россия и союзники были связаны железной необходимостью победы. Они были друг другу одинаково нужны. Договор 23 августа, не допускавший сепаратного мира, всецело соответствовал взглядам государя, который не признавал возможности иного окончания войны, кроме общей победы. Ради общего дела он готов был на огромные жертвы – и считал, что вправе ждать того же и от союзников.
В переговорах между Россией, Англией и Францией за время войны шла поэтому речь о распределении военного снабжения, о согласовании военных операций, о тех целях, которые себе ставит каждая из союзных держав. Союзники добивались от России присылки солдат, доставки золота;[241] Россия стремилась получить от них военное снабжение и кредиты на закупки в нейтральных странах.
Как английское, так и французское правительства знали, что государь не допустит вмешательства в русские внутренние дела, и тщательно от него воздерживались. В двух вопросах – польском и еврейском – русская политика, быть может, не удовлетворяла союзников, но такт и лояльность не позволяли им вмешиваться во внутренние вопросы русской жизни. Как русскому правительству не приходило в голову советовать Англии ввести гомруль в Ирландии, или Франции – отменить закон против монашеских орденов, так и союзные правительства не считали уместным требовать от России каких-либо внутренних реформ.
Попытки косвенного воздействия, однако, бывали. Некоторые английские финансовые круги, с лордом Ротшильдом во главе, с самого начала войны пытались добиться через русского посла в Лондоне графа Бенкендорфа изменения законов относительно евреев; но государь тогда же – осенью 1914 г. – категорически запретил давать какие-либо обещания. Указания в этом смысле повторялись затем неоднократно.
Когда русская парламентская делегация была в Лондоне, ее председатель А. Д. Протопопов несколько смело заверил лорда Ротшильда на одном банкете, что еврейское равноправие будет вскоре осуществлено в России. По возвращении в Петроград А. И. Шингарев сделал 19 июня доклад в военно-морской комиссии, в котором доказывал, что в целях облегчения выпуска союзных займов в Америке необходимо провести реформы в пользу евреев; известный банкир Яков Шифф, считавшийся германофилом, обещал в таком случае сам выпустить заем для русского правительства. П. Н. Милюков, ссылаясь на свидетельство французского деятеля Виктора Баша, подтверждал впечатления Шингарева.
Такая постановка вызвала возмущенный протест представителя правых Н. Е. Маркова: «Вопрос ясен: его величество еврейское, его величество Яков Шифф приказывает союзникам заставить Россию провести внутри своего государства желательные его величеству реформы… Нам приказывают. Хорошо, если эти реформы вам нравятся; но ведь могут приказать и то, что вам не нравится… Вы ведь не говорите, что Яков Шифф прав, а вы говорите, что иначе вам не дадут денег. Значит, вам приказывают, иначе вас заставят!.. Вот постановка, которая должна нам показаться малоприемлемой, – не только для сторонников самодержавия, но даже для приверженцев конституционной монархии, даже для республиканцев!»
Возникли бурные прения. А. Ф. Керенский с некоторым злорадством предсказывал, что союзники еще и не то потребуют; он признавал, что «Марковым достоинство и самолюбие не позволяют дать под ударами кулака то, что они не давали по свободному убеждению», и делал из этого вывод, что нужно удалить от власти «единомышленников Маркова». А. И. Шингарев счел нужным подчеркнуть, что его доклад – только изложение фактов, а не его собственные аргументы: «Я такого аргумента не могу вынести, что под давлением требований Россия должна уступить…»
Государь продолжал считать, что всякие внутренние реформы должны быть отложены до окончания войны.[242] Он был уверен, что союзники сами слишком заинтересованы в безопасности России, чтобы из-за «еврейского вопроса» задерживать поставку военного снабжения: разница была только в том, что союзные займы в Америке выпускал Пирпонт Морган, а не Яков Шифф.
Сложнее было отношение к польскому вопросу. Поляки с самого начала войны стремились добиться международной гарантии для обещанной им русским царем широкой автономии. Так как воссоединение Польши зависело от общей победы союзников, те имели известные основания интересоваться польским вопросом. Но государь и здесь стоял на точке зрения полной суверенности России. Он готов был дать царству Польскому весьма широкие права – но не считал возможным вмешивать иностранные державы в отношения между русскими и поляками.
Весной 1916 г. польский вопрос был выдвинут министром иностранных дел С. Д. Сазоновым, который считал, что в интересах союзников было бы объявить свой проект польской автономии, дабы привлечь симпатии польского населения и не дать Германии и Австрии использовать его для своих военных целей. (В это время распространялись упорные слухи о предстоящем наборе в царстве Польском для австро-германской армии.)
Государь, наоборот, счел, что нельзя придавать окончательную форму будущему царству Польскому, пока оно целиком находится под властью противника: широкие посулы были бы сочтены признаком слабости; с другой стороны, приемлемый для России проект автономии мог показаться полякам недостаточным. Расхождение по польскому вопросу было решающим поводом отставки С. Д. Сазонова; государь, впрочем, уже и ранее был недоволен его позицией в вопросах внутренней политики (о Верховном командовании, об отношении к «блоку»). Получалось так, что министр иностранных дел скорее отстаивал взгляды союзников перед русской властью, нежели взгляды русской власти перед союзниками.
10 июля С. Д. Сазонов был уволен в отставку. Государь не нашел ему в тот момент подходящего преемника, и заведование Министерством иностранных дел было возложено на того же премьера Штюрмера (его, впрочем, «разгрузили» при этом от обязанностей министра внутренних дел, которые были переданы министру юстиции А. А. Хвостову; того, в свою очередь, заменил бывший министр внутренних дел А. А. Макаров).
Русская внешняя политика с назначением Штюрмера не претерпела никаких изменений: иначе и быть не могло, раз эта политика определялась самим государем – при Штюрмере, во всяком случае, не меньше, чем при Сазонове. Но увольнение министра, занимавшего этот пост шесть лет, хорошо знакомого всем иностранным послам, не могло не вызвать известного сожаления в кругах союзной дипломатии.
В русской печати только кадетский орган выразил неудовольствие по поводу ухода Сазонова. «Новое время» резко критиковало деятельность ушедшего министра и, в частности, обвиняло его в том, что он не сумел предвидеть и предотвратить разгром Сербии.
За первый месяц пребывания Б. В. Штюрмера на посту министра иностранных дел произошел любопытный инцидент. Английский премьер Асквит произнес речь, в которой говорил о возможности привлечения к суду правителей центральных держав. Эта речь вызвала скептические замечания и в части английской печати (например, в журнале «Экономист»). Русский правый публицист П. Ф. Булацель в малораспространенном журнале «Русский гражданин» выразил по этому поводу возмущение: «Итак, Асквит обещает осуществить мечту масонов о международном трибунале из парламентских дельцов и адвокатов, которому будет отдан на суд сам венценосный глава Германской империи…» Англичане, «продвинувшиеся за два года войны на своем фронте на несколько сот метров», этого не могут сделать сами… «Нам вменяют в обязанность воевать не только до тех пор, пока наши упорные, храбрые и сильные враги германцы признают себя сломленными и согласятся на почетный и выгодный для России мир, а до тех пор, пока царствующая в Германия династия Гогенцоллернов не будет низложена русским штыком».
Английский посол усмотрел в этой статье чуть ли не проявление какой-то новой внешней политики Штюрмера; он забил тревогу, обратился с протестом в министерство иностранных дел. Б. В. Штюрмер тотчас же дал сэру Дж. Бьюкенену полное удовлетворение: он добился того, что русский публицист Булацель сам отправился в английское посольство, принес извинения и смиренно выслушал строгий выговор посла. «Русский гражданин» был взят под предварительную цензуру.
* * *
Проблема согласования действий отдельных ведомств сильно заботила государя, а также и его начальника штаба генерала Алексеева, который выдвигал план учреждения «военной диктатуры» – фактического подчинения кабинета Ставке. К этому времени генерал А. А. Поливанов, к большому негодованию думского блока, был уже заменен генералом Д. С. Шуваевым, до этого хорошо организовавшим интендантское ведомство.[243] В Ставке 28 июня состоялось совещание, посвященное вопросу о «диктатуре». Государь, однако, не захотел производить крупную ломку существующего аппарата, и дело свелось к расширению полномочий премьера (Штюрмера) при разрешении конфликтов между отдельными ведомствами.
Около того же времени вышел в отставку министр земледелия А. И. Наумов. Поводом к тому послужил его конфликт с министром путей сообщения Треповым и с Штюрмером по вопросу о том, следует ли выступить в Государственном совете с разъяснениями по продовольственному вопросу (другие министры считали это излишним). О более глубоких причинах говорится в письме государыни (23.VI.1916) (со слов Штюрмера): «…Держась совсем иных взглядов, он не разделяет политики правительства. Хотя он честный и очаровательный человек, все же он упрям и приверженец Думы, земства и т. д., и надеется больше на них, чем на правительство, что не особенно удобно в министре и весьма затрудняет работу с ним».
Преемником Наумова (22 июля) был назначен граф А. А. Бобринский, бывший председатель фракции правых в Третьей думе. Кабинет постепенно приобретал более однородный – правый – характер.
* * *
Успехи русского оружия, занятие почти всей Буковины побудили наконец долго колебавшуюся Румынию выступить на стороне держав согласия. Во время предварительных переговоров государь обещал поддерживать румынские притязания на Трансильванию, но решительно отказался уступить хотя бы часть русской территории (Юго-Западную Бессарабию). Россия не особенно поощряла выступление Румынии; военные круги даже считали удлинение фронта невыгодным и не очень верили в силу румынской армии. С другой стороны, вмешательство державы, так долго колебавшейся, должно было произвести немалый психологический эффект, наглядно показывая, что «зрители» считают дело Германии проигранным.
Недооценивая силу сопротивления центральных держав, Румыния 14 (27) августа объявила войну Австро-Венгрии и, пренебрегая советами русского командования, широким фронтом двинула свои войска в пределы Трансильвании. (Русский штаб рекомендовал оборону на Трансильванских Альпах и движение в Болгарию, навстречу Салоникской армии союзников.)
Германская коалиция напрягла последние силы. Генерал Гинденбург был назначен командующим всеми фронтами. Германия, Болгария, Турция объявили Румынии войну, и сборная германо-болгаро-турецкая армия под командой генерала Макензена вторглась в Добруджу, вбивая клин между Румынией и Черным морем. В то же время румынская армия, «с налету» проникшая в Трансильванию на 150 км, вынуждена была вскоре отступить к границе под ударами австро-германских контратак.
Румыния со своим выступлением в 1916 г. несколько запоздала: наступательный порыв русских армий был в августе уже почти истрачен; немцы уже сосредоточили на Восточном фронте большие силы, и продолжавшиеся упорные русские атаки в направлении на Ковель и Владимир-Волынский, стоившие огромных жертв, уже не давали результатов. Потери гвардии при этом были настолько велики, что государь счел нужным отрешить от должности ее командира, генерала В. М. Безобразова. Давали себя знать осенние дожди; долины рек на низменности Припяти превращались в болота. В русской армии – небывалое доселе явление – отмечено было несколько случаев, когда целый полк отказывался идти в атаку. Кровопролитная борьба тем не менее продолжалась; но – как на Западе, на Сомме, – продвижение делалось все менее заметным на карте. Становилось ясно, что и в этом году нельзя ждать решающих успехов.
* * *
К осени 1916 г. тяготы войны уже ощущались всем населением России. Мобилизация «вычерпала» из страны 15 миллионов взрослых мужчин;[244] не считая 2 с половиной миллионов, которые были заняты работой, необходимой для обороны, на заводах, в шахтах, на железных дорогах, при «общественных организациях» и т. д. В сельском хозяйстве начинал ощущаться недостаток рабочих рук. Призыв инородцев в Средней Азии (которым была некогда обещана свобода от воинской повинности) привел в июле 1916 г. к кровавым восстаниям в Туркестане; пришлось ввести военное положение, назначить генерал-губернатором знатока местных условий, генерала А. Н. Куропаткина, отменить набор в некоторых местностях.
Продовольственное положение еще оставалось сносным – не только армия не испытывала ни на один день затруднений в снабжении, но и в тылу нигде не ощущалось недостатка съестных припасов, – но цены начинали быстро расти, а в населении возникал страх, как бы зимой не пришлось испытать голод. К июлю – августу 1916 г. рост оптовых цен против довоенного уровня достигал: для хлеба 91 процента, для сахара 48 процентов, для мяса 138 процентов, для масла 145 процентов, для соли 256 процентов и т. д. Розничные цены местами повысились еще больше. Это отчасти объяснялось ростом количества бумажных денег, но в еще большей мере – своего рода забастовкой деревни. Крестьяне – а им принадлежало семь восьмых русского хлеба – все менее охотно продавали свои продукты; из опасения реквизиции они начинали прятать зерно, зарывать его в землю.
Такая «забастовка производителей» не имела ничего общего с политическими причинами. Она объяснялась тем, что в стране ощущался товарный голод. Крестьяне взамен своих продуктов не могли получить того, что им было нужно. Не хватало тканей, обуви, железных изделий; цена на все эти товары возросла вне всякой соразмерности с ростом цен на сельхозпродукты.
«За пуд железа давали раньше 1,5 пуда пшеницы, а теперь 6; за пуд пшеницы можно было купить 10 аршин ситца, а теперь 2», – говорил на продовольственном совещании в Петрограде в конце августа член Киевской управы Григорович-Барский. Цены на железные изделия, например гвозди, возросли в восемь раз.
Вопросы продовольствия и снабжения – уже не только фронта, но и тыла – вызывали оживленные споры. Одни требовали властного государственного вмешательства, введения хлебной монополии, карточек на продукты, борьбы с дороговизной при помощи твердых цен; такую позицию занимали представители Союза городов во главе с В. Г. Громаном. В левых кругах замечалось большое увлечение германским «военным социализмом». Другие, наоборот, считали, что необходима свобода хозяйственного оборота, иначе продукты вовсе исчезнут с рынка, а твердые цены должны применяться только в отношении казенных заготовок. Некоторые экономисты, как, например, П. Б. Струве, полагали, что необходимы твердые цены при всех торговых сделках, но что они не должны быть искусственно пониженными, что следует принимать во внимание себестоимость продуктов.
Раздавались жалобы и на «разруху на железных дорогах». Этой осенью 1916 г. транспорт был, видимо, повсюду слабым местом: французская палата посвятила несколько закрытых заседаний тому же вопросу о «кризисе перевозок».
…Председатель русской парламентской делегации А. Д. Протопопов по возвращении из-за границы сделал обстоятельный доклад министру иностранных дел (это еще был Сазонов), изложив как свои впечатления от Англии и Франции, так и свой разговор – на частной квартире одного шведского деятеля – с советником германского посольства Варбургом, из слов которого можно было заключить, что настроение в Германии далеко не победоносное и что ее единственная надежда – на расхождение между Россией и Англией. Сазонов счел эти впечатления интересными; Протопопов был приглашен в Ставку и повторил их государю. При этой встрече государь почувствовал симпатию к А. Д. Протопопову, который, в свою очередь, был совершенно «обворожен» государем. Когда в начале сентября А. А. Хвостов изъявил желание уйти с поста министра внутренних дел, государь решил сделать смелый шаг – предложил этот пост А. Д. Протопопову, поручив Б. В. Штюрмеру переговорить с ним.
А. Д. Протопопов был видным членом блока, товарищем председателя Госдумы, членом Военно-промышленного комитета, симбирским предводителем дворянства; он был земским деятелем и в то же время промышленником. Председатель Госдумы, убеждая государя еще летом 1916 г. дать «министерство доверия», предлагал назначить Протопопова министром торговли и промышленности. Назначая Протопопова, государь продолжал принятую им политику: «сглаживать утлы», не меняя ничего по существу. Он полагал, что Протопопову, как видному члену Госдумы, будет легче убедить своих единомышленников в необходимости отложить политические требования до окончания войны. Сам Протопопов – по его словам – со своей стороны, рассчитывал получить согласие государя на несколько «угодных блоку» реформ: улучшение положения евреев, установление судебной ответственности министров, расширение прав земств, а также назначение постоянного содержания духовенству.
Но блок ставил себе определенную задачу: переход власти в руки людей, зависящих от «общества», а не от монарха. К этому времени уже имелись готовые кандидаты чуть ли не на все посты, причем в премьеры намечали князя Львова или Родзянко. Назначение министром одного из членов блока помимо общей передачи власти в другие руки было воспринято не как уступка, а, наоборот, как угроза, как маневр, рассчитанный на раскол блока. К Протопопову была применена тактика, которою еще в 1904 г., в «Освобождении», П. Н. Милюков грозил всякому общественному деятелю, согласившемуся сотрудничать с властью во время «весны» Святополк-Мирского: «Если кто-нибудь из нас вам скажет, что он может вам открыть кредит, не верьте ему; он или обманывает, или сам обманывается. Вы можете, если сумеете, переманить его на вашу сторону; но знайте, с той минуты, как он станет вашим, он уже перестанет быть нашим и, стало быть, перестанет быть нужен и вам».
Известный публицист Дорошевич сказал Протопопову: «Вас гонят в правый угол и загонят». Тот сначала не поверил, но вскоре должен был убедиться, как легко, владея печатью и «общественными организациями», поднять кампанию клеветы и загипнотизировать общественное мнение. Протопопов был член президиума Думы, глава заграничной парламентской делегации, один из кандидатов блока в министры, уже не говоря о других его «общественных» должностях; в несколько недель он был в глазах всей России «превращен» в человека ненормального, страдающего прогрессивным параличом; человека лично нечестного; «германофила», а то и прямо изменника (из-за его беседы с Варбургом). Оставалось только удивляться, почему же блок такого человека намечал в министры, а Дума избрала его товарищем председателя.
Такие чрезвычайные усилия были применены, чтобы предотвратить дальнейшие переходы из «лагеря блока» в «лагерь власти». («Сколько среди нас еще сидит Протопоповых?» – спрашивал Шульгин в бюро блока.) Злобная кампания произвела действие на самого Протопопова. Он потерял спокойствие духа, уверенность в себе, стал нервничать, метаться слева направо.
В то время был на очереди вопрос о передаче продовольственного дела из Министерства земледелия в Министерство внутренних дел; в случае необходимости ограничить потребление – путем введения карточек и т. д. – это было, вероятно, наиболее целесообразно, так как только у ведомства внутренних дел был достаточно разветвленный – полицейский – аппарат на местах. Дело было доведено до государя, который подписал указ о передаче, но Протопопов не решился его опубликовать накануне открытия думской сессии, боясь нареканий. В помощь себе он взял, в качестве знающего полицейское дело, П. Г. Курлова. Но в думских кругах против него царило крайнее предубеждение: в свое время на него пытались взвалить ответственность за убийство Столыпина; Протопопов не решился опубликовать назначение Курлова и этим поставил его в нелепое положение. В общем, при наличии несомненной доброй воли А. Д. Протопопов легко дал себя загнать в угол и не оказался на высоте возложенной на него миссии; он был не более, хотя, быть может, и не менее приспособлен к задачам управления в столь трудное время, чем остальные его коллеги по прогрессивному блоку и «общественным организациям».
* * *
Русская императорская власть, оглядываясь на год упорной работы, могла с гордостью убедиться в том, как много переменилось за пятнадцать месяцев. Не только не было уступлено лишней пяди русской земли, но, наоборот, у врага удалось отвоевать широкую полосу территории на Волыни, в Галиции и Буковине (площадью около 30 000 кв. верст). На Кавказе русская армия глубоко проникла в пределы Турции, на Анатолийское плоскогорье. Почти вся Армения была в русских руках. Было захвачено около миллиона пленных, преимущественно австрийцев (общее число приблизилось к 2 миллионам[245]).
Уже во время кампании 1916 г. армия была снабжена удовлетворительно. К концу 1916 г. производство военного снабжения увеличилось в огромных, поразительных размерах. Производство ружей – удвоилось против 1914 г. (110 000 в месяц против 55 000); производство пулеметов возросло в шесть раз (900 в месяц против 160 в 1914 г.); для легких орудий отмечалось увеличение в девять раз (665 вместо 70); для 3-дюймовых снарядов – в шестнадцать раз (1 600 000 в месяц вместо 100 000). В четыре раза возросло производство тяжелых орудий, утроилось число аэропланов (716 против 263) и т. д. …[246]
И это было еще не все. С конца 1915 г. Россия начала получать в возрастающих размерах военное снабжение из-за границы: так, пулеметов получено было в 1915 г. – 1057, в 1916 г. – уже 9428; 3-дюймовых снарядов в 1915 г. – около миллиона, в 1916 г. – 8 миллионов; 4–6-дюймовых – 129 000 и 1 692 000. В 1916 г. было также ввезено 446 тяжелых (осадных) орудий и 46 000 снарядов к ним.
«Мало эпизодов Великой Войны, – писал В. Черчилль, – более поразительных, нежели воскрешение, перевооружение и возобновленное гигантское усилие России в 1916 г. Это был последний славный вклад царя и русского народа в дело победы… К лету 1916 г. Россия, которая 18 месяцев перед тем была почти безоружной, которая в течение 1915 г. пережила непрерывный ряд страшных поражений, действительно сумела, собственными усилиями и путем использования средств союзников, выставить в поле – организовать, вооружить, снабдить – 60 армейских корпусов вместо тех 35, с которыми она начала войну…»
Для обеспечения возможности обильного ввоза иностранного снабжения и оборудования была проделана огромная работа в отношении путей сообщения. К началу войны было начато строительство около 16 000 км железных дорог. Из них было достроено к концу 1917 г. около 12 000 км. Кроме того, на театре военных действий были созданы совершенно новые стратегические железнодорожные ветки, позволявшие быстро перебрасывать войска с одного участка фронта на другой.
Для сношений с внешним миром России оставались Владивосток и Архангельск. Была начата укладка второй колеи на Сибирской дороге. За время войны была закончена постройка Амурской дороги. Узкая колея пути Вологда – Архангельск была заменена более широкой, допускавшей сквозное движение. Но Архангельский порт замерзал почти на полгода. Чтобы восполнить этот пробел, была построена начатая только в марте 1915 г. Мурманская железная дорога. Длиною в 1050 км (с Олонецкой, достроенной в начале войны, – 1440), эта дорога проходила по тундрам, болотам и скалистым горам Кольского полуострова, через край вечной мерзлоты и полярной ночи; она шла далеко за полярный круг. (Это вообще самая северная железная дорога на земле; она заходит за 69-й градус.)
Огромные трудности ее постройки были преодолены в двадцать месяцев. Кладка рельс, для скорости, производилась на десяти отрезках пути одновременно. К 15 ноября 1916 г. министр путей сообщения А. Ф. Трепов уже мог открыть временное движение поездов на Мурманской железной дороге. Постройка была закончена в рекордный срок, пробито было новое окно во внешний мир.
Ценой немалых усилий и забот добычу топлива в России удалось не только поддержать на прежнем уровне, но и увеличить: добыча угля с 1946 миллионов пудов в 1914 г. до 2092 миллионов пудов в 1916 г.; нефти с 550 миллионов пудов в 1914 г. до 602 миллионов в 1916 г. (высшая цифра со времени бакинских пожаров 1905 г.). Площадь посева под хлопком в Туркестане возросла с 430 000 до 534 000 в 1936 г.
Заканчивалась постройка четырех крейсеров-сверхдредноутов; к осени 1917 г. русский флот уже должен был обладать в Балтийском море восемью первоклассными боевыми единицами. Кроме того, три дредноута заканчивались в Черном море. (Один из них, «Императрица Мария», затонул в Севастопольской гавани вследствие несчастного случая, но уже были начаты работы, чтобы его поднять.)
В области внешней политики Россия добилась от союзников, после долгих дипломатических переговоров, окончательного признания своих прав на Константинополь и проливы (как Босфор, так и Дарданеллы).
Следует также отметить, что русский финансовый аппарат блестяще справлялся с неимоверно трудной задачей финансирования величайшей из войн. Боевые расходы до конца 1916 г. достигли 25 миллиардов рублей. Из этой суммы внутренними и внешними займами было покрыто две трети,[247] и только остающаяся треть, около 8 миллиардов, приходилась на «инфляцию», то есть на выпуск бумажных денег.
Но русская власть никогда не отличалась умением саморекламы, и это в особенности давало себя чувствовать осенью 1916 г. Огромное большинство населения совершенно не отдавало себе отчета в гигантских достижениях этого года. Правда, многие цифры в то время составляли военную тайну. Население не отдавало себе ясного отчета в том, что плугов, как и гвоздей, не хватало, так как почти все железо шло на военное снабжение. Оно не знало, что армия – возросшая до 8 миллионов, включая тыловые части, – поглощала от двух третей до трех четвертей всего русского производства тканей. Сочувственно внимая лозунгу «Все для войны», население не в достаточной мере сознавало, что этот лозунг сулил суровые ограничения для тыла.
Осень третьего года войны была порой упадочных настроений. Как всегда, немалую роль в том играли события на фронте. Успехи первой половины лета забывались быстро; фронт опять застыл на месте, а в то же время шли бои, более кровавые, чем в 1915 г. Кампания 1916 г. обошлась русской армии в 2 миллиона человек – притом пленные в этой цифре составляли уже не 40 процентов, как при великом отступлении, а всего 10 процентов. С Западного фронта доходили вести о таких же тяжелых потерях, о таком же «топтании на месте».
Казалось, что войне не будет конца; что Германия окончательно справилась с продовольственными затруднениями, на которые так надеялись весной 1915 г. В рабочей, в студенческой, в полуинтеллигентской среде все более распространялось циммервальдское воззрение: это – империалистическая война, ее надо прекратить. Появилась новая формула «оборончества», позволявшая сочетать недавние патриотические настроения с Циммервальдом: да, мы готовы защищать родину, но мы не хотим завоеваний, мы – за мир «без аннексий и контрибуций», поэтому мы – против власти, которая затягивает войну ради империалистических целей. В различных оттенках это настроение захватывало и левые думские фракции: трудовиков (Керенского), социал-демократов (Чхеидзе) и рабочую группу Военно-промышленного комитета. Газета «День», журналы «Русское богатство», «Летопись», «Северные записки» и т. д. отражали те же настроения.
Никакая пропаганда не могла преодолеть этой усталости от войны; побороть ее – на известный срок – могла только железная дисциплина, только строгая цензура. Только царская власть, только твердая власть могла сдержать, затормозить эти явления распада. Блок был связан слишком неразрывно через «общественные организации», вобравшие в себя огромное количество крайних левых, с «оборонческими» элементами, в свою очередь неотличимыми от умеренных циммервальдских элементов. Блок собирался бороться с «пораженчеством» не репрессиями, а амнистией и ослаблением цензуры.
Россия была больна войной. Все воюющие страны в разной степени переживали эту болезнь. «Везде, в парижском населении и в палатах, чувствуется смутное беспокойство. Пораженцы с каждым днем выигрывают почву. В воздухе носятся подозрительные миазмы», – отмечал президент Пуанкаре. Но русское общество, вместо того чтобы осознать причины неудачи, прониклось убеждением, будто все дело – в недостатках власти. Деятели думского блока участвовали в особых совещаниях; они знали то, что было скрыто от обывателя: знали, как много в действительности было сделано. Тем не менее они продолжали утверждать, что правительство «никуда не годится». Допустить обратное – значило бы сознаться в своей ошибке, а этого политические партии делать не любят и не умеют.
А. И. Гучков в августе 1916 г. писал генералу Алексееву: «Власть гниет на корню… Ведь нельзя же ожидать исправных путей сообщения в заведовании г. Трепова, хорошей работы нашей промышленности на попечении Шаховского, процветания нашего сельского хозяйства и правильной постановки продовольственного дела в руках графа Бобринского… Вся эта власть возглавляется г. Штюрмером, у которого (и в армии, и в народе) прочная репутация если не готового уже предателя, то готового предать (?)…» А. И. Гучков, конечно, не мог не знать фактических огромных достижений 1916 г., но в своей пропаганде против власти на самых верхах армии он, очевидно, настолько же мало стремился к «объективности изображения», как «общественные организации» в своих записках, якобы исходивших «от армии».
С начала октября возобновило свои работы бюро блока. В заседании 3 октября граф В. А. Бобринский говорил: «Положение в прошлом году было опаснее. Если мы прежде много терпели, теперь можем насесть. Нашествие врага остановлено: надо взяться за правительство». П. Н. Милюков, как наиболее опытный тактик, предложил «сосредоточить напор на Штюрмере». Председатель Совета министров, человек довольно бесцветный, пассивный исполнитель царской воли, сам по себе давал мало поводов для нападок. Но он формально возглавлял правительство; для перемены власти надо было в первую очередь свалить его. Против Штюрмера поэтому начали вести кампанию с двух сторон: используя его немецкую фамилию, премьера старались изобразить как сторонника сепаратного мира; в то же время утверждали, будто он «ставленник Распутина» и во всем слушается его указаний.
В кругах блока не чувствовалось большой уверенности в себе. У некоторых членов бюро, например у В. В. Шульгина, даже появлялись сомнения: критиковать Штюрмера – хорошо, но надо же и «указать, что делать». А никакой общей деловой программы у блока не оказывалось, особенно в остро стоявшем продовольственном вопросе. Настроения страны также не вызывали особых надежд; члены блока вполне отдавали себе отчет, что страна устала от войны. «Не верю, что сепаратный мир вызовет революцию, – говорил А. И. Шингарев. – Масса усталых людей скажет: дайте выспаться, вымыться и поесть. Это говорят в деревне, и в армии, и при дворе (?)». «В деревне будут рады миру, не разбирая какой», – соглашался граф Капнист.
Но срок созыва Думы, назначенный на 1 ноября, приближался, и бюро начало вырабатывать свою декларацию; Милюков и Шульгин заготовили каждый по проекту. Текст Милюкова был составлен в резких тонах. Прямо говорилось, что подбор министров указывает на «направляющую руку», работа которой все более представляется «прямым продолжением работы наших врагов». «Уверенность в измене родине ее официальных вождей крепла и становилась всеобщей… С сокрушением сердца Государственная дума присутствовала при бесцельном расточении собранных по ее почину военных запасов и, что еще гораздо печальнее, при бесплодном пролитии народной крови»: такая оценка давалась кампании 1916 г., спасшей Италию, остановившей натиск на Верден, толкнувшей Румынию на выступление. Шульгинский проект был более сдержанным; слово «измена» в нем не встречалось.
Вопрос о том, можно ли обвинять правительство в измене, не имея против него никаких данных, кроме недовольства его политикой, вызвал большие разногласия даже в среде блока. Прогрессивные националисты и земцы-октябристы против этого возражали. «Бороться надо, правительство – дрянь, – говорил В. В. Шульгин. – Но так как мы не собираемся идти на баррикады, то не можем подзуживать и других». «Мы не желаем никого звать на баррикады, нельзя говорить теперь так, чтобы возбуждать еще более толпу», – говорил октябрист Стемпковский. (Он же замечал: «Вдруг за нашим актом ничего не последует бурного, а петроградская погода? Вдруг общественность перенесет издевательства, и война окончится благополучно?.. Скажут: мы победили без Думы».)
В конце концов слова об измене были из декларации исключены (это вызвало заявление о выходе из блока фракции прогрессистов), но решено было нападки сосредоточить на Штюрмере, во вторую очередь – на Протопопове и принять резкий, обличающий тон. Кажется, в этот момент только П. Н. Крупенский (представитель фракции центра) пытался затормозить начало открытой атаки против власти.
Деятели блока едва ли сознавали, какую ответственность они брали на себя. Нервы страны были напряжены до крайности. Невозможно было учесть, как отзовется неосторожное эффектное слово. Те, кто стремились довести войну до победного конца – и при этом знали, как много именно для войны было сделано, – тройной печатью должны были бы заградить уста для всякой публичной критики: а решено было как раз обратное…
В передовой статье «Нового времени» от 31 октября 1916 г. говорилось: «…Настроение страны так же трудно учесть, как разглядеть сквозь окно жизнь чужой неосвещенной квартиры… Характерным признаком момента является неясность общей цели и утрата сознательного отношения к переживаемому моменту».
«…Эта Дума будет скверная (rotten)», – писала 30 октября государыня государю.
Глава 8
Усталость от войны. – Два призрака: «министерство доверия» и «темные силы». – Роль сознательных врагов государя. – В. Маклаков о «шофере». Заседание Государственной думы 1 ноября; речь Милюкова. – Выступление военного и морского министров. – Отставка Штюрмера. – Попытка Трепова. – Усиление кампании против власти: резолюция Госдумы, Государственного совета и съезда объединенного дворянства. – Протест Маркова; речь Н. Маклакова (26.XI.1916). – Позиция государя перед лицом растущей смуты. – Германское предложение мира. – Приказ по армии 12 декабря 1916 г. – Убийство Распутина. – Создание однородного кабинета. – Меры против «шатания умов» на верхах. – План дворцового переворота; проект Гучкова. – Резолюция курского дворянства (19.I.1917). – Русская атака на рижском фронте. – Межсоюзная конференция в Петрограде: записка лорда Мильнера. – Февральская сессия Думы; речь Керенского (15 февраля).
Осенью 1916 г. в России царила смутная тревога. Главной, быть может, решающей чертой положения была усталость от войны, стихийно разлившаяся в широких массах. Страх перед голодом, скорбь об огромных потерях, безнадежное ощущение «войне не видно конца» – все это создавало у людей, далеких от всякой политики, растущее раздражение против власти, которая эту войну вела.
В рабочей среде, в кругах полуинтеллигенции, где социалистические течения были сильны еще до войны, их влияние чрезвычайно возросло; на столичных заводах получила преобладание партия социал-демократов – большевиков.
Армия, в которой уже почти не оставалось старых кадров, держалась даже не традицией, а тенью традиции. Подавляющее большинство низшего командного состава образовали офицеры военного времени – молодые люди из интеллигенции и полуинтеллигенции, наскоро окончившие военные училища.
Но дух воинского устава, дух старой царской армии был крепок, даже тень традиции оказывалась еще достаточной, чтобы поддерживать дисциплину в восьмимиллионной солдатской массе. Число дезертиров, вопреки тревожным слухам, оставалось ничтожным. Случаи неповиновения на фронте были редчайшим исключением. Престиж царской власти в народной массе и в армии еще противостоял явлениям распада. На третьем году мировой войны Россия держалась «на царском слове». Но в столичной рабочей среде этот престиж уже почти исчез; а общество, вплоть до высших слоев, с самоубийственным рвением работало над разрушением веры в царскую власть, раздувая недочеты, повторяя сплетни и наветы, подавая пример неуважения. Сказывалась горькая правда слов К. Леонтьева о русских высших слоях: «У нас дух охранения слаб. Наше общество вообще расположено идти по течению за другими…»
Та среда, которая была всегда наиболее политически активной, была охвачена страстным желанием добиться перемены строя. Общество соединило старые интеллигентские стремления с патриотическими настроениями первых дней войны при помощи формулы: «Это нужно для победы». Борьбу за власть вели под знаком патриотизма: поскольку это делалось искренне, участники этой борьбы были, конечно, благороднее пораженцев 1901–1905 гг.; фактически они были опасней. Грани между патриотами, «оборонцами» и «пораженцами» на практике стерлись зимой 1916/17 г. Общей очередной задачей была смена власти, война отошла куда-то на второй план, хотя ею и пользовались, чтобы обличить правительство: ведь и для пораженцев целью было не поражение как таковое, а свержение царской власти. Иные наивно воображали, что подобную перемену можно произвести, оставив старые декорации, что можно было вырвать власть из рук монарха под видом «единения царя с народом»…
Русское общество осенью 1916 г. жило верою в два призрака, одинаково нереальные: в «министерство доверия», которого не могло быть, и в «темные силы», которых на самом деле не существовало.
«Министерство доверия» каждому рисовалось по-своему: либеральным «бюрократам» – в виде кабинета с авторитетным и популярным сановником во главе; деятелям блока – в виде правительства, состоящего из членов его бюро; у более левых эта формула вообще вызывала только насмешки: авторитетное для одних было бессодержательным для других. В конце концов «министерство доверия», о котором толковали в обществе, означало бы правительство, не имеющее ни доверия царя, ни доверия народных масс.
«Темных сил» – не было. В эту тяжелую годину русской жизни Россией правил сам государь. Никто ему не «нашептывал»; никто на него не влиял; «темные силы» были плодом клеветы или больного воображения. О них твердили везде и всюду, но, когда нужно было указать, кто же именно эти «темные силы», – либо повторяли: «Распутин», либо произносили случайные имена людей, не имевших на самом деле никакого влияния. (Гучков впоследствии договорился до каких-то «темных биржевых акул»!)
Но эти два призрака возникли не случайно; это были орудия борьбы определенных кругов. В «революционной ситуации» 1916 г., кроме стихийных факторов, проявилась также борьба двух сознательных воль.
На одной стороне был государь император Николай Александрович. Он твердо верил, что России нужна сильная царская власть; он был убежден, что только такая власть может вывести Россию на путь победы. Он был почти одинок в этом убеждении; верной подругой и помощницей ему была государыня, как и он, проникнутая верой в историческую миссию царской власти, верой, которую он сумел в нее вселить. Государь не считал возможным идти в уступках дальше известного предела; он не считал себя вправе в военную бурю отдать государственный руль в другие руки; он не верил, что эти другие справятся.
На другой стороне была группа людей, знавших, что, пока у власти император Николай II, Россия останется в основе самодержавной монархией, хотя бы и с частичными ограничениями полномочий власти. И эти люди поставили себе задачей – сменить царя. Они использовали войну как удобную обстановку для борьбы, ведшейся уже ранее.
«К вопросу об отречении Государя я стал ближе не только в дни переворота, но задолго до этого, – свидетельствует А. И. Гучков. – Когда я и некоторые мои друзья в предшествовавшие перевороту месяцы искали выхода из положения, мы полагали, что в каких-нибудь нормальных условиях, в смене состава правительства, в обновлении его общественными деятелями, обладающими доверием страны, – в этих условиях выхода найти нельзя, что надо идти решительно и круто, идти в сторону смены носителя верховной власти. На государе и государыне и тех, кто неразрывно с ними был связан, на этих головах накопилось так много вины перед Россией, свойства их характеров не давали никакой надежды ввести их в здоровую политическую комбинацию: из всего этого для меня было ясно, что Государь должен покинуть престол».[248]
Распутинская легенда, кампания против «немки», ураганный огонь клеветы по отдельным министрам – все это были только маски, за которыми скрывалась истинная цель – свержение самого монарха. Конечно, лишь немногие поставили себе эту цель так открыто и так заранее, как А. И. Гучков и «некоторые его друзья». Даже партия кадетов с П. Н. Милюковым не преследовала эту цель столь определенно. (Однако, например, князь Львов, судя по некоторым его заявлениям, был близок к позиции Гучкова.)
В. А. Маклаков (еще в сентябре 1915 г.) поместил в «Русских ведомостях» символическую статью о «шофере»: «…Вы несетесь на автомобиле по крутой и узкой дороге; один неверный шаг – и вы безвозвратно погибли. В автомобиле близкие вам люди, родная ваша мать. И вдруг вы видите, что шофер править не может; потому ли, что он вообще не владеет машиной на спусках, или он устал и уже не понимает, что делает, но он ведет к гибели и вас, и себя…» Дальше В. А. Маклаков ставил вопросы, как удалить шофера от руля, если он сам уйти не хочет? «Можно ли сделать это на бешеном спуске по горной дороге?» Один неверный поворот – и машина погибла…
Этот образ часто повторяли в те дни. Но то же сравнение следует повернуть по-другому: «шофер» был убежден, что только он, искушенный в этом деле, мог спасти «автомобиль». Он яснее других видел путь, он знал о его трудностях много больше, чем пассажиры; он один мог провести автомобиль по «крутой и узкой дороге» между двумя пропастями. Ошалевшие пассажиры, согласные между собой только в одном: в желании забрать руль в свои руки, – требовали, чтобы «шофер» уступил им место; вправе ли он был на это согласиться, хотя и знал, что его могли столкнуть?
«Николай II, в глубокой скорби, оставался непоколебим. Он видел так же ясно, как и другие, возраставшую опасность. Он не знал способа ее избежать. По Его убеждению, только самодержавие, создание веков, дало России силу продержаться так долго наперекор всем бедствиям. Ни одно государство, ни одна нация не выдерживали доселе подобных испытаний в таком масштабе, сохраняя при этом свое строение. Гигантская машина скрипела и стонала. Но она продолжала работать. Еще одно усилие – и победа должна прийти. Изменить строй, отворить ворота нападающим, отказаться хотя бы от доли своей самодержавной власти – в глазах царя это значило вызвать немедленный развал. Досужим критикам, никогда не стоявшим перед такими вопросами, нетрудно пересчитывать упущенные возможности. Они говорят, как о чем-то легком и простом, о перемене основ русской государственности в разгаре войны, о переходе от самодержавной монархии к английскому или французскому парламентскому строю… Самая негибкость строя придавала ему мощь… Самодержавный царь, какие бы ни бывали прискорбные упущения, повелевал Россией. Никто не может доказать, что власть на три четверти или наполовину царская, а на остальную долю парламентская могла бы чем-либо вообще повелевать в подобные времена», – пишет английский парламентский деятель Черчилль в своей книге о войне на Восточном фронте.
Действовали в России, конечно, и другие силы: несомненно, что германские агенты в меру возможности работали против существующей власти и всячески стремились вызвать смуту. В правых кругах ходили слухи, что в пользу революции работают и английские агенты: говорили также об американских евреях («Яков Шифф»), о международном масонстве. Весьма вероятно, что еврейские круги, как и в 1905 г., насколько могли, содействовали революционному движению против царской власти. Известно также, что некоторые видные деятели блока были масонами.[249] С другой стороны, весьма малоправдоподобно, чтобы Англия, особенно в такой момент, когда исход войны еще не определился, отважилась бы пойти на страшный риск – крушение союзной великой державы.
Нет возможности точно учесть действительное значение всех этих закулисных факторов смуты. Надо также иметь в виду, что запрещение спиртных напитков, радикально уменьшившее их потребление, тоже в какой-то степени влияло на психику масс, нарушая стародавние навыки. Во всяком случае, и «явных» факторов, поддающихся учету, было достаточно для того, чтобы положение представлялось чрезвычайно грозным.
* * *
Заседание Государственной думы 1 ноября началось, по обычаю, с речи председателя, говорившего об армии, о союзниках и о войне до победного конца. Министры, во главе с Б. В. Штюрмером, знавшие, что предстоят резкие выпады, покинули зал тотчас после речи Родзянко; их примеру последовал дипломатический корпус. С речью, направленной главным образом против блока, выступил социал-демократ Чхеидзе; затем правый С. В. Левашов говорил о продовольственном вопросе и о борьбе с немецким засильем… Вслед за Керенским на трибуну вышел октябрист С. И. Шидловский; он огласил декларацию блока. Наиболее острые места были из нее исключены. Министрам ставились в укор «неосведомленность, некомпетентность в вверенной им области и враждебность к общественности». Упоминалось, что еще не состоялся суд над Сухомлиновым, что «печать зажата в тиски»; высказывался укор новому руководителю Министерства иностранных дел; правительству предлагалось «уступить место людям, готовым в своей деятельности опираться на большинство Государственной думы и провести в жизнь его программу». Заседание шло тускло; В. А. Маклаков, проходя мимо ложи журналистов, заметил: «А настоящего подъема нет».
Все переменилось с минуты, когда заговорил П. Н. Милюков. По общему отзыву, он в этот день «превзошел себя» в ораторском отношении. Лидер конституционных демократов не только выполнял задачу очередного выступления против власти. Ему нужно было уберечь от распада блок и укрепить свое положение лидера, поколебленное нападками слева. «Ничего серьезного не будет, – предупреждал он за два дня до заседания французского посла Палеолога, – но некоторые вещи придется сказать с трибуны. Иначе мы потеряем влияние у наших избирателей, и они перейдут к крайним левым».
П. Н. Милюков, согласно им же самим намеченной тактике, удары свои направил против Штюрмера. Он говорил о подозрительных личностях, окружающих премьера; обильно цитировал германские и австрийские газеты, иронически отзывавшиеся о том, что «панславистскую» политику призван проводить «немец» Штюрмер; упомянул по-немецки, что Neue Freie Presse еще в июле причисляла Штюрмера к партии мира, группирующейся вокруг молодой царицы.[250] Приводя свои разговоры с иностранными деятелями, бросая намеки на какие-то «германофильские салоны», которые «из Флоренции перекочевали в Монтрё», называя чиновников, приезжающих в Швейцарию, якобы от Штюрмера, П. Н. Милюков умело создавал впечатление, будто ему известно много больше того, что он говорит.
Только раз, когда он упомянул о записке правых в пользу сепаратного мира, которая будто бы сильно смутила союзников, – справа речь перебили возгласами: «Клеветник! Назовите имена!» П. Н. Милюков ответил, что в иностранной печати он прочел об этом с ссылкой на «московские газеты»…
Речь Милюкова слушали с огромным интересом и волнением; слушателям казалось, что перед ними приоткрывается завеса над тайнами закулисной правительственной политики.
«Мы будем бороться с вами, пока вы не уйдете, – говорил лидер конституционных демократов. – Говорят, один член Совета министров, услыхав, что на этот раз Государственная дума собирается говорить об измене, взволнованно воскликнул: «Я, может быть, дурак, но я не изменник».[251]
Да разве не все равно, господа, ради практического результата – имеем ли мы дело с глупостью или с изменой. Когда все с большей настойчивостью Дума напоминает, что надо организовать тыл для успешной борьбы, а власть продолжает твердить, что организовать страну значит организовать революцию, и сознательно предпочитает хаос и дезорганизацию,[252] что это, глупость или измена?»
Постоянно прерываемый бурными аплодисментами, Милюков закончил: «Именно во время войны и во имя войны, во имя того самого, что нас заставило соединиться, мы с ними теперь боремся. Мы имеем много, очень много отдельных причин быть недовольными правительством… Но все частные причины сводятся к этой одной общей: к неспособности данного состава правительства. (Аплодисменты.) Это наше главное зло, победа над которым будет равносильна выигрышу всей кампании…»
На овации, устроенной П. Н. Милюкову большинством депутатов, заседание закрылось. Своей речью П. Н. Милюков достиг поставленных целей: оживил блок, укрепил свое положение лидера, нанес тяжелый удар правительству Штюрмера. Можно, однако, думать, что действительный эффект этой речи далеко превзошел истинные намерения оратора.
Неопределенность обвинений при всей резкости тона была чрезвычайно характерна. В сущности, блок ни в чем серьезном не мог обвинить правительство, кроме нежелания уступить место его кандидатам. В области внешней политики всего громче раздавались обвинения в том, что русское правительство не опубликовало свой проект польской автономии раньше, чем Германия (в конце октября) опубликовала свой. Практического значения это не имело, так как поляки более, чем обещаниями, интересовались реальным соотношением сил на театре военных действий. Русскую дипломатию также обвиняли в том, что она поддерживает греческого короля Константина: государь действительно считал, что несправедливо и нецелесообразно принуждать Грецию к вмешательству в войну. Но русский посланник поддерживал в то же время все шаги союзников, направленные к обеспечению интересов салоникской армии.
Во внутренней политике протестовали против того, что больной старик Сухомлинов из крепости был переведен под домашний арест. Говорили о «продовольственной разрухе», но по существу большинство Госдумы (правая часть блока и правые) одобряло политику Министерства земледелия. Жаловались на цензуру, забывая, что в союзных странах, особенно во Франции, цензура была много строже.[253] Но дело было не в частностях. Никто о них не думал. В страну с думской трибуны было брошено по адресу власти слово «измена». Было дано подтверждение, по внешности веское, зловещим слухам, роившимся в народе. Этого слова как будто только и ждали. Правительство распорядилось задержать речи Милюкова, Чхеидзе, Керенского, и газеты вышли с пустыми местами на месте думского отчета; тотчас же заработали в «общественных организациях», в частных домах и даже в правительственных учреждениях тысячи пишущих машинок и ротаторов; запрещенные речи в огромном количестве экземпляров стали распространяться по стране. Порою эти речи даже «дополнялись» и «усиливались». Упрощавшая молва в народе и в армии гласила: член Думы Милюков доказал, что царица и Штюрмер предают Россию императору Вильгельму…
П. Н. Милюков этого отнюдь не утверждал. Его речь была построена искусно: он только спрашивал, намекал, недоумевал; это не было обвинение, это не была клевета; это был скорее всего ряд инсинуаций. «Историческая речь, но она вся построена на лжи», – отзывался о ней В. Л. Бурцев. Сам автор, давая впоследствии объяснения,[254] признал, что у него никаких реальных данных не было: он сказал не меньше, а много больше, чем знал на самом деле.
Правительство поспешило разослать союзным державам циркулярную телеграмму, опровергающую слухи о сепаратном мире. Оно продолжало запрещать в газетах помещение резких думских речей; но когда 3 ноября выступали В. В. Шульгин и В. А. Маклаков, их речи были распространены теми же кустарными способами. Листки «нелегальных» думских речей проникли широко и в армию через органы «Земгора».
В заседании 4 ноября военный министр Шуваев и морской министр Григорович (будто по совету министра народного просвещения графа Игнатьева) взяли слово для заявления о том, что война, согласно воле императора, будет доведена до победы. Генерал Шуваев привел цифры поразительного увеличения военного производства. «Если сравнить с январем 1915 г., – говорил он, – производство 3-дюймов. орудий возросло в 8 раз, гаубиц – в 4 раза, винтовок – в 4 раза, тяжелых снарядов – в 9 раз, 3-дюймов. – в 19,7 раза, взрывателей – в 19 раз, бомб – в 16 раз, взрывчатых веществ – в 40 раз, газов – в 69 раз… Низко кланяться надо нашим артиллеристам… Господа, враг сломлен и надломлен… Нет такой силы, которая могла бы одолеть русское царство».
Члены Госдумы горячо приветствовали обоих министров, но тотчас же придали их выступлению особый смысл. «Военный и морской министры, – сказал Милюков, – на стороне Госдумы и народа…». «Речь» писала, будто генерал Шуваев, подойдя к Милюкову, сказал ему: «Благодарю вас…» Вероятнее, что военный министр просто благодарил всех депутатов, окруживших его с приветствиями…
«Бедный старик, – писала о Штюрмере государыня, – как подло о нем и с ним говорят в Думе» (4.XI). «Но, – добавляла она (7.XI), – т. к. он играет роль красной тряпки в этом сумасшедшем доме, лучше ему на время исчезнуть».
Государь находился в Ставке. Думские события дошли до него не сразу. Военный и морской министры выступили без его полномочий; он их, однако, не осудил. Государь счел, что Штюрмер явно не в силах справиться с положением. «Я упрекаю его в излишней осторожности», – писал он государыне (8.XI). «Я боюсь, что с ним дела не пойдут гладко… Я не понимаю, в чем дело, но никто не имеет доверия к нему».
Обходительный, отнюдь не волевой человек, Б. В. Штюрмер, пришедший к власти под знаком благожелательности к Думе и к общественным организациям, не был способен дать надлежащий отпор натиску думского блока. Государь решил заменить его А. Ф. Треповым, человеком более твердым и энергичным.
Дума между тем прервала свои заседания, ожидая, что за выступлением военного и морского министра последуют дальнейшие шаги. Блок уже становился на точку зрения бойкота кабинета Штюрмера. А. Ф. Трепов пожелал сделать военно-морской комиссии сообщение о Мурманской железной дороге; А. И. Шингарев созвал комиссию, и она больше двух часов обсуждала, допустить ли министра в свое заседание; большинство наконец на это согласилось, но около половины членов комиссии ушло.
Когда 11 ноября в газетах появился указ об увольнении Штюрмера, в думских кругах стали говорить, что первый успех достигнут, но что нельзя почить на лаврах. «Случившееся грозит затемнить смысл совершающегося», – писала «Речь» и ставила дальнейшие условия: увольнение Протопопова, возвращение к власти Сазонова; Трепову конституционно-демократический орган давал понять, что думская комиссия достаточно ясно показала свое отношение к нему… «Московские ведомости» Л. Тихомирова (11.XI) предсказывали: «Уходом неугодных думской оппозиции министров дело не ограничится: пойдет еще более яростная агитация за то, чтобы портфели были отданы не кому иному, как генералам от революции. На меньшем не примирятся ни в коем случае».
В бюро блока, однако, возникли споры. Прогрессивные националисты готовы были удовлетвориться достигнутым. Но делегаты общественных организаций настаивали на продолжении борьбы. «Самый факт победы Думы вызвал большое удовлетворение», – говорил Львов (16.XI), но – «удовлетворение не полное, – говорил А. И. Коновалов (Военно-промышленный комитет). – Власть должна опираться на общественные круги, а Трепов – сподвижник Штюрмера». «Нас ни в чем не удовлетворили; тот же Штюрмер, только более ласковый» (И. В. Годнев). П. Н. Милюков стоял за выжидательную тактику. Он был доволен. «1 ноября – эра, – говорил он. – Теперь и у рабочих впечатление – руководящая роль Думы».
Эти настроения и толки были известны и государю. В Ставку, куда 13 ноября прибыла государыня, были вызваны Трепов и Протопопов. Туда же прибыл и председатель Государственной думы Родзянко. Государь сначала предполагал заменить управляющего Министерством внутренних дел; но при создавшейся обстановке он счел, что это было бы всеми воспринято как полная капитуляция перед требованиями блока и только вызвало бы ускоренный штурм власти. А. Ф. Трепову, который высказывался за отставку Протопопова, государь повелел работать с теми коллегами, которых он выбрал.
19 ноября А. Ф. Трепов прочел свою декларацию в Госдуме. Как и Штюрмер при своем первом выступлении, новый министр говорил о желании сотрудничать с Думой и общественными организациями. Он также впервые сообщил, что союзники согласились предоставить России Константинополь и проливы. Но исторические заветы и национальные интересы России в тот момент оставляли почти всех совершенно равнодушными.
В начале заседания крайние левые пытались устроить Трепову обструкцию, и восемь депутатов было исключено. Левые резко протестовали. «Мы остаемся на посту верными служителями народа, – воскликнул Керенский, – и говорим: страна гибнет, и в Думе больше нет спасения!» «Народ, которого здесь не видно, – заявил социал-демократ Чхеидзе, – имеет свое мнение о происходящих событиях, и я предостерегаю вас, что это мнение не только против власти, но и против вас!»
Националист граф В. А. Бобринский всю свою речь посвятил нападкам на Протопопова, который после отставки Штюрмера сделался очередной мишенью блока. Сенсацией дня была речь Пуришкевича. Этот известный правый депутат, издавна известный своей неуравновешенностью, набрался на фронте и в столице всевозможных слухов и сплетен и предполагал выступить против власти от имени правых. Фракция, ознакомившись заранее с его речью, единогласно, закрытой баллотировкой, отказалась признать Пуришкевича выразителем ее мнений; тогда он вышел из фракции, и одна из групп блока предоставила ему свое место в списке ораторов, но для широкой публики Пуришкевич все равно остался «представителем крайней правой».
В горячей и сумбурной речи, обвиняя самых разнообразных лиц – кого в корысти, кого в интригах, кого в потворстве немцам, – Пуришкевич в заключение призывал министров отправиться в Ставку, пасть к ногам царя и умолять его избавить Россию от Распутина. «Ночи последние спать не могу, даю вам честное слово, лежу с открытыми глазами, и мне представляется целый ряд телеграмм, сведений, записок, то одному, то другому министру…»
И Меньшиков, вообще поддерживавший кампанию блока, отозвался иронически о речи Пуришкевича, указав, что ему не хватает «политической грамотности», что он совершает «явно школьные ошибки». На его обвинения последовал целый ряд фактических опровержений. Но сторонники блока, разумеется, широко использовали это выступление депутата, которого все знали как крайнего правого. Левые относились с иронией к этой демагогии, А. Ф. Керенский писал: «Притупилось чувство меры, стерлись грани между дозволенным и недозволенным, стали путать Родичева и Пуришкевича, лишь бы, на страх врагам, «здорово вышло»…»[255]
Когда через три дня представитель правых Н. Е. Марков стал едко возражать на речи ораторов блока, его все время перебивали возгласами с мест, а Родзянко стал делать ему замечания и в конце концов лишил его слова. Марков, возмущенный, бросил в лицо председателю несколько крепких слов.[256] Думское большинство исключило его на 15 заседаний; депутаты даже выражали сожаление о том, что наказ не допускает более долгого срока исключения.
Попытка Трепова была отвергнута думским блоком; кампания против власти достигла высшего напряжения. 22 ноября Госдума приняла резолюцию о том, что «влияние темных безответственных сил должно быть устранено» и что «всеми средствами надо добиваться, чтобы был образован кабинет, готовый опереться на Госдуму и провести в жизнь программу ее большинства». После отставки Штюрмера многим казалось, что власть уже переходит в другие руки.
Государственный совет, в свою очередь, последовал за Госдумой. Е. Н. Трубецкой вспоминал 1812 г., указывая, что Александр I внял народному голосу и назначил Кутузова, хотя сам больше сочувствовал Барклаю. «Вы скажете: таких героев нет. Нет, господа… Они существуют. Мы знаем их имена. Государь император найдет возможным назначить их, и эти люди приведут нас к победе». В. С. Карпов резко критиковал Протопопова. Известный юрист Н. С. Таганцев воскликнул: «Отечество в опасности!»
Лишь граф А. А. Бобринский – только что покинувший пост министра земледелия – нашел решимость выступить против легенды «о темных силах». «Свобода слова – великое дело, – говорил он, – но когда кафедра служит бронированной площадкой для ложных и бездоказательных обвинений и нападок в расчете на безнаказанность, тогда на обязанности разумных элементов государства громко высказать: довольно, знайте меру, игра эта опасна, вы доиграетесь, и вы, и Россия, до несчастья».
Государственный совет большинством 94 против 34 принял резолюцию, в основном повторявшую формулу блока о «безответственных силах» и о «правительстве, опирающемся на доверие страны».
В этих прениях 26 ноября выступил Н. А. Маклаков, мнение которого представляет особый интерес, так как по своему мировоззрению он был близок к государю. «С самого начала войны, – сказал Н. А. Маклаков, – началась хорошо замаскированная святыми словами, тонкая, искусная работа… русскому народу стали прививать и внушать, что для войны и победы нужно то, что в действительности должно было вести нас к разложению и распаду… Это была ложь, господа, для большинства бессознательная, а для меньшинства, стремившегося захватить руководство политической жизнью страны, ложь сознательная и едва ли не преступная… Все это делалось для войны, для победы, и правительство скромно опускало глаза…» По мере того как организовывалась общественность, росла разруха русской жизни. На московских съездах «выковывались очертания главного штаба русской воинствующей общественности…». Из центра рассылались приказы, с мест получались ответы, и создавалось впечатление единодушия. Идет борьба за власть, за народоправство. Общество, «не переставая говорить о войне, о значении ее постоянно забывает; оно делает все для войны, но для войны с порядком; оно делает все для победы – но для победы над властью».
Н. А. Маклаков критиковал политику уступок: «Власть изо дня в день принижалась, поносилась, развенчивалась, срамилась, и она ушла… Мы погасили свет и жалуемся, что стало темно… Мы почитаем, что уступка отдельных фортов – очень плохое средство для спасения самой крепости». Н. А. Маклаков решительно опроверг слухи о том, будто правые желают мира:
«Это ложь. Мировое положение великой России для нас, правых, превыше всего… Оно дает ей право жить своей собственной, самобытной русской жизнью.
Отечество в опасности. Это правда, но опасность испарится как дым, исчезнет, как наваждение, если власть, законная власть, будет пользоваться своими правами убежденно и последовательно, и если мы все, каждый на своем месте, вспомним наш долг перед Царем и Родиной… С этой верой мы будем бороться, и с этой верой мы умрем».[257]
Государь прибыл 25 ноября в столицу и вместе с государыней присутствовал на Георгиевском празднике. Он оставался в Царском Селе дней десять. За это время к кампании блока присоединился и дворянский съезд. Уже за год перед тем выборы в Государственный совет показали, что дворянство отходит от настроений, воспреобладавших под впечатлением революции 1905 г., и возвращается к более давним умеренно либеральным традициям. На съезде, собравшемся в конце ноября 1916 г., было выражено неодобрение председателю Совета А. П. Струкову, который в августе 1915 г. высказался против «ответственного министерства». Была принята – 30 ноября – резолюция, повторяющая думскую формулу о «темных силах» и «министерстве, пользующемся доверием страны» (с оговоркой «ответственное только перед Государем»). 25 делегатов (около пятой части съезда) отказались присоединиться к резолюции и послали государю отдельную верноподданническую телеграмму.
Из Государственной думы, из Государственного совета, с дворянского съезда то же настроение распространялось на светские и придворные круги, вплоть до членов императорской фамилии. Всюду говорили «о темных силах» и о «министерстве доверия».
Государь, «полный скорби, оставался непоколебим». Он убедился за полтора года, что уступки только порождают новые требования, и отдавал теперь себе ясный отчет в истинных целях сознательных вдохновителей этой кампании. Он мог увольнять министров, вызывавших резкие нападки (Маклаков, Сухомлинов, Саблер, Щегловитов летом 1915 г.; Горемыкин в январе 1916 г.; Штюрмер и граф А. А. Бобринский – в ноябре 1916 г.); он мог созывать Государственную думу (как в первой половине 1916 г.) на продолжительные сессии, хотя бы она только сохраняла «видимость работы ради свободной трибуны»; он согласился, вопреки внутреннему убеждению, на предание суду Сухомлинова; он не раз назначал министров, «приемлемых» для блока: либо они становились орудием дальнейших требований, либо их «предавали анафеме», как Протопопова. При назначении министров государь вообще стремился по мере возможности избегать нареканий и охотно выбирал «нейтральные» имена: так, в начале декабря были назначены: на место графа Бобринского – А. А. Риттих; министром иностранных дел – Н. Н. Покровский, государственный контролер, которого на этом посту заменил С. Г. Феодосьев; все эти три имени ни у кого не вызывали протеста. Но государь в то же время считал, что предел уступок достигнут.
А. Ф. Трепов настаивал на увольнении Протопопова, но государь не желал идти на это, во всяком случае до перерыва думской сессии, чтобы блок не принял уход Протопопова за новую свою победу и тотчас же не направил свои удары против следующей «жертвы». Таковой явно уже намечался сам Трепов.[258]
Военные действия замирали и на Западном, и на Восточном фронте. Только в Румынии шли большие бои. Под ударами с трех сторон рушился румынский фронт. 22 ноября был взят Бухарест, и к концу месяца более половины Румынии уже находилось в руках противника.
Для русской армии создался новый румынский фронт (его командующим был назначен генерал В. В. Сахаров). Переброска войск в Румынию сильно задерживалась недостатком путей сообщения: сказывалось, что до 1914 г. Румынию причисляли к вражеской коалиции, а также ее долгие колебания, не позволявшие раньше наладить сотрудничество.
Но отдельные военные эпизоды уже мало волновали русские массы. Война ощущалась как гнетущая, тупая боль. «Былые мечты поблекли, былые страхи рассеялись. В Константинополь или Берлин никто в ближайшее время не собирается, и в Петроград или в Москву никто врага не ждет», – писали (в конце ноября 1916 г.) народнические «Русские записки».
О войне вдруг вспомнили, когда получено было известие, что германский канцлер в заседании рейхстага 24 ноября заявил о готовности Германии начать мирные переговоры. В России это известие было опубликовано на сутки позже, чем в других странах, – одновременно с решительным заявлением о том, что мир после германского успеха (взятие Бухареста) совершенно неприемлем. Н. Н. Покровский, только что назначенный министром иностранных дел, 2 декабря выступил в Государственной думе с твердой речью о недопустимости мира без победы, а Государственная дума «единодушно присоединилась к решительному отказу союзных правительств вести какие бы то ни было переговоры о мире при настоящих условиях».
Думское большинство, открывшее сессию нападками на власть, якобы склонную к сепаратному миру, не могло, конечно, отозваться иначе. В населении эти толки о мире вызвали все же смутные надежды; газеты на улицах раскупались нарасхват в те дни, когда появилось сообщение о германском предложении и – через десять дней – об американском посредничестве. Но и власть, и ее враги одинаково резко отвергали мир: создавалось впечатление единодушия. В этот момент действительно никакие сознательные политические силы в России не желали мира. Даже циммервальдисты, даже «пораженцы» и те не хотели упустить случай добиться крушения власти: они были в принципе за прекращение войны – но только на следующий день после крушения монархии. В правых кругах было хорошо известно, что государь стоит за доведение войны до полной победы; возможно, что были люди, считавшие, наоборот, что только мир может спасти Россию от революции и развала; однако, вопреки упорным слухам, никаких «записок правых» в пользу мира, насколько можно установить, государю вообще не подавалось. Государь знал больше, чем политические деятели, и видел общее положение гораздо яснее, чем они; он знал, что материальное соотношение сил становится все благоприятнее для держав согласия, и считал, что Германия едва ли выдержит кампанию 1917 г. При таких условиях союзная держава, которая в подобный момент проявила бы слабость и этим сорвала общую победу, оказалась бы не выдержавшей экзамена истории.
Государь с начала войны неизменно говорил, что не положит оружия, пока хоть один неприятельский воин находится на русской земле. Если можно себе представить, что Германия предложила бы России очистить всю ее территорию и обещала бы ей Константинополь за счет своей союзницы Турции (такие слухи распускались германскими агентами и охотно повторялись врагами власти), – государь был до щепетильности лояльным в отношении данного слова и не допускал и мысли о сепаратном мире, о нарушении франко-русского договора и пакта 23 августа 1914 г.
Обращение к союзникам с указанием на желательность мира ввиду внутреннего положения России не только было бы унизительным, не только лишило бы Россию ее доли в ожидавшихся плодах победы: оно было бы, вероятно, и бесполезным, так как ни английское, ни французское правительство в то время не были склонны идти на мир. В Англии как раз в эти дни (27.XI) к власти пришел Ллойд Джордж, сменивший Асквита под лозунгом более энергичного ведения войны. Можно было ожидать, что на какие-либо указания о желательности мира со стороны России союзники только бы ответили ссылками на думские речи о войне до конца и советами насчет внутренних реформ.
Противники царской власти в свое время, еще до 1905 г., опасались, что государь объявит о разделе помещичьих земель крестьянам и этим надолго задавит конституционные течения. Но государь не пошел на такую меру, которую считал и несправедливой, и экономически вредной. Так теперь враги монархии трепетали при мысли о том, что государь, заключив сепаратный мир, мог бы сохранить власть в руках, опираясь на уставшие от войны широкие массы. Но государю и в голову не приходила мысль ради сохранения своей власти пойти на действия, которые он считал бесчестными и не соответствующими достоинству России как великой державы.
При создавшейся обстановке государь считал, что нет иного пути, кроме войны до победы. Он знал, что эта победа вероятна и, быть может, уже близка. Он видел, что главная опасность грозила изнутри самой России, но отвергал мысль о мире из страха перед революцией. Он считал, что на этот риск приходится идти. В 1917 г. русская военная мощь должна была достигнуть высшей точки. Долго выдерживать такое напряжение Россия не могла; быть может, четвертая зима войны уже была бы ей не под силу. Но государь считал, что протянуть третью зиму и выдержать летнюю кампанию 1917 г. Россия в состоянии.[259] Оставалось додержаться несколько месяцев.
В приказе по армии 12 декабря 1916 г. говорилось, что время для мира еще не наступило, «враг еще не изгнан из захваченных им областей, достижение Россией созданных войною задач, обладание Царьградом и проливами, равно как и создание свободной Польши из всех трех ныне разрозненных ее областей, еще не обеспечено». Заключить теперь мир значило бы не использовать труды русских воинов: «Труды эти, и тем более священная память погибших на полях доблестных сынов России, не допускают и мысли о мире до окончательной победы над врагом, дерзнувшим мыслить, что если от него зависело начать войну, то от него же зависит в любое время ее кончить… Будем же непоколебимы в уверенности в нашей победе, и Всевышний благословит наши знамена, покроет их вновь неувядаемой славой и дарует нам мир, достойный наших геройских подвигов, славные войска Мои, мир, за который грядущие поколения будут благословлять вашу священную для них память».
По инициативе великого князя Николая Михайловича еще летом 1916 г. была учреждена комиссия по подготовке будущей мирной конференции, дабы заранее определить, каковы будут пожелания России. Насколько известно, Россия должна была получить Константинополь и проливы, а также Турецкую Армению. Польша должна была воссоединиться в виде королевства, состоящего в личной унии с Россией. Государь заявил (в конце декабря) графу Велепольскому, что свободную Польшу он мыслит как государство с отдельной конституцией, отдельными палатами и собственной армией (по-видимому, имелось в виду нечто вроде положения царства Польского при Александре I). Восточная Галиция, Северная Буковина и Карпатская Русь подлежали включению в состав России. Намечалось создание Чехословацкого королевства; на русской территории уже формировались полки из пленных чехов и словаков. Государь, видимо, сочувствовал мысли об ослаблении Пруссии и об усилении за ее счет других германских государств. Наконец, Россия обещала поддерживать требования Франции относительно Рейнской области.
9 (22) ноября скончался престарелый император Франц-Иосиф; его преемник, император Карл II, был женат на принцессе французской крови, братья которой сражались в рядах бельгийской армии. Можно было ожидать перемен в политике Австро-Венгрии, и приходилось учитывать тот факт, что Англия и Франция более склонны пойти навстречу Австрии, нежели России, Италии и Сербии.
4 декабря государь уехал обратно в Ставку. «Эти дни, проведенные вместе, были тяжелыми, – писал он государыне, – но только благодаря тебе я их перенес более или менее спокойно. Ты такая сильная и выносливая – восхищаюсь тобой больше, чем могу выразить».
Государь отверг домогательства блока и его сторонников. Он условился с Треповым, что думская сессия вскоре будет прервана; если же по ее возобновлении кампания против власти не прекратится, Четвертая дума будет распущена (в начале 1917 г. до истечения срока ее полномочий оставалось всего полгода). Эта «черная работа», как выразился государь, возлагалась на А. Ф. Трепова, хотя государыня и писала, что не доверяет ему. «Трепов был смирен и не затрагивал имени Протопопова», – писал государь (13 декабря).
«Общественные организации» опять созвали в Москве свои съезды, но власти приняли меры. Попытки устроить 9 и 11 декабря, несмотря на запрет, самочинные заседания съездов были быстро прекращены полицией. В резолюции, распространенной от имени Союза городов, говорилось об «ответственном министерстве»; в ней также стояло: «Государственная дума должна с неослабевающей энергией и силой довести до конца свою борьбу с постыдным режимом. В этой борьбе вся Россия с ней».
Госдума откликнулась на этот призыв и назначила заседание по вопросу о запрещении московских съездов. Министерство внутренних дел, пользуясь ст. 44-й положения о Госдуме, потребовало закрытия дверей при обсуждении этого вопроса; депутаты предпочли отложить обсуждение. Но 16 декабря, в день закрытия сессии, Дума неожиданно перешла к вопросу о съездах. П. Н. Милюков отмечал, что после 1 ноября «данный отсюда толчок разошелся по стране широкой волной», что «самые резкие предложения на общественных съездах делаются самыми правыми элементами». «Русское политическое движение приобретало снова то единство фронта, которое оно имело до 17 октября… Атмосфера насыщена электричеством, в воздухе чувствуется приближение грозы. Никто не знает, господа, где и когда грянет удар».
Правые на этот раз давали отпор. «Если в 1905 г. беспокойный тыл дал нам бесславный мир, то теперь этот беспокойный тыл создает крушение государства!» – воскликнул П. А. Сафонов, и Г. Г. Замысловский добавил: «Когда во время войны вы занимаетесь революционными митингами, правительство должно бы вас спросить: глупость это или измена?» Вопрос о съездах был принят 123 голосами против 47, при 6 воздержавшихся: если бы правые покинули зал, вместо того чтобы голосовать против, – в Думе не оказалось бы кворума…
* * *
В ночь после закрытия думской сессии – с 16 на 17 декабря – произошло событие, которое по своим последствиям может быть поставлено наравне с думскими речами 1 ноября. В особняке Ф. Ф. Юсупова был убит Распутин; его заманили туда в гости и после неудачной попытки отравления застрелили; тело было увезено на острова и сброшено с моста в полынью. В убийстве принимал участие В. М. Пуришкевич, речь которого толкнула на это дело нескольких молодых людей из высшего общества.
Уверовав в распутинскую легенду, участники убийства полагали, что они устраняют источник зла и спасают Россию и династию. На самом деле они только припечатали распутинскую легенду кровавым клеймом, укрепили и увеличили ее значение в глазах широких масс. Реакция в народе, впрочем, не всегда была тою же, что на верхах общества. Сторонний свидетель, французский посол Палеолог, со слов костромского помещика князя О. пишет, что среди крестьян стали говорить: вот был при царе человек из народа, он защищал народ против придворных, они его и убили. Это подтверждал редактор «Колокола» Скворцов, говоривший, что в народе убийство Распутина считают «дурным предзнаменованием».
Далее, убийство Распутина сразу показало, что его «влияние» было чистейшим мифом; ничего не переменилось в политике власти; не прекратились и разговоры о «темных силах», только эти силы стали искать уже выше. «День» (20.xii) писал: «Темные силы – это стало псевдонимом Распутина. В действительности среди темных сил Распутин был величиной ничтожной, и темные силы как были, так и остались. Распутин давал возможность не замечать их». Для врагов императорской власти главной «темной силой» был сам государь, в котором эта власть воплощалась и которым она держалась.
Если бы Распутин имел то значение, которое ему приписывалось, его убийство должно было успокоить страсти; произошло обратное: всем вдруг стало ясно, что дело вовсе не в «старце», и борьба разгорелась с новой силой. Именно с этого дня начали множиться слухи о заговорах среди высших представителей общества, среди офицеров гвардии. Движение теперь направлялось прямо против императорской четы: маска была сброшена. Тут еще в большей мере, чем про речь Милюкова, можно сказать: участники убийства не этого хотели…
Государь получил телеграмму государыни об исчезновении Распутина в Ставке 18 декабря, во время совещания командующих всеми фронтами. Он немедленно выехал в Царское Село. Он понимал, что дело отнюдь не в Распутине: если вблизи престола начались убийства с «патриотическими целями», нельзя учесть, докуда дело может дойти. Опасность могла грозить и царской семье.
Прибыв в Петроград 19 декабря (утром в этот день было найдено в реке тело Распутина), государь взял на себя руководство общим положением. Прежде всего необходимо было составить правительство из людей, которым государь считал возможным лично доверять. Опасность была реальной; убийство Распутина показало, что от мятежных толков начинают переходить к действиям. Оценка людей поневоле становилась иной. Люди энергичные и талантливые могли оказаться не на месте, могли принести вред, если бы они оказались ненадежными. Нужно было обставить все так, чтобы сделать невозможным дворцовый переворот или террористический акт на верхах. В этих условиях Протопопов, хотя и технически слабый, становился необходимым, так как его личная преданность была вне сомнений: из управляющего министерством он был назначен министром внутренних дел. Протопопов имел также одно бесспорное преимущество перед своими коллегами: он один хорошо знал противника, с которым приходилось иметь дело. Его было трудно обмануть. «Он явный и открытый наш противник», – сказал о нем Гучков, бывший в ту пору явным и открытым врагом государя.
Министром юстиции вместо А. А. Макарова стал правый сенатор Н. А. Добровольский, сотрудник Щегловитова. А. Ф. Трепов в новых условиях возобновил свою просьбу об отставке: на этот раз она была принята. Премьером был назначен Н. Д. Голицын, пожилой сановник, ранее не занимавший высоких постов, но имевший одно неоценимое достоинство: и государь, и государыня знали его лично и были абсолютно уверены в его лояльности к ним.
Генерал Шуваев был заменен бывшим товарищем военного министра М. А. Беляевым, человеком европейски образованным (это было существенно, ввиду предстоявшей международной конференции) и лично преданным императорской чете.
Либеральный министр народного просвещения граф П. Н. Игнатьев, два года сохранявший свой пост, несмотря на резкие нападки правых, подал прошение, в котором умолял снять с него «непосильное бремя служения против велений совести». Государь, который незадолго перед тем сам убеждал графа Игнатьева остаться на посту по соображениям патриотизма, внял его просьбе.[260] В эту грозную минуту он не хотел никого принуждать ему служить.
Остальные министры (среди них находилось к этому времени немало выдающихся специалистов своего дела) пребыли верными до конца.[261]
Учитывая колебания, обнаружившиеся в среде Государственного совета, государь при опубликовании списка присутствующих по 1917 г. назначил 8 новых членов Совета, переведя в разряд неприсутствующих 16 старых членов. Все назначенные были правые – они заменили 8 членов центра, 4 беспартийных и 4 правых (в том числе Штюрмера). Председателем Государственного совета был назначен И. Г. Щегловитов. Правые и правый центр вновь получили преобладание в верхней палате. Два сановника, исключенные из списка присутствующих, в виде протеста сложили с себя звание членов Государственного совета. Государь с горечью видел, как смута в умах распространяется на самую близкую ему среду. Верхи русского общества, державшиеся обычно далеко от политики, почувствовали тревогу за будущее, но не находили других путей, как послушное повторение требований блока. Отдельные великие князья обращались к государю с советами – назначить «более популярных» министров сотрудничать с Думой. По поводу мер, связанных с убийством Распутина (лица, заподозренные в соучастии, были сначала подвергнуты домашнему аресту, а затем высланы в свои имения, великий князь Дмитрий Павлович был отправлен на персидский фронт), члены императорской фамилии составили на имя государя коллективное обращение с просьбой «переменить свое решение и положить гнев на милость».
Негодование и скорбь в ответе государя: «Никому не дано право заниматься убийствами. Знаю, что совесть многим не дает покоя. Удивляюсь вашему обращению ко мне».
Великому князю Николаю Михайловичу было предписано выехать в его имение Грушевку (Херсонской губ.); великий князь Кирилл Владимирович был командирован на Мурман, великий князь Борис Владимирович – на Кавказ. Меры эти были приняты потому, что политическое головокружение на верхах общества достигло высшей точки в период Нового года. Дошло до того, что представитель Союза городов, тифлисский городской голова Хатисов, ездил на Кавказ предлагать великому князю Николаю Николаевичу произвести переворот и провозгласить себя царем (бывший Верховный главнокомандующий отверг это предложение, ссылаясь на монархические чувства армии). Другие члены императорской фамилии открыто говорили с французским послом о желательности дворцового переворота.
Настроение общества, не говоря уже о широких массах, не благоприятствовало перевороту. Председатель Центрального комитета Конституционно-демократической партии П. Д. Долгоруков писал (в январе 1917 г.): «Дворцовый переворот не только нежелателен, а скорее гибелен для России, так как среди дома Романовых нет ни одного, кто бы мог заменить нашего Государя. Дворцовый переворот не может дать никого, кто явился бы общепризнанным преемником монархической власти на русском престоле». Долгоруков заключал, что переворот только превратил бы монархистов в республиканцев.
Измена бродила вокруг престола – измена, оправдывавшая себя патриотическими соображениями. Но к чести высшего общества, к чести гвардейского офицерства, можно сказать: эта измена так и не воплотилась в жизнь: очевидно, какой-то остаток монархической лояльности удерживал одурманенные умы на пороге преступления.
В конце концов только та группа, которая заранее поставила себе целью свержение императора Николая II, продолжала разрабатывать планы дворцового или военного переворота. Об этих планах рассказывал тот же А. И. Гучков: «…Я ведь не только платонически сочувствовал этим действиям, я принимал активные меры… Провести это было трудно технически… план заключался в том (я только имен называть не буду),[262] чтобы захватить по дороге между Царским Селом и Ставкой императорский поезд, вынудить отречение, затем одновременно, при посредстве воинских частей, на которые в Петрограде можно было рассчитывать, арестовать существующее правительство и затем объявить как о перевороте, так и о лицах, которые возглавят собой правительство… Надо было найти часть, которая была бы расположена для целей охраны ж. д. пути, а это было трудно». Трудности, по словам Гучкова, были не только технические: «У многих были известные принципы, верования и симпатии, для многих это представляло трагедию… требовалась с нашей стороны известная осторожность».[263]
Мягкий и приветливый по природе, государь мог быть резким и язвительным, когда это требовалось. М. В. Родзянко при одном из последних докладов стал повторять ему сплетни об «окружении государыни», о «темных силах» – государь прямо спросил его: «Что же, по-вашему, Я – первый изменник?» – и председатель Государственной думы должен был смущенно пролепетать в ответ: «Ваше величество – помазанник Божий…»
Послы союзных держав пытались на него влиять в сторону уступок блоку. М. Палеолог (25 декабря 1916 г.) несколько раз пробовал навести разговор на внутренние условия России, говорил о сомнениях «в лучших умах»… Государь ответил: «Я знаю, что в салонах Петрограда царит большое возбуждение, – и, не давая послу возразить, небрежно спросил: – А что делается с нашим приятелем, Фердинандом Болгарским?» – давая понять, что о русских делах говорить больше не намерен.
Английский посол, сэр Дж. Бьюкенен, в особой аудиенции (30 декабря) просил государя его выслушать. Государь сухо ответил: «Я слушаю». Английский посол стал говорить о «германских интригах», о «вредном влиянии Протопопова», о необходимости «заслужить доверие народа»… Государь ответил – это было в разгар кампании заговоров: «А не так ли обстоит дело, что моему народу следовало бы заслужить мое доверие?» О «влияниях» он сказал: «Вы, очевидно, думаете, что я следую чьим-то советам, выбирая своих министров; вы совершенно не правы; я их выбираю сам, без посторонней помощи… До свидания, господин посол».
* * *
Сессия Государственной думы была прервана до 12 января; но указом 5 января ее открытие было отложено до 14 февраля. Одновременно государь обратился с рескриптом к князю Н. Д. Голицыну, указывая, что первые задачи правительства – упорядочение продовольственных дел и транспорта. «Хочу верить, что деятельность Совета министров встретит помощь в среде Государственного совета и Госдумы, объединенных единодушным и горячим желанием довести войну до победы. Благожелательное, прямое и достойное отношение к законодательным установлениям Я ставлю в прямую обязанность призванных Мною к государственному служению лиц».
В январе состоялся ряд дворянских собраний. Большинство присоединилось к резолюции Дворянского съезда от 30 ноября. Исключение составило Курское дворянское собрание, которое 18 января (большинством 119 против 6 голосов) приняло адрес государю, в котором говорилось: «Смущены слабые сердца, мятутся страсти, и легковерные умы пытаются искать виновных в неудачах среди поставленного Вами правительства, в его переменах видят залог грядущего успеха… В эти черные дни присоединим ли мы наш голос» (к этим требованиям)… «Забудем ли мы заветы истории, примеры недавнего прошлого? Нет, Государь… Твоим доверием, а ничьим иным, неведомым и непостоянным, должны быть облечены призванные к верховному управлению люди…»[264] Государь ответил, что это обращение «глубоко Его тронуло».
Монархические организации многих городов присылали государю свои записки и челобитные, высказываясь за роспуск Госдумы и за строгий контроль над общественными организациями. Русское собрание исключило из своей среды В. Пуришкевича, который оказался отвергнутым всеми своими прежними единомышленниками; «Земщина» назвала его «выжатым лимоном».
Правые круги не имели большого влияния в стране; но, в сущности, не имел его и блок. В стране действовали стихийные силы: «расходились широкие круги» после думских речей об «измене» и убийства Распутина – событий, глубоко поразивших народную психологию.
К этому времени – концу 1916 г. – относится высочайшее повеление о назначении сенаторской ревизии учреждений, ведающих предоставлением отсрочек лицам, призывавшимся на военную службу. Дело в том, что временные отсрочки давались не только должностным лицам, работа которых была необходима для правильного функционирования правительственных учреждений, но и многим лицам, работавшим в ряде общественных организаций.
Последние, получившие вскоре в военной среде название «земгусаров», часто развивали на фронте противоправительственную деятельность и являлись разносителями вредных слухов. Государь решил положить всему этому конец, пожелав прежде всего проверить основательность льгот, даваемых этим лицам, освобождавшимся от несения прямых обязанностей воинов на фронте. Во главе ревизии им был поставлен известный член Государственного совета, сенатор князь А. А. Ширинский-Шихматов, помощниками же его были назначены сенаторы А. В. Степанов и В. Брюн-де-Сент-Ипполит.
Война шла своим ходом. В конце декабря русские предприняли наступление на рижском фронте («единственное наступление, бывшее для нас неожиданным», – отмечает германский генерал Гофман). При сильном морозе, через замерзшие болота русские продвинулись в сторону Митавы. Но после недели боев наступление прекратилось. По слухам, в некоторых войсковых частях опять проявилось нежелание идти в атаку. Военные обозреватели объяснили, что этот «удар накоротке» должен был отвлечь германские силы от румынского фронта, и эта задача действительно была отчасти достигнута. Это было последнее наступление императорской армии.
* * *
19 января в Петрограде открылась междусоюзная конференция. Англию представляли лорд Мильнер и лорд Ревельсток, Францию – Думер и генерал Кастельно, Италию – сенатор Шалойя; в конференции также участвовали послы соответственных стран. В русскую делегацию входили Н. Н. Покровский, генерал М. А. Беляев, генерал В. И. Гурко (заменявший М. В. Алексеева на посту начальника штаба во время его болезни), П. Л. Барк, Э. Б. Войновский-Кригер. Конференция продлилась до 7 (20) февраля. Ее задачей было установление общего плана для кампании 1917 г.
В русском обществе, которое за эти месяцы расценивало все события с точки зрения внутренней политики, ходили самые невероятные слухи. Говорилось, что союзники решили взять русскую власть «под опеку», назначить своих представителей в русский Главный штаб, потребовать «ответственного министерства» и т. д. Союзных делегатов усиленно чествовали; в Москве им устраивались торжественные банкеты; в публике распространялись якобы произнесенные ими апокрифические речи.
На банкете в Петрограде (30 января) лорд Мильнер дал остроумный ответ на эти ожидания. Указав, что русское хлебосольство подвергает серьезному испытанию иностранных гостей, английский делегат выразил надежду на то, что «и умственные способности наши выйдут из испытания так же блестяще. В этой стране изумительных слухов такой доверчивый человек, как я, может кончить чуть ли не сумасшествием. Я часто вспоминаю анекдот Бисмарка, который рассказывал про одного приятеля, что, просыпаясь каждый день, он говорил: «нет, нет, нет», ибо, будучи человеком слабого характера, он боялся, что в течение дня он согласится на что-нибудь вредное для себя. У меня такое же чувство по отношению к вашим слухам». Лорд Мильнер заверил слушателей, что в «нашей конференции ничего сенсационного нет».
Союзники на самом деле не отважились делать государю прямых указаний по внутренней политике; тем более они не могли ничего требовать. Но в секретной записке лорда Мильнера, поданной государю 4 февраля, имелись пожелания, которые, видимо, и дали основания для преувеличенных слухов.
Касаясь распределения военного снабжения между союзниками, лорд Мильнер писал: «Мы все сидим в одной лодке, и мы вместе выплывем или вместе потонем. Мысли об отдельных интересах какой-либо из союзных наций быть не может…» Средства союзников ограниченны; есть предметы, которые Россия могла бы производить сама, а не получать от союзников; «для этого нужна лучшая организация». Воздавая хвалу работе Земского и Городского союзов, лорд Мильнер, ссылаясь на пример Англии, говорит о желательности привлечения лучших специалистов и «назначения их, совершенно не считаясь с официальными традициями, на высшие правительственные посты». Кроме того, лорд Мильнер указывал, что всякий военный материал, поступающий в Россию от союзников, должен был бы сопровождаться «несколькими людьми», опытными в обращении с данным материалом. «Тут не может быть речи о вмешательстве в дела русской военной власти»: дело только в том, что «мы передаем России не только машины, но и наш опыт в обращении с этими машинами».
В какую форму могло вылиться такое техническое содействие, об этом подробнее не говорилось. Практического осуществления эти пожелания вообще не получили.
Союзники, в особенности французы, настаивали на возможно более раннем и одновременном весеннем наступлении. Называли 15 (2) апреля. Генерал В. И. Гурко указывал, что русская армия находится сейчас в периоде реорганизации – создания 60 новых дивизий (путем перехода от 4-батальонных полков к 3-батальонным); проведение этой реформы требует времени. Французские делегаты заручились письменным подтверждением обещания России поддерживать притязания Франции на рейнскую границу. Вернувшись в свои страны около 20 февраля, союзные делегаты сообщили в печати, что в России царит полное единодушие насчет войны. («Споры касаются только административных мер, что можно наблюдать и в Англии», – говорил лорд Мильнер.)
Германия настолько опасалась предстоящей кампании 1917 г., что рискнула на отчаянный шаг беспощадной подводной войны, надеясь «уморить англичан с голоду» и прервать сообщение между Англией и материком раньше, чем начнется решающее наступление союзников. Германия объявила об этом 19 января; уже 30 января Соединенные Штаты порвали с ней дипломатические сношения. Дело быстро шло к вмешательству Америки в войну; шансы союзников повышались еще более.[265]
В конце января были арестованы члены рабочей группы Военно-промышленного комитета. Эта группа служила связующим звеном между революционными рабочими организациями (которые подчас клеймили эту группу за «соглашательство», но пользовались ее услугами) и «буржуазными» противоправительственными силами. Со стороны общественности тотчас же последовали протесты. А. И. Гучков обратился к князю Голицыну и добился смягчения репрессий в отношении некоторых лиц. Захваченные документы, однако, не оставляли сомнения в революционном характере деятельности рабочей группы.
В первых числах февраля государь принимал Н. А. Маклакова и поручил ему составить проект манифеста на случай роспуска Госдумы. Он не оставлял плана, намеченного еще при Трепове: распустить Четвертую думу, если она пойдет по пути решительной и открытой борьбы с властью.
Сессия Госдумы открылась 14 февраля. Ожидали демонстраций, ходили слухи о шествиях к Таврическому дворцу, но день открытия прошел спокойно. В первом заседании, тотчас после М. В. Родзянко, взял слово министр земледелия А. А. Риттих и сделал обстоятельный доклад по продовольственному вопросу. Публика, ждавшая сенсаций, была недовольна. Только в конце заседания говорили Пуришкевич, на этот раз не имевший особого успеха, и прогрессист Ефремов, высказывавший убеждение в том, что «ответственное министерство может совершать чудеса».
Блок стоял в недоумении на пороге событий, и Милюков, в общем, только повторил свою речь от 16 декабря. Интерес заседания 15 февраля был в речи А. Ф. Керенского, выступившего с призывом перейти к открытой борьбе с властью. Керенский говорил, что дело не в «злоумышленной воле отдельных лиц». «Величайшая ошибка – стремление везде и всюду искать изменников, искать каких-то там немецких агентов, отдельных Штюрмеров, под влиянием легенд о темных силах, о немецких влияниях. У вас есть гораздо более сильный враг, чем немецкое влияние, – это система…»[266] Керенский от имени революционных сил обращался к блоку: «Если у вас, господа, нет воли к действиям, тогда не нужно говорить слишком ответственных и слишком тяжких по последствиям слов. Вы, произнося диагноз болезни страны, считаете, что ваше дело исполнено. Но ведь есть наивные массы, которые слова о положении государства воспринимают серьезно, которые на действия одной стороны хотят ответить солидарными действиями другой, которые в своих наивных заблуждениях вам, большинству Государственной думы, хотят оказать поддержку…»
Керенский отвергал позицию блока в вопросе о войне: «Вас, господа, объединяет идея империалистических захватов, вы одинаково с властью мегаломаны. Мы полагаем, что конфликт должен быть ликвидирован. Я утверждаю, что провозглашение безграничных завоевательных тенденций не может встретить поддержки». (Шингарев с места: «Неверно». Шум.) «Вы не хотите слышать никого, кроме себя, а вы должны услышать, потому что если вы не услышите предостерегающих голосов, то вы встретитесь уже не с предостережениями, а с фактами».
Правительство потребовало у председателя Госдумы стенограмму речи Керенского; Родзянко в этом отказал. Вопрос о привлечении оратора к суду за революционные призывы остался открытым. А в Думе продолжались обычные прения. Был внесен запрос об аресте рабочей группы. Продовольственный вопрос служил предметом спора внутри блока. Савич и Шульгин возражали Милюкову и защищали политику Риттиха, стремившегося пойти навстречу сельскому хозяйству и по возможности избегать принудительных мер. Шульгин даже говорил, что Риттиху, если он избавит Россию от голода, можно простить «грех» участия в одном правительстве с Протопоповым.
С 13 по 18 февраля происходил суд над Манасевичем-Мануйловым, бывшим чиновником особых поручений при Штюрмере; Манасевич за шантаж был приговорен к полутора годам арестантских рот («безнаказанность» Манасевича во время осенней сессии была одним из главных обвинений против правительства).
В Государственном совете новый председатель, И. Г. Щегловитов, твердо пресекал все попытки делать политические выпады под видом «внеочередных заявлений».
…Художественная, культурная и светская жизнь шла своим обычным ходом. В начале 1917 г. в Петрограде открылся сезон «Дома песни» Олениной-д’Альгейм. В январской книжке «Русской мысли» появилось начало новой поэмы А. Блока «Возмездие». 22 февраля в Петроградском университете защищал свою диссертацию «Хозяйство и цена» академик П. Б. Струве, удостоенный за нее сразу звания доктора. 25 февраля, при многочисленном стечении публики, состоялась в Александрийском театре премьера лермонтовского «Маскарада» в новой постановке Мейерхольда.
Глава 9
Состояние петроградского гарнизона. – Вопрос о вызове гвардейской кавалерии. – Отъезд государя в Ставку. – Уличные демонстрации и думские речи. – Перерыв думской сессии для достижения компромисса. – Беспорядки в Павловском полку. – Военный бунт 27 февраля. – Захват Таврического дворца восставшей толпой. – Совет рабочих депутатов. – Использование революционерами Думского комитета. – Отправка войск с фронта. – Выезд государя в Царское Село. – Ложная информация Ставки о положении в столице. – «Приказ № 1». – Спокойствие в провинции. – Движение верных войск на Петроград. – Государь в Пскове. – Ночной разговор государя с генералом Рузским. – Отмена движения войск. – Родзянко о необходимости отречения. – Телеграммы генерала Алексеева и командующих фронтами. – Согласие государя на отречение; фактическая безвыходность. – Программа Временного правительства. – Милюков о «старой династии». – Гучков и Шульгин в Пскове. – Манифест 2 марта 1917 г. – «Крушение на пороге победы»
За время войны уличные беспорядки были сравнительно редки. Сдерживало представление о законах военного времени. Кроме восстания туземцев в Туркестане (летом 1916 г.) и московского антинемецкого погрома (в мае 1915 г.), с начала войны в России крупных волнений не было. Осенью 1916 г. в Петрограде, во время одной демонстрации в фабричном районе, солдаты одного запасного батальона стали стрелять по казакам, разгонявшим толпу. Но этот инцидент не привлек к себе особого внимания и в печать – из-за цензуры – вообще не попал.
Между тем в Петрограде и окрестностях к началу 1917 г. скопилась солдатская масса около 200 000 человек. Большей частью это были новобранцы, не видавшие огня;[267] имелись также команды выздоравливающих. Предполагалось, что ко времени весеннего наступления, к концу марта, эти части будут почти целиком отправлены на фронт. Это были запасные батальоны гвардейских полков, ничего, кроме названия и двух-трех офицеров, не имевшие общего с находившимися на Юго-Западном фронте славными воинскими частями. В казармах царила невероятная теснота: нары для спанья были поставлены в три ряда. Ученье производилось на улицах и площадях города. Солдатская масса жила столичными слухами, общалась с рабочим населением, настроенным пораженчески. В газетах солдаты читали речи и резолюции против правительства. Убийство Распутина привлекло их внимание ко всем грязным сплетням, связанным с этим именем. Вышедшие из лазаретов рассказывали об ураганном огне, о газах, о страшных потерях. Солдатская масса была проникнута одним страстным желанием – чуда, которое избавило бы ее от необходимости идти на убой. Эту массу, почти не знавшую своих офицеров, держал в повиновении только железный обруч дисциплины. «Что страшнее немецкой пули? Только своя пуля» – эта фраза была характерна для солдатских настроений…
Ни градоначальник, генерал-майор Балк, ни командующий войсками округа, Генерального штаба генерал-лейтенант Хабалов, назначенные в конце 1916 г., не считали, однако, положение угрожающим. Только министр внутренних дел А. Д. Протопопов, получавший обильные сведения от охранного отделения, был обеспокоен состоянием умов в столице и затребовал данные о наличии сил для поддержания порядка. Ему было сообщено, что полиция, конные части и учебные команды полков насчитывают 10 000 человек. Этого было мало для города, население которого достигло 2 с половиной миллионов за время войны, – даже если не иметь в виду возможности волнений среди солдат.
А. Д. Протопопов доложил об этом государю в середине января. Государь поручил исполняющему обязанности начальника штаба, генералу В. И. Гурко, принять меры для пополнения петроградского гарнизона гвардейскими частями с фронта, поочередно отводимыми на отдых. В первую очередь предполагалось вызвать 1-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию и гвардейский экипаж. Генерал Гурко, однако, встретил возражение со стороны генерала Хабалова, заявившего, что в казармах совершенно нет места и что запасные батальоны сейчас некуда вывести. Генерал Гурко, не придавая, очевидно, этой мере первостепенного значения, не настоял на ее проведении в жизнь, кавалерию так и не вызвали, ограничившись гвардейским флотским экипажем, который было легче разместить. По словам Протопопова,[268] государь был крайне недоволен тем, что гвардейскую кавалерию не привели в Петроград.
Проведя в столице более двух месяцев, государь счел необходимым побывать на некоторое время в Ставке. Государыня и А. Д. Протопопов убеждали его не уезжать (у наследника в это время как раз начиналась корь, которою затем заболели и другие царские дети). Государь обещал вернуться возможно скорее и 22 февраля выехал из Царского. Дня за три до возвращения государя в Ставку туда прибыл генерал М. В. Алексеев, который провел несколько месяцев на излечении в Крыму. Приезд начальника штаба был для Ставки неожиданным тем более, что генерал Алексеев вернулся еще явно больным.
В Думе шла, казалось, обычная парламентская борьба. Она решила отклонить проведенный по 87-й ст. закон о Главном управлении государственного здравоохранения. Это ведомство, во главе которого стоял профессор Г. Е. Рейн, должно было объединить и согласовать меры по борьбе с эпидемиями и с антисанитарными условиями жизни; оно было создано по настоянию государя, вопреки желанию кабинета Штюрмера, желавшего избежать нового конфликта с Государственной думой. Когда думская комиссия отвергла проект, Г. Е. Рейн взял его обратно, и Государственная дума особой резолюцией выразила мнение, что это означает упразднение ведомства здравоохранения.[269]
Отъезд государя точно послужил сигналом для врагов порядка; на следующий же день, 23 февраля, начались серьезные уличные манифестации.
В середине февраля сильные снежные заносы замедлили движение поездов. А. И. Гучков в Государственном совете 20 февраля выступил с речью, обращавшей внимание на расстройство транспорта, угрожающее снабжению столицы. По городу ходили слухи, что скоро хлеба не будет. Обыватели начали делать запасы, печь сухари – и в результате действительно получилось, что запасы хлеба во многих пекарнях и булочных не удовлетворяли всего спроса. Из «хвостов», так и не дождавшихся хлеба, стали образовываться первые кучки недовольных, бродившие по улицам с криками: «Хлеба! Хлеба!» Эти кучки, разраставшиеся в толпы, состоявшие сначала главным образом из женщин и детей, не вызывали особого беспокойства. Но 23 февраля бастовало уже 90 000 рабочих; и комитет партии социал-демократов большевиков Выборгской стороны постановил использовать народное движение для организации всеобщей забастовки.
Манифестации стали принимать политический характер; появились красные флаги и плакаты: «Долой самодержавие!» и «Долой войну!».
24 февраля в газетах было помещено официальное сообщение: «Хлеб есть», в котором объяснялось, что запасы муки вполне достаточны; военное ведомство уделило для нужд гражданского населения часть интендантских запасов, и недостаток хлеба был устранен. Движение, однако, не утихло, а продолжало разрастаться. Казаки и другие конные части, вызванные в помощь полиции, рассеивали толпы; те разбегались – и собирались вновь на ближайшей же улице. К демонстрантам было снисходительное отношение; говорили: «Ведь они только просят хлеба…» Однако случаи насилия толпы над полицией учащались: за 23 и 24 февраля было избито 28 городовых.
Государственная дума видела в этих беспорядках только лишний повод для обличения продовольственной политики власти. Совет министров не придавал демонстрациям особого значения и в заседании 24 февраля вообще их не касался. Он был занят конфликтом с Государственной думой; часть министров считала, что следовало бы произвести перемены в кабинете и пойти на соглашение с думским «блоком».
25 февраля волнения распространились на Невский и на всю центральную часть города. Знаменская площадь перед Николаевским вокзалом превратилась в арену непрерывного митинга. С пьедестала памятника императору Александру III произносились революционные речи, главным содержанием которых было: «Долой войну!» В толпе, слушавшей речи, было немало солдат. Настроение толпы было неустойчивым. Отдельные жесты оказывались решающими. На Знаменской площади пристав Крылов, попытавшийся вырвать у демонстрантов красный флаг, был убит выстрелом из револьвера; митинги невозбранно продолжались. На Трубочном заводе, наоборот, поручик Госсе застрелил одного агитатора, который угрожал ему кулаком: толпа тотчас разбежалась, побросав флаги и плакаты.
Поздно вечером состоялось заседание кабинета; снова начались разговоры о том, что следовало бы просить государя назначить других министров: думские настроения еще казались гораздо серьезнее уличных беспорядков. Было известно, что 28 февраля ожидаются новые резкие выступления в Думе – должна голосоваться резолюция, осуждающая продовольственную политику Риттиха. В правительстве было два течения: одни, как А. Д. Протопопов, Н. А. Добровольский, считали, что Государственную думу следует распустить после резких выступлений, как предполагал еще Трепов. Другие стояли за уступки, вели переговоры с думским большинством. И те и другие сошлись на том, что следует объявить перерыв думской сессии на несколько недель; это было единогласно решено в заседании 25 февраля. Перерыв сессии на срок не позднее апреля был решен по предложению сторонников компромисса с Думой в целях избежания резкого конфликта, ведущего к роспуску, после разговора Риттиха и Покровского с представителями думского блока. Сторонники уступок – их было, видимо, большинство – надеялись, что за время перерыва будет достигнуто соглашение и что сессия возобновится уже при другом кабинете. Князь Голицын отправил государю телеграмму в этом смысле.
Между тем государь в Ставке получил только 25 февраля сообщение о том, что беспорядки в столице разрастаются. Он сразу понял необходимость самых энергичных мер и телеграфировал командующему войсками генералу Хабалову: «Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны против Германии и Австрии». Когда в Совете министров было об этом доложено, некоторые члены кабинета высказали сомнение, настолько ли серьезны эти беспорядки, чтобы требовались энергичные меры. Но все признали, что, если действительно на улицах начинают убивать приставов и стрелять по казакам, – репрессии необходимы.
Движение развивалось без видимого плана. Его разжигали самые разные элементы. Несомненно, и германские агенты работали весьма активно. Крайние левые пользовались случаем для произнесения зажигательных речей; по заводам распространялся лозунг: «Совет рабочих депутатов». Обыватель злорадствовал, видя, что власть никак не может справиться с «кучками»; казаков хвалили за вялость при разгоне демонстраций. А в думских кругах надеялись, что эти беспорядки заставят власть пойти им навстречу…
26 февраля было воскресенье. Демонстрации начались несколько позже (Хабалов уже поспешил сообщить в Ставку, что утром наблюдается успокоение) – но затем столкновения толпы с полицией, казаками и вызванными им в помощь учебными командами некоторых полков приняли кровавый характер. Во многих местах раздавалась стрельба. Имелись убитые и раненые – число их установлено не было. К вечеру в кругах сторонников движения наблюдали, однако, упадок духа. Собравшиеся на квартире Керенского представители крайних левых групп приходили к заключению, что «правительство победило». Публика была во власти самых фантастических слухов: 26 февраля газеты уже не вышли.
Но в этот день 26-го, около 4 часов дня, произошло весьма серьезное событие. 4-я рота запасного батальона Павловского полка (в ней было 1500 человек), столпившись на улице около своих казарм, неожиданно открыла беспорядочный огонь по войскам, разгонявшим толпу. Началась перестрелка. Были спешно вызваны несколько рот соседних полков. Район столкновения был оцеплен. Прибыли командир полка, а также полковой священник, чтобы «урезонить» солдат. Те, отчасти под влиянием увещаний, отчасти потому, что оказались окружены, ушли обратно в казармы и сдали оружие (впрочем, 21 винтовки недосчитались); 19 зачинщиков были арестованы и отвезены в Петропавловскую крепость.
Вечером Родзянко отправил генералу Алексееву длинную телеграмму, прося доложить государю, что причина волнений – «полное недоверие к власти», и настаивал на образовании «правительства, пользующегося доверием всего населения». «Иного выхода на светлый путь нет», – писал председатель Государственной думы, очевидно все еще полагавший, что революционных рабочих и бунтующих солдат могло бы успокоить думское министерство. Не все деятели блока разделяли такую уверенность Родзянко. «Я чувствовал их, моих товарищей по блоку, – вспоминает об этом дне Шульгин. – Мы были рождены, чтобы под крылышком власти хвалить или порицать. Мы способны были, в крайнем случае, безболезненно пересесть с депутатских кресел на министерские скамьи… Под условием, чтобы императорский караул охранял нас. Но перед возможным падением Власти, перед бездонной пропастью этого обвала – у нас кружилась голова и немело сердце. Бессилие смотрело на меня из-за белых колонн Таврического дворца. И был этот взгляд презрителен до ужаса…»
* * *
Государь, всегда отличавшийся исключительной выдержкой, сохранял и теперь внешнее спокойствие; но он предчувствовал беду. Впервые после поражения при Сольдау, затем несколько раз во время отступления 1915 г., «старое сердце» – как он называл это в письмах государыне – давало себя знать. Так и в эти дни: 26 февраля он писал: «Сегодня утром во время службы я почувствовал мучительную боль в груди, продолжавшуюся четверть часа. Я едва выстоял, и лоб мой покрылся каплями пота».
Всю ночь с 26 на 27 февраля командующий войсками генерал Хабалов и военный министр генерал Беляев получали тревожные сообщения из казарм. Слухи проверялись и оказывались ложными; им уже переставали верить, когда они получили страшное подтверждение: в 7 часов утра восстал запасной батальон Волынского полка. Унтер-офицер Кирпичников (сын профессора, студент, призванный в армию в 1915 г.) ночью собрал солдат и убедил их восстать против «самодержавия»; когда наутро в казармы прибыл начальник учебной команды капитан Лашкевич, то солдаты отказались повиноваться, убили его и высыпали толпой на улицу.
Для солдат «выступление» было много страшнее, чем для рабочих: «Вы вернетесь к себе домой, а мы под расстрел», – говорили солдаты рабочим-агитаторам, которые звали их на демонстрации. Выйдя с оружием на улицу, солдаты знали, что совершили преступление и что только успех может обеспечить им безнаказанность.
Утром, кроме волынцев, восстали еще и павловцы (их призывали спасти арестованных товарищей), а также литовцы. Вся Выборгская сторона была уже во власти рабочих. Через Литейный мост революционные толпы перешли на левый берег Невы, где они встретились и слились в одну массу с восставшими полками.
Генерал Хабалов и генерал Беляев стали спешно вызывать более надежные воинские части для защиты центра города. Отряд около 1000 человек под командой полковника лейб-гвардии Преображенского полка А. П. Кутепова был двинут в сторону очага восстания, но ему не удалось проникнуть дальше Кирочной улицы. Огромное большинство войск считалось ненадежным, и их предпочитали оставлять в казармах.
К середине дня восставшие овладели почти всей правобережной частью города, а также Литейной и Рождественской частями. В их же руках были южные рабочие кварталы. На Невском слышалась беспорядочная стрельба. Таврический дворец, в котором обычно заседала Государственная дума, оказался в районе, захваченном восставшими.
С утра в здании Государственной думы собралось довольно много депутатов. Так как газет не было, большинство еще не слышало о перерыве сессии. Начались частные совещания. Никто не знал в точности, что происходит: говорили о солдатских бунтах. Настроение было подавленное. «Словесная борьба кончилась… – отмечает Шульгин. – Она не предотвратила революции… А может быть, даже ее ускорила».
Совещание депутатов признало, что Государственная дума, ввиду перерыва сессии, заседать не может, но решено было пока не расходиться и ждать событий. Был образован Временный комитет из представителей фракций блока и крайних левых. В это время толпа, достигшая Таврического дворца, ворвалась во двор и проникла внутрь здания. «С первого же мгновения этого потопа отвращение залило мою душу. Пулеметов – вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык пулеметов доступен уличной толпе, – пишет Шульгин и констатирует: – С этой минуты Государственная дума, собственно говоря, перестала существовать».
Но если Государственная дума уже 27 февраля перестала существовать как реальная величина – ее имя оказалось весьма сильным орудием в руках революционных сил. От имени Временного комитета по всей стране рассылались телеграммы, изображавшие положение в совершенно искаженном виде.
Рабочая группа Военно-промышленного комитета, освобожденная из тюрьмы Кресты революционной толпой, тотчас отправилась в здание Государственной думы и там, вместе с депутатами-социалистами и несколькими представителями крайних левых партий, образовала первый Исполнительный комитет Совета рабочих депутатов. По всем заводам были разосланы «верные люди»; рабочим предлагалось немедленно произвести выборы в Совет (по одному делегату на тысячу рабочих), заседание которого назначалось на 7 часов вечера. Этот «самочинный» исполнительный комитет принял еще одно важное практическое решение: сообразив, что восставшие солдаты скоро почувствуют голод и жажду, комитет тотчас же занялся реквизициями запасов продовольствия для «революционной армии»; Таврический дворец превращался не только в боевой штаб, но и в питательный пункт. Это сразу создавало практическую связь между Советом и солдатской массой.
К наступлению темноты власти еще владели мостами через Неву (кроме Литейного), но на левом берегу не было сплошного заградительного кордона – от окраин к центру продвигались толпы. Слышалась стрельба из ружей и пулеметов.
В 6 часов вечера в Мариинском дворце собрался Совет министров. Члены кабинета, явно не понимавшие истинную природу движения, видели в нем продолжение думской кампании против Протопопова и стали убеждать его «сказаться больным» – на что Протопопов, совершенно подавленный событиями, согласился. В результате был подписан приказ о том, что Протопопов «по болезни сдал должность старшему товарищу министра». Приказ этот «Известия думского комитета журналистов» справедливо называли «смехотворным». Государь в ответ на сообщение об этом телеграфировал князю Голицыну: «Перемены в личном составе при данных обстоятельствах считаю недопустимыми». Увольнение министра внутренних дел на фоне анархического солдатского бунта было для власти только совершенно бесполезным самоунижением.
Вечером 27-го в зале заседаний Государственной думы состоялось первое собрание Совета рабочих депутатов. Председателем был избран Н. С. Чхеидзе. Собралось несколько сот человек. Один за другим на трибуну выходили представители восставших полков и обещали «защищать революцию». Выбрали Исполнительный комитет (в котором преобладали испытанные циммервальдисты) и «литературную комиссию», которая тотчас же занялась составлением «манифеста» и подготовкой выпуска «Известий Совета». Руководители Совета в эти первые дни были – левый социалист-революционер Александрович, Суханов (Гиммер) и Стеклов (Нахамкес).
Вечером верные войска сосредоточились на площади Зимнего дворца. Там находились генерал Беляев, генерал Хабалов и назначенный командующим верными воинскими частями генерал Занкевич. Но великий князь Михаил Александрович просил их перейти в Адмиралтейство, чтобы не подвергать обстрелу художественные ценности Эрмитажа и Зимнего дворца. На следующее утро весь город уже находился в руках восставших, кроме района Адмиралтейства, где до полудня держались верные войска (около 1500 человек). Но морской министр Григорович просил не подвергать Адмиралтейство, где хранились ценные кораблестроительные чертежи, риску обстрела из орудий – и отряд, сложив оружие, небольшими группами был распущен по казармам.
Грузовики с красными флагами, переполненные солдатами и вооруженными рабочими, с бешеной скоростью носились по столице. Группы солдат бродили по улицам, стреляя в воздух и крича: «Довольно, повоевали!» (По-видимому, эта стрельба в воздух и создала представление о какой-то стрельбе с крыш сторонников «старого режима», чего на самом деле не было.) Кучки людей врывались в частные квартиры, уводили оттуда министров и других сановников – всех везли в Таврический дворец, который обращался, в добавление к прочим задачам, в революционный участок.
Временный комитет, избранный накануне совещанием депутатов, не мог ничему помочь и ничему помешать; он занялся пропагандой. Был выпущен, одновременно с «Известиями Совета», другой листок, в котором давалась своя версия событий: все будто бы началось с указа о «роспуске» Думы; Дума не подчинилась; «народ» ее поддержал; полки присоединились к народу, предоставили себя в распоряжение Государственной думы…[270] Это писалось в то время, когда Дума вообще уже не могла собраться, когда в ее помещении уже заседал другой, самочинный «парламент»…
Пользуясь железнодорожным телеграфом, депутат Бубликов (прогрессист) 28 февраля разослал по всей России телеграмму, начинающуюся словами: «По поручению Комитета Государственной думы, сего числа я занял министерство Путей Сообщения», далее от имени Родзянко объявлялось, что «Государственная дума взяла в руки создание новой власти».
28-го движение перекинулось в окрестности столицы. В Кронштадте оно приняло особенно кровавый характер: восставшие матросы убили адмирала Вирена, десятки офицеров были истреблены, остальных заточили в подземные казематы. В Царском Селе восставшие разгромили все склады спиртных напитков. Части, охранявшие дворец, в котором находилась царская семья, объявили «нейтралитет»…
Солдатская масса, лишенная офицеров, обратилась в вооруженную толпу, злобную и трусливую, одинаково готовую разорвать на части всякого «недруга» и разбежаться во все стороны при первом залпе…
При первом известии о военном бунте государь решил отправить в Петербург генерала Н. И. Иванова, популярного в армии и в стране старого генерала, с чрезвычайными полномочиями для восстановления порядка. До его прибытия полнота власти – чисто номинальная – сохранялась за князем Голицыным. Он распорядился, чтобы одновременно с трех фронтов было отправлено по две кавалерийских дивизии, по два пехотных полка из самых надежных и пулеметные команды.[271] В 10 часов 25 минут вечера 27 февраля об этом было из Ставки сообщено генералу Беляеву в Петроград.
В это время великий князь Михаил Александрович по телефону из Петрограда просил генерала Алексеева доложить государю, что для успокоения необходимо увольнение Совета министров и назначение нового премьера; «со своей стороны полагаю, что таким лицом мог быть бы Львов».
Государь повелел на это ответить, что в Петроград отправляются войска и что дальнейшие решения он примет по прибытии в Царское Село. Государь ясно сознавал, что, когда идет солдатский бунт и убивают офицеров, «уступки» только подливают масло в огонь, вызывая представление о слабости и уверенность в безнаказанности. Когда вслед за великим князем в том же смысле высказался и генерал Алексеев, доложивший телеграмму генерала Рузского («При существующих условиях меры репрессий могут только обострить положение»), – государь, по словам генерала Алексеева, «не захотел и разговаривать с ним».
* * *
Отряд генерала Иванова, состоявший из батальона в 700 георгиевских кавалеров, задержался с отправкой и только около часу дня 28 февраля отбыл из Могилева по Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороге. Части с Северного фронта, отправленные в его распоряжение, начали прибывать в окрестности столицы раньше, нежели поезд генерала Иванова.
Отдав все распоряжения об отправке войск на Петроград, государь решил сам выехать в Царское Село. Это решение было, очевидно, вызвано тревогой за семью – быть может, желанием быть в центре событий на случай необходимости быстрых решений. Этот отъезд из Ставки оказался роковым.
28 февраля в столице царила анархия, в Кронштадте шла резня, единственной фактической властью был Совет. Но кто-то сообщал в Ставку совершенно иные данные, которым генерал М. В. Алексеев, очевидно, поверил: «Частные сведения говорят, что 28 февраля в Петрограде наступило полное спокойствие, войска примкнули к Временному Правительству в полном составе, приводятся в порядок. Временное Правительство под председательством Родзянко заседает в Государственной думе и пригласило командиров воинских частей для получения приказаний по поддержанию порядка. Воззвание к населению, выпущенное Временным Правительством, говорит о необходимости монархического начала в России и необходимости новых выборов (?) для выбора и назначения правительства».
Эти явно ложные сведения, сообщенные кем-то в Ставку, сыграли огромную роль в дальнейшем ходе событий. Начальник штаба генерал М. В. Алексеев, получив сообщение о «благополучном» течении событий в столице, начал самостоятельно информировать верхи армии. Пресловутая телеграмма об «успокоении» была между 1 и 2 часами дня 1 марта передана, за № 1833, всем командующим фронтами, причем в телеграмме генералу Рузскому добавлялось: «Доложите его Величеству все это и убеждение, что дело можно привести мирно к хорошему концу, который укрепит Россию».
В Пскове имелись несколько иные вести из Петрограда: получив телеграмму об «успокоении», генерал Данилов в ответ запросил, «откуда у наштаверха сведения, заключенные в телеграмме 1833», – и получил (в 5 часов дня 1 марта) неопределенный ответ: эти сведения «получены из Петрограда из различных источников и считаются (?) достоверными».
Государь провел 28 февраля в дороге, не получая новых известий. Он следовал по пути Смоленск – Вязьма – Лихославль, чтобы оставить кратчайший путь (через Дно) свободным для воинских эшелонов. В ночь с 28 февраля на 1 марта на станции Малая Вишера (в 150 верстах от Петрограда) царские поезда были остановлены: сделалось известно, что следующая большая станция, Любань, занята «революционными войсками», и охрана поезда была сочтена недостаточной для вступления в вооруженную борьбу. Царские поезда сперва решили направить в Царское по Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороге; но дальше станции Дно им продвинуться не удалось. Там получены были телеграммы из Петрограда, сообщавшие, что Родзянко выезжает к государю на станцию Дно; но потом стало известно, что Родзянко не едет, и царский поезд проследовал в Псков, в ставку командующего Северным фронтом генерала Рузского, куда государь прибыл вечером 1 марта, после сорока часов, проведенных к пути.
* * *
В Петрограде за это время революционные элементы уже успели организоваться. В название Совета рабочих депутатов было вставлено: «и солдатских». Отдельные воинские части с красными флагами являлись в Таврический дворец; их приветствовали ораторы Совета и Думского комитета. 1 марта, в 4 часа дня, туда прибыл и великий князь Кирилл Владимирович, заявивший, что он, как и его гвардейский экипаж, предоставляет себя в распоряжение комитета Госдумы. Этот шаг, понятый всеми как присоединение великого князя к революции, произвел в те дни немалое впечатление. Великий князь впоследствии объяснял, что он имел в виду поддержать умеренные элементы против крайних. В тот же день четыре великих князя составили манифест, обещавший от имени государя «ответственное министерство»; этот документ им не удалось нигде опубликовать.
Фактическая власть принадлежала крайним левым; Суханов и Стеклов были могущественнее, чем Родзянко. Попытка думской военной комиссии призвать солдат к повиновению офицерам вызвала такую реакцию со стороны недоверчивой солдатской массы, что председатель комиссии, полковник Энгельгардт, поспешил издать распоряжение: всякий, кто попытается отбирать оружие у солдат, подлежит расстрелу… Но этим дело не ограничилось. Совет рабочих депутатов на заседании 1 марта постановил принять меры для обеспечения интересов «революционных солдат». Была тут же составлена резолюция, получившая широкую известность под названием «приказа № 1».
Этот приказ состоял из семи пунктов. Солдатам предписывалось: 1) избирать полковые, батальонные и ротные комитеты; 2) выбрать депутатов в Совет; 3) в политических делах слушаться только Совета и своих комитетов; 4) думские приказы исполнять, только когда они не противоречат решениям Совета; 5) держать оружие в распоряжении комитетов и «ни в коем случае не выдавать его офицерам даже по их требованию». Последними двумя пунктами объявлялось «равноправие» солдат с офицерами вне строя, отмена отдачи чести, титулования и т. д.
Этот приказ, немедленно проведенный в жизнь в петроградском гарнизоне, был издан вечером 1 марта и на следующее же утро появился в «Известиях». В это время между Исполнительным комитетом Совета и Думским комитетом происходили переговоры о составлении Временного правительства. «Фактически 27 февраля партия социалистов овладела Петроградским гарнизоном и по этой причине сделалась хозяйкой положения, но до поры до времени скрывала свою игру», – писал Родзянко в своих мемуарах; 1 марта он, однако, телеграфировал генералу Рузскому, что «правительственная власть перешла в настоящее время к Временному комитету Государственной думы». Сам Совет всячески поощрял такие заявления.
У социалистов почти не было вождей: все их видные лидеры были в эмиграции или в ссылке. Кроме того, существовала «опасность военного движения в Петрограде». Настроение фронта сильно беспокоило революционные крути. Они поэтому стремились использовать Госдуму в качестве прикрытия; для этого они предлагали Думскому комитету взять власть в руки – иными словами, открыто порвать с законностью.
«Приказ № 1» привел в ужас всех, кто был близок к армии. А. И. Гучков заявил, что при подобных условиях он войти в правительство не согласен, тем более что «хозяева положения» уже отказались напечатать составленное Гучковым воззвание о «войне до победного конца».
В Москве 28 февраля начались массовые демонстрации с красными флагами; центром движения было здание городской думы, где к вечеру уже заседали Совет рабочих депутатов и Комитет общественных организаций. 1 марта, после слабых попыток сопротивления у арсенала и в манеже, весь московский гарнизон – состоявший из запасных батальонов – перешел на сторону восставших; командующий войсками генерал Мрозовский, остававшийся верным долгу, был подвергнут домашнему аресту.
Та же картина наблюдалась в двух-трех больших городах (Харьков, Нижний Новгород). В Твери толпа убила губернатора, Н. Г. Бюнтинга. (Видя надвигающуюся толпу, он соединился по телефону с викарным епископом и исповедался.) Но в большей части провинции все оставалось спокойно; телеграммы о волнениях в столице задерживались властями. В Ростове-на-Дону местная правая газета «Ростовский листок» сообщила (2 марта), на основании рассказов приезжих из Петрограда, что начавшиеся там события кончаются «конфузом блоку», что Госдума распущена, что в правительство входят правые деятели – Марков и Замысловский…
* * *
Отряд генерала Иванова, медленно продвигаясь от Могилева, достиг вечером 1 марта Царского Села. По пути железнодорожники пытались задерживать поезд; но угроза полевым судом оказалась достаточной. На станциях ближе к столице встречались кучки «революционных» солдат: генерал Иванов, в виде меры воздействия, ставил их на колени. Сопротивления не было.
67-й пехотный полк прибыл на станцию Александровскую Варшавской железной дороги, в нескольких верстах от Царского Села. Наоборот, 68-й полк остановился около Луги: лужский гарнизон восстал, и солдаты не хотели идти дальше на Петроград. Но с фронта продолжали продвигаться другие воинские части.
Положение в Петрограде не оставляло сомнений в том, что никакие политические меры, никакие «уступки» не могли прекратить анархический солдатский бунт против войны. Только подавление этого бунта могло еще остановить начавшийся развал и дать России шанс продолжать войну.
Верные войска, несомненно, еще имелись на фронте: так, от командующего 3-м конным корпусом графа Ф. А. Келлера и от гвардейской кавалерии посланы были государю в эти дни выражения готовности за него умереть; офицеры лейб-гвардии Преображенского полка во главе с полковником Ознобишиным в Могилеве заявили, что их солдаты держали себя твердо и охотно грузились в вагоны, когда 1-я гвардейская дивизия получила приказ идти в Петроград для подавления беспорядков. Были, конечно, и другие части, верные долгу.
В лагере восставших царила тревога. Депутат Бубликов в своих воспоминаниях отмечает: «Достаточно было одной дисциплинированной дивизии с фронта, чтобы восстание было подавлено. Больше того, его можно было усмирить простым перерывом железнодорожного движения с Петербургом: голод через три дня заставил бы Петербург сдаться. В марте еще мог вернуться царь. И это чувствовалось всеми: недаром в Таврическом дворце несколько раз начиналась паника».
Но победить анархию мог только государь во главе верных ему войск, а не «ответственный кабинет» из думских деятелей, находившихся во власти Совета рабочих и солдатских депутатов. Вообще, всякое правительство, образованное в восставшем Петрограде, – кто бы ни стоял во главе, великий князь, или Родзянко, или Львов, или Керенский, – было бы пленником солдатской массы. Нельзя было потушить пожар изнутри горящего здания.
Между тем руководители армии – как генерал Алексеев, так и генерал Рузский – имели совершенно ложное представление о происшедшем. Они верили, что в Петрограде – правительство Государственной думы, опирающееся на дисциплинированные полки; ради возможности продолжать внешнюю войну они хотели прежде всего избежать междоусобия. Они не знали, что все движение происходит под красным флагом. Они верили, что в Петрограде есть с кем сговариваться…
* * *
В тот самый час, когда отряд генерала Иванова подходил к Царскому Селу, а Совет рабочих депутатов принимал «приказ № 1», царский поезд прибыл на псковский вокзал. Командующий Северным фронтом генерал Н. В. Рузский, доверяя сведениям, полученным из Ставки, считал, что в Петрограде – порядок, что там уже действует монархическое Временное правительство во главе с Родзянко. Были у него и новые вести от генерала Алексеева о переходе Москвы и Балтийского флота на сторону Временного комитета. Генерал Алексеев прислал также на имя государя проект манифеста, поручающего Родзянко составление «ответственного министерства». Свое собственное мнение генерал Н. В. Рузский выразил свите государя весьма открыто. «Остается, – сказал он, – сдаваться на милость победителей», считая, что «победители» – это думский блок.
В тот же вечер, 1 марта, государь имел с генералом Рузским разговор, продолжавшийся несколько часов. О содержании этого разговора, происходившего с глазу на глаз, известно только по изложению самого генерала Рузского, записанному С. Вильчковским.[272] Генерал Рузский «с жаром доказывал» необходимость «ответственного министерства». Государь возражал «спокойно, хладнокровно и с чувством глубокого убеждения». «Я ответственен перед Богом и Россией за все, что случилось и случится, – сказал государь, – будут ли ответственны министры перед Думой и Государственным советом – безразлично. Я никогда не буду в состоянии, видя, что делается министрами не ко благу России, с ними соглашаться, утешаясь мыслью, что это не моих рук дело…» «Государь перебирал с необыкновенной ясностью взгляды всех лиц, которые могли бы управлять Россией в ближайшие времена… и высказывал свое убеждение, что общественные деятели, которые, несомненно, составят первый же кабинет, все люди неопытные в деле управления и, получив бремя власти, не сумеют справиться со своей задачей». (Следует при этом иметь в виду, что и государь не знал о том, какая анархия фактически царит в столице.)
* * *
Генерал Рузский не указывает, какими доводами, после долгого разговора, он добился согласия на «ответственное министерство». Известно одно: еще во время этого разговора от имени государя (в 12 часов 20 минут ночи с 1 на 2 марта) была послана генералу Иванову телеграмма: «Прошу до моего приезда и доклада мне никаких мер не предпринимать». В то же время генерал Рузский своей властью распорядился не только прекратить отправку войск в подкрепление генералу Иванову, но и вернуть обратно в Двинской район уже отправленные с Северного фронта эшелоны. В ту же ночь из Ставки было послано на Западный фронт, от имени государя, предписание: уже отправленные части задержать на больших станциях, остальных – не грузить. Что касается войск с Юго-Западного фронта (гвардии), то Ставка еще днем 1 марта сообщила генералу Брусилову, чтобы отправка не производилась до «особого уведомления».
В результате того же разговора в Ставку было сообщено, что государь соглашается поручить Родзянко составление кабинета «из лиц, пользующихся доверием всей России».
Сам М. В. Родзянко в это время находился под бдительным надзором представителей Совета. Он хотел выехать к государю на станцию Дно: ему отказались предоставить поезд. Движение войск с фронта до крайности тревожило революционеров; они боялись, как бы Родзянко, вырвавшись из их власти, «не перешел на сторону врага»… Председатель Временного комитета хотел переговорить с генералом Рузским по прямому проводу: левые не желали допустить и этого. «Пусть господа рабочие и солдатские депутаты дадут мне охрану или поедут со мной, – говорил Родзянко, – а то меня еще арестуют там на телеграфе».
Наконец, в 3 часа 30 минут утра 2 марта, Родзянко пустили на телеграф. Генерал Рузский сообщил ему, что результат достигнут: государь поручает председателю Думы составить министерство доверия. Это звучало иронией. Родзянко стал объяснять, что сейчас самое главное – это прекратить отправку войск с фронта – иначе «нельзя сдержать войска, не слушающие своих офицеров». «Ненависть к династии дошла до крайних пределов, – говорил он, – раздаются грозные требования отречения в пользу сына при регентстве Михаила Александровича».
Генерал Рузский, видимо, начал понимать, насколько он заблуждался относительно положения в Петрограде. «Я сегодня сделал все, что подсказывало мне сердце, – сказал он, – чтобы найти выход для обеспечения спокойствия теперь и в будущем… Приближается весна, нам нужно сосредоточить усилия по подготовке к активным действиям». Родзянко стал уверять, что «весь народ» хочет вести войну до победного конца и что при исполнении требований «народа» все пойдет отлично: «Наша славная армия не будет ни в чем нуждаться… железнодорожное сообщение не будет затруднено… крестьяне и все жители повезут хлеб, снаряды и другие предметы снаряжения».
«Дай, конечно, Бог, чтобы ваши предположения в отношении армии сбылись, – ответил генерал Рузский, – но имейте в виду, что всякий насильственный переворот не может пройти бесследно; что, если анархия перекинется в армию и начальники потеряют авторитет власти? Что будет тогда с родиной нашей?» Родзянко ответил, что переворот «может быть добровольный и вполне безболезненный для всех».
Генерал Рузский тотчас сообщил об этом разговоре генералу Алексееву. Тот, со своей стороны, разослал (в 10 часов 15 минут утра) командующим фронтами циркулярную телеграмму, передавая слова Родзянко о необходимости отречения государя. «Обстановка, по-видимому, не допускает иного решения», – добавлял от себя генерал Алексеев. «Необходимо спасти действующую армию от развала; продолжать до конца борьбу с внешним врагом; спасти независимость России и судьбу династии».[273] Начальник штаба государя предлагал командующим фронтами, если они с ним согласны, немедленно телеграфировать об этом государю в Псков.
В 2 часа 30 минут генерал Алексеев уже препроводил генералу Рузскому ответ командующих фронтами.
Великий князь Николай Николаевич писал, что необходимы «сверхмеры» и что он, как верноподданный, коленопреклоненно молит его величество «спасти Россию и Вашего Наследника… Осенив себя крестным знамением, передайте ему – Ваше наследие. Другого выхода нет».
Генерал Брусилов просил доложить государю, что единственный исход – «без чего Россия пропадет» – это отречение. Генерал Эверт указывал, что «на армию в настоящем ее составе при подавлении внутренних беспорядков рассчитывать нельзя»; поэтому он, верноподданный, умоляет принять решение, «единственно, видимо, способное прекратить революцию и спасти Россию от ужасов анархии».
Генерал Алексеев присоединился к этим просьбам и умолял государя «безотлагательно принять решение… из любви к Родине, ради ее целости, независимости, ради достижения победы». Наконец, генерал Сахаров, начав телеграмму с резких слов по адресу Думы («Разбойная кучка людей… которая воспользовалась удобной минутой…»), кончал: «Рыдая, вынужден сказать», что решение пойти навстречу этим условиям – наиболее безболезненный выход…
О том, что пережил и перечувствовал государь за эти роковые дни 28 февраля – 2 марта, достоверных сведений нет. Известно, что утром 28 февраля он еще отдавал распоряжения о подавлении военного бунта. Затем, в пути, он беседовал только с генералом Воейковым, который в своих мемуарах пишет, что государь был недоволен медленностью продвижения генерала Иванова и что 1 марта он был готов согласиться на «ответственное министерство» (?); ожидая Родзянко на станцию Дно, он будто бы собирался назначить его премьером. Это не совсем совпадает с тем, что генерал Рузский сообщил Родзянко в его ночном разговоре по прямому проводу: «Государь император сначала предполагал предложить вам составить министерство, ответственное перед Его Величеством, но затем, идя навстречу общему желанию законодательных учреждений и народа», согласился на правительство, «ответственное перед законодательными палатами».
«Вчера весь вечер до глубокой ночи прошел в убеждении поступиться в пользу «ответственного министерства». Согласие было дано только к двум часам ночи», – сообщал утром 2 марта из Пскова в Ставку генерал-квартирмейстер Северного фронта генерал Ю. Н. Данилов.[274]
Этот долгий разговор государя с генералом Н. В. Рузским в Пскове вечером 1 марта, во всяком случае, явился моментом перелома. Меры противодействия революции были отменены – отправка войск на восставший Петроград остановлена – именем государя, но помимо (если не против) его воли…
Государыня, узнав, что царский поезд задержан в Пскове, писала (2 марта), что государь «в западне». По-видимому, можно считать установленным, что генералы Рузский и Алексеев к этому моменту верили в возможность «мирного исхода» и всеми силами старались этому способствовать. В Пскове государь не имел даже возможности отправить телеграмму помимо генерала Рузского; ему доставлялись только сведения, пропущенные командующим Северным фронтом. Когда, по его поручению, генерал Воейков хотел переговорить с Родзянко по прямому проводу – генерал Рузский этого не допустил. Командующий Северным фронтом обсуждал по телеграфу со Ставкой, не спрашивая государя, следует ли передавать дальше подписанный им манифест. Государь не мог сноситься с внешним миром; он, видимо, не мог, помимо желания генерала Рузского, покинуть Псков. Фактически он как бы находился в плену. При этих условиях его согласие на «ответственное министерство» в результате многочасового разговора с генералом Рузским представляется в особом свете. Все свидетели отмечают, что с этой минуты в государе произошла заметная перемена: у него появилось ощущение безнадежности.
Дав согласие на фактическую передачу власти другим – тем, кто, по его убеждению, не сумели бы справиться, – государь уже не стал колебаться, когда генерал Рузский сообщил ему телеграммы командующих фронтами по вопросу об отречении. В 2 часа 30 минут дня телеграммы были отправлены из Ставки; в 3 часа дня государь уже ответил согласием. За власть для себя государь никогда не цеплялся; он понимал свою власть как священный долг; передав ее другим на деле, он уже не придавал большого значения формальному сохранению царского титула. «Во имя блага, спокойствия и спасения горячо любимой России я готов отречься от Престола в пользу моего сына. Прошу всех служить ему верно и нелицемерно», – ответил он генералу Алексееву. В телеграмме на имя Родзянко говорилось: «Нет той жертвы, которую Я не принес бы во имя действительного блага и для спасения родной матушки России…»
Государь подписал эти две телеграммы в 3 часа дня 2 марта. Но они не были отправлены: в эту минуту пришло сообщение, что в Псков от Государственной думы выехали Гучков и Шульгин.
* * *
Ночь с 1 на 2 марта в Таврическом дворце прошла в отчаянной борьбе из-за «приказа № 1». Гучков отказывался участвовать в правительстве; со своей стороны, исполнительный комитет Совета большинством 13 против 8 отказался войти в правительство с «цензовыми элементами». Левые хотели, чтобы новая власть была в полной от них зависимости, причем они сами бы в ней не участвовали и за нее бы не отвечали; Совет как бы хотел занять место самодержавного монарха, предоставляя думскому комитету роль министерства…
По улицам города бродили кучки солдат; по-прежнему бешено носились грузовики. Стрельба прекратилась; самочинные аресты, наоборот, усиленно продолжались. Везде были вывешены красные флаги.
Думский комитет, которому Совет предлагал образовать правительство, все утро 2 марта обсуждал его программу с исполнительным комитетом Совета. В эту программу вошло главное, основное требование восставшего гарнизона, который весьма мало интересовался составом кабинета и формой правления: «Неразоружение и невывоз из Петрограда воинских частей, принимавших участие в революционном движении». Совершилось то «чудо», которого жаждала двухсоттысячная солдатская масса: новая власть торжественно обещала, что петроградский гарнизон не будет отправлен на фронт.
В четвертом часу дня (когда государь в Пскове только что принял решение отречься от престола) П. Н. Милюков выступил с речью перед многотысячной толпой в Екатерининском зале Таврического дворца. Перед этим случайным сборищем он объявил, что образовано новое правительство. «Кто выбирал вас?» – кричали с мест. Милюков отвечал: «Нас выбрала русская революция». Оратора несколько раз перебивали; некоторые имена – Львов, Гучков – вызывали протесты; имя Терещенко (молодого киевского миллионера из Военно-промышленного комитета) вызвало недоумение и смех. Наоборот, сообщение о том, что министром юстиции будет Керенский, было встречено шумными аплодисментами. Милюков затем заявил: «Старый деспот, доведший страну до полной разрухи, сам откажется от престола или будет низложен. Власть перейдет к регенту великому князю Михаилу Александровичу. Наследником будет Алексей». Аудитория, состоявшая в значительной части из социалистов, стала шумно протестовать: «Это старая династия!» Милюков ответил: «Вы не любите старую династию, может быть, и я ее не люблю. Но дело не в том, кто что любит… Если мы будем спорить вместо того, чтобы сразу решить, Россия очутится в состоянии гражданской войны и возродится только что разрушенный режим».
Представители думского комитета прибыли в Псков поздно вечером. Они хотели сперва переговорить с генералом Рузским, но чины свиты настояли, чтобы они немедленно явились к государю. Гучков стал говорить в приподнятом тоне о торжестве революции, о том, что к ней примыкают все войска, даже конвой его величества; что всякая борьба бесполезна; для Гучкова эта минута, очевидно, была увенчанием долгой, явной и тайной, политической работы.
Государь не стал вступать в разговор с представителями своих врагов. Он спокойно, сдержанно объявил им свое решение.
Поздно гадать о том, мог ли государь не отречься. При той позиции, которой держались генералы Рузский и Алексеев, возможность сопротивления исключалась: приказы государя не передавались, телеграммы верноподданных ему не сообщались. Больше того, об отречении могли объявить помимо государя: объявил же (9.XI.1918) принц Макс Баденский об отречении германского императора, когда Вильгельм II вовсе не отрекался! Государь, по крайней мере, сохранил возможность, отрекаясь, обратиться к народу со своим собственным последним словом.
Гучков привез с собой проект манифеста; из Ставки свой проект прислал и генерал Алексеев. «Государь вышел… Через некоторое время Он вошел снова. Он протянул Гучкову бумагу, сказав: «Вот текст…» Каким жалким показался мне набросок, который мы привезли», – вспоминает Шульгин.
Манифест 2 марта, подписанный государем в двух экземплярах, гласил:
«В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжелое испытание. Начавшиеся внутренние волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее нашего Отечества требуют доведения войны, во что бы то ни стало, до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия Наша, совместно со славными нашими союзниками, сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу Нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и, в согласии с Государственною думою, признали Мы за благо отречься от престола государства российского и сложить с себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие наше брату нашему, великому князю Михаилу Александровичу, и благословляем его на вступление на престол государства российского. Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях, принеся в том ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой Родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед ним, повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний, и помочь ему, вместе с представителями народа, вывести государство российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет Господь Бог России».
Представители Думы не могли ни возражать, ни спорить, хотя передача власти великому князю Михаилу Александровичу была для них неожиданной. Государь объявил свою волю; оставалось подчиниться. («Надо было брать, что дают», – объяснял потом Гучков.)
Было двенадцатый час ночи; но манифест был помечен: «3 часа дня» – тем часом, когда государь впервые принял решение отречься.
Государь не верил, что его противники совладают с положением: он поэтому до последней минуты старался удержать руль в своих руках. Когда такая возможность отпала – по обстановке было ясно, что он находился уже в плену, – государь пожелал, по крайней мере, сделать все, чтобы со своей стороны облегчить задачу своих преемников. Он назначил намеченного думским комитетом генерала Л. Г. Корнилова командующим войсками Петроградского округа. Он подписал указ о назначении князя Львова председателем Совета министров. Он назначил великого князя Николая Николаевича Верховным главнокомандующим. Он, наконец, составил обращение к войскам, призывая их бороться с внешним врагом и верно служить новому правительству. Только сына своего он не пожелал им доверить: он знал, что малолетний монарх отречься не может и что для его устранения могут быть применены иные, кровавые способы.
Государь дал своим противникам все, что мог: они все равно оказались бессильны перед событиями. Руль был вырван из рук державного «шофера» – автомобиль рухнул в пропасть.
«Кругом измена, и трусость, и обман», – начертал государь в своем дневнике 2 марта 1917 г.
* * *
Самым трудным и самым забытым подвигом императора Николая II было то, что он при невероятно тяжелых условиях довел Россию до порога победы; его противники не дали ей переступить через этот порог.
Борьба, которую государю пришлось выдержать за самые последние месяцы своего царствования, в еще большей мере, чем события в конце японской войны, напоминает слова Посошкова о его державном предшественнике: «Пособников по его желанию не много: он на гору аще и сам-десят тянет, а под гору миллионы тянут…»
«…Девять лет понадобилось Петру Великому, чтобы Нарвских побежденных обратить в Полтавских победителей. Последний верховный главнокомандующий императорской армии – император Николай II – сделал ту же великую работу за полтора года. Но работа его была оценена и врагами, и между государем и его армией и победой стала революция», – пишет генерал Н. А. Лохвицкий.
Но всего ярче о том же свидетельствует Черчилль (бывший в момент революции английским военным министром) в своей книге о мировой войне:[275]
«Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была в виду.
Она уже перетерпела бурю, когда все обрушилось. Все жертвы были уже принесены, вся работа завершена. Отчаяние и измена овладели властью, когда задача была уже выполнена. Долгие отступления окончились; снарядный голод побежден; вооружение притекало широким потоком; более сильная, более многочисленная, лучше снабженная армия сторожила огромный фронт; тыловые сборные пункты были переполнены людьми. Алексеев руководил армией, и Колчак – флотом. Кроме того – никаких трудных действий больше не требовалось: оставаться на посту; тяжелым грузом давить на широко растянувшиеся германские линии; удерживать, не проявляя особой активности, слабеющие силы противника на своем фронте; иными словами – держаться; вот все, что стояло между Россией и плодами общей победы.
В марте царь был на престоле; Российская империя и русская армия держались, фронт был обеспечен и победа бесспорна.
Согласно поверхностной моде нашего времени, царский строй принято трактовать как слепую, прогнившую, ни на что не способную тиранию. Но разбор тридцати месяцев войны с Германией и Австрией должен бы исправить эти легковесные представления. Силу Российской империи мы можем измерить по ударам, которые она вытерпела, по бедствиям, которые она пережила, по неисчерпаемым силам, которые она развила, и по восстановлению сил, на которое она оказалась способна.
В управлении государствами, когда творятся великие события, вождь нации, кто бы он ни был, осуждается за неудачи и прославляется за успехи. Дело не в том, кто проделывал работу, кто начертывал план борьбы: порицание или хвала за исход довлеют тому, на ком авторитет верховной ответственности. Почему отказывать Николаю II в этом суровом испытании?.. Бремя последних решений лежало на нем. На вершине, где события превосходят разумение человека, где все неисповедимо, давать ответы приходилось ему. Стрелкою компаса был он. Воевать или не воевать? Наступать или отступать? Идти вправо или влево? Согласиться на демократизацию или держаться твердо? Уйти или устоять?
Вот – поля сражений Николая II. Почему не воздать ему за это честь? Самоотверженный порыв русских армий, спасший Париж в 1914 г.; преодоление мучительного бесснарядного отступления; медленное восстановление сил; брусиловские победы; вступление России в кампанию 1917 г. непобедимой, более сильной, чем когда-либо; разве во всем этом не было его доли? Несмотря на ошибки большие и страшные, тот строй, который в нем воплощался, которым он руководил, которому своими личными свойствами он придавал жизненную искру, – к этому моменту выиграл войну для России.
Вот его сейчас сразят. Вмешивается темная рука, сначала облеченная безумием. Царь сходит со сцены. Его и всех его любящих предают на страдание и смерть. Его усилия преуменьшают; его действия осуждают; его память порочат… Остановитесь и скажите: а кто же другой оказался пригодным? В людях талантливых и смелых; людях честолюбивых и гордых духом; отважных и властных – недостатка не было. Но никто не сумел ответить на те несколько простых вопросов, от которых зависела жизнь и слава России. Держа победу уже в руках, она пала на землю, заживо, как древле Ирод, пожираемая червями».
Примечания
1
Измаильский уезд, с площадью в 8128 кв. верст, с населением около 125 000 человек.
(обратно)2
Земств не было: в 12 западных губерниях, где среди землевладельцев преобладали нерусские элементы; в редко населенных Архангельской и Астраханской губерниях; в Области войска Донского и в Оренбургской губернии с их казачьими учреждениями.
(обратно)3
Дворянство в России не составляло замкнутой касты; права потомственного дворянства приобретались каждым, кто достигал чина VIII класса по Табели о рангах (коллежского асессора, капитана, ротмистра).
(обратно)4
В общем 3 % имелись в земских губерниях и вообще в Европейской России (выше – около 6 % – только в трех Прибалтийских губерниях). Цифра эта резко понижалась на Кавказе (1,7) и особенно в только недавно завоеванной Средней Азии (0,3).
(обратно)5
В 1883 г. в Средней Азии 500 десятин под хлопком, в 1895 г. – 220 000 десятин.
(обратно)6
Доход от государственных земельных угодий достигал всего 14 миллионов рублей в год.
(обратно)7
Николай-он – литературное имя одного из крупных русских экономистов Николая Францевича Даниельсона.
(обратно)8
В письмах к С. Ю. Витте от 24 марта 1905 г.
(обратно)9
Не смешивать с известным министром земледелия во вторую половину царствования!
(обратно)10
Генерал И. В. Гурко, хорошо знакомый с условиями увольнения министра путей сообщения, в своих замечаниях к рукописи этой книги дал следующие сведения.
Возможно, в коротких словах, дело было так: заняв пост министра, он по недостатку времени заниматься имением жены передал его заведование своему шурину А. П. Струкову; без ведома последнего старший управитель имения взял с торгов подряд на поставку шпал для строившейся и проходившей через названное имение Бологое Седлецкой железной дороги. Недовольные конкуренты, предлагавшие, однако, менее для казны выгодные условия, в несколько извращенном виде сообщили об этом в газеты либерального направления. Кривошеин узнал обо всем этом из газет.
(обратно)11
30 (18).I.1895.
(обратно)12
Русское богатство. 1895. Февраль.
(обратно)13
Так в России было принято писать эту фамилию, которая, конечно, по-французски произносилась Аното.
(обратно)14
Revue des deux Mondes. 15.VI.1895.
(обратно)15
За год открыто 1886 верст железнодорожного пути – цифра, до того не достигавшаяся.
(обратно)16
Revue politique et parlamentaire. 1895.
(обратно)17
В издании 1911 г. Оценка прошлого в Британской энциклопедии, увы, иногда меняется от перемен в политической обстановке. В новом издании этих строк уже нет.
(обратно)18
В апреле в 1897 г. в Соляном городке в Санкт-Петербурге впервые показывали «живую фотографию» (кинематограф Люмьера): московские коронационные торжества (19 картин).
(обратно)19
Полуимпериал – старая 3-рублевая монета.
(обратно)20
Насколько зыбки и неопределенны были у русской интеллигенции представления о положении деревни, можно видеть из следующего примера: в книге «Влияние урожаев и хлебных цен…» имелось исследование Ф. А. Щербины о крестьянских бюджетах. Оно основывалось, между прочим, на весьма скудных и устарелых данных: обследовании 283 крестьянских хозяйств (из них 168 в Воронежской губ.), произведенном около 1880 г. Щербина приходил к выводу, что доход крестьянской семьи от 52 рублей 47 копеек до 58 рублей 51 копейки на душу. Для семьи в 8 человек (таково было большинство обследованных хозяйств) это составляло от 420 до 500 рублей в год. Цифра, конечно, не очень высокая – но во время прений в Вольно-экономическом обществе многие ораторы говорили, что крестьянское хозяйство имеет доход около 55 рублей в год, и никого эта цифра не поразила, хотя один только хлеб, потребляемый за год крестьянской семьей в 8 человек, определялся в тех же прениях в сумме около 150 пудов!
(обратно)21
О дальневосточных событиях см. дальше, гл. 5.
(обратно)22
Черноморский флот, запертый в проливах по Парижскому трактату, не мог учитываться при исчислении морской мощи России в свободных морях.
(обратно)23
Передовая статья 30 (18) августа 1898 г.
(обратно)24
За эти годы погашено внешних займов на 258 миллионов рублей, выпущено новых (конверсии) на 158 миллионов.
(обратно)25
Полковник Жилинский разъяснил, что для России к этой категории относятся войска в Средней Азии и в Амурском военном округе.
(обратно)26
Соглашение в Сеуле 2 (14) мая, подтвержденное в Москве 23 мая (9 июня) 1896 г.
(обратно)27
Это было то самое предложение, о котором упоминал государь в своем ответе императору Вильгельму (см. выше).
(обратно)28
Статья приведена в «Вестнике Европы» (1898. № 3).
(обратно)29
В. С. Соловьев скончался 31.VII.1900. Стихотворение «Дракон (Зигфриду)» написано в июле.
(обратно)30
Окончательное соглашение о размерах контрибуции, обеспеченной доходом от китайских таможен, состоялось только 7.IX.1901; Тяньцзинь и Шанхай были очищены от европейских войск только в 1902 г.
(обратно)31
Ссылка на поселение в Сибирь применялась как по судебным приговорам, так и в административном порядке, чаще всего – по постановлениям сельских обществ «за порочное поведение». С 1887 по 1899 г. в Сибирь было выслано 100 000 человек – 52 000 в административном порядке (из них 47 000 – по решению сельских сходов) и 48 000 – по суду. Одновременно с отменой ссылки в Сибирь было отменено и наказание розгами, применявшееся по решениям сельских обществ.
(обратно)32
Портрет этот был исполнен самим художником в двух экземплярах: один был изувечен при взятии большевиками Зимнего дворца, другой находится в Москве.
(обратно)33
Современник. Лондон, 1897.
(обратно)34
Приводим даты смены министров: путей сообщения – 1894 г.; иностранных дел и внутренних дел – 1896 г.; морского – 1896 г.; императорского двора – 1897 г.; военного и народного просвещения – 1898 г.; государственного контролера – 1899 г.
(обратно)35
Вот точные цифры: на 4017 студентов 1957 освобождены от платы, а 874 получают стипендии. На оказание помощи отпущено 419 070 рублей, не считая стоимости содержания студентов в Ляпинском общежитии и других «сумм, не поддающихся учету» (Доклад комиссии профессоров Московского университета о причинах студенческих волнений, 1901 г.).
(обратно)36
Какими приемами добивались единодушия, рассказывает в своих воспоминаниях В. В. Шульгин, в то время – правый студент Киевского университета: раздавались фотографии, изображавшие «зверства полиции», причем сколько-нибудь опытный глаз мог сразу различить, что фотографии эти сняты с рисунков!
(обратно)37
Первыми почетными академиками (в январе 1900 г.) были избраны: «К. Р.», граф Л. Н. Толстой, А. А. Потехин, В. Г. Короленко, А. П. Чехов, А. М. Жемчужников, граф А. А. Голенищев-Кутузов, В. С. Соловьев и А. Ф. Кони. Избран был в 1902 г. и М. Горький, но избрание его было аннулировано, так как он состоял под следствием по делу о революционной пропаганде.
(обратно)38
Народного просвещения (Н. П. Боголепов), внутренних дел (И. Л. Горемыкин), земледелия (А. С. Ермолов), финансов (С. Ю. Витте), военный (А. Н. Куропаткин) и управляющий Министерством юстиции (П. М. Бутовский).
(обратно)39
Книга пророка Исаии, XXXIV: 11–15.
(обратно)40
Насколько известно, составление этой записки было поручено А. Н. Гурьеву, ближайшему сотруднику Витте, молодому экономисту, уже игравшему роль при проведении валютной реформы.
(обратно)41
О рабочих организациях см. ниже, гл. 8.
(обратно)42
Выкупные платежи за 1894–1903 гг. составляли в среднем 92–93 миллиона рублей в год при общем государственном бюджете от 1145 миллионов (1894) до 2032 миллионов (1903).
(обратно)43
Речь в комиссии по упорядочению хлебной торговли в начале 1899 г.
(обратно)44
Серия статей под названием «Земледелие и забастовки» за 1901 г.
(обратно)45
Не многие знали, что все монастырские земли в России составляли менее полумиллиона десятин!
(обратно)46
Исследование экономического положения центрально-черноземных губерний. Труды особого совещания 1899–1901 гг. / Сост. А. Д. Поленов.
(обратно)47
Нужды деревни по работам комитетов сельскохозяйственной промышленности. Издание H. Львова и А. А. Стаховича при участии редакции газеты «Право». СПб., 1904.
(обратно)48
В двух – Пензенской и Архангельской – едва ли даже можно говорить о большинстве: речь идет об одном комитете, остальные не касались этого вопроса.
(обратно)49
Это писал в своей книге о России известный немецкий историк профессор Гетцш.
(обратно)50
В 1900 г. их числилось 2 373 000.
(обратно)51
Священного синода, Министерств народного просвещения, финансов, земледелия, Военного и Морского ведомств и т. д.
(обратно)52
Как известно, это был псевдоним З. П. Гиппиус.
(обратно)53
П. Крушеван был антисемитом особого толка. Он считал, что евреи, принявшие крещение, тем самым теряли всю свою «вредность». Он выдвигал (в газете «Знамя») утопический план «ультиматума» к евреям – либо креститесь, либо уезжайте из России. «Станьте такими же христианами, как мы сами, – писал он, – и нашими равноправными братьями, и полноправными гражданами великой России… Евреям-христианам предоставляются все права, все преимущества коренного населения страны, вплоть до замены своих фамилий русскими. Евреям пропорционально с другими сословиями страны даруются права на потомственное дворянство, титулы и ордена, распределяемые по жребию (!) между еврейской интеллигенцией. Не далее как через год исчез бы проклятый еврейский вопрос, и вместо семи миллионов врагов было бы семь миллионов братьев по Христу».
(обратно)54
Типичен для этих настроений рассказ Леонида Андреева «Губернатор».
(обратно)55
Совещание в Ялте, 27 октября 1902 г.
(обратно)56
С 64 000 до 150 500.
(обратно)57
7 броненосцев порт-артурской эскадры, 7 из 2-й эскадры и «Слава», не говоря о более старых судах вроде «Николая I» или «Александра II».
(обратно)58
«Россия», «Громобой», «Рюрик»; легкий крейсер «Богатырь» сел на камни в самом начале войны и был починен только к ее концу.
(обратно)59
15 апреля 1904 г.
(обратно)60
7 бронированных судов против 12, вместо 6 против 14 во времена С. О. Макарова.
(обратно)61
Один миноносец разбился о камни у китайского побережья.
(обратно)62
Подробности этого съезда изложены в воспоминаниях П. Н. Милюкова («Роковые годы», «Русские записки», 1938 г., июнь). О парижском совещании 1904 г. упомянул П. А. Столыпин в своей речи по запросу об Азефе, и П. Н. Милюков давал по этому поводу объяснения Государственной думе в заседании 13 февраля 1909 г.
(обратно)63
«Сисой Великий» и «Наварин»; «Адмирал Нахимов» и «Дмитрий Донской».
(обратно)64
«Сын Отечества», газета, выходившая еще в начале XIX в., была куплена левыми кругами у прежнего издателя.
(обратно)65
В основу этого совещания был положен всеподданнейший доклад, составленный, по поручению князя Святополк-Мирского, помощником начальника Главного управления по делам местного хозяйства С. Е. Крыжановским и содержавший обширную программу реформ.
(обратно)66
1. I.1904: 732,9 млн рублей; 1.I.1905: 878,2 млн рублей.
(обратно)67
В мае 1904 г. – заем во Франции на 300 млн рублей; ок. нового 1905 г. – в Германии на 232 млн рублей.
(обратно)68
№ 63. 20 (7).I.1905.
(обратно)69
Там же.
(обратно)70
Командующий Сибирским военным округом генерал Н. Н. Сухотин составил любопытную статистику политических «поднадзорных» по национальностям на 1 января 1905 г.: на 4526 человек русских было 1898; евреев 1676; поляков 624; кавказских народностей 124; прибалтийских 85; прочих 94. (Эти данные опубликованы были в «Красном архиве», т. XXXII.)
(обратно)71
Былое. 1917. № 3.
(обратно)72
О «сношениях Циллиакуса с японским полковником Акаши, который вручил ему значительные суммы денег на закупку оружия для восстаний в Петербурге и на Кавказе», упоминается в воспоминаниях П. Н. Милюкова (Русские записки. 1938. Июнь).
(обратно)73
Гуревич Л. Народное движение в Петербурге 9 января 1905 г. // Былое. 1906. № 1. Статья составлена по сотням документов и свидетельских показаний, собранных по свежим следам.
(обратно)74
Там же.
(обратно)75
Гуревич Л. Указ. соч.
(обратно)76
Гуревич Л. Указ. соч. Появившееся в «Революционной России», органе социалистов-революционеров, воззвание Гапона – действительно курьезный документ. После проклятий по адресу «зверя-царя», «шакалов-министров» и «собачьей своры чиновников» Гапон далее пишет: «Министров, градоначальников, губернаторов, исправников, городовых, полицейских стражников, жандармов и шпионов, генералов и офицеров, приказывающих в вас стрелять, – убивайте… Все меры, чтобы у нас были вовремя настоящее оружие и динамит, – знайте, приняты… На войну идти отказывайтесь… По указанию боевого комитета восставайте… Водопроводы, газопроводы, телефоны, телеграф, освещение, конки, трамваи, железные дороги уничтожайте… Раздавим внутренних кровожадных пауков нашей дорогой родины (внешние же не страшны нам)». (См.: Освобождение. 18 (5). III.1905. № 67.)
(обратно)77
Доклад полковника Новицкого в Николаевской военной академии, комментарии германского Главного штаба к русской официальной истории войны и т. д.
(обратно)78
По японским сведениям, всего 41 000; установлено, однако, что японцы сознательно и систематически приуменьшали свои потери.
(обратно)79
«Князь Суворов», «Бородино», «Император Александр III».
(обратно)80
Всероссийский Союз союзов организовался в начале мая. Состав его менялся. Первоначально в него входили 14 союзов: писателей, инженеров, профессоров, преподавателей средних школ, низших школ, земцев, городских гласных, музыкантов, художников, артистов, конторщиков, бухгалтеров, чиновников – и «всероссийский Крестьянский союз». Все это были по большей части не организации целых профессиональных слоев, а только «инициативные группы».
(обратно)81
В беседе с корреспондентом Echo de Paris (2 января) адмирал Дубасов говорил, что после взятия Порт-Артура адмирал Рожественский едва ли может рассчитывать на победу. «Не задумываясь скажу, что мы идем к близкому миру; мы оставим японцам Порт-Артур и ту часть Маньчжурии, которую они занимают». «Россия создаст себе сильный и неуязвимый флот, – заключал адмирал, – вот тогда мы сыграем вторую половину партии, но имея на этот раз все козыри в руках».
(обратно)82
Ввиду сильной летней жары конференция была перенесена в более северный приморский курорт Портсмут.
(обратно)83
Предисловие к книге: Russia and its crisis. New York, 1905.
(обратно)84
Союз союзов в своем воззвании 25 мая прямо заявлял: «Всеми силами, всеми мерами добивайтесь немедленного устранения захватившей власть (!) разбойничьей шайки и поставьте на ее место Учредительное собрание».
(обратно)85
В делегацию вошли (в порядке полученных на съезде голосов): граф П. А. Гейден, князь Г. Е. Львов, Н. Н. Львов, И. И. Петрункевич, Д. Н. Шипов, князь Петр Д. Долгоруков, Ф. А. Головин, князь Павел Д. Долгоруков, Н. Н. Ковалевский, Ю. А. Новосильцев, Ф. А. Родичев, князь Д. И. Шаховской.
(обратно)86
Псевдоним П. Н. Милюкова.
(обратно)87
Известный германский экономист и государственный деятель К. Гельфферих пишет в своем исследовании о финансовой стороне Русско-японской войны, что к ее окончанию русский Государственный банк мог выпустить еще на 440 миллионов бумажных денег, так что Россия без новых займов и без приостановки размена могла вести войну еще по крайней мере полгода; а если бы она решилась, как в 1854 г., как Франция в 1870 г. (и как все державы в мировую войну), прибегнуть к своему золотому запасу, его хватило бы по крайней мере еще на год, тогда как Япония обладала в восемь раз меньшим запасом. «Нельзя не признать, что русский государственный кредит держался удивительно хорошо в тяжелые времена восточноазиатской войны и внутренних потрясений. Это не мнение, о котором можно спорить, а бесспорный факт, которого не может отрицать самый ослепленный фанатик… В области финансовой политики у столь поносимой России можно многому поучиться» (Helfferich K. Das Geld im russisch-japanischen Krieg. Berlin, 1906).
(обратно)88
Dennett T. Roosevelt and the russo-japanese war. New York, 1925. Р. 297.
(обратно)89
Телеграмма эта гласила: «Япония приняла Ваши требования относительно мирных условий, и таким образом мир будет восстановлен благодаря мудрым и твердым решениям Вашим и в точности согласно предначертаниям Вашего Величества. Россия остается на Дальнем Востоке великой державой, каковой она была доднесь и останется вовеки».
(обратно)90
1 012 000 человек.
(обратно)91
Барон М. А. Таубе, разбирающий этот вопрос в своей книге «На пути к великой катастрофе», высказывает правдоподобное предположение, что Витте этим хотел приобрести симпатии великого князя Николая Николаевича, относившегося к Бьеркскому договору определенно отрицательно.
(обратно)92
Гражданин. 10.X.
(обратно)93
Новое время. 11.X.
(обратно)94
Слово. 13.X.
(обратно)95
Новое время. 14.X.
(обратно)96
П. Н. Милюков на банкете вечером 17 октября также высказался о манифесте скептически: «Вместо горячей торжествующей речи я вылил на окружающую меня и успевшую повеселеть толпу целый ушат холодной воды. Да, говорил я, это успех большой. Но ведь не первый! Это новый этап борьбы» (Роковые годы // Русские записки. 1939. Январь).
(обратно)97
Об этом рассказывал в Первой думе депутат от Екатеринослава, Способный.
(обратно)98
По этому поводу произошел любопытный разговор между Витте и полковником Мином. Премьер, по просьбе «общественных кругов», обратился к нему по телефону с предложением «не заграждать улиц». «Я не имею права вмешиваться в распоряжение вашего начальства и говорю вам не как первый министр, а как русский гражданин, любящий свое отечество». Г. А. Мин ответил: «С вами говорит русский гражданин, любящий свое отечество так же, как вы, если не больше… Я не могу допустить, чтобы часть моего полка была окружена толпой и отрезана от казарм… Самое лучшее, граф, если вы сами явились бы на площадь. Вы так умеете владеть толпою, говорить с ними; успокойте ее, убедите разойтись… Как это будет торжественно и полезно». Витте, разумеется, не последовал такому приглашению и в заключение сказал: «Действуйте так, как найдете нужным».
(обратно)99
К. П. Победоносцев (обер-прокурор Синода), В. Н. Коковцов (министр финансов), генерал Глазов (министр народного просвещения), князь Хилков (министр путей сообщения), П. Х. Шванебах (упр. землеустройством и земледелием); генерал Лобко (государственный контролер), А. Г. Булыгин (министр внутренних дел), великий князь Александр Михайлович (торговое мореплавание).
(обратно)100
Новое время. 24.X.
(обратно)101
Назначены были: князь А. Д. Оболенский (обер-прокурор Синода), К. С. Немешаев (пути сообщения), граф И. И. Толстой (народное просвещение); И. П. Шипов (финансы), Н. Н. Кутлер (земледелие), В. И. Тимирязев (торговля), Д. А. Философов (государственный контроль). Из них только князь А. Д. Оболенский сыграл известную роль при попытке созыва Церковного собора.
(обратно)102
В этой программе говорилось о неосуществимости 8-часового рабочего дня.
(обратно)103
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь… Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть».
(обратно)104
Новое время. 6.XI.
(обратно)105
Там же. 11.I.
(обратно)106
С. Е. Крыжановский, которому граф Витте как раз в эти дни поручил составление проектов новых законов, дает о нем такой отзыв: «В голове его был хаос, множество порывов, желание всем угодить, – и никакого определенного плана действий. Вообще вся его личность производила впечатление, не вязавшееся с его репутацией. Может быть, в финансовой сфере, где он чувствовал почву под ногами, он и был на высоте, но в делах политики и управления производил скорее впечатление авантюриста, чем государственного деятеля». (Крыжановский С. Е. Воспоминания. Берлин, 1938).
(обратно)107
Начало. 23.XI.
(обратно)108
Новая жизнь. 26.XI.
(обратно)109
В последних трех городах были быстро ликвидированы вспышки бунта в воинских частях.
(обратно)110
Там же. 24.XI.
(обратно)111
А. Биценко после революции 1917 г. участвовала в делегации советской власти при переговорах в Брест-Литовске.
(обратно)112
Эта беседа была опубликована позже – правая газета «Объединение», напечатавшая ее, была привлечена к суду за нарушение правил придворной цензуры, но содержание речей опровергнуто не было.
(обратно)113
Это составляло 3,4 % общего их числа.
(обратно)114
Троцкий Л. 1905 год.
(обратно)115
За время работ Думы прибыли еще новые депутаты с Кавказа и из Азиатской России. Партийный состав до конца оставался несколько расплывчатым. В Думе было около 170 конституционных демократов, 100 трудовиков, 15 социал-демократов, 70 «автономистов» (поляки, литовцы и т. д.), 30 умеренных и правых (26 из них в июне вошли в группу «мирного обновления») и 100 беспартийных, почти исключительно крестьян.
(обратно)116
В конце апреля съезд социал-демократов отменил бойкот, и несколько рабочих образовали в Думе группу социал-демократов, которая затем пополнилась грузинскими депутатами с Кавказа.
(обратно)117
Впечатления члена Госсовета по выборам графа Д. А. Олсуфьева в саратовской газете «Голос правды».
(обратно)118
Председатель – С. А. Муромцев; товарищ председателя – князь Петр Д. Долгоруков и Н. А. Гредескул; секретарь – князь Д. И. Шаховской.
(обратно)119
Народный вестник. 20.V. В конце июня в том же Севастополе был убит командующий Черноморским флотом адмирал Г. П. Чухнин.
(обратно)120
Число революционных убийств за первые месяцы 1906 г.: январь – 80; февраль – 64; март – 50; апрель – 56; май – 122; июнь – 127 (Новое время. 12.IX).
(обратно)121
П. Н. Милюков не попал в Думу, так как у него не оказалось квартирного ценза (требовался годовой срок), но остался наиболее влиятельным лидером партии и из-за кулис руководил деятельностью конституционных демократов в Первой думе.
(обратно)122
Новое время. 24.VI.
(обратно)123
С обеих сторон – 9 убитых, считая 8 погибших при взрыве порохового погреба.
(обратно)124
В день похорон генерала Мина командир гвардейского корпуса генерал-адъютант Данилов издал приказ, гласивший: «Клянусь и призываю всю старую Императорскую гвардию поклясться со мною, так же, как и Ты, храбро и безбоязненно соблюсти верность нашему природному Государю и Родине. А если бы кому и пришлось пережить минуты случайного колебания, пусть придет в храм лейб-гвардии Семеновского полка помолиться у Твоего праха и почерпнет новые несокрушимые силы для исполнения своего долга. Семеновская церковь приобрела для нас особое значение исцеления от самого ужасного недуга – колебания».
(обратно)125
Вестник Европы. 1906. Сентябрь.
(обратно)126
Адмирал Дубасов просил государя о помиловании того, кто на него покушался. П. А. Столыпин высказался против такого исключения, и государь ответил Ф. В. Дубасову (4.XII.1906): «Полевой суд действует помимо вас и помимо Меня; пусть он действует по всей строгости закона. С озверевшими людьми другого способа борьбы нет и быть не может. Вы Меня знаете, я незлобив: пишу Вам совершенно убежденный в правоте моего мнения. Это больно и тяжко, но верно, что, к горю и сраму нашему, лишь казнь немногих предотвратит моря крови и уже предотвратила». (Последние слова – от «к горю и сраму нашему» – процитированы государем из письма П. А. Столыпина.)
(обратно)127
Железнодорожная катастрофа в Борках в 1888 г.
(обратно)128
В Петербурге получили (в скобках – выборы в Первую думу): левый блок – 16 000 (—); конституционные демократы – 28 000 (40 000); октябристы – 16 000 (18 000); правые – 5000 (3000); в Москве: левый блок – 5000 (—); конституционные демократы – 21 000 (26 000); октябристы – 10 000 (12 000); правые – 3000 (2000).
(обратно)129
Состав Второй думы по фракциям: социал-демократы – 65; социалисты-революционеры – 34; трудовая группа – 101; народные социалисты – 14; конституционные демократы – 92; мусульмане – 31; польское коло – 47; казаки – 17; октябристы и умеренные – 32; правые – 22; беспартийные – 50. (Большинство правых, особенно духовенство и крестьяне, числились беспартийными.)
(обратно)130
За время действия этих судов по их приговорам было казнено 683 человека.
(обратно)131
В конце марта была арестована группа человек в тридцать, готовившая покушение на государя, великого князя Николая Николаевича, П. А. Столыпина и И. Г. Щегловитова.
(обратно)132
Новое время. 22. IX. 1906.
(обратно)133
Русская мысль. 1908. Апрель.
(обратно)134
Пример проектов, стоявших на повестке общего собрания Государственной думы (9.I.1908):
1) о порядке заведования храмом Воскресения Христова в Санкт-Петербурге;
2) о создании штатной должности учителя литовского языка в Вейверской учительской семинарии;
3) о переименовании должностей военного губернатора в Акмолинской и Семипалатинской областях и т. д.
(обратно)135
Пример: если ценз для данного уезда установлен в 300 десятин, то лица, владеющие свыше 300 десятин, сами участвуют в собрании выборщиков, а остальные собираются на съезды. Если соберется, скажем, 500 владельцев, вместе имеющих 3000 десятин, – они избирают 10 уполномоченных.
(обратно)136
Состав губернских присутствий: губернатор; вице-губернатор; губернский предводитель дворянства; управляющий казенной палатой; прокурор; городской голова губернского города; председатель губернской земской управы и гласный по выбору губернского земства.
(обратно)137
Помощник командующего войсками Санкт-Петербургского военного округа генерал Газенкампф писал премьеру, что «казнить мелких грабителей из уличных подонков – значит не только ронять грозное значение смертной казни, но еще и утверждать в массах мнение, что правительство только отвечает устрашением на устрашение». П. А. Столыпин (10.II.1908) ответил: «Не могу с Вами согласиться. Грабеж и разбой, в которые вылилось в настоящее время охватившее Россию в 1905 г. революционное движение, должны быть уничтожены беспощадно».
(обратно)138
Клингенберг, однако, добавлял: «Смута окончательно искоренится лишь тогда, когда революционным рабочим организациям будут противопоставлены контрреволюцией рабочие организации, под каким бы девизом они ни создавались».
(обратно)139
Состав съезда был следующий: 33 правых, 33 умеренных, 44 октябриста, 4 мирнообновленца, 10 конституционных демократов.
(обратно)140
В Москве по первой курии октябристы получили 2100 голосов, конституционные демократы – 1800, правые – 400; по второй: конституционные демократы – 16 000, октябристы – 6000, левые – около 3000, правые – 2000. В Петербурге по первой курии октябристы имели 1000, конституционные демократы – 800, правые – 300; по второй – конституционные демократы получили 20 000, октябристы – 9000, левые – 8000, правые – 4500.
(обратно)141
Состав Третьей думы по фракциям (в начале ее работы): правых – 50; националистов – 26; умеренно правых – 71; октябристов – 154; прогрессистов (мирнообновленцев) – 28; конституционных демократов – 54; трудовиков – 13; социал-демократов – 20; инородческих групп: поляков – 11, польско-литовские группы – 7, мусульман – 8. Таким образом, правых было 147, центра 154, левых 141 (из 442). Впоследствии произошли некоторые перемены; особенно уменьшилась фракция октябристов.
(обратно)142
Выборщики от рабочей партии избирались съездами уполномоченных. На всех этих съездах большинство имели социал-демократы. Так как избрание одного депутата от этой курии было обязательным, а все рабочие выборщики, кроме намеченного партией кандидата, отказывались баллотироваться – правые губернские собрания были вынуждены избирать в Думу социал-демократов.
(обратно)143
Состав президиума Третьей думы: председатель Н. А. Хомяков; товарищ председателя князь В. М. Волконский и барон М. Ф. Мейендорф; секретарь профессор И. П. Сазанович; старший помощник секретаря Г. Г. Замысловский.
(обратно)144
Министр затем разрешил вольнослушательницам, уже состоявшим в университете, окончить курс.
(обратно)145
Речь в Совете по делам местного хозяйства 11 марта 1908 г.
(обратно)146
В январе 1909 г.
(обратно)147
Состав комиссии: предводитель дворянства, председатель уездной управы, непременный член от Министерства земледелия, член окружного суда, 3 выборных от крестьян, местный земский начальник и представитель общины, где производятся работы.
(обратно)148
В начале 1911 г. было главных землемеров 770, землемеров – 1660, помощников землемеров – 2670.
(обратно)149
С начала войны принятие новых прошений было приостановлено, и продолжались только начатые работы; на 1 мая 1916 г. были выделены участки 1 358 000 домохозяев, с 13 833 000 десятин, или около 8 % всей площади крестьянских земель.
(обратно)150
Азеф прожил после этого еще лет десять за границей под другой фамилией; он умер от болезни почек весною 1918 г. в Берлине.
(обратно)151
Сенат смягчил эту кару до ссылки на поселение.
(обратно)152
Азеф (носивший также фамилию Липченко) изображен, может быть, в романе Андрея Белого «Петербург» под псевдонимом Липпанченко.
(обратно)153
Более левые круги отнеслись к новым течениям иронически. Е. Д. Кускова писала в «Правде жизни»: «Одни позабыли и думать о науке и обнялись со средневековой божественностью. Это, пожалуй, самые безвредные. Но кто за ними в XX веке пойдет?.. Приди сам Петр Амиенский, и тот теперь не соберет пяти человек в крестовый поход».
(обратно)154
Сам Витте так выражается об этом выступлении в своих мемуарах: «Я сорвал со Столыпина маску и показал, что в угоду думскому большинству он желает ограничить власть Государя Императора».
(обратно)155
Речь идет о дополнительных выборах по второй курии Петербурга осенью 1909 г., когда прошел конституционный демократ Н. Н. Кутлер, получивший 12 500 голосов.
(обратно)156
Вестник Европы. 1909. № 11.
(обратно)157
Новое время. 3.X.1909.
(обратно)158
Во время поездки государя во Францию в 1901 г. Сжатой и выразительной сводкой земельной политики всего царствования служит высочайший рескрипт 19 февраля 1911 г. (по поводу 50-летия освобождения крестьян): «…Я поставил себе целью завершение предуказанной еще в 1861 г. задачи создать из русского крестьянина не только свободного, но и хозяйственно сильного собственника. В сих видах наряду с отменой круговой поруки, сложением выкупных платежей и расширением деятельности Крестьянского Поземельного банка Я признал благовременным, отменив наиболее существенные стеснения в правах крестьян, облегчить их выход из общины, а также переход на хуторское и отрубное хозяйство; в связи с этим приняты меры к насаждению в земледельческой среде мелкого кредита и распространению в ней сельскохозяйственных усовершенствований и знаний…»
(обратно)159
Об этом упоминает дочь А. П. Извольского в своем предисловии к неоконченным мемуарам своего отца.
(обратно)160
«Nur gruess mich nicht unter den Linden».
(обратно)161
Заседание Госдумы 2 марта 1911 г.
(обратно)162
Новое время. 27.X.1910.
(обратно)163
Генерал Ю. Н. Данилов в своей книге «Участие России в мировой войне» подробно разъясняет технические основания этих военных мер.
(обратно)164
Речь 31.III.1910.
(обратно)165
Заседание Государственной думы 2.III.1910.
(обратно)166
П. А. Столыпин писал государю о своей поездке в Сибирь: «…растет сказочно… в несколько последних месяцев выросли большие поселки, чуть ли не города». Но он предвидел и осложнения в будущем: искусственно насаждают общину в стране, которая привыкла к личной собственности; не подумали о насаждении частной земельной собственности; если не принять мер – в Сибири «бессознательно и бесформенно создастся громадная, грубо демократическая страна, которая задавит Россию Европейскую».
(обратно)167
Голос Москвы, начало февраля 1912 г.
(обратно)168
Новый устав заменял бесплатное «кормление» всех крестьян в районах, пострадавших от неурожая, более целесообразной организацией: состоятельным крестьянам продовольствие и семена выдавались в виде ссуды; для других устраивались общественные работы (постройка дорог, каналов), и бесплатная помощь оказывалась только «маломощным». Как сказал П. А. Столыпин, эта мера положила предел «развращающему началу казенного социализма». (Речь 9.XI.1910.) Устав этот был впервые с успехом применен на практике во время продовольственной кампании 1911–1912 гг.
(обратно)169
П. Г. Курлов в своих мемуарах утверждает, будто Мациевич был социалистом-революционером и собирался убить Столыпина при полете, но почему-то не решился.
(обратно)170
Слово. 10.III.1909.
(обратно)171
Витебская, Минская, Могилевская, Киевская, Волынская, Подольская.
(обратно)172
Подробное изложение этого важного разговора со слов Столыпина имеется в мемуарах графа В. Н. Коковцова (Коковцов В. Н. Из моего прошлого. Т. I. С. 452–458). Насколько известно, это единственное существующее изложение.
(обратно)173
П. Н. Дурново подчинился и до осени не бывал в Государственном совете; В. Ф. Трепов из протеста сложил с себя звание члена Государственного совета и вообще покинул государственную службу.
(обратно)174
Это была последняя публичная речь П. А. Столыпина.
(обратно)175
В этом смысле П. А. Столыпин поручил А. П. Извольскому осветить происшедшее во французской печати.
(обратно)176
Заключение сенатора М. И. Трусевича.
(обратно)177
Распространению этой легенды – кроме желания врагов власти использовать всякое орудие для борьбы с нею – способствовало еще одно обстоятельство: полковник Кулябко, желая оправдаться в преступном легкомыслии, старался всячески преувеличить заслуги Богрова как охранника и этим, сам того не сознавая, продолжал дело самого Богрова.
(обратно)178
Илиодор вскоре после этого обнаружил свою истинную природу: он заявил, что отрекается от православия. «Колдуном я раньше был, народ морочил, – говорил он корреспонденту «Речи» (9.I.1913). – Я – деист. Языческая религия – она была хорошая».
(обратно)179
Расследования производились как церковными властями, так и известным знатоком сектантства Бонч-Бруевичем.
(обратно)180
Дату писем можно приблизительно установить по тому, что среди них была записка от наследника (крестик и вырисованная буква «А», явно относившаяся ко времени, когда он еще не умел писать). Об этом эпизоде говорится в мемуарах графа В. Н. Коковцова. Хотя распространители при этом и ссылались на имя Гучкова, нельзя считать доказанным, что бывший председатель Госдумы действительно был вдохновителем этой гнусной кампании, вызвавшей у государя чувство гадливости и глубочайшего негодования.
(обратно)181
По первой курии Москвы был забаллотирован Гучков. Он получил всего 1300 голосов, против 2100 в 1907 г., тогда как кадеты выиграли против 1907 г. всего 250 голосов; очевидно, за Гучкова не стала голосовать на этот раз и часть правых.
(обратно)182
Состав Четвертой думы (в скобках цифры в начале Третьей думы): правые 65 (50); националисты 88 (96); центр 32 (—); октябристы 98 (153); прогрессисты 48 (28); конституционные демократы 59 (54); мусульмане 6 (8); поляки 15 (18); трудовики 9 (13); с.-д. 15 (20); из 7 беспартийных 3 правых и 2 левых. Итого – правая 156 (146), центр 130 (153), оппозиция 154 (141).
(обратно)183
Князь Д. Д. Урусов, которого затем сменил Н. Н. Львов.
(обратно)184
Подробное описание романовских торжеств имеется в книге В. И. Назанского «Крушение Великой России и Дома Романовых», изданной в Париже в 1930 г. (с. 73–141).
(обратно)185
Граф В. Н. Коковцов, который пишет в своих мемуарах, что во время поездок государя он не заметил «настоящего энтузиазма», все же отмечает: «Большое впечатление произвела только Кострома. Государь и Его Семья были окружены сплошной толпой народа, слышались неподдельные выражения радости».
(обратно)186
По данным Министерства торговли, политических забастовок в 1910 г. было 8; в 1911–24; в 1912–1300; за январь – сентябрь 1913 г. – 711.
(обратно)187
В своих мемуарах барон М. А. Таубе приводит отрывки из неопубликованных писем государя к князю В. П. Мещерскому, разделявшему мнение о необходимости улучшить отношения между Россией и Германией во избежание великих катастроф.
(обратно)188
В 1890 г. почтовых отправлений – 384 127 000, телеграмм – 57 046 000; в 1910 г. – 2 056 085 000 и 195 457 000.
(обратно)189
Включая военные и морские заводы и железные дороги. Средний заработок рабочих в 1912 г., по данным фабричной инспекции, составлял 255 р. в год – от 447 р. (рабочие электростанций) и 425 р. (машиностроительные заводы) до 180 р. (обработка льна, пеньки) и 156 р. (обработка пищевых продуктов). В 1901 г. средний заработок был 201 р. Поденная плата чернорабочих (по офиц. расчету страховых присутствий для исчисления пенсий при несчастных случаях) составляла в 1913–1914 гг. от 1 р. 20 к. (Одесса) и 1 р. 10 к. (Санкт-Петербург) до 60 к. (Казанская, часть Саратовской губ.) и 54 к. (Тамбовская губ.) в день.
(обратно)190
Земские и городские сметы увеличились значительно сильнее, чем государственные: с 60 до 300 миллионов для земства, с 60 до 300 миллионов для городов.
(обратно)191
Железные дороги на 1.I.1912: 63 972 в.; на 1.I.1915: 66 165 в. (с Восточно-Китайской, но без финляндских ж. д.). В 1894 г. было 32 000 в. Телеграфных проводов (в 1910 г.) 660 000 в. (313 000 в. в 1895 г.). Пароходов в 1895 г. было 2539, в 1906 г. – 4317.
(обратно)192
Дредноуты «Гангут», «Петропавловск», «Полтава», «Севастополь», строящиеся крейсера-дредноуты «Бородино», «Измаил», «Кинбурн», «Наварин». Ко времени их окончания (около 1917 г.) русский флот с 11 новейшими линейными кораблями должен был снова достигнуть четвертого места в ряду мировых флотов (после Англии, Германии и Соединенных Штатов). Япония к тому времени должна была иметь 10 дредноутов.
(обратно)193
«Императрица Мария», «Император Александр III», «Императрица Екатерина II».
(обратно)194
Thery E. La transformation economique de la Russie. Париж, 1914. Предисловие, из которого взяты вышеприведенные строки, помечено январем 1914 г.
(обратно)195
Preyer W. D. Die russische Agrarreform. Jena, 1914.
(обратно)196
Около 800 миллионов золотых франков или 28 миллионов английских фунтов; во Франции в том же году 347 миллионов франков, в Англии – 18,5 миллиона франков.
(обратно)197
Всего детей школьного возраста (если исходить из четырехлетнего курса начальных школ) было в 1912 г. около 14 миллионов.
(обратно)198
«Лекции о России», гектограф, издание генерала Е. К. Миллера.
(обратно)199
О числе книг и периодических изданий и России за 1908 г. имеются следующие данные: периодических изданий было 2028, в том числе 440 ежедневных. Книг и брошюр (не считая отчетов обществ и т. д.) издано 23 852 названия, 70 841 000 экземпляров, на сумму в 25 миллионов рублей. Более двух третей книг приходилось на большие издательства, из них самое крупное – И. Д. Сытина (свыше 12 миллионов книг почти на 3 миллиона рублей).
(обратно)200
За первые три года, 1909–1911, было 4095 «экскурсантов». С возрастающим успехом экскурсии продолжались вплоть до лета 1914 г.
(обратно)201
Тотомианц В. Кооперация в России. Прага, 1922.
(обратно)202
В июньской книжке журнала «Заветы» за 1914 г.
(обратно)203
Подробное изложение итогов предсоборного присутствия в 1906 г. см. в: Суетов Ф. // Ученые записки Юрьевского Университета. 1912. № 1.
(обратно)204
Meyendorf А. The background of the Russian revolution. New York, 1928.
(обратно)205
Азиатская Россия. Т. II. С. 616.
(обратно)206
Сюда относятся области Якутская и Камчатская, северная часть Тобольской и Енисейской губерний, Киренский и Олекминский уезды Иркутской губернии, Баргузинский отдел Забайкальской области.
(обратно)207
Томская и южная часть Енисейской губернии, Акмолинская область и Кустанайский уезд Тургайской области.
(обратно)208
Земли переселенцам предоставлялись за почти номинальную плату 4 рубля с десятины, с рассрочкой на 49 лет.
(обратно)209
1894 г.: 400 пудов, 4000 рублей; 1904 г.: 2 003 000 пудов, 23,6 миллиона рублей; 1912 г.: 4 459 000 пудов, 68 миллионов рублей.
(обратно)210
Азиатская Россия. Т. II. С. 407.
(обратно)211
Записка разделена на главы; их заголовки, прочтенные подряд, передают ее суть:
«1) Будущая англо-германская война превратится в вооруженное столкновение между двумя группами держав. 2) Трудно уловить какие-либо реальные выгоды, полученные Россией в результате ее сотрудничества с Англией. 3) Жизненные интересы Германии и России нигде не сталкиваются. 4) В области экономических интересов русские польза и нужды не противоречат германским. 5) Даже победа над Германией сулит России крайне неблагоприятные перспективы. 6) Борьба между Россией и Германией глубоко нежелательна для обеих сторон как сводящаяся к ослаблению монархического начала. 7) Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой трудно предвидеть. 8) Германии в случае поражения предстоит перенести не меньшие социальные потрясения. 9) Мирному сожительству культурных наций более всего угрожает стремление Англии удержать ускользающее от нее господство над морями».
(обратно)212
Записка Дурново была опубликована в советском журнале «Красная новь» в 1922 г. и в мюнхенском русско-немецком журнале «Ауфбау» в 1921 г.
(обратно)213
Обратное заключение для последних лет получается только вследствие статистической ошибки: вывоз в Германию по морю через устье реки Рейна у нас числился под рубрикой «вывоза в Голландию», между тем как около 90 % товаров просто следовало транзитом в Германию.
(обратно)214
Впечатления члена Русского собрания Ю. С. Карцова о германских настроениях еще летом 1910 г. (Новое время. 29.VI.1910).
(обратно)215
Государь повелел это дело прекратить, пометив на докладе: «Надеюсь, что впредь председатель Госдумы не допустит суждений, противных закону и присяге».
(обратно)216
А. И. Гучков, в качестве гласного Петербургской городской думы, внес предложение отпустить 100 000 рублей на помощь семьям бастующих, но это демонстративное предложение было опротестовано градоначальником.
(обратно)217
См. выше: Книга первая, глава 5.
(обратно)218
Международные отношения в эпоху империализма. Серия третья. Т. V. С. 496.
(обратно)219
«И тут ложь», – пометил государь на докладе об этой германской ноте.
(обратно)220
А. Ф. Керенский сделал, однако, характерную оговорку: «Мы верим, что на полях бранных, в великих страданиях, укрепится братство всех народов России и родится единая воля, которая освободит страну от страшных внутренних пут».
(обратно)221
Помощник управляющего делами Совета министров А. Н. Яхонтов указывает, что к концу ноября 1914 г. ассигнования правительства союзам выразились в сумме около 43 миллионов рублей. На 20 сентября 1916 г. сумма эта достигла 553 459 829 рублей. Цифры эти охватывают лишь ассигнования, проведенные через Совет министров после предварительного обсуждения их совещанием, состоявшимся в Военном министерстве под председательством генерала Веденяпина. Сверх того союзам выдавались авансы и командованием на театре военных действий (Возрождение. 8.VIII.1936. № 4038).
(обратно)222
Под Танненбергом (Грюнвальдом) в 1410 г. соединенные польско-литовские войска нанесли сокрушительное поражение немецким орденским рыцарям. Об этой битве говорилось в воззвании великого князя Николая Николаевича к полякам.
(обратно)223
В декабре 1914 г. в сберкассы поступило 29,1 миллиона рублей; в декабре 1913 г. – всего 0,7 миллиона рублей; за первые две недели января 1915 г. – 15,3 миллиона против 0,3 миллиона рублей за тот же период в 1914 г. и т. д.
(обратно)224
«Немцы, населяющие Россию, всегда считали ее своей матерью и своей родиной, и за достоинство и честь великой России они все, как один человек, сложат свои головы», – говорил Л. Г. Люц.
(обратно)225
Пять депутатов-большевиков и несколько частных лиц – среди них журналист Л. Б. Розенфельд (Каменев) – были задержаны 4 ноября 1914 г. на конференции в Озерках. Принятое конференцией воззвание к студентам носило явно пораженческий характер: «Великие идеи панславизма и освобождения народов из-под власти Германии и Австрии и покорение их под власть русской нагайки явно мерзостны и гнусны… Организуйте массы, подготовляйте их к революции. Время не терпит. Близок день. Вспомните, что было после Русско-японской войны».
Попытки устроить забастовки протеста против суда над социал-демократами не удались. 10 февраля они были приговорены к ссылке на поселение.
(обратно)226
Оно так и осталось невыясненным. Больше того, уже после революции в печати появились данные, возбуждающие серьезные сомнения в виновности Мясоедова и изображавшие все дело как результат сложных интриг. См.: Архив русской революции. Т. XIV. Суд над Мясоедовым (впечатления очевидца). Капитан Б., бывший свидетелем на суде над Мясоедовым, утверждает, что против него не было никаких улик в смысле шпионажа; и для основания смертного приговора в нем было упомянуто о «мародерстве», выразившемся в том, что Мясоедов взял две статуэтки из брошенного дома в Восточной Пруссии: «Его смерть была нужна толпе, подобно тому, как в 1812 году московской толпе нужна была смерть купеческого сына Верещагина».
(обратно)227
В своей книге The Russian army in the world war, изданной в Америке Институтом Карнеги в 1931 г.
(обратно)228
Представление о том, что недостаток снарядов был результатом какой-то «измены», было распространено даже в высших военных кругах – примером может служить хотя бы известная речь генерала А. И. Деникина о русском офицере в 1917 г.; в ней говорилось про «редкий гул родной артиллерии, изменнически лишенной снарядов».
(обратно)229
Принимая (27 июля) на себя председательство в военно-промышленном комитете, А. И. Гучков не скрывал, что видит основную задачу в политических переменах. Он говорил, что у него «ослаблена и подорвана вера в возможность плодотворных результатов наших усилий… Если не удастся достигнуть известных успехов, то все наши усилия и все наши жертвы, весь наш энтузиазм, наш пыл вылетят в трубу, как чад».
(обратно)230
От России были: социал-демократы (большевики) Ленин и Зиновьев; социал-демократы (меньшевики) Мартов и Аксельрод; социалисты-революционеры Натансон и Чернов; группа «Наше слово» – Троцкий; кроме того, латышский социал-демократ Берзин. От Польши был также Радек, а от Балкан – Раковский.
(обратно)231
«Письмо и по тону, и по существу столь неприлично, что я отвечать не намерен», – сказал в Совете министров И. Л. Горемыкин, и остальные министры его одобрили.
(обратно)232
«Союзники России мало сделали для того, чтобы отплатить за русские жертвы, принесенные ради них в 1914 г.», – признает Британская энциклопедия (Brit Encycl., 14-е изд., статья World War).
(обратно)233
Точное число беженцев не установлено. Называли цифру до 6 миллионов. Татианинский комитет помощи беженцам зарегистрировал их 3 306 051, но в это число не вошли многочисленные беженцы, не прибегавшие к помощи комитета.
(обратно)234
Совещания блока воспроизводятся из записей П. Н. Милюкова, напечатанных в «Красном архиве», т. 50–51 и 52.
(обратно)235
Международные отношения в эпоху империализма. Т. IX. Донесение генерала Жилинского генералу Алексееву от 18–31.XII.1915.
(обратно)236
В книге, изданной Институтом Карнеги, Russian local government during the war and the Union of Zemstvos.
(обратно)237
До 1.I.1916 Общеземский союз получил от казны 115 миллионов рублей: Союз городов – 32 миллиона рублей. За январь – август 1916 г. было отпущено, таким образом, 317 миллионов рублей (и 93 миллиона рубля – Петроградской и Московской городским думам). Правительство Штюрмера, таким образом, широко отпускало средства «общественным организациям».
(обратно)238
По сообщению А. Н. Яхонтова, Военно-промышленный комитет, по настоянию его председателя А. И. Гучкова, получил право отчислять на свои нужды не свыше 1 % со стоимости передаваемых при его посредстве заказов на оборону.
(обратно)239
Приводим ниже те «советы», которые Распутин передавал через государыню:
Распутин (6.IV.1915) не советует государю ехать в Галицию до окончания войны: поездка состоялась.
Р. (17.VI.1915) не советует созывать Госдуму: Дума созывается.
Р. советует (15.XI.1915) «начать наступление около Риги». Нечего и говорить, что никакого наступления не происходит.
Р. (15 и 29.XI.1915), наоборот, убеждает созвать Госдуму: «Теперь все желают работать, нужно оказать им немного доверия». Созыв Думы откладывается на февраль.
Р. умоляет (12.X.1916) «остановить бесполезное кровопролитие» – атаки на Ковельском направлении; в этом он сходился с весьма широкими кругами, включая деятелей блока; на военных операциях эти «мольбы», опять-таки, не отразились никак.
Р. «предлагает» в министры финансов гр. Татищева (19.XII.1915), в военные министры – генерала Иванова (29.I.1916), в министры путей сообщения – инженера Валуева (10.XI.1916); государь просто игнорирует эти «предложения», он даже не отвечает на них государыне. Генерал Н. И. Иванов, кстати, около того же времени увольняется с должности командующего Юго-Западным фронтом…
Р. просит: не назначать Самарина (16.VI.1915); не назначать Макарова (23.V.1916). Такое же игнорирование со стороны государя.
Р. предлагает в товарищи министра к Протопопову князя Оболенского и «недолюбливает» Курлова; фактически назначается именно Курлов.
Все эти «советы» государь отвергает молчаливо, не желая задевать чувства государыни. Иногда у него, однако, прорывается и некоторое раздражение. «Мнения нашего Друга о людях бывают иногда очень странными, как ты сама это знаешь» (9.XI.1916). «Пожалуйста, не примешивай сюда нашего Друга…»
Эти примеры, взятые из переписки за каких-нибудь два года, показывают, до какой степени нелепы утверждения о «царстве Распутина». Конечно, не было и обратного: государь не отвергал всякое решение, всякое назначение на том только основании, что в их пользу высказался Распутин. Так, Р. в июне 1915 г. высказывался против призыва ратников II разряда, и созыв был отложен до сентября, но по следующим весьма веским основаниям: 1) не было ружей и на действующую армию; 2) Совет министров признал, что для призыва нужно провести соответственный закон через Госдуму; 3) решено было, что призыв лучше провести по окончании сельских работ…
Р. «сочувствовал» назначениям А. Н. Хвостова, Штюрмера и Протопопова; но для всех этих назначений имелись политические основания, совершенно независимые от желаний «старца».
Наконец, Распутин, сам весьма заботившийся о том, чтобы поддержать легенду о своем влиянии (она давала ему «вес» и многие мелкие выгоды), и не имевший определенных воззрений, обычно старался «говорить в тон» государю и государыне, приспособлялся к их воззрениям, к их желаниям. Если же ему удавалось узнать о каком-нибудь еще не опубликованном решении государя, он спешил приписать его своему влиянию. Так, Р. «высказывался» за борьбу с пьянством; против «ответственного министерства»; за принятие государем командования. Ничто не дает каких-либо оснований полагать, что в этих важных государственных вопросах мнение Распутина имело для государя какое-либо значение. В случае с Верховным командованием имеется прямое опровержение самого государя в его письме к государыне от 8.VIII.1916. Распутину также, опять без малейших оснований, приписывали приезд государя в Госдуму 9 февраля. Государь принял решение, когда он находился в Ставке, и в письмах государыни ничего об этом не говорилось.
Характерна для Распутина, не желавшего «оказываться неправым», его позиция перед войной. Он прислал 16 июля, через А. А. Вырубову, следующую двусмысленную телеграмму: «Не шибко беспокойтесь о войне, время придет, надо ей накласть, а сейчас еще время не вышло, страдания увенчаются». Из этой телеграммы затем заключали, что Распутин «умолял не объявлять войну». На самом деле, не зная, чего в данное время хочет государь, Распутин просто боялся определенно высказаться.
Было, конечно, другое. Распутинская легенда оказывала на людей парализующее влияние. Те, кто попадали под ее власть, начинали сомневаться в побуждениях государя, ловили в его словах отголоски чужих «влияний» и неожиданно перечили его воле, подозревая, что за нею стоит Распутин. Такие люди, как бы добросовестно ни было их заблуждение, долее не могли верно служить царю; с ними приходилось расставаться. Наиболее известный «случай» такого рода – А. Д. Самарин, личная безупречность и бескорыстие которого, разумеется, выше всяких сомнений.
(обратно)240
Известный английский государственный деятель В. Черчилль в своей книге о войне на Восточном фронте (The unknown war. New York, 1932) пишет о генерале Сухомлинове: «Пять лет он трудился над улучшением русской армии… Бесспорно, он был только козлом отпущения за неудачи. Нет сомнений в том, что русская армия в 1914 г. была несравненно выше той, которая сражалась в маньчжурскую кампанию».
(обратно)241
Количество русского золота, отправленного в Англию, составило за время войны около 700 миллионов золотых рублей.
(обратно)242
Фактически положение евреев за время войны было заметно улучшено: так, процентная норма была отменена для участников войны и их родственников; при всеобщей мобилизации это было почти равносильно полной отмене. Профессор Левашов в Государственной думе указывал (14.III.1916), что на первый курс медицинского факультета Одесского университета поступило на 586 человек 390 евреев. Евреи-беженцы получили возможность селиться не только в черте оседлости и т. д.
(обратно)243
Генерал Поливанов был уволен 13 марта, в день опубликования отчета закрытого заседания Государственной думы, посвященного забастовке на Путиловском заводе. Государь счел, что разрешение публиковать этот отчет было ошибкой. Кроме того, в письме к Поливанову государь указал, что недоволен его близостью к военно-промышленным комитетам (которые возглавлял Гучков): «Деятельность последних не внушает Мне доверия, а руководство Ваше этой деятельностью в Моих глазах недостаточно властно».
(обратно)244
По октябрь 1916 г. – 14 648 000.
(обратно)245
1 737 000 австрийцев, 159 000 немцев, 65 000 турок. (Число пленных на 1.IX.1917; но за 1917 г. их, как известно, почти не было взято.)
(обратно)246
Эти цифры скорее преуменьшены; взята средняя производительность за месяц. Генерал Н. Н. Головин прямо пишет, что производство 3-дюймовых снарядов возросло с 50 000 в месяц перед войной до 2 000 000, то есть в сорок раз.
(обратно)247
Внутренние составили до 1.I.1917 немногим более 10 миллиардов рублей, внешние немногим менее 7 миллиардов (1 млрд – во Франции, 5,5 млрд – в Англии, остальное в Соединенных Штатах, Японии и Италии).
(обратно)248
Показания А. И. Гучкова в Верховной следственной комиссии Временного правительства, 2 августа 1917 г.
(обратно)249
Об этом подробнее говорится в книге С. М. Мальгунова «На путях к дворцовому перевороту» (Париж, 1913), с. 180–198.
(обратно)250
«…Friedenspartei, die sich um die jungen Zarin gruppiert». Neue Freie Presse. 1916. 25 июля.
(обратно)251
Эти слова приписывались военному министру генералу Д. С. Шуваеву.
(обратно)252
Сам П. Н. Милюков допускал законность той точки зрения. «Я не знаю, – говорил он в Государственной думе (4.III.1916), – приведет ли нас правительство к поражению… Но я знаю наверное, что революция в России приведет нас к поражению непременно… Если бы мне сказали, что организовать Россию для победы значит организовать ее для революции, – я сказал бы: лучше оставьте все на время войны так, как она есть, – неорганизованной».
(обратно)253
Парижский эмигрантский листок «Начало» писал (12.X.1916): «Так как русская пресса не подчинена цензуре, ежедневно уродующей столбцы «Начала», то из доходящих до нас разрозненных номеров русских газет можно себе составить некоторое представление о том, что происходит на нашей родине. Мы, разумеется, далеки от дерзкой попытки перенести на страницы парижского издания сообщения и суждения московских, самарских, киевских или томских газет. То, что допустимо на варварском меридиане Томска, совершенно несовместимо с темпераментом цензуры в стране четырех революций и прав человека и гражданина».
(обратно)254
Падение царского режима. Т. VI. С. 343–347.
(обратно)255
Северные записки, январь 1917 (Керенский А. Ф. Нечто о демагогии).
(обратно)256
Н. Е. Марков в своем объяснении сказал, что сделал это сознательно, так как с думской трибуны допускались безнаказанные оскорбления высоких особ; «В лице вашего председателя, пристрастного и непорядочного, я хотел оскорбить вас», – крикнул он думскому большинству.
(обратно)257
Н. А. Маклаков – расстрелянный большевиками летом 1918 г. – был одним из немногих, имевших мужество заявить в Следственной комиссии вскоре после революции: «Простите, я не знаю, в чем, собственно, я шел в своих взглядах против народа. Я понимал, что ему может быть хорошо при том строе, который был, если строй этот будет правильно функционировать… Я думал, что до последнего времени Россия не падала, что она шла вперед и росла под тем самым строем, который до последнего времени существовал и который теперь изменен. Я никогда не мог сказать, что этот строй был могилой для России, для ее будущего…» (Падение царского режима. Т. III. С. 97).
(обратно)258
П. Н. Милюков уже в заседании Государственной думы 16.XII.1916, исходя из предположения, что Протопопов, вероятно, уйдет, цитировал слова Трепова и говорил: «С нами эти люди не умеют говорить, у нас нет общего языка… Они остаются вне России со своей феноменальной самоуверенностью и феноменальным неведеньем… На месте председателя Совета министров сидит тот самый Трепов, который вместе с Штюрмером провалил польский проект Сазонова».
(обратно)259
В «Голосе минувшего» (1926. № 2) сообщается (со слов М. А. Рысс, видевшей А. Д. Протопопова в качестве председательницы Политического Красного Креста незадолго до его расстрела большевиками), будто министр внутренних дел в декабре 1916 г. советовал государю обратиться к союзникам с нотой, указывающей, что Россия может выдержать войну не долее нескольких месяцев и что этим временем следует воспользоваться для заключения общего мира. Никаких следов такого совета, кроме этих слов Протопопова, сказанных уже при советской власти, во всяком случае не было обнаружено.
(обратно)260
Графа Игнатьева заменил один из помощников Кассо, Н. К. Кульчицкий.
(обратно)261
Состав последнего правительства императора Николая II:
председатель Совета министров: князь Николай Дмитриевич Голицын;
министр внутренних дел: Александр Дмитриевич Протопопов;
министр иностранных дел: Николай Николаевич Покровский;
министр финансов: Петр Львович Барк;
министр путей сообщения: Эдуард Брониславович Войновский-Кригер;
министр земледелия: Александр Александрович Риттих;
министр торговли и промышленности: князь Всеволод Николаевич Шаховской;
министр юстиции: Николай Александрович Добровольский;
министр народного просвещения: Николай Константинович Кульчицкий;
министр императорского двора: граф Владимир Борисович Фредерикс;
военный министр: генерал Михаил Алексеевич Беляев;
морской министр: адмирал Иван Константинович Григорович;
обер-прокурор Синода: Николай Павлович Раев;
государственный контролер: Сергей Григорьевич Феодосьев;
главноуправляющий государственным здравоохранением: Георгий Ермолаевич Рейн.
(обратно)262
Впоследствии было названо одно имя: генерала Крымова.
(обратно)263
Маклаков Н. А. Указ. соч. Т. VI. С. 277–279.
(обратно)264
Адрес подписан губернским предводителем дворянства, князем Л. И. Дондуковым-Изъединовым (Земщина. 24.I.1917).
(обратно)265
«Еще месяц, – писал Черчилль, – и присоединение Соединенных Штатов принесло бы новый прилив энергии, ободрения, нравственной поддержки русскому обществу… Один месяц – и мир мог быть избавлен от испытаний двух самых тяжелых лет войны…»
(обратно)266
Слова Керенского цитируются по отчету «Речи» (16.II.1917). Видимо, цензура смягчила это место: Керенский говорил не о «системе», а прямо о царской власти.
(обратно)267
Призыв новобранцев, родившихся в 1898 г., состоялся 7 февраля 1917 г. (почти на три года раньше нормального срока); казармы, таким образом, были полны молодыми людьми 18 и 19 лет. По всей России призыв прошел без каких-либо инцидентов…
(обратно)268
«Предсмертная записка» Протопопова, написанная в августе 1918 г., была передана М. А. Рысс и опубликована в «Голосе минувшего на чужбине» (1926. № 2).
(обратно)269
Профессор Г. Е. Рейн в своей книге «Из пережитого» (Т. II. С. 190–271) дает обстоятельное и точное изложение событий 23 февраля – 1 марта; это единственное подробное описание происшедшего со стороны члена последнего императорского правительства.
(обратно)270
П. Н. Милюков в своих показаниях Следственной комиссии впоследствии прямо заявил, что «роспуск» Думы только случайно совпал с началом восстания.
(обратно)271
С Северного фронта были вызваны: 67-й и 68-й пехотные полки, 15-й уланский Татарский и 3-й уральский казачий полки; с Западного – 34-й и 36-й пехотные полки, 2-й гусарский Павлоградский и 2-й Донской казачий; с Юго-Западного фронта – л. – гв. Преображенский, 3-й и 4-й гвардейские стрелковые полки. Отправка войск с Северного и Западного фронтов происходила 28 февраля и 1 марта; на Юго-Западном фронте она должна была состояться 2 и 3 марта.
(обратно)272
Вильчковский С. Русская летопись. Книга третья. Париж, 1922.
(обратно)273
Заблуждение генерала Алексеева относительно истинного положения было, очевидно, искренним. Генерал Лукомский сообщает, что уже 3 марта рано утром генерал Алексеев сказал: «Никогда не прощу себе, что поверил в искренность некоторых людей, послушался их и послал телеграмму Главнокомандующим по вопросу об отречении Государя от Престола…»
Генерал Рузский – согласно упомянутой записи С. Вильчковского – очень скоро «потерял веру в новое правительство» и чувствовал, что «в своей длительной беседе с государем вечером 1 марта поколебал устои Трона, желая их укрепить… Глубоко страдал он нравственно до конца своей жизни и не мог без волнения говорить о трагических днях 1 и 2 марта». (Генерал Рузский был расстрелян большевиками на Кавказе в октябре 1918 г.)
(обратно)274
Шульгин в своих воспоминаниях пишет о том же разговоре: «…Генерал Рузский прошептал мне: «Вчера был трудный день… Буря была…»
(обратно)275
Churchil W. The world crisis. 1916–1918. London, 1927. Vol. I. Р. 223–225.
(обратно)



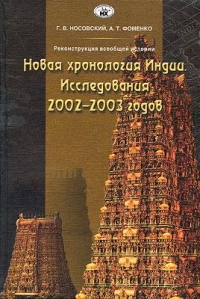

Комментарии к книге «Царствование императора Николая II», Сергей Сергеевич Ольденбург
Всего 0 комментариев