Проф. Карл Вейлэ КУЛЬТУРА БЕСКУЛЬТУРНЫХ НАРОДОВ
Предисловие ко второму русскому изданию
Переиздаваемые Государственным Издательством в серии «Культурно-Историческая Библиотека» работы лейпцигского проф. Вейлэ, посвященные систематическому обзору культуры человечества и ее истории, представляют для сторонников материалистического толкования истории особый интерес теми подтверждениями этой теории, которые дает своим изложением Вейлэ и современные этнологи. Далекий от мысли помочь марксистам, автор составлял свои книжки для правильного понимания колониальных интересов Германии. Из предлагаемой книжки исключены все упоминания о былом величии германской колониальной империи и великих ее задачах, и, думается, книжка от этого только выиграла. В сравнении с первым русским изданием, кроме этих исключений, мы добавили несколько примечаний.
Война помешала проф. Вейлэ выполнить весь план своей работы. До войны вышли: «Культура бескультурных народов», «Элементы человеческой культуры», посвященная технике, украшениям и жилищу, и «Первобытное общество», посвященная эволюции хозяйственных форм. За время войны вышли три книжки: о военном деле и его истории, о первоначальной механике и об эволюции письменности. Последняя, под названием «От бирки до азбуки», вышла под редакцией проф. Д. Н. Анучина в Государственном Издательстве, в серии «Культурно-Историческая Библиотека».
Ст. Кривцов
Предисловие автора
В эпоху всеобщего интереса к находкам и результатам доисторических изысканий, отрадного оживления в антропологии и внимания широких кругов общества к фактам из области народоведения, — знакомство с начатками человеческой культуры должно будет всегда иметь свой круг читающей публики. Я считаю себя не в праве ограничиваться простым обзором форм древнейшего культурного достояния человека, как бы ни облегчало это мою задачу. Однородная утварь, сходные обычаи и параллельные воззрения так многочисленны, в такой массе рассеяны по всему земному шару и встречаются у всего человечества, что давно уже поднят был вопрос о причинах подобных соответствий; до сих пор, однако, не достигнуто соглашения между двумя главнейшими направлениями. «Адольф Бастиан и единая основная человеческая мысль (Volkergedanke)!» — раздается клич с одной стороны, «Фридрих Ратцель и заимствование!»— несется с другой. И вооруженные тяжелым аппаратом наблюдательного материала, который со дня на день становится все необозримее стоят ряды этнологов друг против друга.
Окончательного разрешения этой великой загадки читатель не должен ожидать от такой книжки, как настоящая. С другой стороны, положение вещей, создавшееся благодаря последним поразительным результатам доисторической археологии, проникшей в самые глубины третичного периода, а также новые принципы новейшего исследования рас, отклонившегося от идеи простого существования человеческих разновидностей в пользу биологически закономерной смены отдельных наслоений человечества, — обязывает этнографа следовать методам этих родственных дисциплин и, подобно им, руководствоваться идеями естественно-исторического исследования. Я держусь того взгляда, что мы можем подойти к старой крепости, лишь подкопавшись, так сказать, снизу; мы должны не только исследовать сначала составные части древнейшего общего достояния человечества в области его материальных и духовных завоеваний, но и стремиться проследить историю каждого отдельного завоевания, прежде — чем приступить к объяснению упомянутых совпадений и различий. В конце концов придется даже установить сначала вообще ясную границу между человеком и животным, чтобы можно было с некоторой надеждой на успех двигаться вперед.
Общее достояние человечества оказывается, сверх ожидания, далеко не ничтожным; кроме речи, огня, оружия и орудий, оно обнимает довольно длинный ряд из области техники, обычаев и воззрений. Все это вместе взятое представляет уже культуру, поскольку поднимает человека над царством животных. Но по сравнению с богатой культурой культурных слоев человечества и, в их рамках, отдельных народов с тысячью особенностей их развития, — культура первобытных народов производит впечатление почти полного отсутствия культуры. Отсюда и заглавие моего труда, звучащее на первый взгляд парадоксом.
Из всего общего достояния человечества я мог рассмотреть в этом томике только огонь и его завоевание. Некоторым это, пожалуй, покажется недостаточным, — но, как увидит читатель, при рассмотрении уже одного этого вопроса открывается такая далекая перспектива на общее развитие всей человеческой культуры, что более беглое знакомство с этой областью завоеваний человеческого гения лишь повредило бы книжке. Освещение остальных элементарных приобретений культуры мы оставляем за собою на будущее время.
К. Вейлэ
Лейпциг. Август 1910 г.
I. Значение народоведения для народа
Ложные представления. Колонии, музеи и знакомство с народоведением.
Для нас, представителей старшего поколения, существовало только два типа индейцев: тип Куперовского «Кожаного чулка», охотника и рыболова, неустанно пробирающегося по лесам Востока, — и индейца Запада, неустанно носящегося по прериям на пламенном мустанге. О средне-американском и южно-американском индейце мы ничего не знали, а если нам и приходилось слышать о нем, то он нас не интересовал, так как не вел борьбы с бледнолицыми и не охотился на бизонов.
Возрос ли с того времени этнографический интерес к Средней и Южной Америке — судить не берусь. Надо думать, что многочисленные путешествия исследователей в эти области не могли остаться без всякого влияния. Зато, что касается северо-американского индейца, то я из собственного опыта преподавателя высшей школы знаю, что он в нашем представлении нисколько не переменился. Это и вполне понятно, так как источником знаний для нынешнего юношества остались в общем все те же романы и повести, которые читались и нами, старшим поколением. О том, что индейцы, наряду с охотой и рыбной ловлей, занимаются еще и земледелием, как оседлые народы, — кто знает об этом, кроме специалистов?
Кому известно, что как раз краснокожие par excellence — племена ирокезов и алгонкинов, — были весьма искусными земледельцами, какими еще ныне являются пуэбло, пима, юма и другие? Кого это интересует? Во всяком случае, не нашу молодежь. Впрочем, было бы почти жаль, если бы превратные, правда, но зато причудливо фантастические и романтические представления старого времени сменились точным, но трезвым современным изучением Америки.
Китаец также по прежнему защищен своей Великой стеной от назойливости внешнего мира; его тысячелетняя замкнутость вошла в поговорку. Лишь со времени последних волнений и войн за ним стали признавать, в лучшем случае, слабые попытки движения вперед. Да и они понимаются, как скоропреходящие вспышки. Для нас, обитателей западных стран, Китай был и будет символом добровольной отчужденности и полнейшей косности. Можно с уверенностью предсказать, что прежнее мнение значительно изменится, когда станет известно, что этой пресловутой замкнутости, строго говоря, никогда не было. Напротив, чужеземные влияния в области искусства и религии, а вместе с тем и в других областях народной жизни уже в течение тысячелетий изменяют общую картину жизни Китая.
Мы видим, следовательно, что общераспространенные этнографические сведения едва поспевают за прочными приобретениями науки. В век колоний и этнографических музеев такое положение дел не может быть признано блестящим. Разумеется, не каждый город и не всякая деревня в состоянии создать особое учреждение, которое работало бы или должно было бы работать над тем, чтобы знакомить нас с культурою других народов и, стройно расчленив ее и приведя в удобный порядок, вводить ее для сравнения в нашу собственную культуру. Однако, всем нам приходится путешествовать, и хотя давно известно, что местный житель по собственному почину редко заглядывает в залы музеев со множеством любопытных предметов — ему все же (хотя бы, например, в случае приезда гостя, которому надо показать город) не миновать своей судьбы; и таким образом оба оказываются или, по крайней мере, могут оказаться в выигрыше.
В настоящее время этнографические музеи у немцев так многочисленны, как ни у одной нации в мире, — исключая разве Соединенные Штаты. Впереди других городов стоит громадный Берлин. Мощь и денежные средства большого города и деятельная поддержка людей с широким кругозором привлекли в берлинский Музей Народоведения огромное множество предметов культуры из всех государств и даже из областей, где нет никаких господ и государей; со временем, надо полагать, он превратится в подлинную, почти без пробелов, энциклопедию всеобщего народоведения, — как только помещения, давно уже спроектированные, дадут возможность расположить весь материал надлежащим образом, в легко обозримом порядке. Остальные немецкие музеи поставлены на менее широкую ногу; но все же и они вполне удовлетворительно, даже блестяще, выполняют свое назначение знакомить широкие круги с тысячами разновидностей человеческой культуры вообще и ее особых форм, в частности. Немало вносят в это дело и те великолепные учреждения для целей народоведения, в созидании которых соперничали и соперничают друг с другом такие города, как Лейпциг, Бремен, Гамбург, Любек, Кельн и Штуттгарт. В Дрездене и в Франкфурте-на-Майне коллекции нашли себе приют даже в настоящих старых дворцах, как Цвингер и старый дворец Союза.
Словом, в немецких странах нет недостатка в возможности посмотреть и поучиться; другое дело — будет ли использована эта возможность так широко, как того заслуживает предмет. В этом можно усомниться.
Чего только не приходится слышать в этой области нам, состоящим при музеях, когда мы проходим мимо шкапов и витрин, выставленных для обозрения публики! Однако, не следует выносить сора из избы, чтобы наши юные музеи не стали сразу же предметом нерасположения публики. К тому же и на нас, представителей этнографической науки, также падает доля ответственности за столь печальное состояние знаний в этой области. И действительно, народоведение не сумело до сих пор найти путь к сердцу широких масс, — самый надежный способ широкого распространения знаний. С другой стороны, заслуживает внимания и тот факт, что пока еще ни одно из наших учебных заведений, вплоть до университета, не предусматривает специализации по народоведению, — предмету, который наряду с величайшим культурно-историческим интересом имеет далеко не ничтожное практическое значение[1].
II. Этнографические параллели
Многообразие культурного достояния человека. Народоведение, как упорядочивающая система. Бастиан, Ратцель и Андрэ. Явления конвергенции. Параллели: первая встреча, каменные груды, колдовство, дурной глаз, леший и трещотка. Пережитки. Метательная дощечка и бумеранг. Австралиец и дравиды.
Предлагаемый томик не может, конечно, претендовать на пополнение недостатка этнографических познаний в полном объеме; общее народоведение в настоящее время представило бы собою весьма объемистую книгу, даже если выбрать из огромной массы известных фактов лишь самые существенные и типические. При этом надо оговориться, что в XX веке даже ученейшим из нас едва ли удалось бы с одинаковой глубиной и во всех подробностях овладеть таким огромным материалом. То, что мы можем здесь дать читателю, представляет собою, в лучшем случае, лишь экскурсии в известные области и отделы культурного развития человечества и сжатые обзоры определенных форм материального и духовного культурного достояния так называемых диких народов. Но и тут еще необходимо осмотрительно ограничить свою задачу. Какое разнообразие представляет одна лишь техника на этих ступенях культуры! Какое богатство форм в области вооружения и утвари, украшений и одежды, построек и средств сообщения! Какая пестрая смесь примитивных форм хозяйства и общества; сколько разнообразия в религиозных формах! Даже искусство презираемых нами дикарей поражает богатством и своеобразием форм. В общей сложности все это напоминает, — если только можно с чем-либо сравнивать все эти явления, — пышное великолепие цветущего луга. Цветок теснится к цветку: тут — яркие, великолепные, там — простые, скромные; весело, пестро перемешаны чашечки цветов. Волнующееся море без начала и конца, без единого островка…
А все-таки и здесь проявляются силы порядка и развития, С возрастающим успехом устанавливает наука родство и органическую зависимость между отдельными группами фактов, соединяя, так сказать, отдельные особи в виды, а виды в более крупные группы — роды. В применении к народоведению это должно означать, что наука стремится установить одинаковое происхождение форм владения и видов утвари самых различных народов, их одинаковых нравов или сходных обычаев. При этом народоведение проложило два совершенно различных пути, к которым за последнее время присоединился еще третий. Одна школа, под руководством умершего в 1905 году маститого учителя этнологии Адольфа Бастиана, объясняет совпадение одинаковостью общего всему человечеству духовного склада, который при равных условиях порождал и порождает одинаковые проявления культуры. Другая школа, руководимая Фридрихом Ратцелем, не склонна без всяких оговорок считать единственным и общим принципом одинаковость духовного склада людей; в каждом отдельном случае она пытается сначала исследовать, нельзя ли объяснить совпадение также и заимствованием. При этом Ратцель вовсе не имеет всюду в виду грандиозные переселения народов, в результате которых какой-либо предмет утвари или обычай оказывался перенесенным из одной местности в другую. Он лишь подчеркивает, что в большинстве случаев мы имеем дело с простым просачиванием элементов культуры, которое при одних условиях идет очень быстро, при других — весьма медленно, но которое, тем не менее, в течение длинных промежутков времени способно проникнуть во все уголки целой части света и даже, в конце концов, охватить весь земной шар.
Наконец, третий путь выдвигает вперед явления конвергенции. Это, взятое из зоологии, понятие означает, что генетически, первоначально, совершенно различные породы животных при одинаковых естественных условиях приходят в конце концов к однородным или схожим формам, как, например, это доказано для страусовых Австралии, Южной Африки и Южной Америки. То же явление встречается и в человеческом мире, притом как в физическом, так и в психическом отношении. Всемогущая природа одна создает здесь одинаковые формы.
Не так просто стать на сторону одного из этих воззрений. Современному Нестору среди этнографов, Рихарду Андрэ[2], мы обязаны двумя содержательными книгами под заглавием: «Этнографические параллели и сопоставления»[3]. В них автор, — у которого никто из современных этнографов не может оспаривать пальмы первенства в знакомстве с обширнейшим и всеобъемлющим материалом, — показывает на сотнях и тысячах примеров, как разнообразнейшие культурные подобия обнаруживаются у самых различных народов земли. Так, например, вера в счастливые и несчастные дни распространена по всей земле. «Не прислушивайся к крику птиц и не избирай дней», предписывает Моисей (III, 19, ст. 26), напоминая этим о старейшей форме суеверия, которое сохранилось до нынешнего дня и, как замечает Андрэ, своим повсеместным распространением свидетельствует об единстве человеческого духа. У древних римлян в течение всего прекрасного месяца мая запрещалось заключать браки, так как месяц этот считался несчастливым; еще и поныне немецкий моряк неохотно покидает родную гавань в пятницу, опасаясь за исход плавания. Даже немецкий обычай начинать школьные занятия со вторника в сущности коренится в суеверии, будто понедельник — тяжелый день. И так наблюдается повсюду. Почти столь же всеобщее поверье, связанное с «первой встречей». Оно заключается в том, что некоторые животные, люди или предметы, на которые мы наталкиваемся, выходя из дому с зарею, сулят удачу или несчастье и указывают, продолжать ли задуманное дело или бросить его.
Паук под вечер сулит нам счастье и радость; паук поутру приносит заботы и горе, — гласят немецкая и французская поговорки и выражают, таким образом, в общей форме то, что относится, и к другим разнообразнейшим вестникам счастья и несчастья: стадо овец — к несчастью, стадо свиней — к добру; охотник с досадой поворачивает домой, если при выходе ему повстречается старуха и т. п.; кошка или заяц, перебегающие дорогу, — без сомнения, известнейшие у нас примеры этого рода.
К той же категории принадлежит еще почти столь же всеобщий обычай нагромождать камни над могилами почитаемых покойников или на определенных местах дорог; далее — вера в оборотня или вампира, запрещение известных родов пищи, в особенности для женского пола, вера в таинственные способности кузнецов, которые всюду, где есть железо, пользуются славой людей, не похожих на обыкновенных смертных. Вполне всеобщий характер имеет затем симпатическое колдовство. Если девушка из Верхнего Пфальца обманута возлюбленным, она с различными заклинаниями зажигает в полночь свечу и втыкает в нее иглы, приговаривая: «колю свечу, колю свечу, колю сердце любимое». Тогда вероломный должен умереть. Точно также и японка, убедившись в измене мужа, встает среди ночи, надевает причудливые платья, прибивает изображение неверного мужа к дереву в саду храма и протыкает его гвоздем: в соответствующих частях тела неверный супруг должен испытать боль. В Мекленбурге в следы ног вора вбивают гробовые гвозди, — и вор должен умереть. На берегу Лоанго, в Западной Африке, к северу от устья Конго, на всей культуре лежит печать того симпатического колдовства. Лейпцигский музей народоведения обладает весьма богатой коллекцией деревянных фигур, представляющих людей и разных животных; они со всех сторон утыканы острыми кусками железа туземного происхождения и европейскими гвоздями, которые придают фигурам дикую, фантастическую внешность, как можно видеть на рис. 1 и 2.
Рис. 1. Мангаке чибоке, великий фетиш майомбе (Зап. Африка). (Оригинал в Лейпцигском музее народоведения).
Рис. 2. Н’коццо, хранитель деревни. Фетиш бавили (Зап. Африка). (Оригинал в Лейпцигском музее народоведения).
Многие из этих так называемых фетишей имеют на своей совести смерть сотен туземцев. Дело здесь в следующем. Если кто-либо терпит какую-либо невзгоду, будь это покража, болезнь или тому подобное, он отправляется к владельцу фигуры, прежде всего такой, которая пользуется славой особенно могущественной и сильно действующей. По уплате обычного, далеко не ничтожного гонорара (африканские колдуны знают свое дело) подозреваемых заставляют вбивать в фигуру по гвоздю. Кто чувствует себя невинным, делает это со спокойной совестью; но горе виновному! Дух фетиша обрушится на него со страшной яростью, если он дерзнет причинить ему боль. Конечно, виновный не осмелится на такой поступок, — и таким образом оказывается изобличенным.
Вот несколько примеров из почти необозримой массы этнографических параллелей, приведенных у Андрэ в упомянутых книгах. В общем этот исследователь стоит на точке зрения Бастиана, то-есть считает одинаковую духовную организацию людей причиной одинаковых явлений; в отдельных случаях, как например по вопросу о так называемом дурном глазе (сглазе), — поверье, распространенном по всему побережью Средиземного моря, — автор считает правильным другое воззрение, именно — взаимное влияние различных народов. Да и трудно рассуждать иначе по отношению к замкнутым областям.
Тем труднее оказывается выбор позиции по отношению к таким явлениям, которые обнаруживаются не в пространственно замкнутых областях, а напротив, выступают беспорядочно и рассеянно в различных, весьма удаленных друг от друга уголках земли. Неизменным гостем рождественских базаров многих наших городов является или был до недавнего времени леший; его трескучие звуки и придавали веселому гулянью подлинный рождественский характер. Оказывается, что весьма отличные от него по виду, но того же действия предметы, которые у нас, этнографов, носят название трещоток или уделок (рис. 3–5), распространены во многих частях земли.
Рис. 3. А. Австралийские трещотки. В. Трещотка бороро (Бразилия).
Рис. 4. Австралиец с трещоткой.
Рис. 5. Бороро с трещоткой.
Это продолговатые и плоские куски дерева, имеющие большею частью форму рыбы; к одному концу трещотки прикреплен шнурок, с помощью которого вертят ее вокруг головы. Это производится либо непосредственно рукою, либо при помощи палки, к которой привязывается свободный конец шнурка. В зависимости от скорости вращения меняется и тон, который в общем по силе и высоте похож на глухое жужжание шершня.
Эта трещотка распространена в следующих местностях земли. В Новой Гвинее она встречается лишь в восточной части, зато играет здесь большую роль на всех праздниках. В Малайском архипелаге она попадается изредка в качестве игрушки. В Океании встречается лишь на Новой Зеландии, где прежде служила при заклинаниях для изменения погоды. Напротив, в Австралии она распространена всюду. В Африке она известна на юге и в Иорубе, к западу от нижнего Нигера; в качестве детской игрушки я нашел ее в 1906 году в разных местах южной части бывших германских восточно-африканских владений. Наконец, в Америке она распространена в обеих частях материка, хотя и с большими промежутками. Встречается она и у эскимосов, где служит игрушкой для детей.
В качестве игрушки ею еще и поныне пользуются дети в коренной Англии. Если с этим фактом сопоставить употребление этого инструмента у большинства диких народов, то мы уясним себе смысл явления, которое издавна совершалось в человечестве и еще ныне наблюдается повсюду. В настоящее время лук является у нас исключительно детской игрушкой; только в Бельгии, Франции, Англии и Швейцарии он снова сделался оружием для спорта. Но некогда он был настоящим военным оружием всех способных к бою мужчин, так же, как и самострел, который играет теперь известную роль только в руках ребенка.
Оба вида оружия в военном деле цивилизованных народов давно уже заменены другими, более действительными; они исчезли из рук воинов, но странным образом сохранились в руках юношества, которое теперь обращается с ним совершенно так же, как в далекие времена ребенок, играя, обучался тому искусству, которое он должен был впоследствии показать в качестве воина в кровавой битве. Таким образом, прогресс совершался лишь в верхнем слое; нижний остался абсолютно консервативным. Юношество могло без всякой для себя опасности сохранить черты абсолютной косности, потому что более совершенное устройство современного оружия требует от взрослого лишь напряженного и неустанного упражнения во время службы, т. е. сравнительно короткого периода человеческой жизни. Оно не требует теперь ежедневного упражнения с ранней юности, хотя бы сначала в виде игры, как это необходимо, чтобы в совершенстве овладеть искусством стрельбы из лука.
Для подобного рода явлений, именно — для перехода определенного снаряда или обычая из жизни взрослых в мир ребенка, у нас есть особое выражение, которым мы обязаны выдающемуся английскому этнологу Эдуарду Тэйлору. Тэйлор метко назвал эти свидетельства некогда широко распространенного обычая «survivals», т. е. пережитки, — выражение чрезвычайно удачное, а потому с полным правом укоренившееся в языке. Такие пережитки вовсе не ограничиваются нами и нашей высшей культурой с ее явным стремлением сохранять старые обычаи, — они наблюдаются также и у диких народов; в Полинезии и Микронезии, например, лук и стрелы давно уже стали детской игрушкой; самое большее, если они порою служат для взрослых оружием при охоте на крыс и других мелких животных. Они исчезли из рук мужчин потому, что на большей части мелких островов нет охоты на крупную дичь; да и кроме того, морская война на утлых лодках невозможна с таким оружием для стрельбы, как лук.
Трещотка также является пережитком всюду, где ее ныне можно увидеть в руках ребенка у диких народов, — например, на островах Малайского архипелага, в Восточной Африке, у эскимосов. Напротив, всюду, где она еще встречается в ином применении, она служит гораздо более серьезным целям. Дикари верят, что в ее глухом, жутком жужжании им слышится что-то сверхчеловеческое, неземное, призрачное, — так сказать, весть из иного мира. Так, на различных торжествах и празднествах диких народов ею предупреждают и отпугивают элементы, которых желательно не допустить на эти торжества. Почти всегда таким элементом являются женщины, которым мужчины запрещают являться на празднества тайных обществ, посвящения мальчиков, торжества в честь мертвых, колдовства для вызова дождя и т. п. Поэтому-то женщинам под угрозой тяжелого наказания, большей частью даже смертной казни, запрещается смотреть на этот инструмент.
Чем же объясняется беспорядочное распространение этого своеобразного инструмента по всей земле? Можно ли здесь действительно говорить о распространении прибора из единого исходного пункта? Или же надо скорее допустить самостоятельное изобретение этого нехитрого снаряда, так как отдельные области его распространения разъединены огромными водными пространствами, преодолеть которые дикарям не под силу?
Конечно, в данном случае гораздо легче согласиться со вторым, более простым объяснением; но зато на сторонниках этого взгляда лежит и обязанность объяснить отсутствие трещотки у всех остальных народов земного шара. Такая задача, быть может, — покажется не менее трудной.
Перечисленные здесь вкратце трудности этого рода будут неизменно встречаться нам при каждой попытке проникнуть в жизнь и культурный уклад отдельных народов земли.
В своем утлом «гренландце», каяке, как называют это легкое, практичное суденышко, отправляется эскимос на добычу. С поразительной ловкостью, приобретенной неустанным упражнением, избегает он каждого подводного камня, каждой пловучей льдины и приближается на расстояние удара к своей добыче, — великолепному тюленю, который спокойно и беззаботно покачивается на волнах, выставив голову из воды.
Фритьоф Нансен в своей «Жизни эскимосов» мастерски описывает сцену, ежедневно разыгрывающуюся у этих артистов своего дела; и мы не можем сделать ничего лучшего, как прислушаться к подлинным словам этого столь же знаменитого исследователя полярных стран, как и тонкого знатока людей: «Внезапно животное настораживается. Оно заметило отблеск весла и уставилось на врага своими большими круглыми глазами. Охотник бросает весло и не шевелит ни единым членом, меж тем как каяк бесшумно скользит дальше. Не открыв ничего необычного, животное снова отдается своей прежней беспечности. Оно откидывает голову назад, вытягивает морду из воды и купается в лучах утреннего солнца, которое блестит на его черной, мокрой шкуре. Между тем каяк быстро приближается. Как только тюлень взглянет на охотника, Боас (так зовут эскимоса) перестает грести и не шевелит ни единым мускулом; но едва животное отвернет глаза в сторону, судно скачком подвигается вперед. Охотник приближается на расстояние удара, подготовляет гарпун и проверяет, в порядке ли моток бечевы на скамье каяка; еще удар веслом, и решительная минута настала. Но тут тюлень преспокойно ныряет в воду. Животное не было испугано, значит, оно выплывет где-нибудь поблизости. Нужно, следовательно, подождать. Но это требует времени, так как тюлень может чрезвычайно долго оставаться под водой, а для ожидающего время тянется еще медленнее. Однако, эскимос обладает удивительным терпением: двигая только головой, которая, высматривая, поворачивается во все стороны, он совершенно неподвижно сидит в своем каяке. Наконец, в стороне, немного позади, над водою снова показывается голова тюленя. Осторожно, незаметно для животного, Боас поворачивает свой каяк и снова приближается к нему, скользя по поверхности воды. Тут тюлень вдруг настораживается, одно мгновение смотрит на охотника в упор и затем опять ныряет. Но Боас с детства знает привычки тюленей, и полным ходом мчит свое судно к месту, где исчезло животное. В самом деле, проходит лишь несколько секунд, и тюлень опять с любопытством выглядывает из воды. Теперь он на расстоянии выстрела; Боас хватается за гарпун, откидывает руку назад; еще одно мощное движение — и гарпун, словно выброшенный стальной пружиной, со свистом устремляется вперед, соскользнув с метательной дощечки и увлекая за собой бечеву, которая, как вихрь, крутится в воздухе. Тюлень делает огромный прыжок, но в тот момент, когда он сгибает спину чтобы нырнуть, гарпун по рукоять вонзается ему в бок. Несколькими могучими ударами задней части тела он пенит воду и исчезает, увлекая за собою бечеву. Между тем Боас хватает древко зубами и с быстротой молнии бросает позади себя в воду надутый пузырь. Пузырь пляшет на поверхности воды; кажется, вот-вот он утонет; и в самом деле, он исчезает под водою. Однако, он вскоре снова появляется на поверхности, и Боас несется к нему, изо всей силы подгоняя веслом[4] свое суденышко. По пути он подхватывает всплывшую на поверхность рукоятку гарпуна, которую стряхнул с себя раненый тюлень. Копье опять готово к метанию. В следующее мгновение тюлень всплывает снова. Видя, что ему не спастись бегством, он в ярости обращается против своего преследователя, обрушивается сначала на пузырь, разгрызает его и затем бросается на каяк. Боас изготовился к удару. Животное сгибает спину и с открытой пастью так стремительно скользит по волнам, что вода разлетается с шумом. Теперь промах может стоить жизни охотнику. Однако, Боас с величайшим хладнокровием поднимает копье и с такой силой вонзает его в открытую пасть животного, что острие его выходит из затылка. Тюлень вздрагивает и валится, голова его падает на бок, и в тот же момент вертикально всплывает в воде. Струя крови, шипя, выливается из широко раскрытой пасти, которая издает глухой, дикий рев. Пузырь над мордой животного раздувается до необычайных размеров[5]. Животное так сильно трясет головой, что рукоятка гарпуна дрожит и колеблется в разные стороны, но оно не в состоянии ни сломать, ни стряхнуть гарпуна. В следующий момент Боас вонзает в него второе копье позади одного из передних ластов через легкое в сердце; животное падает на бок— и борьба окончена».
Упомянутый здесь мимоходом снаряд для метания представляет для всех эскимосов чрезвычайно важное орудие в тяжелой борьбе за существование. Здесь, на севере, он имеет вид узкой доски, длиною от 40 до 50 сантиметров, рукоятка которой для удобства метания в точности приноровлена к строению человеческой руки. Обыкновенно на одной поверхности ее выдолблен плоский жолоб, в который точно приходится задний конец гарпунной рукоятки, или же крюк по ее середине.
Цель всего приспособления — простое удлинение человеческой руки; надо удлинить этот рычаг, чтобы таким образом сообщить бросаемому копью большую начальную скорость, а вместе с тем и большую силу удара. Это и достигается в полной мере. И как остроумно (можно, пожалуй, даже сказать — гениально) устроил свой метательный прибор жалкий эскимос, вызывающий презрительное сострадание у надменных белых! Потребовалась бы большая часть имеющегося в моем распоряжении и без того скудного места, чтобы описать различные конструкции этого приспособления; поэтому удовольствуемся лишь изображением основных типов метательной дощечки (рис. 6). Впрочем, теперь во всяком хорошо обставленном этнографическом музее можно найти вполне снаряженный эскимосский каяк. Весьма наглядно описаны эти методы у Нансена в упомянутой выше «Жизни эскимосов»; наконец, мой ученик и коллега, д-р Фриц Краузе, посвятил этому предмету многочисленные изображения в 15-м томе «Internationales Archiv für Etnographie». («Международный Архив Этнографии») за 1902 год; поэтому, кто интересуется этой главой народоведения, может превосходно ознакомиться с ней по обширным литературным источникам.
Краузе в упомянутой работе установил, что метательный прибор в какой-либо форме обладает не менее, чем четырьмя обширными областями распространения; кроме гренландских и северо-американских эскимосов, метательная доска встречается также у некоторых народностей северо-восточной Азии; в Новом Свете она встречается в отдельных местностях Центральной Америки, в северо-западной части Южной Америки, у перуанцев и на широких равнинах бассейна Амазонки. Третьей областью является Австралия и некоторые части Полинезии и Меланезии. Наконец, метательную дощечку можно обнаружить также и в родной нам части света — Европе, но не для нынешнего времени, а для той эпохи, когда северный олень, распространенный ныне лишь на крайнем севере, бродил большими стадами на равнинах Франции, — т. е. в эпоху, когда последний великий ледниковый покров начал медленно уступать место более теплому климату. Эту эпоху мы смело можем отнести за несколько десятков тысячелетий до нашего времени.
Цель этого снаряда всюду и во все времена была та же, что и у нынешних эскимосов; с помощью его хотели и теперь хотят повысить силу удара копья. Этой единой цели, однако, не соответствует однообразие формы. Хотя повсюду сохранилась основная форма палки или доски, зато в остальном отдельные народы, повидимому, давали неограниченную свободу своей фантазии. В одной лишь Австралии профессор фон Лушан различает не менее дюжины различных типов этого орудия — то палкообразных, то широких досок, которые поэтому кажутся нам совершенно нецелесообразными, так как должны оказывать воздуху очень большое сопротивление. В Южной Америке — это изящные палочки, едва в палец толщиною; наконец, в Новой Гвинее мы встречаем бамбуковые древка с ручкой, искусно вырезанной в виде животного. В действительности же виновником и первопричиной этого разнообразия форм является не человеческая фантазия, а воздействие окружающей природы и среды; вполне естественно, что обитатель тропических областей, располагающий богатым растительным материалом, создает совершенно иные формы, чем житель арктических стран, могущий пользоваться лишь случайно прибитым к берегу волнами куском дерева. Тем не менее, в распространении этого орудия наблюдается одна общая черта, поскольку мы встречали его лишь у рас и народов, не достигших еще огромных культурных успехов в изготовлении и употреблении железа; у африканского негра, знакомого с этой техникой уже целые тысячелетия, тщетно искали до сих пор это орудие; в Азии его находили лишь там, где еще неизвестно употребление железа. И у нас, в Европе, употребление послеледниковой метательной дощечки точно так же должно было опуститься до уровня игрушки, как случилось это с луком много тысячелетий спустя: древние французы приобрели лучшее оружие, получив лук и стрелы.
Рис. 6. Метательные дощечки: а. Наннине (Зап. Австралия); b. Полуостров мыса Норка (Австралия); c, d. Северное побережье земли имп. Вильгельма; е. Аляска; f. Мексика; g. Зап. Гренландия и Лабрадор; h. Охота на моржа у гренландских эскимосов (по Нансену).
Таким образом, метательное орудие представляет собою прибор, который мы без колебаний можем отнести к детству человечества. В самом деле, чем было древнее население Франции в эпоху северного оленя, т. е. за пятнадцать, двадцать тысяч лет до нашего времени? Первобытными, беспорядочно бродившими ордами, пожиравшими добычу, убитую с помощью копьеметателя и копья тут же, где она свалилась. То же представляют и ныне mutatis mutandis народы, у которых мы еще находим копьеметатель. Там же, где за историческое время употребление метательной дощечки сократилось или даже совершенно исчезло, как в северной части Центральной Америки и в юго-западной части Северной Америки, — там обладатели этого орудия не слишком высоко поднялись над упомянутой первобытной ступенью культуры.
С отнесением метательного орудия к эпохе юности человечества задача объяснения его скачкообразного распространения нисколько не упрощается. Мы попадем, быть может, на более торную дорогу, если бросим беглый взгляд на другое, еще более своеобразное орудие, которое известно каждому и относительно которого, несмотря на это, господствуют самые превратные представления. Это бумеранг (рис. 7 и 8), знаменитое метательное оружие австралийцев, о котором все знают, что оно при метании возвращается к своему хозяину и господину.
Рис. 7. Австралийские бумеранги.
Рис. 8. Австралиец, мечущий бумеранг.
Но уже и самое название оружия ошибочно. Ни у одного австралийского племени оно не называется бумерангом; название это образовалось из слова woomera, — слова, означающего не что иное, как только что рассмотренный нами копьеметатель. То, что мы называем бумерангом, носит в Австралии совершенно различные наименования: parkan, wagno, knili, только не бумеранг; но что бы там ни было, это выражение для метательного оружия каким-то путем проникло в литературу и в народное сознание — основание, достаточное для того, чтобы не изменять существующего слова. Вторая поправка касается пресловутого возвращения оружия к мечущему. Казалось бы, само собой понятно, что это возможно лишь тогда, когда удар не попал в цель, — в противном случае, оружие вместе с добычей должно упасть на землю; а между тем это не так, и как часто приходится обращать внимание на этот пункт[6]! Наконец, третий вопрос касается распространения бумеранга. Вообще говоря, область его распространения ограничивается Австралией; он считается характерным оружием этого материка и доказательством чрезвычайно продолжительной отрезанности его от всего остального мира. Последняя мысль вполне правильна, но зато ошибочно предположение, что распространение этого оружия ограничивается одной Австралией; оно часто встречается в разных местах Индостана, в Гуджерате, и далее на восток, где является специальным оружием разбойничьих каст Каллар и Маравар; в древней Ассирии оно было, если судить по рисункам на развалинах стен, обычным боевым вооружением и метательным снарядом на полях битв Египта и Нубии с глубокой древности до последних десятилетий XIX столетия (рис. 9).
Рис. 9. А. Египетские воины с возвращающейся палицей. В. Индийские возвращающиеся палицы. (По М. Иенсу).
Впрочем, эта метательная палица не была возвращающейся к метателю дубинкой, как австралийский бумеранг; она была лишь его прообразом, относительно которого позволительно сомневаться, чтобы он когда-либо возвращался к владельцу. Но эти орудия все, без исключения, имеют приблизительно такую же форму, как австралийский бумеранг; у них отсутствует лишь тот изгиб, который обусловливает действие австралийского бумеранга: правильно брошенный, он сначала круто поднимается вверх, чтобы с кульминационной точки своего пути возвратиться к метателю сложными, едва поддающимися анализу кривыми, и упасть почти рядом с ним. Правильный прием метания состоит в том, что оружие бросают вогнутой стороной вперед либо под известным углом к земле, либо же прямо по направлению к цели, — но таким образом, что вращательное винтовое движение с самого начала превосходит движение поступательное. В высшей степени интересно далее, что превосходный знаток оружия Макс Иенс настаивал на существовании такого возвращающегося оружия и в древней Европе; это была столь часто упоминаемая в старой литературе cateja, которой также приписывается свойство при промахе возвращаться обратно к метателю. За знакомство наших предков с таким метательным оружием говорит, по его мнению, и миф о молоте Вотана — мьельнире, который тоже возвращался к своему богу. Наконец, даже в Новом Свете есть нечто подобное бумерангу; у племени моки, в юго-западной части Соединенных Штатов, охотятся на мелкую дичь с метательным оружием, которое видом своим и траекторией полета напоминает оружие австралийцев.
Но если даже оставить в стороне два последних примера — бумеранг Нового Света и гипотетический старо-германский, — как объяснить нахождение этого своеобразного и наиболее странного из всех видов метательного оружия уже только в одной сравнительно небольшой и отграниченной от всего остального мира области между Австралией на юго-востоке и Месопотамией и Египтом на северо-западе? Можно без оговорок думать о заимствовании для области, охватывающей запад Азии и северо-восток Африки, — в особенности в виду других неоднократно обнаруженных взаимоотношений между древними культурными странами к северу от Персидского залива и в долине Нила. Можно также считать Гуджерат и Мадрас расположенными в пределах той же области. Но как понять связь между Южной Азией и Австралией? Если бы бумеранг встречался, или, по крайней мере, если бы были обнаружены его следы в большой островной полосе, идущей без перерывов от Индокитая к Австралии, то можно было бы и здесь считать заимствование доказанным. К сожалению, этого в действительности нет: между страной дравидов и Австралией зияет огромный пробел, и внутри него не обнаружено ни народа, ни племени, которые когда-либо пользовались возвращающимся метательным оружием. В праве ли мы в виду этого заключить, что бумеранг в разных местах является самостоятельным изобретением, так же, как и метательная дубинка американских моки? Но прежде чем мы успеем ответить на этот вопрос утвердительно, выдвигается на сцену старое возражение: почему же, в таком случае, распространение бумеранга ограничивается исключительно одной обособленной областью? Почему его нет у других народов, живущих при одинаковых или сходных естественных условиях? Почему, например, нет его у бушменов и готтентотов Южной Африки, у обитателей внетропической полосы Южной Америки?
Перед нами снова тщетная попытка приблизиться к решению задачи. Но таким путем мы не достигнем цели; для этого нужно глубже заглянуть в историю человечества и в историю самой земли. И как раз, по прихоти благосклонной судьбы, бумеранг и его распространение представляет весьма подходящий материал для применения и проверки рассматриваемого метода. Многие наблюдатели — вполне беспристрастные антропологи, свободные от предвзятых расовых теорий, — не раз единодушно доказывали физиономическое сходство и расово-анатомическую близость австралийцев к древнему доарийскому слою населения южной части Индостана — дравидам; другие, как Симон и Клаатч, подчеркивают даже весьма сильную расово-биологическую близость между австралийцами и нами, европейцами. В самом деле, рассматривая ряд хороших изображений австралийцев (рис. 10), трудно отказаться от впечатления поразительного сходства, несмотря на все громадные различия, между австралийцами и нами в культурном отношении.
Рис. 10. Австралиец из Квинслэнда.
Мы решаемся утверждать, что иное из этих жалких творений, могло бы, одетое в европейское платье, жить среди нас, никого не поражая своим обликом.
Само собой разумеется, что подобным утверждениям и указаниям придавали мало значения, пока человечество считалось весьма юным, не восходящим далее ледниковой эпохи. Как могли придти в соприкосновение обе группы — австралийцы и дравиды, — если в дилювиальный период распределение суши и очертания Индийского океана почти не изменялись? Теперь, однако, на основании новых данных в области сравнительной анатомии, антропологии и доисторической археологии, мы придерживаемся того взгляда, что род человеческий вовсе не так молод; следы его существования несомненно восходят к третичному периоду, предшествовавшему ледниковой эпохе. Более того, если следовать взгляду самых «передовых» из современных антропологов, как Клаатч-Шентезак и др., — то придется признать, что, по крайней мере, телесное развитие человека в существенных чертах было уже закончено во вторую половину третичного периода.
Можно различно относиться к последнему взгляду: разделять его или считать преждевременным, пока в отложениях третичного периода не найдено бесспорных доказательств; можно и совершенно отвергать его. Но во всяком случае, углубляясь в геологическое прошлое, мы приобретаем необходимую надежную основу, на которой этнография и антропология могут строить свои учения с полной уверенностью в успехе. Прежде всего это относится к антропологии.
III. Новые антропологические учения
Старое и новое разделение рас. Первобытная раса и ее изменяемость. Кожа и волосы, походка и глаз. Причины обособления. Единство человеческого рода и третичный период. Современная расовая картина.
Мы, взрослые люди нынешнего поколения, выросли с убеждением в простом существовании друг подле друга всех человеческих рас, У нас укоренилось старое Блюменбаховское подразделение человечества на пять рас: белую — кавказскую, желтую — монгольскую, черную — эфиопскую, красную — американскую и коричневую — малайскую.
Рис. 11. Монголка (по фотографии, принадлежащей Лейпцигскому музею народоведения).
Иногда принимались и другие подразделения. Но у наших учителей и у нас самих всегда было успокоительное сознание, что все эти группы и расы равноценны, так как они одинаково древни, каждая с ее особенностями. В то время никому и в голову не приходило, что это сосуществование рас представляет в действительности лишь конечное состояние, результат продолжительного развития, которое для каждой из отдельных рас могло иметь совершенно особый характер, могло быть более долгим или кратким, чем у других. При тогдашнем состоянии биологии это и неудивительно.
Современная антропология учит как раз обратному. Вместо прежнего простого сосуществования различных человеческих рас антропология учит последовательности во времени и развитии их; современная антропология, хотя и признает, как прежде, единство и однородность человечества, но считает его теперешний состав сложившимся из частей более или менее далеко отошедших от исходного пункта. Одни части очень резко обособились в определенных направлениях от общей для всех людей исходной формы, возникновение которой, по всем вероятиям, надо отодвинуть весьма далеко вглубь третичного периода; в то же время другие части сравнительно близко стоят к этой первичной форме. Одни, так сказать, пошли в рост, другие же остались на месте. Подобное явление само по себе не представляет ничего странного; его можно, пожалуй, сравнить с судьбой современных человеческих семейств, из которых одни в течение сравнительно короткого промежутка времени непрерывно развиваются телесно, духовно и экономически, тогда как другие, быть может, близко родственные, за то же время совершенно не успевают сколько-нибудь возвыситься над тяжелыми условиями жизни; одна семья пресмыкается на дне человеческого общества, другая поднимается на высшую его ступень. По отношению к чисто физическому развитию и его вариациям антропологи различают определенную амплитуду изменяемости, которая присуща еще теперь каждой расе. Разумеется, она все более суживается для каждой отдельной расы по мере того, как растет дифференциация человечества; следовательно, для исходной формы нашего вида она должна быть наибольшей. Иными словами, эта пока еще не поддающаяся точному определению первичная протораса обладала всеми телесными свойствами, которые мы теперь находим у отдельных рас сгруппированными в различные комплексы. По нашим ходячим методам различения, мы считаем различие в цвете кожи за существенный расовый признак: мы говорим о белой, желтой, черной расе, о краснокожих. Далее, мы подчеркиваем различия в характере волос, противопоставляя гладковолосых обитателей Восточной Азии и Америки курчавому негру и волнистоволосым европейцам. Для антропологов, однако, подобные признаки вовсе не так существенны; антрополог отметит скорее несравненно более определенные различия в анатомическом строении скелета или мягких частей тела. Так, японец, подобно негру, совершенно определенно отличается от европейца строением скелета ступни и всей ноги; обоим, кроме того, свойствен и совершенно иной характер походки. Известный монгольский глаз (рис. 12) также является следствием вполне определенного хода развития этой расы.
Рис. 12. А. Глаз монгола. В. Глаз европейца.
Когда мы говорим об особых разрезах глаз монгола, мы невольно думаем и о косом расположении глазных впадин. Но это неправильно; глазные впадины их расположены нисколько не иначе, чем наши собственные. И даже часть кожи над внутренним углом глаза, к расположению которой сводится кажущееся косое положение глаза, и веки сами по себе не отличаются от наших. Кажущееся косое расположение глаз обусловливается, в сущности, скорее уплощением переносья. Для него остается слишком много кожи; последняя вследствие этого складывается в особое образование, так называемую монгольскую складку, которая косо свешивается над внутренним углом глаза и тем вызывает впечатление более низкого его положения по сравнению с внешним углом. Даже и у европейских детей совсем не редки зачатки монгольской складки, но они исчезают по мере роста переносицы.
Откуда проистекает это различие и к каким причинам оно сводится — это пока ускользает от точного исследования. Окружающая естественная среда не может рассматриваться, как единственная причина; в противном случае племенная группа, занимающая такое громадное протяжение, как американская, не могла бы оставаться столь однородной, какой она является в действительности, несмотря на все различие в климатах — от полярного льда на севере, через жаркие тропики, до глетчеров Огненной Земли на юге. С большой вероятностью можно приписать весьма сильное влияние дарвиновскому половому подбору, который в связи с продолжительной изоляцией в замкнутом пространстве создал с течением времени отдельные обособленные типы. Наконец, Клаатч указывает еще на значение рода пищи и влияние ядов для распространения окраски человека. Существуют растительные яды, которые не вредят животным определенной окраски и в то же время опасны для всех других. В качестве довода Клаатч приводит цитированный. Дарвином пример, а именно, что в одном из округов Виргинии все свиньи — черного цвета. На вопрос о причинах этого колонисты объяснили, что главная пища животных — цветной корень Lachnanthes tinctoria, обладающий свойством окрашивать кости в красный цвет и вызывать отпадение копыт у всех свиней, кроме черных. Поэтому только черные свиньи и оставляются на заводе. Подобные факторы, полагает Клаатч, могли играть роль и при фиксации черной окраски кожи у людей.
Как ни увлекателен вопрос об истинных причинах различных замечательных особенностей, однако, для предмета нашего исследования гораздо существеннее тот факт, что даже самое сильное отклонение от исходной формы в пределах нынешних рас не препятствует ни одной из них сохранять определенные свойства упомянутой первичной расы. Большинство наших антропологов склонно рассматривать австралийца, как представителя нынешнего человечества, который ближе других стоит к первобытной форме; он сохраняет в строении своего скелета и мягких частей, в волосяном покрове тела, волосах головы и бороды больше первобытных черт, чем представитель какой-либо другой расы. И как должно поразить нас, белых, когда мы услышим от упомянутых ученых, что в отношении волосяного покрова мы стоим к австралийцу гораздо ближе, чем обе другие крупные расы — монголоиды и негроиды. У этих обеих рас развитие волос на голове шло совершенно иными путями: у монголоидов (монголы Азии, малайцы и американцы) волосы приобрели простой гладкий характер и имеют круглое поперечное сечение, тогда как негритянский волос спирально закручен и имеет продолговатое поперечное сечение. И только мы, как и австралийцы, сохранили, при овальном поперечном сечении, волнистые или вьющиеся волосы головы. Поэтому австралийцу, представителю древнейшей расы, придает столь сильное сходство с европейцем прежде всего его солидная борода. Равным образом сильно развитая волосатость тела, свойственная многим первобытным австралийцам, встречается также у многих мужчин-европейцев, в противоположность черным и желтым, у которых борода, как и волосатость тела, претерпела сильное обратное развитие.
Весьма первобытный характер, далее, должен иметь и наш нос, не гордый выступ лица у нас, взрослых, а тупой носик наших малюток. Профессор Клаатч, уже несколько лет занимающийся специальным изучением австралийцев, доказывает, что эта часть человеческого тела претерпела более или менее сильное отклонение от основного типа. Сильнее всего, согласно этому взгляду, отклонился монгольский нос; у него рост в ширину вместе с одновременным уплощением дошел до таких пределов, что, как мы видели, этим обстоятельством обусловливается образование монгольского разреза глаз. Ближе примыкает к носу австралийца нос негра; но совершенно тождественен с ним только тупой носик маленьких европейских детей, при его широкой, довольно плоской форме и направленных вперед ноздрях.
Вот кое-какие взгляды и факты современной антропологии. Все это, правда, ново и довольно необычно для нашего теперешнего образа мышления; но зато, с другой стороны, мы можем и в этой области спокойно приветствовать конечный результат научного исследования. Антропология открывает нам такую перспективу на историю возникновения человеческого рода, о которой мы еще недавно не могли и догадываться. В единстве человеческого рода мы твердо уверены по сие время; мы должны признать это уже в виду того, что каждая раса производит со всякой другой способное к размножению потомство. Но исследования последних лет заставляют нас относить начало пространственного расселения человечества из общего очага его образования к гораздо более раннему моменту, чем это делалось до сих пор. Необходимо отодвинуть его настолько далеко, чтобы оставалось достаточно времени для развития резких отклонений. А для этого мы должны смело сделать шаг, на который так долго не могли решиться, именно — отнести момент зарождения человечества к третичному периоду, к тому, обнимающему миллионы лет времени, которое предшествовало эпохе последнего великого оледенения (ледниковому периоду). Кроме того, приходится также отвести моменту телесного преобразования более широкое поле действия, чем до сих пор. Попробуем изложить несколько иными словами этот не легкий, но безусловно важный для нас ход мыслей. Мы должны представить себе, приблизительно, следующее. Наш предок, независимо от того, заслуживал ли он названия человека или нет (установление границы, отделяющей животное от человека, будет еще предметом нашего серьезного рассмотрения), был распространен по земле уже в то время, когда распределение суши было существенно иное, чем теперь. Америка была еще доступна сухим путем, также как и Австралия; между нынешней Африкой и южной оконечностью Азии тоже должна была существовать тесная связь. Первоначальное физическое строение у всех людей (мы не вправе уже в те дни отказать нашему предку в человеческом достоинстве) было одинаково, но вместе с тем и сильно изменчиво; во всяком случае одна группа под давлением обстоятельств, характер которых нам еще неизвестен, в меньшей степени испытывала на себе результаты этой изменяемости, чем другие; в то время как она еще относительно мало отошла от грубого первобытного состояния, другие весьма сильно удалились от него в определенном направлении. В каком направлении шли эти изменения — мы в кратких чертах наметили выше.
Этому гипотетическому ходу развития прекрасно соответствует картина нынешнего подразделения рас (см. рис. 13).
Рис. 13. Родословная нынешних человеческих рас (по Штрацу).
Весьма древние и даже древнейшие формы встречаются еще теперь в каждой части света. В последнее время эти древние остатки под именем протоморфных (первообразных) рас противопоставляют архиморфным, господствующим в наши дни. Между теми и другими стоят метаморфные, или смешанные, расы. Менее всего удалились от корня человечества австралийцы; они еще и теперь заключают в себе в зародыше всю сумму свойств всех главных рас. Несколько позднее, согласно Штрацу[7], ответвились от родового корня папуасы, — древнейшие обитатели Новой Гвинеи, причем развитие их приняло направление, которое приблизило их к неграм Африки. В Африке светлокожие обитатели южной оконечности материка, готтентоты (койкойн) и в особенности бушмены — представляют подобную же протоморфную расу. Из нее через стадию карликовых народов (акка) тропической Африки развились нынешние негры (меланодермы). Эти карликовые народы, — или пигмеи, как их называют также в соответствии с древнегреческим наименованием, — наравне с бушменами рассматриваются многими исследователями, как захудалые формы, образовавшиеся из более крупной человеческой породы под влиянием регресса, под давлением тысячелетних неблагоприятных условий питания и жилья. Это вполне возможно, даже весьма вероятно; подобно тому, как различные виды животных, оттесненные на острова или в другие замкнутые области, обыкновенно отстают в величине от своих сородичей, — точно также и люди могут при подобных неблагоприятных условиях подвергаться совершенно тождественному вырождению. Шотландские пони — широко известный пример из животного мира; малорослые африканцы, ведды, на Цейлоне (см. рис. 14) и негритосы Филиппинских островов — вот ближайшие представители карликовых форм из нашего рода.
Рис. 14. Ведды на Цейлоне (по фотографии, принадлежащей Лейпцигскому музею народоведения).
Австралийцы, папуасы и низкорослые африканцы образуют, таким образом, древнейшую группу нынешнего человечества. Далее, согласно Штрацу, следует рассматривать, как более позднюю, но все еще протоморфную ветвь, также и американцев. Они довольно рано осели в их нынешнем отечестве. Как показывает множество доисторических находок последних десятилетий, они должны были населять свой раскинувшийся в длину материк уже в то время, когда гигантский ледяной саван, который покрывал и всю Северную Европу далеко вглубь до средней Германии, на долгое время отрезал от внешнего мира всю Северную Америку вместе с Беринговым проливом. Таким образом, отодвинув момент возникновения человечества за грань ледникового периода, мы получаем возможность поставить краснокожих в связь с остальным человечеством посредством доледниковых, третичных материковых мостов, которые в ту эпоху вели в северо-восточную Азию и в северо-западную Европу. Однако, мы еще не получаем возможности определить, с какой стороны пришли краснокожие, — с востока, из тогдашней Европы, или с запада, из тогдашней Азии. Большинство наших антропологов, а также распространенный в широкой публике взгляд причисляют краснокожих к большой монголоидной первобытной расовой группе, — следовательно, предполагают переселение их с запада; другие же, как Мартин и итальянец Серджи, указывают на связи их с западом Старого Света. Еще не мало утечет воды в море, прежде чем будет доведено до конца научное исследование по этому вопросу.
Кроме американцев, Штрац причисляет к этим более поздним протоморфным расам также и некоторые древние элементы населения в Малайском архипелаге и на островах Великого океана (в его схеме они обозначены, как австралазийцы); сюда относятся канаки Гавайских островов, маори Новой Зеландии, жители о-ва Тонга, затем баттаки Суматры и даяки Борнео.
Теперь мы подходим к большим группам, — белых и желтых. Мы привыкли рассматривать значительно большую часть Азии, — весь громадный материк, кроме юго-запада и арийской Индии, — как природную удельную область монгольской расы. Правда, раса эта, без сомнения, существовала там издревле, даже в первобытные времена, — но во всяком случае, ей отнюдь не принадлежало исключительное господство здесь с самого начала. Вдали, в северной Японии, на острове Иессо, на Сахалине и на Курильских островах еще ныне живет народец айны (рис. 15).
Рис. 15. Айн (по фотографии Лейпцигского музея народоведения).
Эти довольно странные на вид существа кажутся вдвойне чуждыми в окружающей их узкоглазой, плосконосой, желтокожей, гладковолосой и безбородой монгольской среде. Во всем представляют они полную противоположность монголам: не имеют кожной складки на верхнем веке над внутренним углом глаза, обладают высокой прямой переносицей, более темным цветом кожи без желтого оттенка; но, прежде всего, у них богатейший волосяной покров, на голове и вообще на всем теле. Прямо таки завидная пышная волнистая растительность обрамляет довольно, впрочем, грязные лица мужчин и женщин; особенно великолепна густая борода, предмет гордости мужчин. Насколько это украшение ценится в эстетике айнов, видно из того, что ему не чужд даже и прекрасный пол, и у каждой женщины под носом виднеются маленькие, задорные усики — к сожалению, при ближайшем рассмотрении обнаруживающие свою поддельность: они воспроизведены татуировкой (рис. 16).
Рис. 16. Аинка (по фотографии Лейпцигского музея народоведения).
Айны не только кажутся чужими среди окружающего их населения, они и в самом деле чужды ему в расовом отношении. Многих наблюдателей поражало сходство айнов с русским крестьянином; это сходство простирается не только на внушительную «толстовскую бороду», но и на формы рта и носа. Обстоятельство это побудило ученых уделить некоторое внимание вопросу о возможных древних расовых отношениях между Восточной Европой и Восточной Азией. Окончательных результатов это исследование, еще не дало, но все сходятся на том, что под нынешним монгольским наслоением несомненно лежит более древний слой, который не имеет ничего общего с монгольской расой и скорее должен рассматриваться, как протоморфный предшественник нашей собственной белой расы. Русский крестьянин — это смешанный с другими, более современными элементами остаток этой первобытной расы на Западе; айны — сохранившийся в чистой форме последний свидетель ее былого широкого распространения на Востоке. Эту древнюю расу мы обозначаем общим наименованием палеазиатской или древнеазиатской.
Следовательно, некогда широкая полоса, тянувшаяся от Восточной Европы через всю среднюю Азию, была удельной областью наших прародителей. Кроме того, их расселение, повидимому, простиралось и на Южную Азию, в особенности на Индостан. Последним остатком этого протоморфного слоя, оттесненным до крайних пределов южной оконечности этой области, — являются ведды на Цейлоне; близко родственны им дравиды, рассеянные по большей части полустрова. Оба племени, действительно, обнаруживают черты белой расы, — правда, в более или менее примитивной, но вполне очевидной форме; в то же время у них не наблюдается никаких родственных черт с желтой, а тем более — с черной расой. Тот факт, что они так же, как и айны, обитают по окраинам материка, Штрац объясняет натиском желтой (ксантодермной) расы. Последняя в предшествующие эпохи должна была долгое время оставаться изолированной, чтобы успел сложиться нынешний, резко выраженный тип. Но затем эта раса с неодолимой силой распространилась почти по всему материку, оттеснив более древний, белый первичный слой на окраины, как описано выше. Представляют ли эскимосы протоморфную расу, которая находится в подобном же отношении к желтой, как айны и ведды к белой, или акка к черной, — Штрац пока не берется решать. Между тем, многое говорит в пользу этого предположения.
Вот в сжатых чертах картина расового подразделения человечества, развертывающаяся ныне перед нашими глазами. Многое в ней, — пожалуй, даже большая ее часть — еще не закончено, представляя собою пока лишь эскизный набросок; но основные контуры, можно смело утверждать, нанесены вполне безошибочно. По сравнению с прежней расовой картиной, новая, без сомнения, выиграла. В то время как прежняя представляла лишь простое сопоставление отдельных разновидностей нашего вида, без всякой связи с ходом их общего развития и генетическими взаимоотношениями, — теперь перед нами художественное полотно необычайно рельефное и с далекой перспективой, позволяющей нам заглянуть в геологическое прошлое земного шара. В глубине этой перспективы мы видим, — еще не достаточно ясно во всех подробностях, но уже вполне отчетливо, — как из общего родового корня одной первичной расы выходят отдельные стволы, как они пространственно теснятся друг над другом, как развиваются при этом далее в определенном направлении, разделяются, разветвляются. При этом мы приходим, между прочим, к поразительному результату, — что наша гордая белая раса оказывается в довольно тесных родственных отношениях со столь удаленными пространственно народами, как айны, дравиды, ведды и даже австралийцы, которым, как земле от неба, далеко от нас в физическом, умственном и культурном отношениях. Этот результат, конечно, сразу же беспощадно разрушает все наши традиционные, привычные, консервативные воззрения. Но вместе с тем результат этот столь же мало принижает нас, как и все вообще эволюционное учение; напротив, мы можем даже гордиться, что несмотря на подобное родство, так смело и далеко ушли вперед. А затем, — и это интересует нас, этнографов, всего более— только благодаря этим новым антропологическим завоеваниям можем мы теперь думать о приложении того же метода к нашей собственной науке, к учению о культурном достоянии человечества — к этнографии. Мы увидим скоро, в какой связи с этнографической наукой стоят эти открытия.
IV. Элементы человеческой культуры
Адольф Бастиан, его «элементарная» и «народная» мысль. Географическая провинция. Общее достояние по Ратцелю. Почему мы интересуемся отдаленнейшим прошлым человечества?
Маститый учитель этнологии, Адольф Бастиан, не только путешествовал больше и дальше, чем все прочие ученики и учители этой науки, но находил время и писать больше, чем большинство этих ученых, вместе взятых. Как-то один из коллег, любивший зло пошутить, доставил себе своеобразное удовольствие, — он наложил одну на другую все сочинения Бастиана, чтобы измерить высоту его интеллектуальной производительности. Получилась, говорят, высота более двух метров. А было это еще задолго до завершения литературной деятельности этого более чем прилежного ученого. Впрочем, никто не дал себе труда проверить приведенную цифру.
Все это поистине изумительное количество трудов и сочинений преследует — и это, пожалуй, не менее изумительно— почти одну единственную задачу: привести со всего света и из всех времен доказательства, на тысячах и тысячах примеров, однородности или, по крайней мере, родства духовной жизни человечества.
И в общем это вполне удалось Бастиану, поскольку простому смертному дано понять его более чем витиеватый язык. Но он приходит и к другому результату, а именно, что в действительности мы имеем дело с двумя наслоениями: с общим у всех людей слоем одинакового мышления, для которого он ввел в науку выражение «элементарная мысль», — и другим, располагающимся выше, слоем культурного достояния; последнее не одинаково у всех рас и народов — оно принимает особую местную окраску под влиянием географических особенностей области их возникновения и развития. Это — общеизвестная бастиановская «народная мысль». Название выбрано в высшей степени неудачно; потому-то оно и не принято современным народоведением. Однако, идея, лежащая в его основе, несомненно, правильна и удачна, тем более, что она опирается на другое понятие — «географической провинции». Бастиан подразумевает под этим то явление, что внутри каждой резко очерченной области земли под влиянием естественной среды и климата развиваются и вполне определенные культурные особенности, которые так прочно укореняются, что даже сильнейшее внешнее воздействие не может их существенно изменить, а тем более — изгладить. Такой пример из области материальной культуры можно найти в любом этнографическом музее. Какое впечатление массивности, тяжести и солидности производят на зрителя коллекции принадлежностей одеяния арктических народов! Всюду мех и шкуры животных, даже в утвари. Более чем суровый климат требует применения меха, а скудость растительных материалов обусловливает применение шкур. И в характере жилищ, в которых человек должен проводить всю долгую, суровую зиму, видна та же массивность, прочность или, по крайней мере, приспособления для изоляции внутреннего помещения от ледяного холода наружного воздуха. Как сильно отличается от всего этого культурное достояние тропического мира! Здесь одежда сводится почти к украшению, а жилище столько же рассчитано на защиту от жары, сколько полярное жилье — на защиту от холода.
В этих пределах, таким образом, система Бастиана весьма хороша и применима; но, к сожалению, из нее нельзя вывести всех следствий. Хотя великий ученый и знаток человечества допускает взаимное воздействие отдельных географических провинций, он не говорит с полной определенностью, имеет ли это воздействие следствием также и передачу определенных предметов культуры от соседа к соседу. Короче говоря, он еще и теперь в долгу перед нами определением своей позиции в вопросе: «заимствование — или самостоятельное проявление народного духа?».
Несмотря на его «народную мысль», в каждом отдельном случае еще и теперь требуется основательное, детальное исследование происхождения данного обычая или определенной утвари.
Несмотря на все это, система Бастиана, как целое, все же существенно подвинула нас вперед. Бастиановская «элементарная мысль» в общем совпадает с понятием, которое Фридрих Ратцель, дополняя свою теорию заимствования, называет «общим достоянием человечества» и для которого существует еще более новое выражение, именно— «элементы культуры». Под всеми этими наименованиями подразумевается тот инвентарь человечества, который остается, когда мы из общей суммы всего произведенного человечеством, чтобы подняться над миром животных, отнимаем принадлежащее только отдельным группам. При этом безразлично, представляют ли эти группы лишь незначительные, племена, многочисленные народы или же обнимают целые расы.
Этот-то низший слой культурного достояния и должен теперь стать предметом нашего рассмотрения. Прежде всего необходимо это для нас самих. Всегда приятно бросить взгляд в низшие слои человечества, хотя бы для того лишь, чтобы гордый своим происхождением белый мог убедиться, как высоко поднялся он по сравнению с этими дикарями. Но есть и другие побуждения, более объективного характера. В течение столетий и даже тысячелетий мы, представители белой расы, пытаемся поднять покров над неведомыми областями Азии, Африки, Америки и Австралии; без отдыха и устали стремимся мы проникнуть вглубь скованных льдом полярных стран, пока там не останется для нас никаких тайн. Все эти стремления имеют в основе прирожденную страсть к исследованию, влечение к знанию. Подобного же рода побудительные причины заставляют нас интересоваться происхождением и развитием отдельных ветвей нашего собственного рода.
Но есть еще и третье основание. То, что верно для антропологии, должно быть справедливо и для этнографии. Антропология воздвигла свое новое здание расового единства человечества на фундаменте общих физических признаков. Сама собой является мысль попытаться таким же образом возвести на общей духовной основе здание, именуемое человеческой культурой. Если такая проблема вообще разрешима, то, как мне кажется, это самый верный путь к ее разгадке.
V. Обзор элементов культуры
Опять ложные представления. Богатство наших предков. Перечисление элементов культуры. При всем том — идейная бедность человечества.
При более близком знакомстве с общим культурным достоянием человечества мы убеждаемся, что главу об ошибочных представлениях можно было бы еще продолжить. Кому не приходилось видеть этнологических коллекций, тот не может себе представить, как невероятно разнообразны были предметы вооружения и утварь у наших даже самых древних доисторических предков. Какое богатство форм культурного достояния первобытных племен нынешнего времени развертывается перед изумленными глазами зрителя! При этом надо иметь в виду, что от эпохи до знакомства с обработкой металла сохранилось от наших собственных предков лишь то, что было изготовлено из стойких, почти не поддающихся разрушительному действию времени материалов, — рога, кости и камня; все остальное в течение тысячелетий стало жертвой всеразрушающего времени. Разнообразие форм наблюдается у орудий даже из отдаленнейшей эпохи начала каменного века, когда первобытный человек еще не был знаком со столь простым, на наш взгляд, приемом, как шлифовка, и довольствовался методами оббивки камня и обработки камня посредством надавливания на края орудия. Это разнообразие должно удивлять даже того, кто знает, что путь развития человека до этой эпохи был, вероятно, не короче, чем в последующие периоды времени. В последние годы много разговоров возбуждают эолиты, кремни подходящей формы с характерными знаками по краям, в которых многие исследователи доисторической культуры готовы признать следы употребления орудий человеком. Если здесь перед нами, действительно, «утренняя заря» человеческой культуры, то мы должны отнести эти древнейшие орудия человечества к эпохе, которая заходит далеко в третичный период и отделена от нас промежутком, быть может, в миллионы лет. Поверхностному наблюдателю все эти камни, которые массами были найдены недавно в разных местах Египта, Франции, Бельгии и Германии, могут показаться довольно одинаковыми; но тот, чей глаз прошел известную школу при изучении народов, еще ныне живущих в каменном веке, видит в этих простых камнях поистине поразительное разнообразие орудий. Тут есть скребки и скоблилки для плоских, вогнутых и выпуклых поверхностей, буравы, ножи, клинья, молотки, молоты и еще много других орудий. Все это применялось древними, повидимому, столь бедными духовно современниками мамонта, пещерного медведя и северного оленя, когда им нужно было свежевать убитое животное, очистить шкуру от крови и сухожилий, проткнуть ее заостренным камнем, разделить на части дичь и раздробить кости, чтобы добраться до лакомого костного мозга; этими орудиями они пользовались, чтобы сшивать грубые шкуры в удобную одежду, полировать корявые рукоятки копий и, наконец, выцарапывать на тщательно отполированной кости или на гладких стенах пещерного жилища свои рисунки, особенно прославившиеся в последнее время.
В этом отношении нам приходится, действительно, переучиваться заново. Беглый обзор элементов человеческой культуры, собранных Фридрихом Ратцелем во втором томе его «Антропогеографии», даст нам необходимый материал.
Прежде всего дело касается огня, по крайней мере — его употребления; являются ли и способы его добывания общим достоянием — покажет наше дальнейшее исследование. Общим достоянием всего человечества является затем оружие. Нет такой человеческой группы, у которой не оказалось бы каких-либо приспособлений для увеличения силы удара кулака или вытянутой руки. Оружие и орудие еще сливаются на самых низких ступенях культуры; и то и другое — детища одной и той же примитивной техники. Техника эта всюду одинакова: камень обрабатывают оббивкой и обтесыванием, но не шлифовкой и сверлением; то и другое представляет более позднее завоевание. Далее идет обработка дерева строганьем и резьбой; обжигание этого материала в огне для придания ему большей прочности; сгибание его в распаренном состоянии. В обработке шкур животных первобытный человек не идет далее механического разминания, растирания и скобления; широко распространено также пропитывание кож жиром. Затем, повидимому, универсальный характер имеет плетение, в противоположность искусству тканья, которое было изобретено значительно позже и, вероятно, лишь в немногих центрах. Можно считать общим достоянием также примитивный способ окрашивания путем наложения естественных минеральных красок или погружением материалов в естественные растворы тех же красок. Наконец, к элементам человеческой культуры принадлежат также самые ранние зачатки судостроения. Впрочем, сомнительно, чтобы всем группам удалось дойти до изготовления древнего судна — выдолбленного древесного ствола; зато смело можно приписать этой группе человечества случайное пользование плывущим по волнам древесным стволом. Когда немецкий исследователь Отто Финш в начале 1880 года плыл вдоль северного берега Новой Гвинеи, — туземцы, за неимением чего-либо похожего на лодку, подплывали к экспедиционному кораблю «Самоа» на корнях вывороченных деревьев, пользуясь короткими палками вместо весел. Наш рисунок наглядно изображает эту важную в культурно-историческом отношении сцену.
Рис. 17. Мужчины из Новой Гвинеи, плывущие на корневых пнях. (По Финшу).
Весьма разнообразны способы и средства добывания жизненных припасов; знание и сознательное употребление многих дикорастущих пищевых растений — тоже общее достояние, как и добывание полезных продуктов животного царства. Ни бушмен, ни современный австралиец не относятся пренебрежительно ко вкусной пище; оба подносят ко рту все, что из животных и растительных продуктов попадется им при скитаниях по довольно скудным степным областям Южной Африки или еще более бесплодным пустыням внутренней Австралии. То же было повсюду у человечества и в древнейшую эпоху.
Но предки наши не ограничивались простым отыскиванием яиц и беспомощных молодых животных. Это было всегда скорее занятием женщины, как еще и теперь наблюдается у беднейших народов. Мужчину же издавна привлекали опасности и радости охоты и рыбной ловли. Для охоты употреблялись ударное и метательное оружие; для рыбной ловли всюду применялось запруживание рек, богатых рыбою, устройство «морд»[8] и охота с острогою. Наконец, первобытная жизнь человечества стала обеспеченнее и приятнее с того момента, когда человек научился делать убитую дичь более вкусной и удобоваримой при помощи огня. Однако, к этому слою культуры еще не относится искусство варки — «облагораживание» пищи кипящей водой; это — изобретение гораздо более позднего времени; оно даже и ныне не является еще общим достоянием человечества; и теперь существует колоссальная замкнутая область, — весь Великий океан и некоторые другие, — где пищу поджаривают еще прямо на огне и пекут между раскаленными камнями. К чести женщин надо отметить, что изобретение искусства варки — великая заслуга женщины; далее, ей же обязаны мы изобретением способов изготовления глиняной посуды; то же относится и к огороду с грядками овощей и других полезных растений; наконец, — особенно важная заслуга, — женщиной же были сооружены первые жилища — дома. И так как все эти искусства и изобретения применялись весьма долгое время и на одном и том же месте, то женщина стала хранительницей домашнего очага, какою мы почитаем ее и теперь.
Почти всеобщее распространение имеет среди человечества употребление возбуждающих или даже одуряющих веществ. Наши предки, жившие до Колумба, не были знакомы ни с какими годными для курения травами. Ведь благородный табак был привезен Колумбом из Нового Света лишь после открытия Америки и с изумительной быстротой распространился потом по всем остальным материкам. Впрочем, не только древние культурные народы побережья Средиземного моря, но и наши доисторические предки были знакомы с курением. Оно было не вполне такого рода, как у нас, и употреблялось не для простого лишь удовольствия; им давно было известно благодетельное действие вдыхания некоторых растительных курений на дыхательные пути и общее самочувствие.
Точно так же обстоит дело и с опьяняющими средствами. Конечно, далеко не все народы до соприкосновения с белыми знали и употребляли наш столь любимый и еще более ненавидимый алкоголь; этот «культурный предмет» (да и многое другое вместе с ним) был подарен большинству первобытных народов нами, современными завоевателями их стран. Но у различных рас и народов всегда было что-нибудь свое в том же роде: у одних березовый и акантовый (медвежьи когти) сок, у других — кава, у третьих — кобылье молоко, у четвертых — мухомор. Даже нашим, кажется, столь невинным маслом якуты пользуются как средством опьянения. Правда, чтобы достичь желаемой цели, т. е. чтобы при помощи опьянения подняться над горестями повседневной жизни, такому «пьянице» приходится за один присест истребить неслыханное количество — около 30 фунтов масла! И все-таки здоровье крепкого якута нисколько от этого не страдает.
Как видим, в выборе средств увеселения люди идут разными путями; но в склонности к наслаждению этого рода все они одинаковы. И так ведется издавна. Это, между прочим, плохая поддержка для наших апостолов воздержания, поскольку они любят указывать на воздержанность других, лучших людей. Гораздо более убедительным было бы указание на то, что и у диких народов, — безразлично, какому бы способу опьянения они не предавались, — последствия бывают ничуть не лучшие, чем у нас самих; ни мухоморная настойка камчадалов, ни «чихо» южно-американских индейцев или «пулькве» индейцев Центральной Америки, ни просяное, маисовое и банановое пиво негров нисколько не улучшают самочувствия отдельных потребителей и не способствуют развитию всей расы.
Гораздо отраднее для современного поколения указание на другое первобытное и действительно всеобщее достояние человека — украшения. Это культурное благо не так сомнительно, как демон алкоголя, хотя и может подать насмешливо настроенной мужской половине повод обвинить прекрасный пол в чрезмерном пристрастии к этому достоянию культуры. Но такое обвинение совершенно неосновательно. Если ограничиться нашей собственной культурной сферой, то на основании доисторических находок можно доказать, что страсть украшаться у женщины XX столетия нисколько не усилилась, хотя, конечно, удовлетворяется иными средствами, чем у женщин, живших три и четыре тысячи лет до нашего времени. Более того: если бы дамы галльштадтской эпохи, относящейся к периоду за тысячу лет до P. X, появились теперь среди нас, то современные дамы показались бы им одетыми весьма просто и даже лишенными украшений. Так обстоит дело и у большинства остальных народов. Необходимо прибавить, что украшения родились гораздо раньше, чем появилась одежда. Это кажется странным северянину, но вполне подтверждается бесчисленными фактами, которые обнаруживаются у современных нам диких народов и у наших доисторических предков. Одежда представляет явление вторичного характера и даже в настоящее время не может быть названа общим достоянием человечества.
Общею всему человеческому роду была с давних пор и потребность в жилье. Мы говорим не о постоянном, удобном жилище, где можно отдохнуть от невзгод и трудов, а о простом удовлетворении временной нужды в защите от ветра и непогоды, холода зимы и прохлады ночи, а также, до известной степени, от враждебных нападений зверей или людей. Мы не знаем ни одной части человеческого рода, — ни из ныне живущих, ни из живших много тысячелетий тому назад, — которая не умела бы устраивать кровлю из ветвей или камыша, находить простую защиту от ветра или отыскивать пещеры.
Наконец, последним элементом культуры является наше господство над животным. Собака, как прирученный спутник человека, встречается у всех народов. Во многих местах, кроме нее, есть несколько других прирученных животных, а у австралийца собака осталась и по нынешний день единственным домашним животным.
Перечисленные элементы культуры составляют общую всем народам «материальную» культуру; мы видим, что этих элементов далеко не мало, так как они охватывают почти все отрасли человеческой хозяйственной жизни.
От обзора соответствующих культурных благ духовной жизни здесь лучше отказаться: нам еще придется обстоятельно заняться этим предметом, но значительно позже. Для характеристики того, как поразительно широка и эта область, отметим, что «духовные» элементы культуры не затрагивают в широкой области нравов и обычаев лишь немногих черт человеческой жизни: они глубоко вдаются в область социальных инстинктов человека, от первых зачатков общественности до элементов образования государства; далее, они охватывают первые проявления правового чувства и, — что замечательно — даже первые заметные следы религии. Не без основания можно причислять к этим духовным элементам культуры также и зачатки искусства. Я прилагаю здесь образчик такой в высшей степени примитивной художественной попытки: рисунок изображает охоту на страусов и исполнен бушменом на стене скалистой пещеры в округе Гершеля в Капской земле, в Южной Африке.
Рис. 18. Рисунок бушменов на скале в Капской колонии. Изображена охота на страусов. Охотник подкрадывается к стаду.
Стройные животные мирно, с уверенностью в полной безопасности, занимаются поисками пищи. Неожиданно к ним присоединяется новый экземпляр, у которого, при внешнем сходстве с ними, есть что-то, обращающее на себя внимание; его ноги необычайно коротки, походка не вполне страусообразная, а на груди странного существа какой-то непонятный нарост. С любопытством и некоторой тревогой (два страуса готовы даже обратиться в бегство) все стадо уставилось на пришельца. В следующий момент вся картина резко изменится; со свистом полетят стрелы одна за другой в искусно обманутых птиц; бешеным галопом понесутся они в разные стороны, чтобы вскоре погибнуть от смертоносного яда отравленных стрел.
Картина эта — во всех отношениях произведение образцовое: она в высшей степени реальна и в то же время полна драматизма и движения. А между тем она принадлежит художнику такой расы, которую мы привыкли ставить на самую низкую ступень человеческой культуры. Это обстоятельство могло бы, пожалуй, укрепить предположение, что обладание такими художественными навыками, наряду со многим другим, распространено среди большей части первобытного человечества. Можно предположить, что они были всеобщим достоянием человечества на той ступени его развития, которая соответствует культуре нынешнего бушмена. Однако, в такой общей форме предположение это не отвечает истине; во всяком случае, трудно привести доказательства для его подтверждения. Правда, этнографы считают австралийцев и эскимосов также изумительно точными рисовальщиками животных и людей; за последнее десятилетие наука о доисторическом человеке причислила сюда и палеолитических обитателей южно-французских и испанских речных долин, а также северного предгорья Альп: они также были искусными художниками и скульпторами животных; но у главной массы дикого человечества мы находим теперь, несомненно, более низкую ступень развития живописи. Тем не менее, ни одна группа нашего рода, кажется, не лишена совершенно художественных наклонностей; где нет способности к самостоятельному свободному творчеству, там наблюдается стремление к несвободному искусству, к орнаменту. Наши музеи народоведения с их обилием разукрашенных предметов — лучшее тому доказательство.
VI. Первые приобретения
Идея эволюции и определение границы между человеком и животным. Критерий понятия человека. Речь. Орудие. Причины нашего прогресса. Выпрямленное положение тела и его значение. Теория Клаатча. Мозг, рука и нога. Теория лазания Шетензака. Третий критерий — огонь.
Как завидно жилось историку культуры, пока современная эволюционная мысль еще не господствовала над умами и науками! В те счастливые времена человек появлялся перед исследователем сразу, вполне готовым, законченным телесно и духовно; он был так устроен творцом, что мог уже без всякого дальнейшего духовного развития подняться с уровня библейского первого человека до высоты нашей эпохи с ее огромными завоеваниями во всех областях.
Современный исследователь более уже не находится в таком счастливом положении; для него человек столь же изменчив, как и всякий другой вид остального органического мира. Но вместе с тем современный ученый поставлен перед проблемой, от которой историка прежнего времени освобождала библейская догма: он должен установить границу, отделяющую человека от его животного предка и от всего вообще животного мира, как существо высшего порядка.
Первым критерием человеческой природы издавна и всеми признается речь. Однако, элементарные зачатки речи существуют, как известно, и у высших животных; Мюллер-Лиер в своей превосходной книге «Фазисы культуры» насчитывает у кур и голубей по 12 различных звуков; у собак их, будто бы, 15, у рогатого скота— 22, в то время как разговорный запас простолюдина обнимает около 300 слов. У гориллы и шимпанзе, по данным известного американского «обезьяньего профессора» Гарнера, — поставившего задачей своей жизни изучение языка этих животных, — существует около 20 звуков, которые значительно дополняются еще богатой жестикуляцией и живой мимикой. Таким образом, различие между человеком и животным оказывается совсем не столь громадным, как мы обыкновенно предполагаем. По существу здесь и вовсе не было бы различия, если бы человек не воспитал в себе способности, которая совершенно отсутствует у животного: эта присущая исключительно человеку способность заключается в умении переходить от конкретных представлений и образов воспоминания к составлению понятий и оперированию ими. Первые два вида психической деятельности наблюдаются и у животного: оно обладает умом, памятью, воображением и способностью суждения; но способности мыслить при помощи понятий без конкретных представлений — у животного нет.
Второе завоевание человеческого рода — орудие. Оно тоже в зачатке встречается в царстве животных; обезьяны из своих древесных крепостей бросают во врага сучьями и колючими плодами, скатывают на него камни, опираются при ходьбе на палки, разбивают скорлупу орехов и других плодов. Ничто никогда не удивляло меня так сильно, как искусство маленького макака в зоологическом саду в Дюссельдорфе, с абсолютной уверенностью разбивавшего круглым камнем орехи, которые кидал ему в клетку сторож; он ни разу не сделал промаха; притом сила удара была так точно рассчитана, что разбивалась только скорлупа, ядро же ореха оставалось нетронутым. Работа наших щипцов для орехов по сравнению с этой ловкостью и уверенностью кажется какой-то беспомощной попыткой разрешить ту же задачу, — даже шагом назад.
Таким образом, коренного различия между человеком и животным в обладании орудиями нельзя видеть; это различие выступило лишь позже. Интересно при этом, что причина нашего прогресса была та же, которая обусловила и развитие нашего языка и разума: выпрямление тела из горизонтального положения в вертикальное.
В этом простом факте поворота продольной оси нашего тела почти на 90 градусов мы видим настоящий поворотный пункт на бесконечно долгом пути развития человеческого рода. Как бы разумно ни было четвероногое, оно, — при горизонтальном положении тела и обусловленном им расположении костей шеи и головы и тяжелом грузе мускулатуры в этой области тела, — никогда не возвысится до членораздельной речи. Лишь тогда, когда череп легко, без особого напряжения мышц, покоится над центром тяжести тела, — т. е. при том положении тела, которое наблюдается у человека — возможно развитие способности речи. Помимо разгрузки мускулатуры при этой «королевской» осанке — королевской, по сравнению с положением тела у животных, обращенных мордой к земле — сюда еще присоединяется и другое, весьма существенное обстоятельство. Только при том положении черепа, какое бывает у нас, мог увеличиться размер мозга, который стал особенно быстро развиваться у человека с момента окончательного установления вертикального положения тела.
Этот поворот тела почти на прямой угол имел и еще одно следствие: человек мог свободно распоряжаться своими передними конечностями. Такая свобода действия передними конечностями не свойственна ни одному животному; нет ее и у тех животных, которые могут иногда передвигаться, сохраняя вертикальное положение тела, метать камни, строить шалаши и гнезда; правда, они могут в течение немногих, коротких мгновений делать из своих «рук» и иное употребление, чем при передвижении тела с помощью четырех конечностей; но в общем эти руки — такие же несвободные органы, как и задние конечности. Несравненно выгоднее положение человека. Некогда, бесконечно давно, он превратил свою унаследованную от предков заднюю хватательную руку в опорную ногу, на которую с тех пор всецело перешла забота о передвижении тела. В этот момент человек совершил по отношению ко всему позднейшему развитию его культуры самый важный и самый чреватый последствиями шаг, какой он вообще мог сделать; отныне он единым ударом освободился от того ужасного ига, которое делает животное вечным рабом окружающей среды, — от ига естественных условий. Когда какой-либо вид животных по тем или иным причинам переселяется из привычной обстановки в новую, с иными свойствами, он остается жизнеспособным лишь в том случае, если сможет приспособить свою телесную организацию к новым условиям: если тут у него появляются новые, необычные для него враги, он должен развить свои естественные органы защиты или улучшить свою способность спасаться бегством; когда он попадает в более холодный климат, он может процветать только в том случае, если органы его окажутся защищенными подушками из жира или тело покроется более густым одеянием из шерсти и перьев. Ничто подобное не связывает человека; борьбу с врагом он ведет при помощи изобретенного им, чуждого его телу, внешнего оружия, которое он держит своими свободными подвижными руками. Если ему приходится защищаться от невзгод климата, он строит себе жилище или создает для тела искусственный покров — одежду. Короче говоря, благодаря своим свободным при всяком положении тела рукам, он получил возможность заменить прежнюю необходимость телесной приспособляемости более совершенной способностью применяться к условиям с помощью приспособлений внетелесного характера.
Антропологи полагают, что можно весьма различными способами восстановить тот путь, который проделал человек от стадии бессловесного (в упомянутом ранее высшем смысле) четверорукого животного до отвлеченно мыслящего и передвигающегося при вертикальном положении тела двурукого человека. Проблемы подобного рода обыкновенно не касаются области этнологии, но они так важны и значительны, что мы не можем не остановиться на них. Я лично считаю наиболее приемлемой теорию профессора Германа Клаатча, хотя бы уже по тому, что она — самая простая. Быть может, именно эта поразительная простота была причиной того нерасположения и вражды, которыми почтили ее многочисленные коллеги деятельного ученого.
Клаатч указывает прежде всего на тот, поражающий большинство из нас, факт, что человеческая пятипалая кисть — не приобретенный, а исстари унаследованный орган; все млекопитающие, как и все позвоночные вообще, с самого своего появления обладали пятилучевыми конечностями; там, где мы встречаем меньшее число лучей, — например у свиньи, рогатого скота или у лошади с единственным копытом, — это явление объясняется регрессивным развитием. Эти пять пальцев во всем древнем мире животных расположены так, что большой палец может быть противополагаем другим, т. е. расположен против других пальцев, как особый орган, как противоположный рычаг; прикасаясь к прочим, он прилегает внутренней стороной к их внутренней же поверхности. Если читатель даст себе труд приложить последовательно большой палец руки к остальным пальцам, — он сразу уяснит себе понятие противополагаемости. Таким образом, и этот большой палец, — как показывают находки следов, относящиеся к палеозойской и мезозойской эпохам, — наше древнее наследие. По мнению Клаатча, число пальцев, противополагаемых большому, а именно четыре — вовсе не случайно; при большем числе, без сомнения, наблюдалось бы ослабление полезного эффекта; возможно, что это соотношение— четыре и один — есть наивыгоднейшее из всех возможных.
Четверорукость приматов тоже не представляет привилегии, преимущества, которое мы с гордостью могли бы приписать древнейшей стадии развития человеческого рода. Это лишь наследие первобытного состояния; оно было свойственно формам всех млекопитающих и позднее утрачено в отдельных отрядах, независимо друг от друга, в регрессивном развитии. В эоцене, древнейшем отделе третичного периода, охватывавшего миллионы лет, т. е. в эпоху, предшествовавшую нашему ледниковому периоду — хватательная рука и хватательная нога еще носят вполне всеобщий характер; ныне же они встречаются лишь у немногих групп животных; остальные утратили то или другое, либо же и то и другое, путем обратного развития и преобразования.
У человека рука осталась консервативной, но подверглась изменению задняя конечность: из хватательной руки она превратилась в опорную ногу. Человеческая опорная нога представляет во всем органическом мире нечто своеобразное уже по положению большого пальца стопы; нога, как опора тела, не встречается в подобном виде нигде, в противоположность руке, которая в сходной форме существует уже у низших животных. Подчеркивая это своеобразие, Клаатч идет еще дальше и утверждает, что для доказательства единства человечества вполне достаточно было бы уже одного устройства человеческой ноги.
В древнейшем состоянии большой палец ноги обладал еще способностью противоположения; у человеческого зародыша намек на такое положение сохраняется до сих пор в виде значительного промежутка между большим пальцем и вторым. Остатки прежней хватательной функции тоже встречаются у низко стоящих народов; так, австралийцы хорошо умеют волочить копье, зажатое в пальцах ноги; ведды, на Цейлоне, даже натягивают лук ногами. Родителям знакома курьезная подвижность большого пальца ноги у наших грудных младенцев, а также то словно предназначенное для лазания расположение членов, которое наблюдается у сладко дремлющих малюток в первые месяцы жизни; ребенок лежит, притянув к себе ножки, согнув колени и обратив подошвы друг к другу, словно собирается карабкаться всеми четырьмя конечностями на дерево.
Было бы ошибочно, говорит Клаатч, думать, что теперешняя форма нашей ноги возникла, как результат вертикальной ходьбы; согласно ему, правильнее было бы сказать: только наша нога и делает возможной прямую походку; она — не следствие такой походки, а ее условие. Многие животные ходили довольно прямо уже в весьма древнюю геологическую эпоху, — в мезозойский период; наши обезьяны, как известно, также прибегают иногда к этому способу передвижения; но ни у одного рода животных не развилось такой ноги, как у человека. Как объяснить этот факт? Каким образом развилась такая форма ноги именно у человека?
Клаатч подчеркивает то обстоятельство, что образование опорной стопы было бы бесполезно, если бы распределение тяжести в теле не обусловливало возможности вполне прямой походки. Это стало осуществимым лишь при весьма значительном перемещении назад центра тяжести тела. Перемещение центра тяжести вызвано было изгибом вперед поясничной части позвоночника; при этом голова и верхняя часть позвоночника были настолько отодвинуты назад, что стало возможным вполне вертикальное положение тела при ходьбе.
Здесь выступает на сцену другая теория — гейдельбергского антрополога профессора Шетензака.
Первоначально человек, как известно, вел лазающий образ жизни. Если бы он оставался в первобытном лесу, то и доныне сохранил бы длинные, как у обезьяны, руки. Шетензак указывает на технику лазанья диких народов, — австралийцев, западно-африканских племен Камеруна, Лоанго и т. д. Все народы лазают иначе, чем мы, европейцы; в то время как мы при влезании на дерево усиленно работаем коленями, первобытные народы помогают себе стопами. При этом применяется два различных метода, смотря по толщине дерева. Как наглядно видно на прилагаемых рисунках 19-м и 20-м, влезание вначале состоит в восхождении по стволу; но в то время как при влезании на тонкие деревья ступни плотно прилегают к стволу вогнутой частью подошвы и, так сказать, присасываются к шероховатой коре, при влезании на толстые стволы эта вогнутность стопы не играет роли; тут большее участие в работе принимают подушки у основания ножных пальцев; на них опирается вся тяжесть тела.
Рис. 19. Лазающие индейцы в первобытном лесу Бразилии. (По Ругендасу).
Рис. 20. Квинслэндский австралиец, влезающий на дерево. (С картины В. Кранца).
Если стволы деревьев тонки, то лазающий прямо охватывает их руками; если этого сделать нельзя, дикари применяют различные приспособления для лазания. В простейшем случае это лиана, которую срывают тут же на месте без особого труда и смелым взмахом обвивают вокруг ствола, чтобы ухватиться обеими руками за ее концы. По мере восхождения ногами по стволу, туземец толчками подвигает лиану вверх. Совершенно таковы же по существу, но по форме гораздо более совершенны, чем этот «камин» австралийцев, — лазательные приспособления обитателей Западной Африки; в Камеруне употребляются тщательно сплетенные веревки с удобными ручками, с помощью которых и взбираются вверх по деревьям в лесах. Еще удобнее устраивается негр в Лоанго, севернее устья Конго. У него лазательная веревка (большею частью— скрученные грубые полосы мочал) обвивается вокруг древесного ствола и его собственного тела. Когда негр желает взобраться на кокосовую пальму, он подходит к дереву, обвивает его веревкой, перебрасывает через голову и плечи часть веревочного кольца, поднимает косо вверх ту половину ее, которая прилегает к дереву, и опирается спиною на веревку, прижимая в то же время передние части ступени к древесному стволу. В таком положении он может без напряжения взбираться вверх; ему нужно лишь регулярно передвигать толчками веревочное кольцо вверх по стволу дерева. Ради полноты добавим еще, что всюду, где употребляются эти приемы лазания, существует и другой обычай, — делать на стволе зарубки, что, конечно, еще более облегчает влезание на дерево. Абель Тасман с удивлением наблюдал такие «ступенчатые деревья» при высадке в Тасмании в 1642 году; зарубки довольно широко распространены повсюду на островах Великого океана, а на африканских берегах сразу бросаются в глаза на многих старых кокосовых стволах.
Клаатч с удивительным остроумием использовал все эти факты. Хватательная функция стопы полезна только в девственном лесу с его хаосом переплетающихся сучьев и ветвей, — но не там, где приходится взбираться на отдельно стоящие деревья, толстые и не ветвистые. Тут стопа работает, как одно целое, и больше всего — ее внутренний край. Так как этот край плотно прижимается к стволу, подвижность большого пальца пропадает; зато при прижимании к более тонким стволам поверхность стопы получает значение присоски. В тех же случаях, когда ступне приходится прижиматься к более толстым стволам, — независимо от того, помогают ли ей зарубки на стволе, или нет, — главная работа, как на опору, переносится на то место стопы, где теперь у нас находятся подушечки у основания пальцев.
Клаатч полагает, что чрезвычайно долгое существование этого приема лазания могло превратить нашу древнюю хватательную стопу приматов в теперешнюю опорную ногу. Для обоснования своего взгляда он ссылается на другую теорию профессора Шетензака, которая занимается вопросом о родине или, правильнее, о месте образования человеческого рода. Дарвин, как известно, искал этот очаг в Африке, тогда как Вирхов высказывался за Малайский архипелаг. Шетензак, напротив, подчеркивает, что человечество для своего образования необходимо должно было пройти райскую стадию и жить в такой местности, где ему не могли угрожать опасные враги из животного царства. Такой областью еще и теперь является Австралия; если не считать крупных сумчатых, давно уже вымерших, а может быть истребленных древнейшими австралийцами, там никогда не было существа, которое могло бы стать опасным для человека, К тому же, весь этот животный мир отличался весьма низкой степенью умственного развития, и для охоты достаточна была лишь физическая ловкость. Последняя должна была проявляться прежде всего в искусстве лазания. Деревья в пятой части света растут разбросанно; они гладки, без ветвей и, как высокие колонны, поднимаются к небу; чтобы в погоне за дичью взобраться на их вершину, надо хорошо уметь лазать.
Клаатч не настаивает именно на Австралии, как на очаге образования человечества; он указывает и на другие области с одиноко растущими деревьями, — например большая часть Африки или предполагаемый затонувший материк, простиравшийся некогда между Африкой и юго-восточной Австралазией. Вопрос о месте имеет, впрочем, второстепенный характер; гораздо существеннее то обстоятельство, что наши животные предки в течение долгого времени должны были перебираться от одного дерева к другому; чтобы, упражняясь в лазании на одиноко стоящие стволы, совершенно преобразовать свою хватательную стопу в опорную ногу. Только тогда они получили возможность испытать свое новое приобретение для прямой походки в других частях света.
Для выполнения этой трудной задачи, впрочем, необходимо было и нечто другое; опорной поверхности было недостаточно, — надо было еще, чтобы переместился и центр тяжести всего тела. И эта часть теории Клаатча подкупает своим изяществом. При длительном применении нового метода лазания, говорит этот исследователь, не только преобразовались описанным образом нижние конечности, но весьма существенно видоизменились туловище и руки. Вследствие изгиба тела назад возникло то искривление вперед поясничной части позвоночника, которое свойственно лишь человеку. Это искривление и теперь еще очень заметно, если удерживать в прежнем косом положении крестцовую часть позвоночника, которая образовалась вследствие окостенения хрящевых прокладок между отдельными позвонками. Тогда возникает изгиб, который, по Клаатчу, весьма слабо выражен у низших рас, но тем яснее выступает у высших. Верхняя часть позвоночного столба тогда снова принимает старое косое положение, при чем в шейной части тоже возникает выгиб, относящий голову назад (рис. 21).
Рис. 21. Продольный средний разрез через череп и позвоночный столб человека. (По Клаатчу).
Клаатч объясняет при помощи своей теории также строение наших плеч и рук. Те и другие отличаются от соответственных частей тела животного более богатой мускулатурой. Согласно старым теориям, человеческая рука лишь тогда стала свободной и подвижной, когда у человека образовалась свободная опора внизу; раньше должно было завершиться формирование нижней части тела человека, и тогда только могло начаться преобразование верхней части. Но это воззрение, согласно Клаатчу, нельзя уже поддерживать с тех пор, как стало известно, что руки и кисть сами по себе суть весьма древнее наследие; в объяснении нуждается лишь хорошо развитая мускулатура руки. Клаатч находит такое объяснение, подчеркивая то обстоятельство, что человек является самым ловким из всех животных; он гимнаст par excellence, с которым не может поспорить никакое другое существо. Откуда у него эта способность — нетрудно вывести из предыдущего изложения: необходимость быть всегда более ловким, чем его добыча, взбирающаяся на высокие деревья, дала человеку возможность преобразовать свои плечи, верхние и нижние конечности такими, какими мы их видим теперь[9].
Наконец, третьим отличительным признаком нашей человеческой природы является огонь. Признак этот наиболее определенный и чистый. Пока дело шло о речи и об орудии, можно было говорить, самое большое, о пограничной полосе между человеком и животным; здесь же мы наталкиваемся, наконец, на резкую линию. Уменья добывать огонь нет ни у одного животного; даже простое пользование теплом свойственно животным лишь в весьма слабой степени. Едва ли можно причислить сюда использование некоторыми животными теплоты навозных куч для высиживания яиц, — это слишком непрямой путь. Нам известны только две формы животных — Megapodius Pritchardi на Ньюафу и Megapodius eremita на Новой Британии — извлекающие пользу из вулканической теплоты. Оба вида, вместо того, чтобы самим высиживать яйца, предоставляют это вулканической теплоте. Резкое разграничение человека и животного по способности пользоваться, огнем — достаточное основание, чтобы начать рассмотрение элементов культуры именно с огня.
VII. Огонь[10]
Старые теории. Неугасающий огонь и система заимствования. Приоритет простого пользования огнем перед добыванием огня. Прометей и ассафетида. Обязанность переуступать огонь папиросы. Приручение огня, как «домашнего животного». Тлеющее полено. Добывание огня. Способы. Как дошел до них человек? Сверление дерева деревом. Теория Карла фон ден Штейнена.
С грозным шумом проносится буря по первобытному лесу. В смятении и страхе ищут птицы свои привычные убежища, и толпа дикого вида мужчин, пробирающихся в темноте лесной заросли, все чаще посматривает вверх, повидимому, не менее напуганная явным бунтом в природе, чем животные существа, которых она только что преследовала. К вою и реву ветра примешивается грохот быстро надвигающейся грозы; сверкают молнии, все быстрее раздаются за вспышкой молнии ужасные удары грома, подобные взрывам гранат. Вдруг вся картина озаряется ярким светом; вспышка молнии и удар грома сливаются вместе; как вкопанные, останавливаются люди, чтобы в ближайшее мгновение в бессмысленном страхе броситься врассыпную. Лишь спустя значительное время, когда только отдаленные слабые раскаты свидетельствуют о возмущении стихий, они медленно собираются на старое место. Но какое зрелище открывается теперь их глазам! Как огромная огненная колонна, стоит, охваченный ярким пламенем, один из лесных гигантов среди своих счастливых товарищей! Он уплатил свою тяжелую дань времени и совершенно высох; его, так высоко поднимавшегося над зеленой кровлей, поразила молния. Долго борется страх с любопытством в груди мужчин, пробирающихся в лесной чаще; наконец, чувство любопытства превозмогает и все ближе и ближе привлекает их к необыкновенному явлению. Когда же дерево обрушивается, и от пылающего костра остается лишь большая груда раскаленных и тлеющих головней, люди решаются приблизиться к пламени; в холодную ночь, наступившую тем временем, они с удвоенным удовольствием ощущают теплоту упавшего, догорающего гиганта и наполовину безотчетно подкладывают подобранный сухой хворост, как только огонь обнаруживает намерение ослабить свое благодетельное действие.
Вот одно из тех многочисленных воззрений на порабощение огня, которые были распространены среди нас, особенно в истекшие десятилетия. Рассмотрим бегло главнейшие из остальных теорий. Ближайшая из них для своего уяснения требует того же поля действия и таких условий обстановки, что и первая. Вверху бушует такой же ветер, внизу пробираются те же или иные подобные им люди; отсутствуют лишь гром и молния. Зато один человек вдруг замечает, к своему безмерному удивлению, что из вершины дерева, стоящего одиноко и потому особенно сильно раскачиваемого ветром, поднимаются облачка дыма; они становятся все гуще и гуще, пока, наконец, не вспыхивает веселое, яркое пламя. Люди стоят в раздумьи; так и видишь, как эти неустрашимые охотники первобытной эпохи прикладывают палец к носу; глубокая серьезность написана на их глубокомысленных лбах. Наконец, лицо вождя озаряется яркой улыбкой просветления — он нашел решение загадки. «Разве вы не видели» — обращается он с широким вопрошающим жестом к своим спутникам, привыкшим всегда и всюду с почтительным изумлением взирать на своего вождя, — «разве вы не видели, как там вверху, прежде чем кроваво-красный дух выскочил из дерева, ветки терлись одна о другую? Из трения возникает теплота, а там, где тепло, в конце концов, появляется и огонь; то, что вы видите наверху, — и есть огонь».
Такова вторая теория. Она хочет одним ударом убить двух зайцев: люди обнаруживают, кроме того, полезную сторону открытого явления. Мы без труда могли бы воспроизвести дальнейший ход событий: так же, как и в теории молнии, раздумывавшие люди позже располагаются вокруг тлеющих остатков сгоревшего дерева, греются возле него, с довольными улыбками поедают поджаренные плоды и т. д. С другой стороны, теория эта претендует на объяснение открытия способа добывать огонь: видя возникновение огня при трении ветвей, человек приходит к мысли, что можно из ничего получить огонь аналогичным действием, — таким же трением одного куска дерева о другой. Отец этой гипотезы — знаменитый языковед и исследователь мифов Адальберт Кун; в течение целых десятилетий теория эта умножала его славу — так, часто приписывалась она ему устно и печатно. Ныне, когда мы так ушли вперед по сравнению с человечеством 1859 года, мы снисходительно улыбаемся над этим продуктом профессорских размышлений за письменным столом; и в самом деле, гипотеза эта слишком явно носит отпечаток чистейшей спекуляции, чтобы теперь, в век строго опытных и наблюдательных наук, можно было принимать ее всерьез. Но в то время она представляла известный шаг вперед, ибо вообще стремилась определенным образом решить вопрос. Во всяком случае, она все же является более правдоподобной, чем следующая теория.
Эта носит уже чисто вымышленный характер. Роль лица, открывшего способ добывания огня, переходит к жрецу. Его народ поклоняется лучезарному дневному светилу — солнцу. По общему представлению, оно имеет вид крута, изображать который— дело, угодное божеству. Жрец берется за это; с трудом изготовляет он из дерева круг, насаживает его для полноты сходства на вбитый в землю заостренный кол и начинает вращать круг. Он вертит его и вертит; со стоном и скрипом вращается неуклюжее колесо на своей оси; рука жреца изнемогает от работы, но труд считается угодным божеству лишь при неустанном продолжении его. Вот струйка дыма поднимается ввысь, навстречу лучезарному богу в ясной лазури неба. «Жертва!»— проносится в головах благочестивых зрителей; те, что стоят поближе, с усердием принимаются помогать; быстрее и быстрее вертится колесо, гуще и гуще становится столб дыма. И вот, по толпе проносится крик: — яркий сноп пламени вырывается вверх — огонь открыт!
А вот и четвертая теория. На зеленеющем склоне горы расположилась орда дикарей; малолетки, недавно отнятые от материнской груди, беспечно играют между леском и ручьем, отцы же и матери рассеялись по залитой солнцем поляне; они, зорко высматривая, собирают насекомых, выискивают при помощи острых палочек жирные личинки жуков в коре старых деревьев, роют палками землю, отыскивая клубни, плоды и съедобные коренья. Все дышит идиллией мирного и полного покоя. Но и здесь наступает вдруг гневное возмущение стихий; в недрах горы слышатся глухие удары и грохот, земля дрожит, словно в страхе перед надвигающимися событиями. Толпа в ужасе разбегается во все стороны, — но вскоре возвращается на старое место, так как грозное явление не повторяется. Человек легко привыкает ко всему. Вдруг происходит нечто ужасное; вся гора оживает и начинает выбрасывать из своей вершины камни и пепел; гигантский огненный столб поднимается в черную, как ночь, атмосферу; со свистом падают каменные ядра, а за ними следует поток кроваво-красной раскаленной массы. Извиваясь, как змея, она прокладывает себе путь в долину; встречные скалы она без борьбы заключает в свои горячие объятия; все живое вспыхивает пламенем перед ее раскаленным дыханием. Но, наконец, силы чудовища истощаются перед численностью врагов; все медленнее и ленивее становится его бег; первоначально светившаяся темнокрасная кожа лавы превращается в отвратительно-серо-пепельный покров; наконец, колоссальный поток, лавы останавливается неподвижно, точно огромный вал, похожий на туго набитый мешок, и загораживает долину. Все обитатели местности, успевшие спастись во время катастрофы, долгое время держатся вдали; но сила привычки к данному месту, — черта, уже издавна свойственная человеческому роду, — влечет их назад, когда горное чудовище возвращается к своему прежнему состоянию покоя. Более того, — вся орда опять стремится к прежнему привычному становищу.
А тут с тех пор произошло много перемен. Там, где прежде отлого поднимался вверх горный склон, теперь торчит отвратительный серый вал. Он не украшает перегороженную им долину; скорее напротив; но зато он прекрасно защищает легкие шатры, под которыми ютится общество первобытных людей, от прежнего ледяного холода горного ветра; теперь стало поразительно тепло в холодную тропическую ночь, — так тепло, что можно почти отказаться от защиты кровли. И странно: чем ближе к валу, тем теплее воздух. Словно притягиваемая магнитом, подбирается предприимчивая молодежь племени к новому соседу; вот, в одном месте столпилась живописная группа мальчиков; любопытные головы, покрытые буйной шапкой волос, тесно прижались друг к другу и, повидимому, что-то отыскивают или уже нашли в серой массе. Наблюдавший эту сцену почтенный дикарь, слово которого имеет известный вес в совете мужчин, хочет уже последовать за мальчиками, как вдруг вся толпа разлетается; с громким криком бегут они вниз в долину вслед за самым высоким из сверстников, в поднятой правой руке которого колеблется что-то странное. «Посмотри-ка, отец», — кричит он, запыхавшись от бега и возбуждения, — «что у меня тут!» Взрослый мужчина внимательно присматривается к новому предмету: он тоже немало удивлен. Это простая палочка, каких тысячи валяется в лесу; но она тлеет и дымится на свободном. конце, и порою из нее вырывается дрожащий язык пламени. И таким-то образом мог быть некогда открыт огонь.
Все четыре изложенных теории сами произносят над собой приговор перед лицом современного знания. Совершенно абсурдна и лишена всякого основания «жреческая» теория; это чисто умозрительное построение, на котором нет нужды останавливаться дальше. Куновская теория трения в изложенной форме также неприемлема, несмотря на то, что существуют факты, повидимому, говорящие в ее пользу. На острове Буру, в Малайском архипелаге, туземцы утверждают, как рассказывает Лео Фробениус, в своей книге[11], что дерево кино (Kleinhovia hospita L.) в очень сухие годы легко загорается без содействия человека от трения ветвей и является нередко причиной лесных пожаров. На Нукуфетау, в архипелаге Эллиса, туземцы, как сообщает Турнер, будто бы, действительно, открыли огонь описанным образом. Рассказывают, что предки их видели, как от веток, которые при ветре терлись одна о другую, стал подниматься дым. В обоих случаях, без сомнения, главную роль играли другие причины. Напротив, вполне заслуживают внимания теории «молнии» и «вулканического огня», но наш современный метод побуждает нас приступать к вопросу об открытии и употреблении огня с совершенно иной точки зрения.
В 1906 году я провел много времени среди народов и племен южной части (бывших) германских африканских колоний; я руководил этнографической экспедицией, которая была снаряжена Германией и имела целью, кроме обстоятельного наблюдения нравов и обычаев диких племен, собрать возможно более полную, исчерпывающую коллекцию предметов их обихода. Среди этих предметов должны были находиться, судя по всему, что мы знали о народцах вамуера, макуа, вайао, маконде, ваматамбве, вангиндо и т. п. — также и снаряды для добывания огня. Они и были найдены, но, вопреки всем ожиданиям, попадались чрезвычайно редко, так что я, верный своему обычному правилу, оказался вынужденным искать и их в хижинах. Эти, нередко весьма забавные, поиски я подробно описал в книге «Жизнь негров восточной Африки» (вышедшей осенью 1908 года у Брокгауза в Лейпциге); в ней, кроме отчета о богатом результатами путешествии, есть немало этнографического материала. Тамошние жилища большею частью просторны и поместительны, так что более состоятельные поселяне — к ним без всяких оговорок можно причислить южно-африканских негров — устраивают для себя больше комнат, чем многие семьи наших больших городов; тем не менее приспособления для хранения предметов домашнего хозяйства оказались довольно скудными; в темных, лишенных окон спальнях стояла лишь китанда — покоющаяся на четырех ножках кровать — состоящая из рамы, и самое большее — один-два сосуда из глины или обмазанной глиной корзины для хранения припасов. Только в светлых сенях между передней и задней дверью утварь была более богата; тут были полки, на которых было разложено просо, маис и другой зерновой хлеб, чтобы зерна в дыму очага хорошенько покрылись сажей — защита от крыс, мышей и других прожорливых тварей. На развилинах из палок стояли большие глиняные сосуды с мутной жидкостью, которая при ближайшем рассмотрении оказывалась водой; с крыши свешивались плети, на которых качались горшки; ложки разнообразнейшей формы лежали и висели кругом; горшки разной величины стояли на плотно убитой земле, каждый на особой глиняной подставке с выемкой, так как дно горшков выпуклое… Короче, это была пестрая картина, которую, пожалуй, можно было бы назвать картиной культуры. Но нигде не было видно буравов для добывания огня — ни между горшками, ни на полках. Когда я спрашивал о них, то в большинстве случаев получал излюбленный у негров ответ: «hapana»; это означает приблизительно: «к сожалению, у нас этого нет». Так, в самом деле, и было в большинстве случаев, потому что и при собственных моих поисках эти орудия попадались сравнительно редко. Между тем, полагаюсь больше на свое чутье, чем на показания негров, я не раз подвергал хижину форменному обыску при добродушных улыбках обитателей; я не оставлял неисследованным ни одного уголка — от закопченой кровли до неизбежного вырытого в земле очага, полного пепла. Да и в наших этнографических музеях снаряды для добывания огня встречаются поразительно редко. При всем том я не видел другой столь обильной огнем страны, как Африка: в переднем коридоре горит очаг; в сквозной кухне — навесе на заднем дворе, которым охотно пользуются в сухое время года, — тоже горит огонь; у каждой кровати внизу тлеют угли. Настоящее море пепла — вот характеристика негритянского хозяйства.
Как согласовать все это одно с другим? А между тем, — решение загадки поразительно просто. Сначала я, как всякий новичок, естественно, думал, что негры пользуются шведскими спичками; к тому же, мой покойный учитель, Фридрих Ратцель, четверть века назад как-то рассказывал на лекции, что шведские спички знакомы всем черным вплоть до сердца Африки. Однако, это не так, несмотря на то, что наша культура имела достаточно времени для «цивилизации» негров и в этом направлении. Даже мой собственный повар не всегда пользовался шведскими спичками, хотя недостатка в них у него не могло быть, так как я привез с собою порядочный запас. Причина такого пренебрежения к наиболее выдающимся приобретениям нашей культуры была, впрочем, довольно прозаического характера: дело в том, что у негров нет карманов; куда же прятать спички, в передник или рубаху? Даже скудный свой заработок негры с грехом пополам ухитрялись хранить в такой одежде.
Но откуда же, в таком случае, люди эти добывают божественный огонь? Как известно, в финансовой области, по части займа негр — первоклассный гений: он остается верен себе, применяя тот же способ и для добывания столь необходимого ему огня. Система заимствования — вот самое простое решение загадки: если случайно потухнет огонь очага, то хозяин или хозяйка дома, или кто-либо другой скорее готовы будут пройти версту для получения от соседа тлеющих углей, чем дадут себе труд добыть огонь искусственным путем. С этим вполне согласуется тот факт, что искусство добывания огня далеко не является общим достоянием. Строго держась правила — не включать в коллекцию ни одного предмета, пока не увижу его в употреблении, я заставлял негров, едва только мне удавалось наткнуться на древесное огниво, добывать огонь у меня на глазах. Самый снаряд общеизвестен (рис. 22): основу его образует в Африке, как и в большинстве частей света, круглая палка, в которой высверливается маленькая ямка, служащая местом упора, для вращающейся палки — сверла.
Рис. 22. Добывание огня сверлением (в Африке.).
Сверло это, по общему правилу, делается из более твердого дерева, но может состоять и из того же материала, как и палка, лежащая в основании. Сверло устанавливают вертикально, упирая концом в ямку, поручают своему помощнику крепко держать нижнюю палку и быстро вертят сверло при помощи вытянутых ладоней. Нижний конец его при этом плотно прилегает к высверленной ямке, и тонкая горячая древесная пыль, выходя из боковой зарубки наружу, попадает на подложенный трут и воспламеняет его. Таково ходячее описание способа добывания огня.
Способ сам по себе весьма прост; некоторые из моих людей добывали огонь таким способом изумительно быстро — всего лишь после четырехкратного проведения сверла между ладонями; другим же это вовсе не удавалось. Опыт этот я потом повторял среди туземцев страны; умелых оказалось гораздо меньше; вдесятеро больше было неумелых юношей и мужчин, которые, при насмешках окружающей толпы по четверти часа тщетно пытались добыть огонь. Однако, отсутствие этого умения или, вернее, эта неспособность едва ли означает неприспособленность к борьбе за существование; дело в том, что при нормальных условиях жизни туземец не сталкивается с необходимостью регулярно добывать огонь при помощи трения. Почему возможно такое положение— я убедился опять-таки на моих собственных людях, а затем и в каждом негритянском поселке, где мне приходилось останавливаться лагерем на более продолжительное время. Мои носильщики ни с чем так не спешили, как с отысканием в «пори» (редком лесу этих стран) сухого древесного ствола крупных размеров и, вероятно, вполне определенного вида. Затем они общими силами притаскивали его на середину лагеря. Там этот гигантский ствол лежал, повидимому, без всякого изменения, — на самом же деле он становился все короче. Вечером его конец у корней обкладывался легко воспламеняющимися веществами — сухой травой, хворостом и поленьями в руку толщиной. Вскоре затем куча ярко вспыхивала, распространяя свет и приятное тепло; мужчины садились широким кругом около костра; они рассказывали о своей далекой родине Униамвези, на северо-западе у великой Нианцы, о забавном «бвана пуфеза», господине профессоре, который работал целые дни и вечера, или же пели свои мелодичные песни. Когда же затем, часов около девяти, усталость одолевала этих истых детей природы и они в одиночку или кучками расходились по своим уголкам, — картина все еще была довольно живописной: словно бронзовые, выступали воинственные лица моей стражи в светлом круге отбрасываемом огнем. В то время как один размеренным сторожевым шагом обходил лагерь, охраняя его от какой-либо воображаемой опасности, оба его товарища покоились у огня, который мало помалу потухал, пока первые отблески зари на востоке не возвещали о близком восходе солнца. На утро неопытный глаз европейца открывал лишь пепел там, где прежде трещал огонь; только присмотревшись внимательнее и разворошив кучу пепла палкой, можно было увидеть, как мертвый лесной гигант едва-едва тлел, чтобы вечером снова вспыхнуть пламенем.
Таким образом, вместо огня, добываемого каждый раз заново, мы вопреки ожиданиям находим неугасаемый огонь. Так обстоит дело здесь, в Восточной Африке, то же наблюдается и на западе материка, то же находим мы в лесах и саваннах Америки, в австралийских степях и на островах Великого океана; короче, огонь — поистине общее достояние первобытного человечества, которое пользуется им, занимая его из имеющихся уже очагов и тогда, когда отдельные народы давно уже обладают способностью так или иначе сами добывать огонь.
Это искусство добывания огня, по нашим теперешним сведениям, также почти всеобщее достояние человечества. Еще несколько десятилетий тому назад английские исследователи, и прежде всего Джон Леббок, полагали, что им удалось установить существование народов, незнакомых согнем; такими народами, будто бы, являются обитатели некоторых островных групп Тихого океана. От этого взгляда пришлось отказаться. Но Лео Фробениус в своей упомянутой уже книге «Völkerkunde in Charakterbildern» («Типичные картины из области народоведения») сообщает о других племенах, которые, правда, знакомы с огнем и его употреблением, однако, поскольку удалось установить, сами добыть огня не в состоянии. Это горные обитатели Новой Гвинеи, карлики верхнего Уэллэ, в северной части бассейна Конго, а также карликовые народы в области истоков Чуаны, в южной части бассейна Конго. О последних Фробениус рассказывает довольно романтическую историю. Карлики заключили со своими соседями, монго, нечто вроде молчаливого договора, согласно которому карлики доставляли монго убитую дичь, а последние приносили им взамен разную зелень, горшки, железные наконечники стрел и тлеющие головни. Карлики так привыкли к этому обмену, что израсходовали все свои тлеющие деревья в полной уверенности, что будут всегда в состоянии выменять необходимый огонь. Но вот наступили дни вражды между обоими народами. Карлики сражались с отчаянным мужеством и боролись не столько ради прочих благ, сколько за огонь. Плохо приходилось беднягам в то время; не раз питались они сырым мясом, пока однажды не произвели нападения на деревню, захватили огонь и отступили в свои непроходимые леса. С тех пор их редко случается видеть; они, можно сказать, обзавелись собственным хозяйством, так как в различных местах своей области зажгли долго тлеющие древесные стволы и устроили себе, таким образом, огневые станции. Гай Берроуз, от которого исходит это сообщение, говорит, что к таким деревьям опасно приближаться, потому что вблизи их всегда расположен сторожевой пост, а карлики не любят шутить, когда видят, что их огневым станциям может угрожать опасность.
Такие драматически-обостренные отношения не часто встречаются среди нынешнего человечества; но в прежние времена, когда род наш вообще был ближе к общим зачаткам культуры, они, конечно, чаще имели место, а пожалуй, даже были общим правилом. Дело тут в следующем.
Давно уже спорят о том, умело ли человечество пользоваться огнем раньше, чем научилось искусственно добывать его, или же сначала был изобретен способ добывания огня, а уж затем сама собой стала очевидной польза нового приобретения. Бесспорного решения этого вопроса, естественно, никогда не может быть дано, но если взвесить культурно-исторический материал, который заключается в сагах, мифах, преданиях, в результатах исследования доисторического мира и данных народоведения, то склоняешься к тому, что человек пользовался огнем еще задолго до того, как дошел до открытия способа добывать его в любой момент.
В своей «Истории культуры» Ю. Липперт собрал в легко обозримой форме все факты, говорящие в пользу приоритета пользования огнем над открытием способа его добывания. Принимая во внимание другие культурные завоевания, он усматривает довольно исчерпывающее доказательство в обычае поддерживать неугасимый огонь и распространять его путем заимствования, — обычае, существующем даже там, где всякому доступны орудия для легкого добывания огня.
Рис. 23. Вязанки для костра перед хижиной на сваях в долине р. Ровумы (Вост. Африка). (По оригинальному фотографическому снимку автора).
При этом часто рука об руку с поддержанием огня идет и почитание его, как чего-то священного.
В небольшом круглом храме Весты у подножия Палатинского холма, считавшегося центром древнего Рима, стоял государственный очаг с вечным огнем, предназначенным для принесения жертвы от государства; поддержание его было главнейшей обязанностью весталок. Каждое первое марта он возобновлялся не каким-либо «современным способом», а старым древесным, огневым буравом, употреблять который подобало лишь жрецу. Затем новый огонь распространялся из храма и по отдельным домам.
В римско-католической церкви старый вечный огонь священного очага превратился в «неугасимую лампаду»[12]. Ее тушат не первого марта, а в страстную субботу и заново зажигает священник особым путем — при помощи искр, высеченных из стального огнива и кремня. Затем при помощи гигантской свечи (сменившей первобытный тлеющий древесный ствол) этот новый огонь передается всем свечам в церкви.
Широким кругом расположены хижины резиденции главы племени в отдаленной стране гереро в сердце юго-западной Африки. Средину круга украшает телячий крааль — будущность стада, которое ценится здесь превыше всего. Хижина несколько восточнее этого места построена лучше остальных. В ней живет главная жена. Между ее хижиной и телячьим краалем, ближе к последнему, протягивает свои ветви к небу сухой ствол дерева, словно клянясь. Это одна из крупных ветвей омумборомбонги, — величественного священного дерева, которое гереро считают местопребыванием и представителем своих великих предков. Подле него поднимается невысокий холмик пепла, называемый окуруо: это жертвенный алтарь. Кругом разбросаны побелевшие черепа и рога убитых быков.
Настало утро; красный шар солнца только что выкатился на востоке далеко за Калахари и поднялся над цепью ближайших холмов. Около окуруо на черепе быка, как в кресле, сидит предводитель племени. Вот из его понтока приближается его старшая дочь. В правой руке у нее головешка, зажженная от того священного огня, который она, подобно римской весталке, должна непрерывно поддерживать в отцовской хижине. Как исполнительница этой почетной, священной службы, она называется «ондангере». Каждое утро и каждый вечер зажигает она своей головней огонь на окуруо. Связка дров на очаге запылала; тогда с пастбища подходят женщины. Они торжественно подают только что выдоенное молоко старейшине, омурангере, чтобы он «отведал» и тем освятил его.
Только тогда наполняют они молоком предназначенные для того тыквы, где молоко быстро свертывается и превращается в омаэре — кислое молоко, обычную пищу гереро. У каждой священной коровы своя особая тыква, в которую только и можно наливать ее молоко.
Между тем окуруо успел уже почти догореть. Быстро, но сохраняя все же размеренность движений своих стройных членов, приближается ондангере; поспешно уносит она в отчий понток остатки тлеющего огня, чтобы там присоединить его к вечному огню. Если бы он погас, это грозило бы бедой всему становищу. Когда это случается, нужно заново добыть сверленьем огонь. Орудием для этого служат истлевшие, трутоподобные корни дерева омупандоруу, служащие нижней доской, и ондумэ, служащий буравом. Это ондумэ тоже священное; оно происходит от одного из тех маленьких деревец омумборомбонга, которые выставляются предводителями племени в своих становищах, в знак почитания ими предков.
Когда табор уходит или переносится на другое место, то, — рассказывает миссионер Ирле в своей ценной книге «Die Herero», — священный огонь забирают с собою. Мелкие таборы и пастбища скота этого племени получают огонь от окуруо, главного алтаря общины. Если кто-нибудь из не принадлежащих к данному племени примет огонь от предводителя рода, он ставит себя этим самым под его владычество и покровительство, и говорит примерно следующее: «Mba kambura omuriro ua Kamaherero» («Я принял огонь магареро»). Так говорили гереро в начале войны 1880 года миссионерам и англичанам, помогшим им против племени нама: «Можем ли мы причинить какое-нибудь зло вам, поддержавшим огонь в нашем очаге?». Если же огонь потухнет и не будет возобновлен, то данный род тем самым объявляется вымершим. Этой участи подверглось множество прежних мелких родов: кагитьине, мунгунда, катьикуру, муранги и другие. Остатки этих родов приняли огонь большею частью от магареро и растворились в этом крупном племени.
Подобно моим африканским носильщикам и солдатам, хранителями и заемщиками огня являются еще и многие другие племена. Относительно австралийцев часто сообщается, что они всегда тщательно держат при себе тлеющий кусок дерева и даже во время путешествий берут с собою раскаленную головню. Даже белые поселенцы переняли этот стародавний обычай. Впрочем, в пользовании горящей головней не все они так разносторонни, как тот охотник за кенгуру в глубине Квинслэнда, о котором Стефан фон Котце в своих «Australische Skizzen» рассказывает следующее:
«Старое дерево, охваченное огнем, горит иногда по неделям, как трут, и выгорает целиком до мельчайших веточек и сучков, оставляя на земле только своего рода силуэт из белого пепла. Я знал как-то — человека, который регулярно зажигал такой ствол и затем наносил на нем углем пометки так, что всегда мог по распространению огня определить число месяца и день недели. Он мог даже определить час; такие патентованные часы-календарь служили ему обыкновенно два месяца. Разумеется, в дождливое время нельзя было ими пользоваться, и каждый раз при наступлении сухой погоды ему приходилось отправляться в город, чтобы навести справки о текущем месяце и дне. Но раз он перенес свою стоянку в местность, где дерево было рыхлее и быстрее горело. Так как он никогда не спрашивал о годе, а с другой стороны, отсутствие дождливых периодов не редкость в лесах, то он совсем просчитался. Порою, правда, ему казалось, что время как будто течет быстрее, чем прежде, но он не придавал этому значения. И когда ему, по его счету, стукнуло 100 лет — в действительности же ему пошел только 60-й год — он умер от старческой слабости. Это, явным образом, было результатом самовнушения…».
В Новой Зеландии также был обычай поддерживать огонь; у маори считалось даже признаком вежливости и доказательством дружбы уступать посетителю свою долю огня домашнего очага. Когда Банкс и д-р Соландер, спутники Джэмса Кука в его первом кругосветном путешествии, попали в маленькую семью маори, расположившуюся вокруг огня под открытым небом, то каждый получил в подарок не только рыбу, но и по головне для поджаривания ее. Индейцы Северной Америки в прежние времена всегда брали с собою огонь при своих охотничьих походах; для этого им служил трут (древесная губка), который поддерживался в тлеющем виде с утра до вечера. Зажигались такие древесные губки, конечно, от домашнего очага, на котором в хижине непрерывно поддерживался огонь хранительницей очага — сквау.
Австралийцам, по их сказаниям, огонь был принесен с востока в тлеющем стебле камыша; совершенно так же в свое время осчастливил человечество божественным огнем и наш многославный Прометей. Художественное воспроизведение мифа о Прометее вылилось в вполне определенные формы, — как, например, на великолепном панно, украшающем вестибюль красивого нового здания Лейпцигского университета: титан с ярко пылающим стеблем ассафетиды в высоко поднятой правой руке стремительно несется с неба на землю. Хотя картина производит необыкновенно сильное впечатление и приковывает к себе внимание, однако, совершенно не отвечает этнографической правде. Согласно этнографическим данным, стебель ассафетиды следовало бы изобразить весьма скромно окруженным едва заметным облачком восходящего дыма; древним грекам огонь достался, наверное, не в ином виде, чем диким народам, — в виде скромного, но оттого-то и долго тлеющего огня в стебле растения с мягкой сердцевиной. По свидетельству Прокла и Плиния, нартекс, обыкновенная вонючка или ассафетида (Ferula communis), служила обитателям южных стран за 2000 лет до нашего времени совершенно так же, как служит теперь сердцевина камыша австралийцу для сохранения внутри стебля тлеющей искры, — и едва ли иначе было четыре или десять тысяч лет назад; едва ли иначе обстояло дело и у тех народов, у которых предки греков некогда получили огонь, как нечто совершенно новое и непостижимое. Сердцевина ассафетиды еще и поныне служит в Греции в качестве трута.
Далее, когда группа греков отправлялась в путь для основания новой колонии, она брала с собою в новое поселение и огонь из родной общины. Если же греки, в силу каких-либо причин, вынуждены бывали добыть новый огонь, то во всех случаях, когда надо было подчеркнуть старинную традицию, прибегали не к давно уже бывшему в употреблении огниву, а привозили огонь иногда из очень отдаленных местностей. Таким образом, всякий раз отмечалось, что древнейшим способом получения огня было заимствование. Лемнос ежегодно посылал корабль на остров Делос, чтобы привезти оттуда огонь, который потом непрерывно поддерживался в течение года. Когда же спартанский царь отправлялся во главе своего войска в поход, его сопровождал огненосец с тлеющим огнем, взятым с очага родины; в продолжение всего похода пользовались только этим огнем.
Обратимся теперь к нашим странам. Когда северные сородичи немцев отправлялись в завоевательный поход, они непременно брали с собою из отчизны горящую головню. Даже когда в IX веке норвежцы отправились в Исландию, они захватили с собою родной огонь, чтобы присоединить к себе новую страну и освятить ее огнем. В позднейшее время, когда вследствие земельной тесноты, захват новых земель пришлось ввести в известные границы, единица площади еще определялась пространством, какое один человек мог «объехать с огнем» в течение дня.
Так было за тысячу лет до нас. Из этого древнего обычного права заимствования огня развилась впоследствии обязанность давать огонь. В Афинах государство признавало обязанность не отказывать просящему в огне.
Цицерон в своей речи об обязанностях выражает пожелание, чтобы и незнакомцу не отказывалось в огне, а Плавт включает в сферу этих правоотношений даже человека чужого племени и врага. В древнем Риме считалось далеко не легким наказанием быть исключенным из пользования водой и огнем: то и другое считалось в социальном смысле одинаковым. Впрочем, и мы, люди новейшего времени, устроены нисколько не иначе. Хотя в настоящее время мы едва ли занимаем огонь очага, но мы сохранили обычай, лишь недавно угасший в западной Германии — обычай, оставлять сучковатый обрубок плотной консистенции тлеть в течение года под пеплом. В нашем коксе этот обрубок продолжает жить в измененном виде. Да и заимствование огня производится повсюду тысячу раз в день. Прохожему на улице захотелось закурить. Табак уже у него в зубах, но нет самого главного. Орлиным взором разглядывает он прочих смертных вокруг себя. — «Ага, вот! Позвольте позаимствоваться у вас огоньком?» — «Пожалуйста, с большим удовольствием». — Хотел бы я видеть такого представителя современной культуры, который дерзнул бы уклониться от этой обязанности!
В пользу приоритета употребления огня перед уменьем воспроизводить его говорит и естественное положение вещей. В распоряжении человечества есть два естественных источника огня: электрический огонь с неба и вулканический под землею; оба могли как или иначе побудить человека войти в близкое знакомство с этим жутким сначала явлением и извлекать из него разнообразную пользу. Хотя и испуганный молнией, человек все же решался потом приближаться к спокойно тлеющему дереву или к потоку лавы, остывающему в течение ряда лет. Человеческое любопытство, в конце концов, преодолевает самый сильный страх, который к тому же у первобытных народов, судя по всему, что приходилось наблюдать у них, не бывает чересчур острым. С другой стороны, польза огня слишком очевидна, чтобы даже самый первобытный человек мог слепо пройти мимо него. В том, что лесной пожар может произойти естественным путем— не сомневается никто; во время же пожара сотни животных разного рода и величины погибают в огне. Когда огонь пронесется дальше, на пепелище остаются сотни трупов, вполне или наполовину изжаренных. Карл фон дер Штейнен в своей известной книге «Unter der Naturvölkern Zentralbraziliens» («Среди первобытных народов центральной Бразилии»), в главе, посвященной огню и открытию деревянного орудия для добывания огня, описывает, как после пожара все хищники бросились на пожарище— не на огонь, а на дымящуюся позади него площадь, где много грызунов могло превратиться в уголь. Они поспешно стремились сюда издалека, чтобы полизать соленую золу. А земля излучала приятную теплоту.
Первобытному человеку достаточно было просто последовать этому примеру животных, чтобы понять пользу огня; поджаренный кусок дичи и испеченный плод должны были скоро показаться ему более лакомыми, чем поглощаемое им до тех пор сырое мясо и неудобоваримые лесные плоды. К теплому становищу лишенный одежды дикарь чувствителен, по меньшей мере, столько же, сколько и его современные потомки.
Что касается пути от этого первого простого использования огня до сознательного его сохранения и поддержания — то у нас существуют на этот счет только предположения. Иногда, быть может, человек во многих местах должен был додуматься до того, чтобы унести тлеющую головню в свое собственное становище, и тут, так сказать, размножать его, наподобие домашнего животного. Быть может, наш предок и не дошел еще до того, чтобы переносить самую головню, но при его кочевом образе жизни было самым простым и естественным делом разбивать становище у ствола, тихо тлевшего в первобытном лесу. Это тление даже больших лесных деревьев является прямо таки принадлежностью африканского ландшафта в сухое время года. Со времен старого карфагеняна Ганнона и, надо полагать, еще в более ранние эпохи, негр приучился в течение сухого времени года «пускать огонь», как говорят в (бывшей) немецкой Восточной Африке. Когда наступает ночь, горизонт по всем направлениям загорается кроваво-красным заревом. Если путешественник приблизится к одной из таких огненных волн, то при свете пламени увидит фантастические черные фигуры туземцев, суетливо бегающих во всех направлениях, держа в высоко поднятой правой руке неизбежную горящую головню, чтобы зажечь новый очаг в сухой траве. Когда огонь угрожает принять направление, неугодное его господину и повелителю, он ограничивает действие огня и тушит его — horribile dictu — собственной подошвой, которая, впрочем, обладает такой толстой кожей и жесткостью, что может без вреда тушить даже раскаленные угли. Но днем картина нисколько не грандиозна; напротив, вечно мутный, полупрозрачный, скрывающий даль воздух — неизбежное следствие «пускания огня» — висит над землей и значительно ослабляет впечатление, производимое на путешественника степным пожаром.
Конечная цель этих пожаров — превращение сухой травы, достигающей нескольких метров высотою, в более полезную золу; но прежде всего имеют в виду уничтожение бесчисленного множества вредителей из животного царства. Без сомнения, обе цели до известной степени и достигаются; но, к сожалению, способ этот препятствует развитию богатой древесной растительности. Тлеют деревца величиною едва с молодую сливу. Местами та же участь постигает и могучих представителей леса; случается иногда, что путешественник в изумлении замедляет шаги или машинально останавливается перед картиной, которая, в самом деле, производит довольно странное впечатление на безобразном черно-сером фоне лесной почвы, покрытой пеплом: длинный, белый силуэт с голой кроной возвышается над отвратительным хаосом. Это — огненная гробница красы леса, нашедшей здесь бесславный конец после горения и тления, длившегося недели и месяцы.
Несомненно, что такой естественный факел мог побудить дикое кочующее племя расположиться на время лагерем в сфере его согревающего действия. Но если даже предки наши шли не этим путем, а каким-либо иным, то во всяком случае путь от простого разглядывания огня до его сознательного использования не был слишком долог. Переход от первого созерцания к привычке и затем к использованию совершался без скачков.
Не иначе обстоит дело и при гораздо более крупном шаге от простого использования до произвольного воспроизведения огня. Это может показаться удивительным при всякой иной точке зрения, но не для метода этнографического. Здесь одно вполне последовательно вытекает из другого.
В старой форме огонь был, говоря словами Карла фон ден Штейнена, домашним животным, которое, так сказать, приблудило к человеку и требовало лишь внимательного ухода. Напротив, в новой форме огонь является изобретением, которое нужно было сделать. Стремился ли человек сознательно к этой цели? Выдумал ли он огонь? Оскар Пешель, повидимому, разделял этот взгляд в своем знаменитом классическом «Народоведении»[13], которое, благодаря блестящему изложению, глубине и широте взгляда и теперь еще, спустя целое поколение после смерти автора, пользуется заслуженной известностью. Пешель рисует нам Прометея ледникового периода, который сознательным размышлением и опытным путем сумел разрешить проблему добывания огня. Нисколько не желая посягнуть на память покойного учителя землеведения и народоведения, мы с уверенностью можем сказать: явление это происходило не так, как представлял себе Пешель. Изобретателями способа добывания огня не были ни жрец с огненным колесом, ни бродячее охотничье племя у подножия колеблемого бурей дерева с сильно трущимися ветвями; этим открытием мы обязаны скорее… Впрочем, зачем преждевременно выдавать тайну? Лучше последуем постепенно, шаг за шагом, вперед, чтобы читатель совершенно самостоятельно напал на правильное решение, без содействия вечно готового поучать профессора.
В красивом вестибюле Лейпцигского музея народоведения (быть может, даже чересчур пышном по сравнению с залами для коллекций), между коллекцией из древнего Бенинского царства на западном берегу Африки и весьма поучительным собранием всех первобытных видов денег и единиц ценности со всего мира — стоит изящный маленький шкафик с надписью: «Примитивные способы добывания огня». Содержание его, в соответствии с размерами шкафа, не очень велико, и тем не менее оно почти без пробелов обнимает все, о чем гласит надпись. В самом деле, и в этом отношении идейное богатство нашего рода не было чрезмерно большим: он не пошел дальше таких механически чрезвычайно простых способов, как буравление, трение, скобление, пиление и удар. Только два орудия — пневматическое огниво на юго-востоке Азии и зажигательное стекло предполагают значительные познания в физике; оба способа являются вместе с тем и достоянием таких культурных слоев, которые уже неизмеримо далеко ушли от зачатков цивилизации.
Самый распространенный способ, добывания огня — это уже описанное сверление или выбуравливание его; он кажется необыкновенно простым, но требует, как подтвердил мой собственный опыт во время поездки по Африке, немалой подготовки и навыка. В зависимости от части света или страны а вернее, быть может, в зависимости от ближайших условий — способ этот варьируется: за трудное дело выбуравливания огня берется один человек, своими собственными силами, либо же несколько; если работает один, то ему приходится ступнями или коленями крепко держать сверлильную доску (так называют в литературе нижнюю часть прибора, безразлично, имеет ли она форму доски или нет). Если работает несколько человек, то было бы нерационально, если бы два опытных лица не соединили своих усилий, при чем одному приходится буравить, другому — удерживать в неподвижном положении нижнюю доску.
Но эти внешние обстоятельства, мне кажется, еще не затрагивают самой существенной стороны способа. Вместе со своими слушателями я не раз пытался было добыть огонь сверлением; мы работали строго по литературным шаблонам, которое я описал выше. Несмотря на громаднейшее напряжение и достойную удивления настойчивость, никакого результата не получалось. Позднее, видя успешные попытки моих негров, я заметил, что дело тут не в скорости сверления и не в настойчивости, а в получении возможно большой массы опилок, которые, кроме того, должны скопляться в надлежащем месте и должны быть правильно использованы. Очень жаль, что в книге нельзя воспроизводить кинематографических снимков; читатель сразу увидел бы, с каким приятным спокойствием вертел деревянное сверло сильный Вандуванду, великолепный мужчина из племени яо, которого, к сожалению, постигла печальная судьба: его убил подстреленный слон. Этот туземец после трех или четырех вполне спокойно выполненных приемов сверления зорко присматривался к вытекавшей из боковой зарубки горке древесной муки; если результат оказывался неудовлетворительным, негр, не спеша, вновь приводил сверло во вращение и затем начинал тихо, совсем тихо раздувать кучку опилок. Это раздувание требовало гораздо больше времени, чем само сверление; в зависимости от рода трута и степени его сухости, оно длилось иногда более минуты. Только постепенно я понял, что умелые сверлильщики никогда не забывали класть в высверленную ямку нижней доски несколько песчинок; при трении дерева о дерево хотя и получается достаточно чада и едкого дыму, но очень мало буровой муки; последняя накопляется в достаточном количестве лишь благодаря мелким твердым песчинкам, служащим для усиления трения; при этом мука получается и достаточно тонкая, так что даже после медленного сверления она быстро загорается. И первая едва заметная искорка служит сигналом к немедленному прекращению сверления.
Область распространения этого простого способа сверления чрезвычайно велика; прием этот почти космополитичен. Вся группа наших предков-арийцев добывала огонь таким способом; сюда надо отнести и всю Африку с гуанчами на Канарских островах, почти всю Америку; кроме того, мы находим принцип его и у гиперборейцев.
Менее распространен, но столь же прост в техническом смысле способ огнивного плуга. Он тоже требует подставки, в виде палки или доски, и трущей палки. При этом способе, как видно уже из его названия, не сверлят, а трут концом палки по жолобу нижней доски. Ближайшей целью является и здесь получение возможно большей массы тонкой древесной муки, которая загорается совершенно аналогичным образом, как и в случае сверлильного огнива; полученную искорку переносят потом на настоящий горючий материал — трут. Родина этого огнивного плуга — область Тихого океана, где он распространен от Гавайских островов до Таити и Новой Зеландии и достигает на западе островов Фиджи. Даяки на Борнео, наряду с другими способами добывания огня, также пользуются этим методом. На Самоа (рис. 24) с помощью его огонь добывается в 40 секунд; на Гавайских островах это длится, как говорят, одну, две минуты и долее.
Рис. 24. Добывание огня снарядом, напоминающим плуг (на Самоа).
Из всех этих данных, однако, не видно, определяют ли они время от начала трения до получения первой искорки или до воспламенения трута. Во всяком случае, этот огнивный плуг кажется мне еще менее совершенным инструментом, чем его сверлящий товарищ. К тому же, он совершенно не способен к дальнейшему усовершенствованию.
Зато этим качеством в высшей степени обладает сверлильное огниво. Если гаучо, странствуя по обширным пампасам Южной Америки, забудет или затеряет свои обычные зажигательные приспособления — коробку спичек или стародедовское огниво и кремень, — он обращается к древнему способу его отдаленнейших предков (рис. 25).
Рис. 25. Добывание огня у гаучо в пампасах. (По описанию Тэйлора.)
Кусок сухого дерева или любой иной кусок дерева всегда легко найти на широких равнинах; впрочем, гаучо то и другое, на всякий случай, возит с собою. Затем он энергично принимается сверлить один кусок дерева другим, но не при помощи вытянутых ладоней, как дикие, а обращается с ними, как с центральным буравом. Согнувшись, он наклоняется над доской, так что верхняя часть его тела повисает над ней: затем он вставляет конец палки в предварительно вырезанную в доске ямку, упирает противоположный конец в грудь или лоб, защитив его куском кожи, надавливает на палку, слегка изгибая ее, берет ее за середину и приводит руку в кругообразное движение. Как видим, способ этот в принципе вполне однороден с работой нашего бура и производит то же действие: при помощи его также получается в желательном количестве древесная мука и притом — без особого напряжения сил.
Дальнейшие усовершенствования бурового огнива, в сущности, не принадлежат уже первобытной ступени нашего культурного развития, но ради полноты следует и здесь остановиться на них вкратце. Самыми различными народами сделано наблюдение, что если вокруг палки-бурава обмотать ремень или шнур и затем тянуть его концы попеременно в разных направлениях, то он вертится лучше, чем при старом способе вращения между ладонями. Для этого необходимы два человека (рис. 26): один обеими руками тянет шнур, другой крепко держит нижнюю доску и одновременно создает опору для другого конца сверлящей палки.
Рис. 26. Веревочный бурав.
Голая ладонь едва ли пригодна для этой цели; лучше служит кусок дерева, в котором вырезается ямка для упора в нее свободного конца сверла; но всего лучше взять для этого позвонок[14] животного с природным углублением на нижней стороне. К тому же, эта кость достаточно мала, и в случае необходимости человек может держать ее между зубами. Громадное преимущество кроется в том, что с применением такого приема второй человек становится излишним: сверлильщик зажимает между своими прекрасными и здоровыми зубами это гнездо, как можно назвать углубление для упора конца оси, стискивает сверло между ним и нижней доской, берет концы шнура обеими руками и энергично тянет их попеременно в разные стороны. Прием этот не вполне удобен для зубов, как я убедился из собственных самоотверженных опытов, но зато быстро приводит к цели.
Еще разумнее были те народы, которые ухитрились освободить при этой операции одну руку. Это было достигнуто применением токарного смычка; привязав концы шнура к концам: лука из кости или дерева, водили этим смычком вперед и назад, как это делают восточно-азиатские и индийские токари на своих примитивных токарных станках. Это смычковое сверло (рис. 27) также требует опорного гнезда для верхнего колеса, но все же, по сравнению с двумя предшествующими способами, представляет значительный шаг вперед.
Рис. 27. Смычковый бурав.
Последнее усовершенствование буранного огнива представляет бурав в виде насоса. Всякий, кто в детстве увлекался безвкусным занятием выпиливания, знаком с этим сверлом в усовершенствованной форме. Красиво отполированная ручка сверла, как бесконечный винт, дребезжа двигается вверх и вниз по стальному пруту, также имеющему винтообразный нарез. На конце этого прута прикрепляется тонкое сверло, которое при энергичном вращении быстро пронизывает дерево, делая в доске маленькие отверстия. Через эти отверстия юный мастер продевает тонкую пилку с гордым сознанием своей власти над материей. Древние племена алгонкин в Северной Америке устраивали это в более простой форме; их палка-бурав имела свыше метра длины; бесконечный винт заменялся двойным шнуром, свободные концы которого привязывались к поперечной палке, как показывает рисунок 28.
Рис. 28. Бурав в виде насоса.
При надлежащем устройстве аппарата нужно только водить эту поперечную палку вверх и вниз, чтобы получить сверлящее движение палки-бурава. Верхняя опора для бурава при этом едва ли необходима. На островах Тихого океана и в Малайском архипелаге тоже употребителен такой аппарат, но он служит там прежде всего для просверливания раковин, отделываемых в качестве украшений, и черепаховых щитов. В этом случае конец его снабжают твердым камнем, горным хрусталем или чем-либо в этом роде. Этот бурав был в Восточную Азию, повидимому, занесен и притом в относительно недавнее время; быть может, океанийцы обязаны этим прибором первым великим путешествиям последних столетий.
До сих пор мы в приемах добывания огня имели дело лишь с принципами трения и сверления; третьим приемом является пиление. В то время как сверла упомянутых типов распространены преимущественно на крайнем севере Старого и Нового света и лишь в виде исключения встречаются в южных широтах, — огнивная пила, напротив, в обоих известных видах встречается лишь в ограниченной области от Индии до Австралии. В типичной форме огнивная пила состоит из двух сегментов бамбука. Один служит подставкой и плотно прижимается жолобом к земле. Вдоль его килевой линии делается продольная зарубка, которая проникает сквозь стенку и служит для пропускания опилок. Под зарубкой и внутрь ее малаец (рис. 29) втискивает шарик мягкой сердцевины бамбукового стебля.
Рис. 29. Малайский способ добывания огня.
Теперь можно начать работу. Туземец приставляет поперек подставки свою пилу. Это — другая половина бамбукового стебля, которую он прижимает краем и размерно пилит им взад и вперед через продольный разрез подставки. Кремнезем коры и здесь дает известное количество тончайшего горячего порошка; последний скопляется в щелях, просыпается на шарик легко воспламеняющегося материала и зажигает его. Вместо бамбуковых сегментов австралиец пользуется в случае нужды и свалившимся полуистлевшим деревом, набивает его щели сухой травой и пилит через щель палкой совершенно таким же образом, как проделывает это малаец (рис. 30).
Рис. 30. Австралиец, добывающий огонь пилением. (По Бро Смису.)
Судя по описаниям, это огнивная пила — довольно совершенный инструмент.
Огнивная пила, устройство и способ употребления которой выяснены только в самое последнее время, распространена лишь в некоторых определенных округах Новой Гвинеи, где, впрочем, встречается и огнивный плуг. Австрийский этнограф д-р Пех, которому мы обязаны окончательным уяснением этого предмета, так описывает этот, без сомнения, древний, весьма простой, но и весьма остроумный способ. Когда поум — так называется племя, у которого Пех наблюдал этот способ — хочет добыть огонь, он отыскивает покрытый корой прут, приблизительно в метр длиною и пяти сантиметров толщины. Затем он расщепляет один конец палки, вгоняет в щель клин и таким образом несколько раздвигает половинки палки. Чтобы предупредить возможное раскалывание всей палки, он на некотором расстоянии от конца перевязывает ее лианой. Приготовленная таким образом палка в горизонтальном положении привязывается к столбу хижины так, что щель направлена перпендикулярно вперед. Когда это сделано, добывающий огонь свертывает шарик из куска сухого древесного луба и втискивает его в узкую часть щели. До сих пор, как видим, способ этот по существу вполне тождествен с огнивной пилой Индонезии. Но дальше начинается нечто иное. Для получения пилы Маценг, человек, сообщивший Пеху об этом способе, расплел один из своих многочисленных ротанговых браслетов на отдельные тяжи. Одну из этих лент, около метра длиною (рис. 31), Маценг взял за один конец, а его помощник, человек того же племени, за другой; они стали по обеим сторонам палки, протянули через нее поперек растительный шнур, как раз над шариком-трутом; Маценг произнес краткое заклинание, и затем оба стали попеременно тянуть шнур взад и вперед.
Рис. 31. Огнивная пила у поумов. (По Пеху.) А. Ротанговый браслет. В. Козлы.
В очень короткое время от места, которое пилилось, стал выделяться дым и ротанговая лиана лопнула: она перетерлась в одном месте. Кора огнивного обрубка тоже была протерта насквозь и даже на древесине заметна была черная борозда. Но шарик луба слегка тлел, и Маценг раздуванием усиливал огонь. Наконец он, истинный сын своего времени, закурил папиросу от тлеющего огня. Добывание огня, как полагает Пех, продолжалось менее минуты. Краткий промежуток, — но какие громадные периоды времени и какой прогресс человечества символизирует он: с одной стороны, древний способ, связанный с зачаточными проявлениями высшей человеческой духовной деятельности, с другой — папироса, кокетливое детище XX века, произведение утонченной машинной техники! Короче, здесь встретились в одном и том же месте и в один и тот же момент нижняя и верхняя граница всего нашего духовного развития. Мир, поистине, стал очень тесен…
Четвертым принципом является удар. Кремень и кусок стали — вот конец этого ряда развития, а два куска кремня, ударяемые друг о друга, сначала для забавы и полусознательно — начало его: то и другое дает искру. Как видим, это изобретение, — поскольку оно, вообще, является изобретением — мог сделать всякий, даже первобытнейший предок человека. Более существенным пунктом в данном случае является применение трута, — на нем-то большая часть человечества и потерпела неудачу. Если мы захотим быть искренними перед самими собою, то должны будем признаться, что для всех нас представляется удивительным столь ничтожное распространение ударного огнива: можно было ожидать встретить его повсюду. В действительности, мы находим его кое-где в Америке, на Огненной Земле, у техуэльчей, в древней Мексике, у алеутов и эскимосов. С появлением его у греков и у нас самих мы уже вступаем в области более высоких форм культуры.
К этим наиболее высоким завоеваниям культуры принадлежат, наконец, воздушное огниво и зажигательное стекло. Последнее знакомо нам еще со школьной скамьи, где нам приходилось слышать об Архимеде, которому даже удавалось зажигать таким образом удаленные предметы. Воздушное же огниво снова выдвинулось у нас на первый план с тех пор, как непопулярный налог на спички успел вызвать серьезное неудовольствие и даже гнев наших домашних хозяек. Воздушное огниво, обычное в восточной Индии и у даяков на Борнео, наряду с несколькими другими, описанными выше огнивами, представляет собою в сущности одно из многочисленных пневматических огнив, давно уже стремящихся войти во всеобщее употребление, — как насос Молле, нагнетательное огниво Дюмонтье и тахопирион. Снаряд этот (рис. 32) состоит из удобного для держания в руке куска дерева, внутри которого высверлена довольно правильно узкая цилиндрическая трубка. Снизу трубка наглухо закрыта. В ней ходит поршень с углублением на нижней части. В это углубление втискивается легковоспламеняющийся трут. Если теперь изо всей силы вдвинуть поршень в трубку, то сжатый воздух разогревается и зажигает трут.
Рис. 32. Воздушное огниво из юго-востока Азии и Борнео. А. Поршень. В. Нижний конец поршня. С. Трубка.
Так описывается в книгах. В Лейпцигском музее есть немало таких воздушных огнив; я перепробовал их все, — но ни одно из них не зажгло шарика трута.
Впрочем, причина неудачи могла заключаться во мне самом или в имевшихся у меня экземплярах снарядов.
Ответ на вопрос, каким образом человек дошел до всех этих приемов, сразу же готовит чрезвычайные трудности, едва только мы упустим из виду или далее отвергнем подробно изложенные нами доводы в пользу приоритета простого сохранения огня человеком. Для того, кто принимает противоположное, сразу же возникает обязанность указать, какие факты могли бы натолкнуть человека на целый ряд изобретений, для которых у него не было никаких предпосылок.
Тем не менее делались попытки ответить на этот вопрос, причем наличность необходимых предпосылок считалась доказанной. Первым предварительным условием, согласно этому взгляду, было изготовление орудий и оружия. То и другое первоначально делалось из дерева и камня, кости и рога; они, как предполагают, несмотря на весьма быструю дифференцировку, долгое время не выходят из круга этих материалов. Для обработки всех этих веществ необходимы разнообразные механические операции, — трение, скобление, сверление, пиление и удар, для того чтобы превратить их в предметы употребления, в наступательное и оборонительное оружие, необходимое человеку в борьбе за существование. При этой многократна изо дня в день повторяемой работе человек имел полную возможность сделать наблюдение, что при каждой из этих операций образуется тепло и что это тепло при усилении рабочего действия может возрасти до степени жара. Далее одни исследователи ссылаются на Пешелевского ледникового Прометея, который, опираясь на свои наблюдения, сознательно доводил этот жар, путем усиленной работы, до вспышки огня; более осторожные, напротив, предоставляют решающую роль случаю: согласно им, огонь появляется при одной из упомянутых операций трения, скобления, сверления, пиления и удара совершенно неожиданно, случайно, как следствие чрезмерного напряжения силы.
В противовес этим теориям Карл фон ден Штейнен в упомянутой ужа главе не раз цитированного описания своего путешествия указывает на неразрешимые трудности при объяснении того, откуда возникла мысль сверлить дерево деревом, — самый распространенный способ добывания огня. Когда, говорит он, наш предок просверливал дерево, то он делал это, без сомнения, с помощью зуба, кости или камня; если бы даже этих материалов не оказалось налицо, ему наверное не пришло бы в голову пробуравливать один кусок дерева другим, чтобы разъединить его на две части; он попросту разламывал, разрезал или раскалывал его или прибегал к связыванию, стягиванию или еще к какому-либо иному способу. Сверление оказалось бы самым трудным делом.
Таким путем мы, следовательно, не достигнем цели; для этого необходимо вступить на тот путь, который был проложен нами с самого начала. И здесь Карл фон ден Штейнен может быть для нас надежным путеводителем.
Человек обладал огнем, берег и усердно ухаживал за ним с вынужденной заботливостью, так как не умел производить его по желанию. Этот уход далеко не следует представлять себе делом очень легким, чем-то вроде детской забавы; напротив, мы увидим впоследствии, что эта новая обязанность коренным образом преобразовала весь социальный порядок юного человеческого рода. Мы увидим, что единственно лишь охранению этого беспомощного, недавно приобретенного «домашнего животного» мы, люди, обязаны нашим уютным домашним очагом, защищающей нас кровлей, семейным чувством, да и всей нашей оседлостью, короче — всем тем, что делает нам жизнь приятной и дорогой. Даже в пустынных, бедных дождями областях наступают моменты, когда тлеющему рассаднику огня угрожает опасность потухнуть. Эта опасность во всяком случае должна быть предотвращена, чего бы это ни стоило. Штейнен очень живо описывает, какого труда стоило его каравану, на обратном пути от источников Шингу до Куйабы, в дождливое время года поддерживать в горящем состоянии «экспедиционное полено», а еще более разводить поутру заново большой огонь. Его люди могли помочь делу только тем, что сдирали кору с мокрых хворостинок, вырезали ножом с внутренней стороны тонкие сухие стружечки и с большой осторожностью и терпением подкладывали их почти поодиночке к тлеющему углю. Кроме того, необходимо было еще непрерывно раздувать огонь, чтобы достичь желаемой цели. Совершенно таким же способом пользуются огнем, по словам Им Турна, и индейцы в Гвиане; относительно же североамериканских индейцев мы уже знаем, что для поддержания жизни их «домашнего животного» они пользовались особыми видами трута.
В этой технике простого поддержания огня мы вообще должны видеть существенную задачу человека до изобретения орудия добывания огня; она стоила ему, наверное, немало умственного напряжения и упорного размышления. Во всяком случае, ему удалось разрешить задачу, как показывает достигнутая конечная цепь — наследственная передача огня ближайшему поколению и соседям. Дойти до этой цели человек мог только непрерывными опытами, ощупью, знакомясь с легко воспламеняющимися растительными частицами, которые затем, естественно, так же тщательно береглись и сохранялись, как и сама горящая головня. Очень рано человек узнал, что отколовшиеся и состроганные стружки и опилки при обработке деревянной рукоятки каменного топора и оружия особенно пригодны для поддержания и оживления потухающего огня. Без особого скачка мысли он очень скоро дошел до растирания легкого дерева, строгания и раскалывания, — просто на тот случай, чтобы в опасные моменты спасать огонь, не думая о каком-либо ином применении приготовленных таким образом материалов. Лучшим средством спасения и поддержания жизни «домашнего животного», угрожаемого при каждом ливне, была признана, конечно, тонко измолотая буровая древесная мука, — об этом свидетельствует громадное распространение сверлильного огнива. Та же древесная мука получалась всегда в изобилии при сверлении зубом, раковиной или камнем в дереве — другие сверла сначала совсем не идут в счет. По отношению к этим опилкам не довольствовались собиранием их, как отбросов, в полые стебли, выдолбленные плоды и тому подобное с тем, чтобы сохранять и носить всюду с собою этот запасной материал, — без сомнения, эта древесная мука производилась намеренно, в качестве главного продукта. В самом деле, он тлеет гораздо медленнее и продолжительнее, чем всякая другая рыхлая растительная ткань или сердцевина стебля.
«Кто же были те великие гении первобытной эпохи», — говорит Карл фон ден Штейнен в конце своего блестящего исследования, — «которые изобрели способ произвольного воспроизведения огня?» Это была кучка жалких существ, бродивших по сырому лесу, у которых угрожал потухнуть взятый ими с собою трут, а под рукою не было ни раковины, ни зуба или куска камня. Они отыскивали палку или разбивали полый стебель; чем суше дерево, тем легче его было измельчить и поджечь. Усердно сверлили они одним куском дерева в другом, чтобы получить достаточное количество древесных опилок, или, если говорить о предках полинезийцев, то последние терли дерево о дерево — это зависело от того, какой способ был у них обычным. Они были обрадованы открытием, что хотя деревянной палкой было труднее сверлить, но натертые таким образом опилки были тоньше и при том сами тлели и дымились. Справедливо говорит Им Турн фон ден Варрау: «Дерево заключало в себе легко горючий материал — трут, но этот горючий материал сам скрывал в себе огонь. Открытие это мог сделать каждый доисторический бродяга, не обладавший ничем, кроме остатка тлеющего материала с последней стоянки».
Это объяснение Штейнена, по-моему, является вполне удовлетворительным; оно устраняет трудность, на которую обращает внимание Ю. Липперт в своей «Истории культуры» и которая является неодолимым препятствием для всякой иной попытки объяснения. Австралиец наряду с огнивной пилой, описанной выше, пользуется также буравным огнивом. Оказывается, далее, что первобытный обитатель Австралии не умел просверливать камней и не дошел до изобретения лука; для этого он был слишком рано отрезан от остального человечества; подняться на эту ступень австралийцу помешало открытие его родины европейцами. Бурав для камня и буравное огниво должны быть названы здесь одновременно потому, что, согласно вышеупомянутой гипотезе, человек обязан изобретением буравного огнива опыту, полученному при сверлении камня. Если этот взгляд верен, то возникновение искусства произвольного добывания огня надо отнести к эпохе за несколько тысячелетий до нашего времени, — именно к позднейшим отделам каменного века; все же бесчисленные десятки, а быть может, и сотни тысячелетий, относительно которых мы можем установить следы огня в местах археологических раскопок, в глубине ледниковых отложений, человек должен был обходиться одним лишь уменьем поддерживать и передавать огонь из естественного источника. Но такой взгляд едва ли может быть принят. Эта гипотеза уже потому должна быть признана ошибочной, что каменная утварь просверливалась и просверливается именно деревом, бамбуком или чем-либо подобным, при чем между сверлом и подставкой насыпается мокрый песок в качестве трущего материала; к сожалению, этим способом даже при колоссальнейшем напряжении нельзя получить ни жара, ни огня.
Таким образом, у австралийца вообще не было повода к сверлению деревом ни камня, ни дерева. Тем не менее, способ этот является в Австралии общераспространенным и, что поразительно, применяется исключительно для добывания огня. Невольно возникает вопрос, — мог ли австралиец придти к этому способу другим путем, кроме описанного выше со слов Карла фон ден Штейнена? В самом деле, следует признать, что всякая иная попытка объяснения неприложима и здесь, в Австралии. Тонкая древесная мука любого происхождения должна была и австралийцем быть признана лучшим средством для поддержания естественного огня; можно затем с такой же вероятностью, как и для других местностей, предположить, что австралиец стал производить древесные опилки сознательно и исключительно для этой цели. А от этой стадии до Штейненовской драмы в первобытном лесу всего лишь один маленький шаг.
VIII. Заключительный обзор
Человек и холодная кухня. Последствия обладания огнем. Условие распространения человечества. Огонь, как тормоз. Его значение для развития наших социальных и экономических отношений. Роль женщины.
Рассмотрение вопроса о пользовании и добывании огня показало нам первобытного человека в самом разнообразном освещении, хотя мы коснулись лишь одного единственного предмета из всего его достояния. Мы видим сначала, как он, вполне подобно остальным животным, пробирается через заросли, без прикрытия и кровли, незащищенный от действия холода и осадков, и без разбора тянет ко рту все, что шевелится и движется, летает и ползает; но зато он совершенно свободен и не стеснен никакими границами, кроме тех, которые ставятся близостью соседних орд. Поведение таких народов, как австралийцы, ведды, африканские пигмеи и бушмены, которые с величайшей ревностью следят за уважением к границам их кочевья, охоты и сбора плодов, заставляет нас, к нашему удивлению, придти к выводу, что никогда, даже в самые свободные времена, когда человек не знал огня и домашнего очага, его область обитания не была безграничной. С другой стороны, мы должны принять во внимание, что во всю первобытную эпоху существования человеческого рода его племена были расселены очень редко; только относительно палеолитической эпохи Европы можно доказать лишь чрезвычайно незначительную плотность населения. Таким образом, упомянутые границы в действительности были, вероятно, едва заметны.
В этой стадии свободы человеку пришлось близко ознакомиться с совершенно чуждым до тех пор явлением — огнем. Он отыскивает огонь, так как успел узнать его полезные и приятные свойства, а впоследствии ухаживает за ним и поддерживает его.
Исходными пунктами и побудительными мотивами для этого первого крупного, активного вмешательства в деяния природы было сначала только познание факта, что огонь со своей приятной теплотой представляет нечто приятное, что он не только в состоянии увеличить число яств, но и облагородить целый ряд питательных веществ. Многое, до тех пор несъедобное, теперь, в поджаренном или испеченном виде, нашло путь в желудок человека; во многих отношениях первобытный человек превратился даже в своего рода гастронома.
Как ни драгоценно было это последнее завоевание для наших предков, все же именно эта сторона нового приобретения имела мало значения и последствий для потомства. Конечно, нам трудно мысленно перенестись в условия кухни, не ведающей огня, но раз таковая была, она служила человеку вполне исправно. Обитатели северно-европейских побережий, эпохи кьоккен-меддингов [15], на заре позднейшего отдела каменного века на севере, хотя и знали огонь, но главным средством их питания были устрицы и. другие более или менее лакомые морские животные. Конечно, устриц не жарили, что и было вполне разумно. Но именно те же находки встречаются и на берегах почти всех морей населенной земли, будем ли мы исследовать составные части антасов доисторической Португалии, самбаки Южной Америки, шелльмаунд Северной Америки, устричные кучи Японии или мирньонги юго-восточной Австралии.
«Да», возразят читатели, «но это были все обитатели морского побережья; докажите нам, пожалуйста, что и обитатели внутренних частей материков могли достойным образом жить без огня. Пока вы этого не сможете сделать, мы будем считать огонь впредь, как и прежде, одним из самых существенных условий человеческой жизни вообще».
Охотно докажем! В течение короткого времени — а если приходилось круто, то и более продолжительное время — каждый из вас, наверное, мог обходиться без привычной и весьма приятной, надо признать, «горячей пищи», — и никто от этого не погибал сразу и бесповоротно. Напротив, сырая пища кажется иногда весьма вкусной нам, избалованным носителям высшей культуры, хотя икра, которую не жарят и не варят, не играет главной роли в нашем меню. Недаром император Карл V совершил паломничество к гробнице Вильгельма Пеклинга; да и нежная сырая ветчина для вас, надеюсь, еще не потеряла всей прелести. Если вы согласитесь со мною в этом, то я не стану принуждать вас признать преимущества наших бесчисленных видов плодов и овощей, как достойных человека средств питания, — хотя их мог бы довести до теперешнего состояния и человек, не знающий огня. Но потрудитесь бросить взгляд и на другие народы. Слово «эскимос» не совсем без основания означает — потребитель сырого мяса, а при дворе негуса Менелика даже официальные пышные обеды состояли в существенной части из совершенно неприготовленного жирного мяса, от которого, согласно этикету, надо было отделять у самого рта куски универсальным ножом.
К счастью для человечества, последствия обладания огнем лишь отчасти были направлены на благо желудка. По факту сокращения до минимума волосистого покрова тела человека, который, без сомнения, первоначально был сплошным, мы заключаем о первоначальной родине человеческого рода под тропиками. Можно ли было бы предположить, что первоначально жаркое или теплое местообитание расширилось до скованных льдом областей полярного пояса, если бы мы не допустили вместе с тем, что первобытному человеку было известно согревающее свойство огня? Разумеется, мы и теперь должны остерегаться переоценки климата; Дарвин и его спутники с удивлением и почти жутким чувством смотрели на жителей Огненной Земли, которые, несмотря на свое более чем скудное одеяние, относились к огню в их лагере, как к чему-то излишнему; должно быть, сильно избаловались мы, европейцы, благодаря появлению искусства тканья еще со времени свайных построек. Однако, в общем надо считать знакомство с огнем предварительным условием распространения человечества в странах с холодным климатом. Это условие необходимо и для продолжительного обитания в горах и возвышенных странах. Царства инков и ацтеков лежали под самыми облаками. Мыслимы ли они без знакомства с огнем? Я полагаю, едва ли; отсутствие одного исключает возможность возникновения другого.
Несмотря на свои великие заслуги в распространении человеческого рода по направлению к обоим полюсам, новое домашнее животное, именуемое огнем, стало вместе с тем и помехой этому распространению до того момента, пока человек не научился производить огонь в любое время и в любом месте. Но если это так — слышу я возражение, — то этот, повидимому, долгий период в истории человечества в сущности был, пожалуй, временем регресса или, по меньшей мере, застоя? На это наука народоведения отвечает одновременно и «да» и «нет». Это «да» имеет весьма скромное значение: женщина, естественная хранительница очага, должна была стать еще менее способной к передвижению, чем прежде, когда на ней лежали естественные обязанности матери и воспитательницы детей. Однако, наука отвечает и решительным «нет» по следующим основаниям.
Хранительницей «тлеющего полена», как еще в XIX веке называли немецкие крестьяне вечно тлеющее домашнее животное, — с самого начала была женщина. Если бы мы и не видели этого у нынешних дикарей, то без труда могли бы восстановить, этот факт по нашим собственным отношениям: и у нас мужчина вынужден уходить из дому; домашним очагом распоряжается женщина. Тлеющее полено стало принадлежностью этого очага уже в первобытное время, и в том же двояком значении, какое еще и теперь имеет у нас это слово. Первое значение, более узкое, относится к месту приготовления пищи; второе, более широкое и переносное, означает место сбора всех связанных между собой членов общины. Чувствительность нового приобретения к атмосферным влияниям вызвала изобретение кровли и дома вообще, — так как опасность может грозить свободно горящему пламени не только сверху, но и со всех сторон. Таким образом в женщине мы видим изобретательницу нашего дома. Честь и слава ей!
Дикарь-мужчина — жесток и себялюбив; дело обстояло не иначе и до открытия огня. Своя рубашка ближе к телу, — рассуждает он и пожирает только что убитую дичь тут же на месте. «Недурно», замечает кто-нибудь из присутствующих, и свежая кровь течет по обросшему подбородку из углов его рта, — «но мясо, которое наша старуха вчера подержала над огнем, пахло лучше да и было вкуснее этого.» — «Ну, а мы не станем жарить» — грубо перебивает его предводитель, уплетая дичь за обе щеки, «какое нам дело до женщин?»
Однако, изменники даже лучшему делу бывали во все времена, — и дикари один за другим смирялись и все сильнее тянулись к «женщине». Их вечный огонь не только тепло и приятно грел, но и доставлял лучшее жаркое; кроме того, хижина, которая возникла мало помалу над неугасимым огнем, гораздо лучше защищала от холода, сырости и врагов, чем голубой свод неба, которым до тех пор довольствовалось человечество. Вскоре вынужденная относительная оседлость женщины привела и к зачаткам разведения растений и к изготовлению первого горшка, который не горел на огне, как любая корзина или скорлупа плода, но позволял в нем варить. Легко вообразить, какое торжество и ликование было, когда наш отдаленный предок почуял и понял важность этого изобретения — или, быть может, открытия. К сожалению, у первобытного человека не хватило для этого дальновидности и он не сознавал последствий тесного сплочения вокруг домашнего очага, хотя все это относилось к развитию его собственной дальнейшей судьбы.
Прежде время кормления матерью ребенка, в виду отсутствия подходящей, удобоваримой пищи, было весьма продолжительно; не короче было и отчуждение супругов из-за ребенка. Это повело к чрезвычайно странным отношениям между обоими полами внутри орды или рода, при которых ничего не проигрывал только сильный пол. Теперь же, с получением возможности размягчать и превращать в удобоваримые кушанья жесткие зерна и другие растительные вещества и даже мясо, прежде редко появлявшееся в обиходе женщины, явилась также возможность, без всякого особого содействия с чьей-либо стороны, ранее отлучать от груди младенца и, таким образом, значительно ранее возвращать матерей другому полу. Эта возможность не везде была использована — по причинам, изложение которых завело бы нас слишком далеко; но она не осталась без влияния на весь строй наших социальных отношений.
Все это — новшества в существовании человека, вызванные простым завоеванием неугасающего огня.
Уже ради них одних предмет этот заслуживает дальнейшего и обстоятельного исследования. Вместе с другим завоеванием — орудий для добывания огня и связанной с этим возможностью переносить по желанию становище через легкопереходимую лесную поляну и через целые страны и материки, естественно вырастает в значительном масштабе возможность новых завоеваний и расширения жизненных форм. Начатки техники и ее формы затронуты были до сих пор лишь мимоходом. Как сильно должна развиться она, когда человек оказался в состоянии переносить свою мастерскую туда, куда он пожелает или где есть необходимый материал и подходящие условия? Вот вопрос, который можно теперь себе поставить.
Примечания
1
Маркс и Энгельс всегда очень внимательно следили за этнологией и доисторией. Известная книга Энгельса «Происхождение семьи, собственность и государство» (посл, изд. «Московского Рабочего») как раз основана на этнологической работе Моргана. О значении этнологии и доистории для правильного понимания общественного процесса говорит книга Кунова «Этнология, социология и материалистическое понимание истории», изд. Горской, Киев 1906 или М. Малых, СПБ 1905. (Прим. ред.).
(обратно)2
Проф. Рихард Андрэ скончался 9 февраля 1912 года. (Прим. ред.).
(обратно)3
R. Andree. «Ethnographische Parallelen und Vergleiche». Leipzig, 1889.
(обратно)4
У всех эскимосов каяк приводится в движение одним веслом, которое у эскимосов, живущих к востоку от Мэкензи, имеет на каждом конце по гребной лопасти.
(обратно)5
У самцов этого вида тюленей (Cystophora cristata) есть на морде особая кожная складка, сообщающаяся с носовой полостью. (Прим. перев.).
(обратно)6
Впрочем, не все виды австралийского бумеранга обладают этим свойством. Оно встречается лишь у легких бумерангов, употребляемые для спорта и для охоты на мелкую дичь. Тяжелые боевые бумеранги, которыми австралийцы пользуются во время войны и охоты на крупную дичь, этим качеством не обладают. См. об этом 2-ю книжку Вейле «Элементы человеческой культуры», глава VII. (Прим. ред.).
(обратно)7
C. H. Stratz: «Naturgeschichte des Menschen». Stuttgart 1904.
(обратно)8
Рыболовный снаряд, состоящий из густо плетеной конической корзины, в отверстие которой входит рыба, но из которого она уже не может найти выхода. (Прим. ред.).
(обратно)9
С происхождением человека в популярной форме знакомит читателя книга проф. Д. Н. Анучина: «Происхождение человека». Гиз. М. 1922. Для совсем подготовленных пригодны статьи проф. Д. Н. Анучина; «Происхождение человека и его ископаемые предки». «Итоги науки», т. VI и «К вопросу о древнейших людях» в журнале «Природа», 1916; июль — август. Более подробно со взглядами Клаатча (ныне умершего) знакомит статья его самого «Происхождение и развитие человеческого рода», помещенная во 2-м томе издания «Вселенная и человечество». (Прим. ред.).
(обратно)10
Дополнением к этой главе может служить изданная «Популярно-научной библиотекой» книга проф. Д. Н. Анучина «Открытие огня и способы его добывания». М. 1923. (Прим. ред.).
(обратно)11
«Völkerkunde in Characterbildern».
(обратно)12
Это же мы имеем и в православной церкви. (Прим. ред.).
(обратно)13
Есть в русский перевод Э. Петри. (Прим ред.).
(обратно)14
Вернее — не позвонок, а одну из костей ступни. (Прим. ред.).
(обратно)15
Мусорные кучи, устричные раковины и т. п. кухонные отбросы в отложениях каменного века. (Прим. перев.).
(обратно)
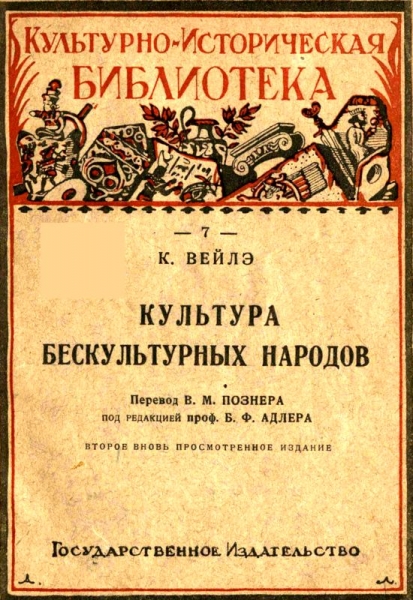

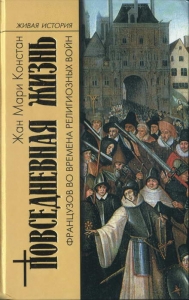
Комментарии к книге «Культура бескультурных народов», Карл Вейлэ
Всего 0 комментариев