Максим Трудолюбов Люди за забором. Частное пространство, власть и собственность в России
© Максим Трудолюбов, 2015
© Новое издательство, 2015
* * *
Посвящается памяти родителей Маргариты Георгиевны и Анатолия Федоровича Трудолюбовых
Благодарности
Бесценной для автора была помощь жены Инны Березкиной, Матвея Трудолюбова, который рос вместе с этой книгой, Марии и Петра Трудолюбовых. Глубоко важным для книги (и не только для книги) было общение с философами и основателями Московской школы гражданского просвещения Еленой Немировской и Юрием Сенокосовым, историком Василием Рудичем, экономистом Джеймсом Робинсоном, политологом Иваном Крастевым, экономистами Сергеем Гуриевым, Олегом Цывинским, Константином Сониным, политологом Эллен Мицкевич, филологом Михаилом Гронасом, экономистами Владимиром Южаковым и Кириллом Янковым, архитектором Никитой Токаревым, предпринимателями Сергеем Петровым, Алексеем Климашиным, Булатом Столяровым, директором Центра им. Вильсона Мэттом Рожански, заместителем директора того же центра Уильямом Померанцем, коллегами Павлом Аптекарем, Борисом Грозовским, Андреем Синицыным, Николаем Эппле, Николаем Кононовым. Книга не состоялась бы без деятельного участия редактора Андрея Курилкина, согласившегося прочитать рукопись, взять ее в работу и помочь усовершенствовать. Высокая компетентность и интеллектуальный уровень собеседников, впрочем, не могут служить гарантией качества книги: все недостатки и ошибки на совести автора. Книга писалась урывками в разных местах, поэтому всем этим местам также следует благодарность.
Вступление. Трагедия собственности
Закрепощение и освобождение крестьян, революция и коллективизация, массовое жилое строительство и, наконец, раздача квартир в собственность – вехи русской истории, значимые для нас до сих пор. Все они связаны с землей и собственностью – с привязкой к земле, с освобождением от привязки к земле, с потерей собственности и с обретением ее вновь.
Это были события, коснувшиеся буквально каждого: десятки миллионов людей потеряли все в начале 1930-х, десятки миллионов людей получили частное пространство благодаря массовому строительству жилья в 1960–1980-х годах (см. главы 1, 10 и 11). Советского человека создала не столько революция, сколько квартирный вопрос – острая нехватка жилья в растущих городах. В тесноте, в ссорах и в дружбе с соседями, в борьбе за квадратные метры оттачивались характеры и делались карьеры. В СССР обладание отдельным жильем было для миллионов людей кульминацией жизненного пути.
Тоску по отдельности, конечно, придется утолять каждому следующему поколению, но сегодня можно говорить о качественной перемене в российском обществе в целом. Трудный путь из советской коллективной бездомности в отдельную частную жизнь пройден.
Частная жизнь – великое достижение общества. Возможность остаться наедине с самим собой и близкими кажется нам сегодня естественной. Кажется, что наши четыре стены, наши домашние дела, чувства и слова принадлежат только нам. Сейчас это не просто возможность, а право, записанное в конституции. Но эта возможность, не говоря уж о праве, в России – новейшее, практически вчерашнее достижение. Да и в мире сравнительно недавнее.
На протяжении всей своей истории человек существовал прежде всего как часть племени, банды, общины, войска, цеха, сообщества, церкви. Нужда и собратья не оставляли его в покое. Человек – существо общественное, но одновременно и существо, умеющее ценить приватность.
Уйти в скорлупу собственного пространства на протяжении большей части истории могли только избранные: вожди и святые. Путь к обособленной жизни для простого человека был долгим, трудным и органическим – связанным с Промышленной революцией, ростом торговли, появлением среднего класса и, как следствие, созданием пространства частной жизни – частного дома, предназначенного для нескольких человек – малой семьи. Чтобы иметь возможность жить в отдельной квартире или городском доме, трудящийся человек – не вождь, не феодал, не предводитель шайки – должен был преодолеть порог самодостаточности, поднять голову и начать зарабатывать не только на пропитание. Эту возможность дало ему постепенное высвобождение из множества зависимостей, размывание монополий на торговлю и власть. Географические открытия, частная собственность на землю, новые технологии и появившиеся благодаря им новые источники заработка помогли людям придумать частную жизнь (см. главу 3).
Появление «малого» дома не было бы возможно без чувства и института массовой частной собственности. Осознание жилища как своего, конечно, уходит к самым истокам человеческой культуры, но осознание собственного «я» и закрепление границ частной сферы – процесс, развивающийся до сих пор (см. главу 4). Точно так же развивается и правовое понимание того, что человек может или не может считать своим. В любых культурах, в том числе и в западных, у частной собственности всегда были альтернативы – общественная и государственная собственность. Сегодня во множестве стран развиваются и становятся все более востребованными различные формы временного или совместного пользования благами. Автомобили, квартиры, загородные дома часто арендуются, а не приобретаются в собственность. Интересно, что именно в странах с самыми долгими традициями частной собственности доля собственников в общем количестве городских жителей значительно ниже, чем в России. В Швейцарии их меньше половины, в Германии чуть больше половины, в Британии – около 68 % (на фоне российских 85 %).
В нашей культуре процессы, связанные с различными режимами собственности, шли иначе. Дело здесь не в мистике и не в таинственной душе. Не исключено, что несвобода и теснота жизни в огромной России как-то связаны с характером общества и государства.
Русские властители на протяжении столетий расширяли свои владения и справлялись с удержанием огромных территорий под контролем благодаря концентрации, а не разделению власти на каких-либо договорных началах. Территориальная экспансия и безопасность как ключевые ценности российской государственности не могли не повлиять на формирование общества. Наличие одного преобладающего источника благ – будь то пушнина, труд крестьян, древесина, зерно или нефть – формировало особую форму господства.
Приоритетами российской формы господства, сложившимися в ходе формирования Московского государства, были создание прочных заслонов от внешних врагов и извлечение богатства в пользу небольшой элиты. Процессы строительства профессиональной бюрократии, местного самоуправления и обустройства жизни на местности развивались крайне медленно, в частности потому что никогда не были для этой элиты главными. Страны, чьи лучшие представители интересуются устройством общественной жизни, и страны, чья элита такими процессами не интересуется, сильно отличаются друг от друга благосостоянием и настроениями граждан. Вторые, как правило, представляют собой колонии или государства, чья правящая верхушка заинтересована только в том, чтобы вывозить за рубеж сырье и другие товары (главы 5 и 6).
Россия – необычная страна, поскольку она и колония, и колонизатор. Парадоксальный результат ее многовекового расширения заключается в том, что места в стране много, а жить тесно. Жить тесно, потому что пространства много, а обжитого пространства мало.
При этом наличие одного важнейшего источника ренты задает определенные правила игры. Если правила вознаграждают какое-то поведение, то самые сообразительные игроки станут вести себя наиболее выигрышным образом. Если существует один источник благ, превосходящий по своему потенциалу все остальные, то все будут стремиться к нему – в Петербург, в Москву, к казне, к центру принятия решений. Гигантская концентрация ресурсов в столицах и недоразвитость других пространств связаны. Необжитость есть проекция сильной центральной власти. Места мало, потому что власти много.
Общечеловеческое стремление к частному благополучию постоянно сталкивается в России с политической системой, ставящей порядок (сословный, идеологический, государственный) выше идеи развития. Частная собственность в России, в отличие от частной собственности на Западе, не стала символом гражданственности, права и участия в делах общества. Этот институт не получил доброго имени ни до революции большевиков, ни после революции Ельцина и Гайдара. Для одних собственность была и остается легитимным механизмом удержания господствующего положения, для других была и остается свидетельством глубокой несправедливости общественного порядка (главы 7 и 8).
Многие исследователи увязывали недостаточность развития частной собственности в России с особенностями политического развития страны. Самый известный пример, конечно, – книги историка Ричарда Пайпса «Россия при старом режиме» и «Собственность и свобода», в которых автор, по сути, увязывает уровень развития частной собственности в стране с уровнем развития политических свобод.
Но в частной собственности в России не было «недостатка»: она так или иначе существовала на протяжении всей русской истории, а в последние 150 лет ее петербургского периода была даже более радикально «частной», чем многие европейские аналоги. Просто собственность и свобода в России разделены, они обитают в непересекающихся вселенных.
В англо-американской культуре одно время было принято говорить о «трагедии общин» – парадоксе, проявившем невозможность совместного пользования ресурсами и тем самым оправдавшем господство частной собственности. Исследователи до сих пор спорят об этой идее, но суть ее в том, что если одни пользуются общим благом чрезмерно, то в результате эгоизма отдельных пользователей общий ресурс, например пастбище, не успевает восстановиться и прокормить всех.
В России, мне кажется, можно говорить о «трагедии собственности». История отношений с собственностью у нас отличается от западной. Собственность в русской политической культуре не являлась той основой, благодаря которой были осознаны другие гражданские права. Защитники частной собственности и защитники прав человека и гражданина часто оказывались в России по разные стороны политических баррикад. Собственность, особенно крупная, в нашей культуре воспринималась как незаработанная и потому несправедливо удерживаемая. Распоряжались ею бездумно и пренебрежительно. В итоге общество не видело в ней этической ценности и легко отказалось от нее в момент социальной революции 1917 года. «Если в России частная собственность так легко, почти без сопротивления, была сметена вихрем социалистических страстей, – писал Семен Франк в работе «Собственность и социализм», – то только потому, что слишком слаба была вера в правду частной собственности, и сами ограбляемые собственники, негодуя на грабителей по личным мотивам, в глубине души не верили в свое право».
Одной из основ советского проекта была идея организовать жизнь на научных, разумных началах, что, в частности, предполагало управление экономикой из единого центра. Лидеры коммунистического государства пообещали всему миру разрешить глубокую, врожденную несправедливость капитализма и частнособственнического хозяйствования: избежать неравенства в обществе и несогласованности между участниками человеческой деятельности. Если нет частной собственности, то нет и эгоизма собственника и, значит, некому тянуть одеяло на себя. Но марксистская идея не поддалась воплощению, а может быть, человеческая природа оказалась сильнее разума. Советский экономический проект рухнул под собственной тяжестью.
Послереволюционный маятник качнулся в России 1990-х годов невероятно сильно. Право частной собственности было формально распространено (в случае с занимаемой людьми жилплощадью) и предложено (ваучерная приватизация) практически всему населению страны. Но это не сделало людей собственниками по духу. Право собственности, каким бы уязвимым оно ни было в силу несовершенства институтов нового российского государства, все-таки было вполне реальным. Но оно не стало волшебной палочкой, способной превратить население в граждан, а электорат – в собственников своей страны. Вещи стали своими, а страна своей по-настоящему так и не стала. Внутреннее содержание многих процессов, происходящих в России, – это лихорадочный поиск людьми своей идентичности и связи со страной, ощущения обладания.
Реабилитация собственности в новой России открыла, конечно, невиданные возможности, но привела и к новым проблемам. Те, кто стал распоряжаться сырьевыми богатствами страны и ценностями, созданными общими усилиями в советское время, не могли восприниматься обществом как полноценные независимые собственники. Государству это и не было нужно. Более того, никакие собственники, даже несырьевые, средние и мелкие, не должны были осознать себя независимыми. Надежной правовой основы и стабильных правил игры внутри страны для собственников так и не было создано – отчасти потому что правовые системы других стран всегда были легко доступны, отчасти потому что неопределенность правил выгодна верховной власти. В новых условиях право собственности и другие гражданские права снова, как и когда-то, стали явлениями разной природы.
Российское общество в постсоветские годы прошло скорее через эпоху присвоения, чем созидания. Это был бум, обвал присвоения: мое, мое, мое. Разницу между таким «моим», которое присвоено, и «своим», которое создано руками и разумом, еще двадцать лет назад стремился сформулировать философ Владимир Бибихин. Это разница, говорил он, между «мое просто потому что не твое» и «собственно свое, захватывающее»[1]. Эту разницу российское общество не осознало и не осмыслило до сих пор.
Композиция книги – это проход сквозь воображаемый частный дом. Предметами рассмотрения становятся забор, пространство двора, территория участка, вопросы безопасности здания, его цена и проект, по которому здание построено. Есть главы о тех, кто живет в доме, – о «работниках» (от крестьян до нас) и «хозяевах» (от дореволюционных до нынешних). Они обобщают исторический анализ российской институциональной схемы, предлагают современный взгляд на вопросы нашей зависимости от прошлого и выводят на разговор о будущем.
Глава 1. Вход
1. Бездомные люди
В 1970 году все радовались переезду, особенно мой дед. Квартира в девятиэтажной новостройке теперь была его квартира – отдельная, трехкомнатная, выделенная ему, мастеру-электрику, ветерану войны. Ему было 55 лет, у него только что родился внук, он был счастлив. Это было уже не временное пристанище, не комната в доме на несколько семей, а настоящее отдельное место жительства. Вот теперь сорокалетний путь из деревни в город был завершен, что подтверждалось бумагами и паспортом с самой лучшей пропиской в мире – московской. Этот путь он начал в 15 лет, бежав из рязанской деревни Перевицкий Торжок.
Деревня стоит на Оке, на крутых холмах чуть выше села Константиново, где родился Есенин. Сюда можно и сейчас возить студентов-художников писать этюды. Место до сих пор почти не испорчено, а в то время наверняка было просто захватывающе красивым: высокий холмистый берег с видом на бесконечную равнину по другую сторону реки. Но заглядываться на красоту в 1930 году было некогда. Мой дед уехал из Перевиц, потому что, после того как народ согнали в колхоз, жить привычным хозяйством большой семьей стало голодно и невозможно. Сам он говорил, что уехал из-за трудодней: «Работать стали за трудодни. Нам палки в ведомости ставили. Отработал – палка. И все».
О красоте, оставленной позади, он вспоминал с гордостью. Считал, что у них было лучше, чем в Константинове. Рассказывал, как они с мальчишками прыгали в реку с обрыва. Рассказывал, что крутой холм под названием Маковище прямо напротив дома был на самом деле курганом и там можно было откопать татарские и русские черепа. Но рассказывал он это отстраненно, возвращался к прошлому редко, как эмигрант, давно потерявший связь с родиной.
Его первым занятием в городе была клепка котлов на асфальтовом заводе. Там же, под котлами, он, вместе с другими рабочими, в первое время и жил. Это была ужасная и оглушительная в буквальном смысле работа. Но на прекрасный косогор в родительский дом он возвращаться не собирался.
Никакой привязанности ни к одному из мест, где деду приходилось жить, я с его стороны не чувствовал. Пятачок между трамвайным кругом и платформой точно не мог казаться ему домом. Квартирой он гордился – получил за службу, – но гордился, по-моему, прежде всего документально утвержденным фактом ее получения. Место, новый район Беляево, было ему безразлично.
Он вырос в большой крестьянской семье, был одним из восьмерых детей, у него не было времени учиться. Но он стал человеком с городскими привычками и городскими амбициями – любил свою работу (электрик), любил книги, газеты, прогулки в парке и личные достижения. Ему важно было движение от места к месту, от ступени к ступени. И любое достижение он отмечал выпивкой, не видя в этом проблемы. Он принял правила города приезжих: двигаться вверх по ступенькам и не оглядываться. В городе лестниц больше, чем в деревне, – всегда есть куда стремиться.
Путь моего деда – путь большинства. То, через что прошел он, прошли почти все. Он родился в стране, где подавляющее большинство жителей (85 %), как и он, были крестьянами. Его судьба изменилась тогда же, когда у всех, – в 1929–1930 годах, когда началась массовая коллективизация. Он был на фронте, как и большинство его сверстников, и, в отличие от многих, выжил. Это второе главное событие его жизни. А третьим главным событием было то, что он получил отдельную квартиру. И это тоже случилось примерно тогда же, когда у многих из его сверстников. Он умер в стране, где подавляющее большинство жителей (74 %), как и он, уже были горожанами[2]. В стране, где родился мой дед, большинством были люди моложе 30 лет. Ко времени революции 1917 года более 60 % населения Российской империи были молоды. В стране, где умер мой дед, пожилых людей было уже больше, чем молодых. Сейчас людей моложе тридцати – меньше 40 %[3].
Это невероятное превращение случилось меньше чем за одну человеческую жизнь. Миллионы людей, как и мой дед, бежали из деревень, от голода и новых порядков, и те, кто выжил, перебрались в города.
Именно молодые люди, родившиеся, как и мой дед, в больших семьях в год революции – чуть раньше и чуть позже, стали первым «новым поколением». Новым в том смысле, что жизнь такого огромного количества людей оказалась совсем не похожей на жизнь всех предыдущих российских поколений. Стремление к заработку и образованию, конечно, и раньше приводило крестьян в города, но ничего подобного по масштабу не было. Миллионам новых пролетариев, и колхозных и городских, пришлось учиться жить заново. Родительский опыт только мешал. Образ жизни, привычный для их предков, перестал их кормить. Большие семьи стали им обузой. Прежняя вера была у них вытравлена и заменена новой.
Начало коллективизации, ликвидация «кулака» и форсированное строительство затронули подавляющую часть населения страны. За несколько недель были сломлены жизни более 130 миллионов крестьян Советского Союза[4]. По масштабу и последствиям конец 1929 года и первые месяцы 1930-го гораздо важнее октября 1917-го. Историк Николай Рязановский сравнивал коллективизацию с Крещением Руси. «Поскольку те события затронули бо́льшую часть русских и россиян, год 1929-й можно считать важнейшей переломной точкой русской истории, за исключением, возможно, года 988-го», – пишет он в книге о самоидентификации русских и россиян[5].
Эти молодые, сильные и бездомные люди, не успевшие толком привязаться к старому образу жизни, вынужденно осваивали новый. Они были чистым листом: готовы были слушать, воспринимать и работать. Они доказывали, сколько испытаний может перенести человек и в каких условиях может выживать. Ночлег на настоящей кровати, а не под котлом, возможность дослужиться до лишнего пайка значили для них больше, чем участие в великой стройке. «Стойкость и выносливость, а не трудовой энтузиазм были нормой для большинства. Стойкость не относится к Аристотелевым политическим категориям, но она сыграла свою политическую роль. Она помогла удержать гитлеровцев под Сталинградом, она же помогла народу пережить все испытания советской истории», – пишет Рязановский[6].
Все эти стойкие люди были еще и крайне плохо устроены в жизни – подсобки, землянки, казармы, бараки, общежития, коммунальные квартиры были их домом. Бездомность подавляющего числа граждан страны являлась, по сути, осознанным политическим выбором власти. Во-первых, жилое строительство было одной из жертв «великого перелома» 1929–1930 годов. Осознанное решение направить ограниченные ресурсы на оборону и тяжелую промышленность обрекло остальные отрасли экономики, в том числе строительство жилья, на «голодание». Капиталовложения в жилое строительство сократились, и даже официальные нормы жилой площади на человека к 1940 году были уменьшены почти наполовину. «Политика бездомности», конечно, не была описана в документах партии, но ее вполне возможно рассматривать как политику.
Во-вторых, жилищное «голодание» помогало политическому руководству направлять трудовые ресурсы по желанию: большинство получало жилье от предприятия, и люди стремились туда, где «давали» жилье. В приоритетных отраслях получить квадратные метры было легче. В-третьих, была еще прописка, дожившая в слегка трансформированном виде до наших дней. Обязательная регистрация по месту жительства позволяла следить за гражданами – и по официальным каналам, и с помощью добровольных помощников партии, – выявив врага народа среди соседей, можно было претендовать на освободившуюся комнату.
То, в чем участвовали, не зная того, миллионы новых пролетариев и колхозных крестьян, было невиданным экспериментом. Эта была попытка политической элиты получить заданный результат (коммунистическое общество, иначе именуемое «светлым будущим»), резко ускорив исторический процесс и жестко контролируя его ход. Это был контролируемый социальный взрыв. Теоретики и практики коммунизма-ленинизма планировали сымитировать и попутно усовершенствовать процесс, который в Европе длился несколько веков.
Голод и лишения неизменно объяснялись курсом партии на светлое будущее. И идея будущего действительно укоренилась в сознании граждан. Благодаря искусственной бездомности, на которую советские стратеги обрекли большинство граждан СССР, подлинным светлым будущим для них стала собственная отдельная квартира. Это стремление к отдельному жилью, к отдельности, к частной жизни, как мы увидим, определило и советское и постсоветское развитие страны.
В нашей истории было немало правителей, веривших в то, что исторический процесс, как металл, поддается технологическому воздействию. Петр I верил, что можно за одно поколение сделать Россию европейским правовым государством с настоящими чиновниками и военными. Советские лидеры были убеждены, что можно в пробирке получить индустриальную урбанизированную страну, минуя все стадии органического роста промышленного производства и городов. Постсоветские лидеры полагали, что можно создать рыночную экономику, минуя формирование институтов собственности и права. И не то чтобы совсем никому и никогда не удавалось перепрыгивать через историю и менять себя быстро – быстрые трансформации возможны, но гарантий успеха никогда нет. Чаще получается совсем не то, что задумывалось.
2. Из горожан в граждане
Возвышение городов в Европе сопровождалось не просто ростом численности городского населения, а укреплением его роли в управлении городом, а позже и страной. Вчерашним крестьянам, новым горожанам европейских городов приходилось защищать плоды своих трудов и от феодальных владык, и от монархов. Именно с этим были связаны все опыты самоорганизации – гильдии, парламенты и различные низовые движения.
Но и горожане были нужны правителям. Без опоры на «город» монархам не удалось бы создать национальные государства: город был союзником центральной власти в борьбе с центробежными «региональными» силами, представленными традиционной аристократией. В период формирования современного государства (XIV–XV века) европейские монархи все больше полагались на растущее городское население, стремясь договариваться с представительными учреждениями и набирать на службу горожан, получивших университетское образование, – так на свет появилась бюрократия, верхушка «третьего сословия». «Но с развитием промышленности третье сословие стало слишком серьезной силой, которую его прежний союзник, монархия, уже не способна была держать под контролем, особенно если центральная власть была слабой или коррумпированной, – говорит историк Василий Рудич. – Это, как мы знаем, и привело к кровопролитным революциям в Европе, а затем и к рождению современной эпохи»[7].
Горожане помогли сформироваться современному обществу. Индустриализация и урбанизация не были просто механическим ростом производства и скучиванием все большего количества людей в городских стенах. Жители городов за эти долгие годы отвоевали для себя то, что философы назвали правами. Права на частную жизнь, свободу и неприкосновенность собственности формировались в ходе многовекового торга между монархами, церковью, аристократами и горожанами. В ходе этого торга горожане стали гражданами.
Ключевую роль в процессе доказательства самой возможности владения имуществом здесь, на этой земле, сыграла, как ни удивительно, церковь. Именно отцы церкви вернули в интеллектуальный обиход античных авторов, с которых, вплоть до сего дня, начинается любая дискуссия о собственности. Средневековым ученым важно было обосновать легитимность церковной собственности и защитить ее от посягательств монархов. Монархи, в свою очередь, стремились доказать, что только они являются единственным источником легитимности владения на своей территории. Аристократам и горожанам была нужна защита их собственности и от первых, и от вторых. Окончательной победы не добилась ни одна из сторон. Но это означало, что у собственности не оказалось верховного «хозяина». Ни император, ни церковь, ни сообщества граждан не смогли взять на себя роль верховного распорядителя. Эта роль постоянно оспаривалась, что приводило к конфликтам и войнам, но именно в силу отсутствия одного победителя частная собственность превратилась в то, чем она является в культуре Запада.
Возможно, поэтому так трудно, не проходя длительной урбанизации и роста промышленности, воспроизвести этот институт в других культурах. И особенно трудно сделать это в таких культурах, как российская, где равновесия между обществом и аристократией не получилось и власть и собственность слились в единое целое с единым верховным хозяином (подробнее об этом в главе 4, посвященной собственности как идее и институту).
3. Отраженная современность
То, что происходило в СССР в 1930–1950-х годах, тоже принято называть индустриализацией и урбанизацией. Действительно, за предвоенное десятилетие и в 50-х годах было построено невиданное прежде количество заводов, шахт и электростанций; были открыты школы, вузы и исследовательские институты, театры, концертные залы и дворцы пионеров. Все это было бы немыслимо без новой рабочей силы – горожан. К началу 1960-х годов численность городского населения в СССР сравнялась с сельским. Произошло это на 100 лет позже, чем в Англии, но всего лишь на 10 лет позже, чем в среднем в Европе, то есть на самом деле не так уж и поздно.
По гамбургскому счету Советский Союз при этом не блистал. Экономический взлет 1920-х и 1930-х годов, прервавшись на момент коллективизации, продолжался до возвращения к долгосрочному тренду, существовавшему до Первой мировой войны, после чего в 1940 году, то есть еще до начала Второй мировой войны, произошло торможение. Итак, быстрый довоенный рост сталинского времени (от 4 до 6 % в год, по разным оценкам) мог быть всего лишь возвращением к долгосрочной тенденции. Заметим, что даже заявленные цели сталинского рывка так и не были достигнуты: ни одна из сталинских пятилеток не была выполнена, убыль тяглового скота в колхозной деревне не была компенсирована тракторами и машинами до середины 1950-х годов.
В среднем в продолжение всего эксперимента – начиная с «антикрещения» 1929–1930 годов и до последнего полного советского года, 1990-го, – ВВП на душу населения рос на 2,6 % в год. И это несмотря на чудовищные затраты – человеческие и материальные.
Как показывают современные исследования, своих наивысших экономических достижений СССР добился к концу 1970-х годов – ВВП на душу населения вырос до уровня 38 % от американского. В 2012 году ВВП на душу населения России достигал приблизительно 30 % американского, что близко к тому же показателю в 1908 и 1990 годах[8]. Таким образом, если смотреть из долгосрочной перспективы, сталинский рывок не изменил экономический вес России по отношению к другим ключевым участникам глобальной хозяйственной системы. «Если у коммунистического устройства общества и была какая-то экономическая задача, то она не была реализована. Многие страны, не только европейские, но и азиатские и латиноамериканские, демонстрировали более высокие темпы роста с куда меньшими ограничениями прав и свобод»[9].
Разрыв с европейцами не был разительным, а китайский подушевой ВВП был тогда в шесть раз ниже советского (в 2012 году был уже в два раза ниже). Грамотность стала почти поголовной, образование и медицина – доступнее, чем когда-либо в российской истории. Мы получили городское образованное население. А в силу резко сократившихся размеров семей получили «пожилую» страну. Мы приблизились к европейской современности, почти догнали ее.
Но результаты пережитого нашими дедами контролируемого социального взрыва оказались непохожими на результаты многовекового торга, проходившего в Европе. Наша современность как будто бы и есть современность, сегодня в этом уж точно нет сомнений – те же предметы, та же техника, та же одежда, – но сходство это внешнее. Нашей современности, полученной в пробирке советского эксперимента, чего-то не хватает.
Не хватает того, что отметалось в ходе эксперимента, – добровольности, естественности, органичности. Переток населения из деревни в город – естественный процесс, через который прошли почти все общества. Просто у нас он был проведен искусственно и в ускоренном режиме. Руководители большого проекта под названием СССР осознанно корректировали ход истории.
Развитие права собственности и права деятельного участия граждан в политическом развитии собственной страны – вопросы ключевые для западной культуры – действительно были в российских условиях избыточными, поскольку торга не предполагалось. То, к чему западное общество пришло «грязным» путем проб и ошибок, советские идеологи стремились превзойти, пройдя «чистым» путем строительства утопии по заданному проекту.
Но утопия, по определению, – идея не прикладная. Большинство утопий – бумажная архитектура, то есть проекты, не предполагающие физического воплощения. Американский историк Мартин Малиа считал, что большевики совершили «ошибку Колумба» – они отправились на поиски социализма, а нашли что-то совсем другое. «Большевики стремились найти социализм, но наткнулись на „совьетизм“, приведя Россию в перевернутую современность»[10].
Советский Союз развивался как ответ Западу. Можно было бы назвать экспериментально выведенную советскую современность отраженной, увидеть в ней зазеркалье западного общества[11]. В последние два с половиной десятилетия своего существования советская modernity выглядела все убедительнее. Именно тогда СССР заработал себе имя научной и космической державы. С 1951 по 1960-й ВВП Советского Союза вырос, по расчетам экономиста Григория Ханина, на 244 %. Началась активная добыча нефти и газа, в страну были ввезены технологии массового производства потребительских товаров. Образ жизни поколения моих родителей – в больших советских городах – стал отдаленно напоминать образ жизни их ровесников в Европе и США. Благодаря массовому строительству все больше людей могли позволить себе отдельные квартиры, жизнь становилась комфортнее, частные автомобили стали доступнее, можно было отдыхать на море, ездить по стране, всерьез заниматься образованием и свободным временем детей.
Советское детство было одно на всех, оно состояло из ограниченного набора всем известных блоков. В одинаковых булочных продавались одинаковые булочки. После школы можно было пойти к любому из друзей в гости – в квартиру, похожую на твою собственную. Там можно было получить такой же, как дома, нагоняй и съесть такой же, как дома, обед. У счастливцев на полках стояло одно и то же розовое собрание сочинений Вальтера Скотта и зеленое – Чарльза Диккенса. Учительницы, обученные учить нас по одной и той же программе в одинаковых школах, были похожи между собой и носили пугающе одинаковые прически.
Кто мог вырасти в этом инкубаторе кроме одинаковых маленьких гомункулов? Получились между тем на удивление разные, любопытные и активные люди. Искусство комбинирования – вот что спасало. В моем случае блоки были такие: школа, книги, Дворец пионеров, лето. Утром нужно было идти в школу и проходить обязательные для всех уроки. Летом нужно было ехать в обязательный для всех лагерь, такой же, как в прошлом году, только наполненный новыми мучителями. Дворец был любимым, потому что необязательным.
Здесь можно было выбирать себе занятие. Здесь можно было найти свой секрет – то, чего нет ни у кого. Кружок мог быть тем единственным, что отличало тебя от друзей. В конце концов и результат получался отличным от других из-за этого единственного ингредиента. Мой хороший товарищ по изостудии Дворца пионеров ходил еще и на итальянский и так хорошо выучил язык, что начал работать переводчиком, а потом создал в Италии свой бизнес. Я знаю людей, которые благодаря Дворцу стали художниками и артистами. Но для большинства увлечения японским языком и живописью, фотографией, актерским мастерством и геологией остались увлечениями. И не должны были стать чем-то бóльшим. Внеклассные занятия давали круговой обзор, возможность выбора и готовили к неизвестному будущему лучше, чем жесткая школьная программа. Они помогли нам стать «свободно конвертируемыми» в мире, который вдруг, в один день в начале 1992 года, стал совсем непредсказуемым[12].
Дворцы пионеров были красивым достижением советской цивилизации. Других таких же достижений было мало. Советской промышленности не удавалось снабдить граждан идеальными аналогами всех объектов, выпускавшихся за железным занавесом. Экономика, не знавшая конкуренции за потребителя, просто не могла тягаться с западными странами в качестве потребительских товаров. Советские машины и предметы часто выглядели как склеенные на коленке копии западных оригиналов. Советские вокально-инструментальные ансамбли звучали не так, как английские рок-группы. Материалы и ткани были не те. Одежда выглядела не так, как у иностранцев.
Но у нас были книги, в том числе иностранных авторов, в блестящих переводах. Были отличные кружки, то есть талантливые люди, готовые посвящать детям время и силы. Несвободные люди с искренним уважением относились к «свободным искусствам», то есть к занятиям свободных людей. Западная картинка была яркой. Наша – блеклой, но внутренне содержательной. Возможно, потому, что те самые люди, которые в рыночной цивилизации занимались бы зарабатыванием денег и славы, в советской были от этого свободны. Они могли вести беседы, заниматься переводами, писать книги и учить детей. Это была настоящая, не запланированная советской властью роскошь.
Многим казалось, что достаточно было ликвидировать дефицит, чтобы свести к ничьей соревнование между «оригиналом» и «отражением». Но проблема дефицита оказалась гораздо сложнее, чем думали советские плановики, и решить ее помогло только вынужденное введение свободных цен. Именно существование работающего ценового механизма отличает сегодняшнюю российскую реальность от реальности 1970-х. Наше сегодняшнее отражение стало еще больше походить на оригинал: материалы и ткани теперь наконец-то стали теми, что нужно. Автомобили покупаются самые лучшие и новые, а музыкантов всегда можно пригласить настоящих – из любой точки мира. Но нашей современности по-прежнему не хватает чего-то внутри. Эту нехватку внешний наблюдатель может и не заметить, поскольку речь идет о чем-то невещественном. Это все те же ингредиенты, исключенные коммунистической партией из советской модернизации, – право собственности и право участия в делах страны. Наша современность осталась отраженной, мы по-прежнему в зазеркалье.
4. Капитал поколений
Ступени, по которым поднимался мой дед, были такие: выжить, прокормиться, найти крышу над головой, найти комнату, прописаться, получить отдельную квартиру и, если повезет, увенчать успех дачей и машиной. К концу жизни на его горизонте уже были и дача, и машина. От дачи он отказывался – не переваривал сельской жизни ни в каком виде. А машину получил: «москвич» ему полагался бесплатно от города, как ветерану и инвалиду войны. Он уже не мог сесть за руль, мог только из окна видеть, что машина стоит под окном. Сверху «москвич» выглядел как настоящая машина, его собственная. Дед мог считать свою программу выполненной.
Не было ничего низкого или смешного в этой цепочке – квартира, дача, машина. Мой дед, как и миллионы его ровесников, заплатил за эти городские достижения слишком дорого. Он и не знал, насколько дорого, потому что, слава богу, не мог знать современных исследований о советской экономике, которые я цитировал выше. Он не знал, что за каждый стул, стол, ковер, полку с книгами, шкаф с посудой, за проложенную дорогу, построенный дом и выпущенный автомобиль он заплатил во много раз больше, чем люди его возраста в странах за пределами железного занавеса. Ему не с чем было сравнивать свою жизнь, она была похожа на жизни тех, кого он видел вокруг. Для него не существовало взгляда «сверху» или со стороны. Когда я спрашивал у него, почему они в его время терпели все, что с ними проделывало начальство, он не отвечал и мне казалось, что не понимал вопроса.
Только теперь я стал думать, что задавать этот вопрос было жестоко. Это для моих родителей и меня существовали Солженицын и Шаламов, а ему и большинству его ровесников – сидевших и несидевших – достаточно было их собственного опыта. У поколения, прошедшего коллективизацию, лагеря и войну, было моральное право не знать всей правды советской истории. И это единственное поколение, для которого это извинительно; у следующих поколений такого права, конечно, нет.
Доблесть его поколения была не в том, чтобы обличить бесчеловечную власть и восстать на нее. Доблесть была в том, чтобы из нечеловеческих условий, в которых начинали жизнь все эти миллионы вырванных из родной среды бездомных людей, дорасти до человеческих. Достигнуть того светлого будущего, которое, в отличие от коммунизма, было достижимым, – получить отдельную квартиру. Пройти через мясорубку и выглядеть в конце жизни так, как будто и не было мясорубки. Стол, ковер, фарфор, хрусталь, квартира, дача, машина – это, конечно, всего лишь вещи. Но они были для дедушек и бабушек тем же, чем Обетованная земля для поколения Моисея. Моисею дано было ее увидеть, но не дано было в ней жить.
В миллионах семей были дедушки и бабушки, прошедшие советскую мясорубку ради жизни, похожей на настоящую. Они могли попробовать эту почти настоящую потребительскую жизнь на вкус только под старость и потому так ценили ее. Их послание следующему поколению, произносилось оно или нет, выглядело примерно так: мы заплатили, вы теперь живите.
В «обнулившейся» стране они начали жизнь с чистого листа, не имея ничего либо потеряв все. Им и позже приходилось проходить через новые и новые «обнуления». Когда жизнь идет органически, каждое следующее поколение опирается на задел предыдущего, в том числе и материальный. Но в России эти опоры словно специально выбивались у людей из-под ног. Экономист Владимир Южаков называет это «декапитализацией поколений». «Для основной массы населения страны ограничивалось не только потребление, но и возможность накопления. Экспроприация, национализация, коллективизация, запрет предпринимательства, наказание за него, мобилизационная экономика (заниженный уровень зарплаты, принудительный и фактически бесплатный труд на селе и в специально создаваемых для этих целей лагерях, принудительно-добровольные займы), репрессии, уничтожавшие огромные массы, в том числе активной части населения, не говоря уже о катастрофически снижавших потенциал поколений потерях населения от Гражданской и Великой Отечественной войны, голода – не полный перечень факторов и инструментов декапитализации российских поколений»[13].
Мы часто говорим о том, что в России большинство никак не отвыкнет ждать подачек от государства. Иногда это кажется нам чуть ли не нашей культурной особенностью. Но мой дед, как и миллионы его сверстников, не был настроен патерналистски. Он предпочел не сгинуть на поселении, не жить впроголодь в деревне, а отправился строить новую жизнь своими руками. Государственная коллективизация отняла у него опору, культурный и материальный капитал, созданный его отцом. Но то же государство стало для моего деда и его сына, моего папы, руководителем и работодателем – они не знали другого. Неизбежный патернализм большинства в России – это особенность не культуры, а истории. Это наш эффект колеи – зависимость от пройденного пути.
Эта особенность, конечно, не осознается и не формулируется большинством, но это данность, с которой все мы живем. «С каждым поколением люди становились все более зависимыми от государства, – пишет Южаков. – Возможности людей каждого следующего поколения самостоятельно решать свои проблемы не возрастали, а снижались»[14]. А если и не снижались, то начинать приходилось с нуля – после того, как все было потеряно во время революции, после того, как все было отнято во время коллективизации, и после войны, и после распада СССР. Вспомним, что в конце 1991 года в России произошло еще одно обнуление капитала предыдущего поколения, по потерям и падению потребления вполне сравнимое с революционным. Жизнь, в которой каждое поколение проходило через утрату и материального, и социального капитала, неизбежно будет особенной.
Следствий этой нашей взрывной, постоянно обнуляемой истории много. Наиболее важны такие: во-первых, постоянное ожидание помощи от государства, но – в случае разочарования – готовность пойти против государства. Во-вторых, это повторяемость ключевых тем для дискуссий от поколения к поколению. Книги, конечно, стоят на полках, но в живой памяти многие договоренности прошлого стерты, так что мы в который раз в нашей истории принимаемся спорить о путях развития, месте России в мире, ценностях. Культурный капитал каждое поколение начинает копить как будто с нуля.
Так и с материальным капиталом. Третье следствие – это стремление тех, кому доступна возможность накопления, делать это с полной отдачей и без всякой оглядки на окружающих и на страну. Брать, пока дают. Когда я смотрю на застроенные домиками пригороды, на большие и маленькие поместья, на виллы, купленные русскими за границей, то вижу эту программу накопления в действии. Я понимаю, что дети и внуки таких же дедов, как мой, до сих пор продолжают выполнять их завещание и остановиться не могут: еще один ремонт, еще одна машина, еще одна дача, еще выше, еще больше.
Это помогает понять огромные и вычурные дворцы. Ведь они – результат той самой завещанной программы, только давшей сбой и превратившейся в дурную бесконечность: если дед боролся за свои 5 квадратных метров, то у сына таких метров должно быть 500, а еще лучше 5 тысяч и участок в 30 гектаров с малым дворцом и фонтанами. А может быть, и все 10 тысяч метров и все 60 гектаров. Так что по-человечески можно понять и «дворец Миллера»[15], и «дворец Путина»[16], ведь они – тоже часть поколения, которому завещано жить счастливой потребительской жизнью. Они поняли послание чересчур буквально. Они как будто продолжают спасаться от бездомности, умножая количество квадратных метров.
Это не значит, что мы должны делать то же самое. Очень хочется понять, что на уме у следующих после «путинского» поколений – у третьего и наступающего ему на пятки четвертого. Мне кажется, что на уме у тех, кто родился в 1970-х и 1980-х годах, – не только движимое и недвижимое имущество. Инерция, конечно, велика, но невозможно себе представить, что пластинка так и будет бесконечно крутиться[17].
Мы говорили выше о том, что Россия – страна модернизированная, но только очень странным образом. В этой модернизированной реальности чего-то не хватает. «Старым», то есть немодернизированным, остается в основном то, что неосязаемо, – права не защищены, большинство групп населения лишено представительства на государственном уровне, само государство архаично и коррумпированно. Сама собой напрашивается идея приписать новому поколению именно эту задачу – завершение начатой большевиками модернизации. Это оптимистично сказано, но один пункт в этой программе точно должен быть: защита права собственности, точнее жизни, свободы и собственности как совокупности прав.
Если программой первых постсоветских 20 лет было продолжение стремления к советскому «светлому будущему», то есть к отдельной частной жизни, любой ценой, то должна ведь в конце концов быть воплощена и следующая программа – сохранение и приумножение построенного и накопленного. Заработали как могли – без законов и правил, а чтобы защитить собственность, законы и правила необходимы. Защитить собственность можно, конечно, за границей, что многие и делают. Но если вывод активов и вывоз детей за рубеж останется единственным способом надежного накопления, Россия навсегда останется, по сути, колонией. Она будет оставаться ресурсной базой для тех, кто в ней не живет – только на ней зарабатывает (подробнее об этом в главе 6).
Читать послание старшего советского поколения можно по-разному. Живите как? Заведите себе больше квартир, дач и машин? Постройте дом еще больше? Или лучше? Дело точно не в размерах. У младших советских – и всех последующих – поколений нет права не знать советскую историю. Это означает, что нас должно интересовать не только количество метров, но и их качество и красота. Стоит хорошо помнить и обо всем том, чего общество было искусственно лишено в силу особенностей советского периода истории, – защите права собственности и представительстве частных интересов на общественном уровне. Без общественной жизни частная оказывается слишком хрупкой. Вот уже государство у вас в городе (мешает вам проехать, потому что у него есть мигалка, а у вас нет), а вот во дворе (строит элитный гараж там, где вы раньше гуляли), а вот и в доме или квартире (проверяет регистрацию) и даже в постели (проверяет на предмет «пропаганды гомосексуализма»).
Это урок последних лет и программа на следующие годы. «Деколонизация» и создание стабильного правового режима в России не будут простой задачей и, скорее всего, приведут к конфликтам, но если исходить из того, что она нерешаема, то и строить планы на продолжение жизни, на строительство собственного дома в стране нет смысла.
Впрочем, обо всем по порядку. Начинать разговор о доме лучше с начала, то есть с забора.
Глава 2. Забор: русский титул
1. Сосед хорош, когда забор хороший
В 1914 году Роберт Фрост написал стихотворение «Починка стены». Оно посвящено тому, как он сам и его сосед идут вдоль каменной стены, разделяющей их фермы. Они делают это каждую весну, чтобы поправить выпавшие за зиму валуны. В том эпизоде, о котором идет речь, лирический герой пытается завязать с соседом разговор о смысле их действий. Зачем им эта стена?
…Ведь яблони мои не станут лазить
К нему за шишками, а он в ответ:
«Сосед хорош, когда забор хороший».
Весна меня подбила заронить
Ему в мозги понятие другое:
«Но почему забор? Быть может, там,
Где есть коровы? Здесь же нет коров.
Ведь нужно знать пред тем, как ограждаться,
Что ограждается и почему,
Кому мы причиняем неприятность.
Есть что-то, что не любит ограждений
И рушит их»…[18]
Автору не удается посеять в душе соседа сомнения. Стихотворение начинается с загадочной фразы «Есть что-то, что не любит стен», а заканчивается тем, как сосед уходит, повторяя старую пословицу: «Сосед хорош, когда забор хороший» («Good fences make good neighbours»). Эта ироничная медитация оставляет открытым вопрос о том, нужны ли вообще людям изгороди.
У «Починки стены» множество толкований. Но можно смело сказать, что стихи не предназначались для практического, тем более политического «применения». К началу 1960-х годов они уже стали американской классикой. Звучащая в них пословица постоянно цитировалась, да и весь текст был разобран на цитаты. Когда президент Джон Кеннеди был в Западном Берлине и осматривал только что возведенную восточногерманской стороной стену, он вспомнил Фроста: «Something there is that doesn’t love a wall»[19].
Стихотворение превратилось чуть ли не в символ американо-советского соперничества, сфокусированного в тот момент на проблеме разделенного Берлина. И дело было, конечно, не только в физической стене и внешней политике времен холодной войны.
Негромкое стихотворение, осторожно ставящее вопрос о добром соседстве и хороших заборах, помимо воли поэта отозвалось в области, совсем далекой от его фермы в Нью-Хэмпшире. Оно вдруг оказалось точкой, в которой столкнулись вопросы русского и западного отношения к заборам, стенам, частной собственности и политике.
В конце августа 1962 года, на излете хрущевской оттепели и за год до своей смерти, Роберт Фрост приезжал в СССР. «Починка стены» была одним из стихов, опубликованных в советской прессе к его приезду. Интересно, что Фрост позже говорил, что русские по политическим причинам убрали первую строчку о нелюбви к стене, но оставили вполне устраивавшие их слова о «хорошем заборе». «Я мог бы специально для них написать лучше, – шутил он. – Есть что-то, что не любит стен, есть что-то, что любит»[20]. С первой строчкой было все-таки недоразумение – в переводе Михаила Зенкевича, который был показан Фросту, действительно нет слова «стена», но оно заменено словом «ограждение».
Фрост встречался с советскими писателями и литературными чиновниками, с молодыми Евгением Евтушенко и Андреем Вознесенским, с Корнеем Чуковским, Константином Паустовским и даже с Анной Ахматовой. Кульминацией визита был разговор с Никитой Хрущевым, во время которого приближавшийся к 90-летию Фрост выступал, кажется, воинственнее самого Хрущева. «Бог хочет, чтобы мы соперничали. Конфликт – движущая сила прогресса», – заявил ему Фрост[21].
Хрущев сказал в ответ, что конфликт может быть только мирным, экономическим, и уверил Фроста, что у СССР и его спутников «потенция» получше, чем у американцев. Социалистические государства – молодые, здоровые, энергичные, полные сил, а Соединенные Штаты и Западная Европа отягощены тысячелетней историей и загнивающей экономической системой. Тут Хрущев привел эпизод из мемуаров Максима Горького о Льве Толстом, где Толстой говорит о себе, что он слишком стар, слаб и немощен, чтобы заниматься этим, но до сих пор испытывает желание. Фрост рассмеялся и сказал, что он ощущает то же самое, но что Соединенные Штаты еще слишком молоды, чтобы беспокоиться на этот счет. «Мы готовы к соперничеству в спорте, науке, искусстве, демократии, – сказал он. – Мы получим возможность проверить, чья демократия победит»[22].
Эпизодом, действительно показавшим высоту «стены» (или глубину пропасти) между двумя культурами, была все-таки встреча с Ахматовой. Чтобы американский гость не узнал, в каких условиях жила Анна Андреевна, встречу устроили на даче профессора Михаила Алексеева («Что скажет Фрост, увидев „будку“ Ахматовой? Эту конуру?» – говорил Иосиф Бродский, пересказывая этот эпизод). Ахматова всегда веселилась, вспоминая о том разговоре: «С одной стороны сидит Фрост, увешанный, что называется, всеми почестями, медалями и премиями, какие только возможны и мыслимы. А с другой стороны сижу я, обвешанная всеми собаками, которые только существуют. И разговор идет как ни в чем не бывало. Пока он не спрашивает меня: „А что, мадам, вы делаете с деревьями на своем участке? Я, например, из своих деревьев делаю карандаши“»[23].
Фрост задал свой вопрос, видимо желая придать разговору легкий и располагающий тон. Что может быть понятнее и интернациональнее, чем простые человеческие заботы о собственном участке земли? Анатолий Найман в своих воспоминаниях добавляет, что Фрост спросил Ахматову, какую выгоду можно получать, изготовляя из комаровских сосен карандаши. Анна Андреевна решила ответить в том же «деловом» ключе: «У нас за дерево, поваленное в дачной местности, штраф пятьсот рублей»[24].
Оценил ли Фрост иронию, неизвестно. Да и разговор шел через переводчика: было решено говорить по-русски, чтобы сопровождающие из органов все понимали. То, что Ахматова приняла во Фросте за чуждую ей «фермерскую жилку», было сознанием человека, не очень хорошо знавшего СССР и привыкшего владеть домом и землей. Пасторальные сельские радости были для нее делом таким же далеким, как для ее американского коллеги – первомайские демонстрации. Она жила в стране, где собственность воспринималась либо как принадлежность барства (в прошлом), либо как знак особых заслуг перед государством (советские дачи, на одной из которых и происходил разговор).
Фрост жил в стране, где собственность сформировала нацию и определила национальный характер. В стихотворении «Дар навсегда» («The Gift Outright») Фрост писал, что сначала пришельцы захватили земли Америки, а потом земля захватила колонистов и сделала их американцами. Запад лежал впереди «еще не рассказанный, не ставший искусством, не проявленный» («still unstoried, artless, unenhanced»). Фрост говорит здесь, что через рассказанные истории, через искусство и вложенные силы земля поселяется в своих обитателях. Он, впрочем, тем самым отказал в обладании землей коренным жителям Америки, забыв о том, что захваченные колонистами территории уже были «проявлены» в мифах и легендах американских индейцев. Теперь Фрост приехал в страну, где искоренялась сама идея частного. Он догадывался, что «есть что-то» в нас, что противится стенам и отказывается принимать строгое разграничение на «мое» и «твое». Но не мог, конечно, предполагать всей глубины лишений, которая коснулась тех, кто жил в мире, где частное попытались подчинить общему.
В разговоре с Хрущевым он говорил о том, что соревнование двух систем необходимо, что «конфликт – движущая сила прогресса». «Мы и Россия… – говорил Фрост, возвращаясь домой в сентябре 1962 года, – может пройти двести лет, прежде чем этот конфликт разрешится»[25]. Поэт, конечно, не предполагал, что через месяц после его отъезда начнется Карибский кризис, который чуть было не стал последним кризисом на Земле. Не мог знать Фрост и того, что экономическое и политическое соревнование между державами закончится раньше чем через 200 лет.
2. Постоянство забора
В основанном Петром I Санкт-Петербурге, самом «умышленном городе на всем земном шаре», не должно было быть места для заборов. Дома с самого начала строились фасадами по красной линии, то есть по границе застройки, где в русских городах ставилась обычно ограда.
Сравнивая американскую и российскую столицы, политолог и историк урбанизма Блэр Рубл замечает, что оба города были созданы, чтобы выглядеть наилучшим образом при хорошей погоде, несмотря на то что оба построены на территориях с крайне некомфортным для человека климатом. Обе умышленные столицы должны были служить доказательством того, что политики умеют строить города. Реальная жизнь между тем играла в прятки с мечтами об имперском величии. Длинные прямые линии и декоративные фасады скрывали сотни душ, видимое присутствие которых испортило бы любой званый обед[26].
Дров в самой холодной европейской столице нужно было много. Так что реальная экономика – конюшни, мастерские, сараи – пряталась позади европейских фасадов в бесконечных питерских дворах[27].
Федор Алексеевич, брат будущего императора Петра, начинал с указа о сносе рундуков и изгородей на Красной площади. Екатерина II, собравшись построить новый дворец в Москве, приказала снести саму Кремлевскую стену. Часть ее, вдоль реки, действительно была снесена, но позже восстановлена. Московские власти надеялись, что после пожара 1812 года улицы города украсятся наконец изящной архитектурой, а не заборами, но заборы, как всегда, победили.
Советские власти начали свою архитектурную политику с уничтожения Китайгородской стены и лепившихся к ней лавок, но кульминацией переустройства столицы стало ограждение главной незавершенной стройки коммунизма – стройки Дворца Советов. Таких огороженных пустот в советское время было множество. За оградами строились, и иногда достраивались, общественные здания. За высокими оградами жили руководители партии и работали заключенные. Без оград немыслима была индустрия советской страны: фабрики, заводы, склады, порты охранялись как военные объекты и от своих, и от посторонних.
Для культуролога и историка архитектуры Владимира Паперного акцент на важности границ и тайн – один из компонентов того, что он называет «культура два» (например, культура сталинского периода истории СССР). Эта культура возвеличивает государственную границу, требует закрытости, привязки к месту, строгой иерархии. Ее противоположность, «культура один» (например, культура 1920-х годов, культура авангарда и конструктивизма), наоборот, стремится быть интернациональной: «Архитектура культуры 1 ощущает себя уже сравнявшейся с заграничной, поэтому никаких границ с ее точки зрения не существует»[28].
Впрочем, заборы оказываются востребованными на всех этапах российской истории. В наше время они стали защищать не общественную, а частную территорию. Огороженный лагерь с вышками вернулся в повседневный обиход – так стали выглядеть коттеджные поселки, в которых люди живут добровольно и за большие деньги. Крепостные стены и вооруженные охранники на проходной стали значительным фактором в цене пригородной недвижимости.
Заборы пережили все политические системы и социальные катаклизмы вместе с российским обществом. Это наша константа. Ясно, что это внешнее проявление какой-то внутренней потребности. Ни одна из форм правления эту потребность не смогла удовлетворить. Даже наоборот, смена режимов скорее подпитывала человеческое стремление укрыться за забором. Есть, по-моему, как минимум три причины живучести заборов в России. Во-первых, они были и остаются памятниками до конца не реализованной мечте о приватности. Во-вторых, они служат псевдорешением проблемы собственности – ее недостаточной легитимности и слабой защищенности. В-третьих, заборы – это физическое проявление недоверия людей друг к другу.
Ограды служат этим целям повсюду, но именно у нас нужда в них продержалась дольше, чем в других обществах, и оказалась более выраженной. Политических и общественных перемен, тех самых «обнулений», о которых речь шла в главе 1 и которые на практике означают новый передел всего того, что мы считаем своим, было слишком много. А ограда – это подсознательная попытка от этих перемен защититься.
Для американского фермера забор – это прежде всего разграничение, которое позволяет избежать спора о границах собственности и тем самым сохранять добрососедские отношения («Сосед хорош, когда забор хорош»). Для нас это скорее защита. Ведь защищаться приходилось все время – и от навязываемого коллективизма, и просто от соседей. В обществе, где каждый жил в условиях страха вторжения со стороны государства и человека, забор – это символ стремления к покою и личному пространству.
Крайне неравномерное распределение частного пространства в огромной стране – это последствия форсированной индустриализации и ее оборотной стороны – урбанизации, острая фаза которой пришлась в России на 1920–1960-е годы. За эти 50 лет пирамида распределения населения между городом и деревней практически перевернулась. Было 15 % городских жителей, стало более 70 %. Десятки миллионов людей перебрались в города, которые не были к этому готовы: не хватало ни квартир, ни дорог, ни транспорта. Не были готовы и сами люди. Социальные и градостроительные последствия этой революции мы переживаем до сих пор.
Эта удивительная привилегия – собственная территория – распределялась персонально, строго иерархически. Забор был для обладателя привилегий значимым и желанным: он становился в этом случае символом статуса. Те, у кого права на личную территорию не было, присваивали его: строили домики и обносили импровизированными изгородями. В этом случае забор был вехой первопроходца. Советское и постсоветское пригородное строительство – до сих пор явление во многом не учтенное и существующее примерно на таких же правах, как бразильские фавелы и любой жилой самострой, окружающий латиноамериканские и азиатские мегаполисы. Более 30 % строений в России никак не оформлены. По подсчетам Союза садоводов России, только 20 % владельцев участков оформили на них право собственности[29].
3. Без права собственности
Это распространенное явление. В мире, особенно в развивающихся и бедных странах, неоформленной собственности вообще больше, чем оформленной. Только обычно неучтенными оказываются собственно жилые помещения, а не летние домики. По подсчетам экономиста Уинтер Кинг, 85 % городских жителей в развивающихся странах занимают свою «собственность» незаконно[30]. Большая часть этих жилищ – трущобы.
Перуанский экономист Эрнандо де Сото говорит, что надежных прав собственности нет у 70 % населения планеты. Неоформленную недвижимость он называет «мертвым» капиталом и уверяет, что, дав людям стандартный, всеми признаваемый документ (титул) о праве собственности на жилище, можно перевернуть мир. Капитал станет «живым» – его можно будет сделать залогом для получения кредитов, основой для развития предпринимательства, и тем самым можно будет поднять уровень жизни огромного количества людей. «Кредит и капитал возникают благодаря праву собственности, именно так, а не наоборот, – говорит де Сото. – Как только собственность зафиксирована на бумаге универсальной, конвертируемой, то есть принимаемой любой организацией и банком страны, значит, есть капитал, а вслед за ним и деньги»[31].
На родине де Сото, в Перу, оформление права собственности по замыслу должно было сыграть и еще одну важную роль. Успех местных радикальных движений был основан на том, что они помогали бедным защищать свои дома и угодья от посягательств других, в том числе государства. «Создав цивилизованную альтернативу, то есть правовую систему собственности, – говорит де Сото, – мы лишили экстремистов политической легитимности»[32].
Слабость права частной собственности де Сото считает провалом политики, а не экономики: систему можно создать, нужно только делать это правильно. Советы либералов по внедрению основ рыночной экономики оказываются неэффективными, говорит он, потому что нынешнее поколение западных людей принимает правовую систему собственности как нечто само собой разумеющееся. Созданием современного правового механизма занимались прапрадедушки нынешних либералов, поэтому последних бессмысленно просить о помощи. Нужно знать историю, решил де Сото и занялся изучением процессов становления права в разных странах, а затем попробовал создать современную программу, которая исправила бы провалы прежних политиков. За последние 20 лет он инициировал по всему миру множество программ распространения права собственности (titling programs).
С помощью таких программ действительно создано много новой стоимости, чем организаторы вправе гордиться. Но масштабного экономического эффекта, о котором говорил де Сото, они не дают. Нет надежных данных, подтверждающих, что обладатели свидетельств о собственности на дома увеличивают свои шансы на кредит. Напротив, есть даже данные о том, что банки с меньшей готовностью идут на выдачу кредита, понимая, что собственность труднее будет отобрать в случае дефолта заемщика[33]. Вероятно, те позитивные результаты, которые получены перуанским правительством в борьбе с терроризмом в 1990-х годах, тоже были связаны не столько с раздачей титулов, сколько с укреплением государства и активизацией силовых антитеррористических действий. Де Сото много сделал для того, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к проблеме собственности, но предложенное им лечение, судя по всему, не оказывает того действия, на которое он рассчитывал.
Конечно, наша ситуация иная – речь идет не о трущобах, а часто о вполне серьезных строениях. Это действительно потенциальный капитал. Будь он оформлен, он, возможно, сыграл бы более значимую роль в экономике, чем бедные жилища латиноамериканцев. Однако дело все-таки не только в титуле. Организаторы программ «оживления» капитала стремятся обеспечить граждан надежными бумагами о владении. Но процесс формирования права собственности, как мы увидим в дальнейшем, – сложный и комплексный. Он настолько тесно связан с историей, с политическим развитием, что запустить его с помощью бюрократического механизма за несколько лет сложно.
И если уж этим заниматься, то заниматься нужно не просто выдачей бумаг, а переустройством всего государственного механизма. Чтобы собственность стала надежной, нужна честная полиция и вся цепочка правоохранения от участкового до судов. Появление собственности у большого числа людей означает споры, а для разрешения споров нужен суд, который ни одна из сторон не может купить. Иначе право собственности не имеет смысла. Если ваш недобросовестный партнер по бизнесу может пойти к следователю и «заказать» на вас уголовное дело, это значит, что никакого права собственности в вашей стране не существует. И если представитель государства, губернатор или президент, пользуется деньгами корпораций как дополнительным бюджетом, это тоже значит, что права собственности у акционеров нет, а есть только условное держание.
Какой бы красивой ни была бумага о праве собственности, не она определяет содержание права. Там, где государство не «видит» собственности, не защищает ее по-настоящему, считает ее своей вотчиной, то есть не обеспечивает услуг правоохранения и добросовестного суда, не разделяет власть и собственность, на сцену выходят квазигосударственные или антигосударственные силы. Они продают себя гражданам в качестве защитников, арбитров и «решал», то есть берут на себя функции, которые в развитом государстве должны исполнять полиция и суды. В Латинской Америке, например, эти «услуги» предоставляют вооруженные группировки разных окрасок. В современной России – сотрудники правоохранительной сферы, только в «частном» качестве.
Неудачи с утверждением права собственности в развивающемся мире ведут, таким образом, к вытеснению государства из повседневной жизни и к формированию рынка частных услуг, замещающих государственные. Услугами этого черного рынка граждане, конечно, пользуются на свой страх и риск. «Частный» полицейский или следователь, решая проблему своего клиента и открывая за деньги сфабрикованное уголовное дело, может уничтожить того, кто платил ему раньше.
Государство теоретически должно быть сильно заинтересовано в распространении права. Ведь это возвращает ему его роль защитника и арбитра. Это делает государство сильнее. Но заинтересовано в укреплении права только современное государство, такое, в котором автономные институты преобладают над «ручным управлением»[34]. Там, где «ручное управление» создает слишком большие выгоды конкретным чиновникам, они сами препятствуют развитию института собственности.
Создание надежных институтов охраны прав, распространение права собственности и сопровождающий его рост рынка – это как минимум растущие налоги, которые можно было бы собирать, пополняя казну. Как максимум это еще и база для осознанного отношения граждан к политике государства. Если люди платят налоги сами, по-настоящему «отрывая» от себя деньги, они иначе относятся к их расходованию государством.
Введение налога на недвижимость обсуждается в России много лет. Его преимущества с точки зрения перераспределения средств в обществе очевидны. Он будет «наказывать» владельцев инвестиционных квартир, то есть система будет меньше, чем сейчас, субсидировать образ жизни рантье. Имущество (земля и недвижимость), дивиденды и прирост капитала облагаются в России очень щадящим образом, а специальных налогов на наследство и предметы роскоши вообще нет[35].
Тем не менее власти не торопятся менять сложившееся в современной России положение (кстати, Эрнандо де Сото в период его наибольшей известности приезжал в Москву и рассказывал о своей теории и программе в Администрации президента России, но продолжения эта история не имела). Бо́льшая часть налогов у нас по-прежнему платится безлично. Работодатель просто списывает с нас деньги в пользу государства, так что мы не видим процесса и не чувствуем, что осознанно платим за предоставление услуг.
Но проблема еще более фундаментальна. Формирование института защищенной законом частной собственности ведет к появлению в стране автономных деятелей, а значит, и к ограничению влияния государства. Так недалеко и до введения в стране режима верховенства права, который ставит между государством и человеком арбитра, не зависящего ни от первого, ни от второго. Историки и политологи говорят нам, что изменения такого рода не происходят бесконфликтно: зачем правящей элите добровольно отказываться от власти? «Сделка» по переходу от авторитарной системы к демократической слишком затратна, затруднена массой ограничений и эффектом колеи.
Между тем Россия – страна, где правовые тектонические сдвиги, впрочем не распространявшиеся на все население, происходили не раз. И дарование прав собственности дворянству при Екатерине, и отмена крепостного права при Александре II, и земельная реформа Петра Столыпина при Николае II были добровольными действиями власти, направленными на частичное ограничение собственных полномочий. В каждом из этих случаев режим собственности менялся радикально и вел к глубоким и долгосрочным последствиям, вполне революционным по масштабу.
Не исключено, что на каком-то новом историческом этапе и современное российское государство обнаружит, что не может двигаться дальше, не ограничивая себя. И тектонический правовой сдвиг, иначе говоря, революция сверху, произойдет снова. Конечно, сейчас это трудно себе представить, ведь в нашем случае это будет означать ситуацию, в которой элита добровольно поделится с обществом своей властью-собственностью. Более того, власть и собственность в результате перечисленных действий неизбежно будут разделены на два компонента. Это будут две отдельные сущности. И мы получим «капитализированное поколение» вместо «недокапитализированного», о котором мы говорили в главе 1. Новые обладатели собственности неизбежно будут платить больше налогов, но они станут и спрашивать больше с тех, кто тратит налоги. И у них будут работающие институты защиты своих прав.
Люди, представляющие российское государство сегодня, наверное, понимают и величие этой задачи, и последствия ее решения. Последствием будет то, что они перестанут быть властью в нынешнем русском смысле этого слова. И к ним у нового общества сразу же возникнут вопросы. В конце концов это неизбежно. Правительства и элиты могут меняться, а вопрос отсутствующего права собственности так и будет стоять над страной, пока не решится[36].
4. Русский титул
Забор в России, таким образом, – это символическая замена сразу нескольким институтам. В советское время каждому приходилось ждать и просить, доказывать, что он человек, у которого есть хоть что-то свое. Тоска по приватности, необходимой для утверждения чувства собственного достоинства, вырвалась наружу сразу после смены политического режима в 1991–1992 годах и не утолена до сих пор. Бетонные, кирпичные, металлические и решетчатые ограды высотой с трехэтажный дом выглядят как компенсация уязвимости и стремление дать миру знать, что все это – «мое».
Характерная особенность российских заборов, объектов вроде бы стационарных, в том, что они всегда находятся в движении. Заборы сгорали в пожарах, сносились властями, но скоро вырастали снова. Подвижность границ собственности граждане и власти всегда умели использовать к своей выгоде. Земли просто огораживались и становились чьими-то. Заборы в русских городах часто приходили в движение незадолго до строительства дорог или прокладки железнодорожных путей. Каждый дачник и сейчас знает, что ничего страшного не случится, если забор незаметно передвинуть поближе к дороге.
Многие столетия изгороди, межи и вехи были подвижными даже в Западной Европе. Европейские землевладельцы начиная с XV–XVI веков и вплоть до начала XIX века создавали свои состояния, огораживая, то есть попросту захватывая, общинные земли. Крестьян сгоняли с земель, чтобы пасти овец и продавать шерсть. Огораживание всегда было способом захвата земель – чужих или ничьих. Но рано или поздно изгороди прекращали двигаться по праву силы. В действие вступало защищенное законом право собственности.
Один из признаков развития общества – умение договариваться об общепризнанных правах, которые становятся важнее физического забора. А в отсутствие права забор остается самоценностью. Поэтому, сколько бетона ни возьми, в какую броню ни одень, в отсутствие права как верховного принципа это все равно будет непрочный забор.
И охрана не поможет, несмотря на то что по численности охранников Россия – одна из первых в мире. На 70 миллионов экономически активного населения у нас более 600 тысяч охранников – частных и ведомственных, не считая милицию (и это прогресс: в 2003 году численность охранников достигала миллиона)[37]. А, например, в Китае в охране служат около 2 миллионов людей, при десятикратной разнице в населении.
Есть и привычная нам проблема дверей, бо́льшая часть которых обычно закрыта. Советские архитекторы, проектируя общественные здания – министерства, театры, магазины и стадионы, всегда были щедры на двери. В идеальном мире, для которого они создавали огромные дома, люди должны были входить и выходить из дверей толпами. Они должны были литься широким потоком по гигантским лестницам. Дверей могло быть и пять, и десять, они могли быть огромными, деревянными с резьбой или металлическими с решетками.
Но в реальном мире по каким-то причинам всегда нужно было оставлять открытой только одну створку, утром и вечером, зимой и летом. Некоторые двери не открывались вообще никогда. Люди должны были проходить цепочкой, по одному, может быть для того, чтобы привратник всегда мог видеть, кто входит и выходит. Может быть, ему полагалось считать входящих и выходящих.
Для чего-то охранники сидят при каждом входе куда бы то ни было и целыми днями смотрят телевизор. При этом открытой обычно остается только одна дверная створка. Если это клуб или дискотека и входящие должны платить, то закрытые двери нужны, наверное, чтобы легче было контролировать поток. Остальные входы, несмотря на наличие охраны, обычно закрывают. Охранникам, естественно, гораздо удобнее сидеть всем вместе, около одной из дверей.
Двери остаются закрытыми, несмотря на то что давно нет никакой нужды ходить цепочкой. С проверкой пропусков неплохо справляется компьютерная программа. Милицию можно вызвать нажатием кнопки. Но компании готовы платить охране и пожарным: слишком важную задачу они решают. Это крепкая традиция: вход не должен оставаться без человеческого присмотра. Кто-то должен проследить, как мы протискиваемся через единственную открытую створку. Кто-то должен посмотреть на нас с подозрением при входе и потом мрачно проводить на выходе. Без этого подозрительного оглядывания и вход не вход. Маленький рубеж, государственная граница в миниатюре.
Недоверие – еще одна причина живучести заборов и иррациональных охранных традиций. В среднем в мире на вопрос, доверяете ли вы окружающим, «нет» отвечают 56 %. В России не доверяют соотечественникам 77 % опрошенных. В скандинавских странах доли недоверяющих обычно не превышают 30 %, в среднем по Европе показатели колеблются в районе 40 %[38].
Страх, что твой сосед может оказаться проходимцем, несет не только психологические, но и вполне материальные последствия. Это доказал американский ученый Роберт Патнэм, одним из первых занявшийся глубоким изучением такой неуловимой субстанции, как доверие. Сравнивая нормы поведения и уровни гражданской активности, готовности к взаимопомощи и взаимодействию в разных регионах Италии, он показал, что они отличаются от региона к региону. Причем сегодняшний уровень доверия в сообществе может иметь глубокие исторические корни и зависеть от того, была ли область в прошлом под папской юрисдикцией или входила в одно из независимых княжеств. «Доверие само по себе в равной степени может быть и свойством социальной системы, и чертой характера»[39].
В масштабах страны низкий уровень доверия тормозит развитие экономики. Исследования показывают, что в странах с высоким уровнем доверия государство меньше вмешивается в работу предприятий и повседневную жизнь граждан и это положительно сказывается на росте экономики. Когда в обществе сильны горизонтальные связи и высока склонность к сотрудничеству, люди способны самостоятельно, без вмешательства извне, разрешать конфликты. А когда люди боятся друг друга, они склонны требовать вмешательства начальства, милиции, охраны, «железной руки», вождя.
Вообще рост доверия – это часть перехода общества от «ценностей выживания» к «ценностям самовыражения». Обеспечив себя, ощутив «жизненную защищенность», человек стремится уже не просто зарабатывать («ценности выживания»), а зарабатывать так, чтобы это было интересно, то есть преобладающими становятся «ценности самовыражения». Уход от модели выживания приводит к изменению социальных и политических установок. Например, больше людей начинают высказываться в пользу частной, а не государственной собственности на предприятия; чаще говорят, что образование и работа равно важны и для мужчины и для женщины. Есть связь и между ценностями и политическим устройством: среди стран, где распространены «ценности самовыражения», нет ни одной диктатуры[40].
Пока такого перехода не произошло, общество, состоящее из множества испуганных людей, несет все новые и новые издержки для защиты от воровства, посягательств конкурентов и государства. Это тормозит рост экономики и ведет к снижению ее эффективности. Средства, идущие на охрану и защиту, отнимаются у развития, но и покоя толком не дают. Взаимное недоверие граждан формирует спрос на «сильную руку», а жесткий стиль управления еще больше подпитывает страхи и недоверие друг к другу[41]. И это при том, что никаких иллюзий по поводу человеческих качеств чиновников и правоохранителей у граждан нет. Чиновники, если верить опросам общественного мнения, преследуют лишь собственные корыстные интересы. Но недоверие к ближнему, похоже, сильнее недоверия к государству. В конце концов каждый сам в ответе за себя и свое имущество – до конца.
Возможно, поэтому так прочна традиция ставить решетки и заборчики вокруг могил на русских кладбищах. Это попытка застолбить территорию за собой и близкими, если не в этой жизни, так на том свете. Физическая изгородь и здесь стремится решить какую-то важную экзистенциальную задачу – внушить живущим уверенность в том, что у покойника есть теперь своя бесспорная собственность. Изгороди на кладбищах часто заметнее памятников, так что они и воспринимаются как памятники.
Конечно, изгородь не может быть настоящей гарантией собственности, не может ни защитить от нападения, ни спрятать от враждебного мира. Власть и деньги сильнее любого забора. Но, несмотря на доводы разума, ограда высоко ценится в России. Все-таки это некоторое обозначение права, его признанный символ – оберег из досок, кирпичей или бетона.
У архитектора Александра Бродского есть такая работа – участок земли, на котором стоит кровать, окруженная забором. Это очень красивая и точная постановка темы. Это и метафора неутоленной тоски по приватности, и заявление о частной собственности. И, возможно, напоминание о притче Льва Толстого о том, «сколько человеку земли нужно».
Все это позволяет нам обобщить смысл российского забора, который, как мы теперь понимаем, выполняет не только утилитарную, но и символическую функцию, стоя, по сути, на страже российского социального порядка. Ну а помимо этой главной задачи забор решает еще с десяток других, ведь он является границей между человеком и государством, границей между частной жизнью и общественной, заменой документу о праве собственности, инструментом ее захвата, инструментом ее защиты, символом статуса, оберегом, малой архитектурной формой, произведением искусства, памятником.
Глава 3. За забором: приватизация утопии
1. Частные дворцы
В детстве я знал, что за забором – если он красивый, кованый, с гипсовыми шарами на столбах – обычно находится дворец. Это мог быть музей каких-то людей с несуществующими именами – Шереметевых, Юсуповых. За заборами попроще были другие дворцы – пионеров, культуры или спорта. Было понятно, что эти дворцы – общие. Они никому не принадлежали, в крайнем случае они были «имени Ленина». В них завораживали башенки, эркеры, мансарды, любые выступающие части домов. В них хотелось жить, потому что такие детали помогают тебе быть другим, они не в ряду со всеми прочими.
«Как всякий ребенок, выросший в Советском Союзе и не знавший ничего, кроме стандартной квартиры, я мечтал о дворце. Хотя мне еще очень повезло: квартира была немаленькая, а у отца имелась служебная дача. Но я всегда мечтал о чем-то сказочном. Такая мечта принца на белом коне – иметь еще и замок, где коня можно привязать и в покои пройти. Во-вторых, была необходимость загородного дома. В-третьих, скучно строить обычный дом. Мне нравится средневековая готика. Строил пять с лишним лет. Мысли о том, чтобы всех поразить, были, но не на первом месте. Главное – порадовать себя»[42].
Рассказывая о своем подмосковном жилище, телеведущий Максим Галкин напоминает нам о том, что завет дедов и отцов остается в силе. Их послание – «мы заплатили, вы живите» – услышано, а благодаря огромной и благодарной аудитории популярного артиста еще и усилено. Не все говорят о заветном вслух, но для Галкина публичность – профессия, и он уже не один год рассказывает о своем доме в газетах и по телевидению. Образы обладают огромной силой. Так что теперь людей, мечтающих о большом и сказочном доме, наверняка больше, чем раньше.
А вот история другого дворца. В декабре 2010 года предприниматель Сергей Колесников опубликовал в интернете открытое письмо тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву, где заявил, что на черноморском побережье под Геленджиком строится «огромный, в стиле итальянского палаццо, дворец с казино, зимним театром, летним амфитеатром, часовней, плавательными бассейнами, спорткомплексом, вертолетными площадками, ландшафтными парками, чайными домиками». Колесников объяснил, что бьет тревогу, поскольку дворец предназначается премьер-министру Владимиру Путину, строится с участием госструктур и на деньги, пожертвованные на другие цели, и стоит миллиард долларов[43].
Принадлежность этого «центра досуга» Путину была официально опровергнута. Но позже, в феврале 2011 года, «Новая газета» опубликовала документы, указывающие на связь между этим дворцом и Управлением делами президента[44]. Дворец все-таки оказался немного государственным. В начале марта его купил бизнесмен, ранее не имевший к объекту никакого отношения, – за сумму значительно меньшую, чем указывалась Колесниковым[45].
О дворцах много написано, тема уж очень притягательная. В интернете множество фотографий, так что каждый может почитать, посмотреть и сравнить. «Дворец Путина», построенный по итальянскому проекту, конечно, больше и величественнее дворца Галкина. Но дворец Галкина – без кавычек. Его владелец известен и может позволить себе открыто говорить о своем детище, потому что он высокооплачиваемый артист, гордящийся своим вкусом. Созданное им произведение «средневековой готики» может вызывать разные чувства, но здесь нет конфликта между общественным и частным.
Не то с «дворцом Путина». Премьер-министр, может быть, тоже в детстве мечтал о дворце, и ему, как и Галкину, наверняка тоже скучно было строить обыкновенный дом. Но он не может похвастаться своим достижением. Истинного владельца итальянского палаццо в Прасковеевке приходится скрывать[46].
Публичность – всегда помеха, когда между общим и частным есть конфликт. Но публичность не всегда можно контролировать: страсть к королевским масштабам выдает хозяина. К тому же общественный интерес к необычным частным домам за последнее время вырос. И удовлетворить этот интерес проще, чем думают владельцы тайной недвижимости. Через забор можно заглянуть с помощью Google Earth, можно оказаться рядом и сфотографировать – камеры есть почти в каждом телефоне, а социальные сети позволяют быстро распространять видеоистории.
Так что о тайных дворцах мы со временем будем знать все. Возможно, гражданское любопытство и социальные медиа помогут нам сделать то, что всегда дается так трудно, – избавиться от установок и институтов прошлого. В данном случае речь идет о пережившем свою эпоху советском институте номенклатуры и номенклатурном потреблении. Номенклатура – закрытый для общества перечень самых важных и хлебных постов в партии власти, государственной системе и экономике – оказалась крепкой традицией, дожившей до наших дней.
В советское время номенклатурная позиция открывала своему обладателю доступ к благам, недоступным большинству, в том числе домам, дачам, санаториям и резиденциям. Сегодняшняя безденежная экономика потребления для номенклатуры, называемой теперь «элитой», – прямой наследник советской. Финансируется она во многом за счет принудительных сборов с крупного бизнеса, бывшего когда-то государственным. Есть там, конечно, и обычные государственные деньги, но по сути это альтернативный, «элитный» бюджет, возможности которого недоступны большинству. Существенно и то, что – как и в советское время – «резиденции и подобные им объекты… относятся к режимным объектам, а сведения о них – государственная тайна»[47]. Поэтому журналистам так трудно узнать, сколько все это на самом деле стоит, а связанным с чиновниками бизнесменам так легко обогащаться на этой ниве. Два с лишним десятка резиденций президента и главы правительства – это то немногое, что осталось от настоящей советской роскоши.
Остальные замки и дворцы – попытки частных людей за собственные деньги имитировать номенклатурное качество жизни. Известный пример – «дворец Миллера», построенный крупным подрядчиком «Газпрома» для высшего руководства российской газовой монополии. Как только благодаря социальным сетям и прессе эта история стала публичной, «Газпром» открестился от проекта и барочный дворец на территории в несколько футбольных полей стал просто большой дачей, принадлежащей лицу, не имеющему к «Газпрому» никакого отношения[48].
Рационально объяснить расходы в десятки миллионов долларов на такие проекты – особенно учитывая масштабы воровства при строительстве – крайне сложно. Это иррациональное поведение, которое экономист и социолог Торстейн Веблен 100 лет назад предложил называть демонстративным, или статусным, потреблением. Американские богачи, о которых писал Веблен, откровенно стремились эпатировать публику возможностями своих кошельков. В нашем случае статусное потребление имеет выраженный номенклатурный оттенок: расходы вызывающе велики, но хозяева стремятся их скрыть или занизить. И музеями эти дворцы вряд ли станут.
По-моему, это означает, что за первые 20 постсоветских лет общественная утопия Советского Союза прекратилась в частную. Точнее, распалась на множество частных утопий. И начался этот процесс не с распадом СССР, а гораздо раньше. Мы родом из страны, где дворцы могли быть или общественными, как метро, или номенклатурными, скрытыми от глаз. Армия, флот, вооружение, космические программы, тяжелая промышленность, здравоохранение, образование, наука, детские спортивные школы, дворцы пионеров, общественный транспорт, публичные пространства, центральные площади – все это общественные блага, и они были экономической специализацией советской страны. Поддерживалось все это на среднем и плохом уровне, но поддерживалось.
В 2000-х годах, когда официально речь шла о восстановлении величия государства, в действительности происходил переход производства общественных благ – формально и неформально – в частные руки. Люди в погонах, по конституции имеющие право применять насилие в интересах общества, стали торговать этим правом в собственных интересах. Строительство дорог, железных дорог и другой инфраструктуры, то есть сфера общего блага, стало сферой, где приближенными к властям людьми делаются гигантские частные состояния. То же касается и здравоохранения – особенно поставок медицинского оборудования и лекарств. Дворцы когда-то были только частными. При советской власти они стали общественными, а теперь снова становятся частными.
Само слово дворец вполне осознанно использовалось в советское время только в тех случаях, когда речь шла о чем-то общедоступном. Это были музеи – бывшие дворцы, отнятые народной властью у владельцев и открытые для всех. Это были дворцы пионеров и дворцы спорта, дворцы культуры – общественные учреждения. Можно только порадоваться, что дворцы пионеров, в частности модернистский московский Дворец пионеров на Воробьевых горах, удалось спасти от приватизации. Но многие общественные места все-таки стали частными и перестали быть доступными. Символично, что иногда это одни и те же здания – они были отняты большевиками у владельцев, национализированы, а в постсоветское время снова стали частными. Такова, например, судьба московского Юсуповского дворца.
Похоже, впрочем, что мы прошли полный круг и дворцы могут со временем открыться для публики. Частная утопия начинает исчерпывать себя. Политический кризис 2014 года на Украине привел к бегству президента Виктора Януковича из страны и к открытию его частной резиденции для публичного обозрения. Российские лидеры и олигархи пока еще не начали передавать дворцы народу, но заявления о намерениях подарить нажитое обществу и государству уже звучат[49].
2. Приватизация утопии
Большевистское государство с первых лет своего существования и до сталинского «перелома» рубежа 1920–1930-х годов обращалось к массам, стремилось создавать коллективы, поощрять коллективный образ жизни. Идеальный быт должен был быть коллективным, работа – совместной, эмоции – общими. На семью смотрели как на устаревший институт. Новые люди не должны были отдельно друг от друга готовить еду и есть, стирать и общаться с детьми, поэтому властями в 1920-х годах поддерживалось строительство общежитий, столовых, фабрик-кухонь и прачечных. В домах-коммунах семейных кухонь не предусматривалось. Их не было даже во многих квартирах Дома на набережной – жилого дома для советской партийно-государственной элиты, построенного Борисом Иофаном в 1928–1931 годах.
У архитектора-конструктивиста Константина Мельникова был проект «Сонной сонаты», жилища с коллективной музыкальной спальней на 600 человек. Коллективным было, кстати, и спальное пространство в доме, построенном Мельниковым для себя и своей семьи: шесть отсеков с кроватями. Впрочем, это ведь был частный городской дом – редкость в Советском Союзе.
Конечно, для большинства быт был коллективным не потому, что так полагалось по проекту, а потому, что жилья катастрофически не хватало. Новым заводам и фабрикам, строившимся по всей стране, нужны были рабочие, а жизнь в беднеющей, коллективизированной деревне становилась все более отчаянной. Городское население увеличивалось невиданными темпами. Городские советы начали перемещать людей с места на место, деля и уравнивая жилую площадь, занимаемую гражданами разных сословий. Квартиры, брошенные обеспеченными горожанами, заселялись новыми жильцами, квартиры, где, по мнению власти, проживало слишком мало людей, уплотнялись. Чтобы разрушить старую иерархию сословий, новая власть переселяла рабочих с окраин в «богатые» дома и квартиры в центре. В Москве в результате такой миграции число рабочих в пределах Садового кольца выросло с 1917 по 1920 год с 5 до 40–50 %. Всего в столице до 1924 года в национализированные дома было вселено более 500 тысяч рабочих и членов их семей[50].
Новая власть потребовала, чтобы старые горожане потеснились. Поначалу даже предлагались определенные нормы. Аристократ Ленин мыслил комнатами, поэтому предлагал расселять новых жителей в реквизированные квартиры по такой формуле: К = N-1, где К – количество комнат, а N – число жильцов. Людей в квартире, таким образом, должно было быть на одного больше, чем комнат. Так, по его мнению, они не должны были почувствовать себя «богачами»[51].
Даже в сегодняшней России не каждая семья сможет похвастаться, что вышла на уровень частной жизни, предуказанный ленинской формулой. А вплоть до начала массового строительства при Никите Хрущеве речь шла, конечно, не о комнатах, а о квадратных метрах, которых становилось почему-то все меньше.
Люди снимали не комнату, а «угол», то есть часть комнаты, жили в коридорах, на кухнях. Домом для семьи могла стать кочегарка, сторожка, подвал и пространство под лестницей. Важнейшей и самой распространенной темой обращений граждан к власти были жилищные проблемы. Историк Шейла Фицпатрик приводит письмо, в котором дети одной московской семьи из шести человек просят не вселять их в каморку под лестницей, без окон, общей площадью 6 квадратных метров[52]. Бенедикт Сарнов вспоминает, как он попробовал обменять одну комнату в коммунальной квартире на другую, более подходившую его семье, и уже почти договорился с хозяевами, но выяснилось, что в новой квартире есть недостаток: в ванной живет семья прокурора[53]. О жизни в ванной есть знаменитый рассказ Михаила Зощенко – «Кризис».
Частная жизнь стала возвращаться в начале 1930-х, но всегда как привилегия – для особых людей, за особые заслуги. Новые городские дома строились по индивидуальным проектам и, по определению, не могли решить проблемы массового дефицита жилой площади.
Сталину важно было утвердить свою персональную власть и размежеваться с предыдущей эпохой. Он хотел продемонстрировать, что государство вступило в пору стабильности. Формирующаяся тоталитарная система власти противопоставляла движению – неподвижность, равномерному – иерархическое, горизонтали – вертикаль, коллективному – индивидуальное. В кинематографе государство теперь начинает предпочитать массе индивидуальные характеры. Стандартное и форменное больше не интересны системе – теперь она любит индивидуальное и в одежде, и в жилье[54].
Человек мог теперь даже получить отдельную квартиру и дачу. Но только если это был особенный человек. Распределение благ становилось более персонифицированным и – по необходимости – строго иерархическим и очень неравномерным, поскольку ни еды, ни одежды, ни тем более квартир в бедной стране заведомо не могло хватить на всех.
Возвращались отмененные пролетарской культурой титулы и почести, в армии вновь появились звания и погоны, вернулась форма в школах и в некоторых госорганизациях. В сфере культуры появились почетные звания – заслуженный и народный артист. Место в иерархии определяло доступ к благам, к более или менее достойному существованию.
Полноценная частная жизнь, таким образом, становилась достоянием избранных. Отдельная квартира, дом, личное пространство, личный транспорт появились, но в виде роскоши.
Неудивительно, что у большинства тоска по собственному жилью, приватности, необходимой для утверждения чувства собственного достоинства, копилась многие годы и вырвалась наружу сразу после распада Советского Союза в 1991 году. Полностью страсть к частной жизни не утолена до сих пор. Может быть, именно этот процесс создания личного мира, идущий на индивидуальном уровне, а не на общественно-политическом, и стоит называть «вставанием с колен».
Советский опыт глубоко дискредитировал всякий энтузиазм, связанный с коллективизмом, причем не только в России. Такой энтузиазм существовал, возможно, вплоть до середины ХХ века. Коллективное ведение хозяйства, планирование всего производства и потребления из единого центра, коммунальный быт, общественные дворцы, сады и музеи, поддержка больных и совместное воспитание детей в особых лагерях – все это было частью создававшегося веками мифа об Утопии. Классической особенностью многих идеальных государств было и выделение лидеров в особую касту – касту лучших людей, талантливых и преданных родине. Нужно ли говорить, что коммунистическая партия, задуманная именно как такая каста лидеров, не оправдала надежд и подорвала веру в саму возможность бескорыстного служения родине.
Ну и, конечно, собственность. Ее в утопии не должно было быть. Томас Мор, придумавший само это слово и написавший самую известную книгу о воображаемом идеальном государстве, собственность отменил. Деньги на острове Утопия не использовались, к драгоценным камням и золоту граждане относились с презрением – бриллианты служили игрушками для детей, а из золота делали цепи для рабов и ночные горшки[55].
Ясные образы обладают иногда поразительной силой. Через 400 лет глава первого социалистического государства, Ленин, конечно, хорошо знавший книгу Мора, писал, что, победив в мировом масштабе, коммунисты сделают из золота «общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира»[56]. Эти слова, видимо, многим запали в душу. Лам Сайвин, торговец золотом из Гонконга, выросший в коммунистическом Китае, не раз говорил журналистам, что вдохновлялся этой фразой, когда решил установить в своем демонстрационном зале золотой унитаз[57].
Позолоченный унитаз стал мифом постсоветского пространства. Есть фирмы, которые их производят и продают, есть статьи о них в популярной прессе. Золотой унитаз, как известно, искали украинцы в бывшей резиденции президента, открытой для публики после его бегства.
Многие века человек, ужаснувшись общественной несправедливостью, мысленно бежал в коллективную утопию. Но общее разочарование в социалистической идее качнуло маятник в противоположную сторону. Постсоветская Россия и была царством частной утопии. Это было похоже на бегство, на стремление спрятаться и не видеть того, что происходит снаружи.
Я сам вырос в социалистической стране и меньше, чем кто-либо, склонен идеализировать миф об идеальной общественной жизни. Я ее никогда не видел, я о ней только слышал. Я читал о такой жизни у Платона, Курта Воннегута и писателей-фантастов. Но книги об идеальных странах не должны быть только детскими книгами. Утопии существуют, так же как существуют север и юг. Большинство из нас никогда не окажется на Северном или Южном полюсе. Мы никогда не будем жить в идеальном процветающем и справедливом государстве, но без стрелки, указывающей в направлении идеала, нам трудно будет ориентироваться в мире, писал историк городов и утопий Льюис Мамфорд в своей книге «История утопий».
Конечно, утопии дискредитировали себя в ХХ веке. Большинство утопий – это в действительности закрытые общества, главная задача которых – предотвратить человеческое развитие. «Подобно Прокрусту, авторы утопий либо растягивали человека до выбранных ими произвольно размеров ложа, либо отсекали лишнее»[58]. Но помимо этой жестокости у утопистов есть что-то, что притягивает к их мысли. Они смотрели на общество как на целое.
Они, по крайней мере в воображении, отдали должное взаимодействию человека, его деятельности и его места жительства, взаимосвязи функций, социальных институтов и человеческих устремлений… Тот, кто мыслит утопически, видит жизнь как взаимосвязанное целое: не как случайную смесь, но как органическое и поддающееся организации единство составных частей, баланс между которыми необходимо поддерживать – как в любом живом организме – ради стремления к росту и преодолению[59].
Утопическое мышление не должно было умереть вместе с СССР. Умение мыслить о стране как о целом – достойная и древняя наука. Да и настоящая частная жизнь не может существовать в вакууме, вне экономики и архитектуры, вне прав и законов, защищая которые приходится иногда выходить на площадь. Можно сказать, что бо́льшую часть ХХ века мы провели в борьбе за себя, свое личное пространство, собственный дом, квартиру или дачу. Борьба эта не мелкая и не «буржазная», а вполне достойная. Возможно, поздно и с бо́льшими затратами, чем другие, но российское общество прошло свой путь от коллективизма к обособлению, от общего к частному. И теперь оказалось на пороге нового этапа поиска общих ценностей.
Этим путем, каждый по-своему, идут все, причем – по историческим меркам – не так уж и давно. Образцы аристократической и буржуазной частной жизни, на которые мы по традиции ориентируемся, – это завоевания относительно поздние. Городскому частному дому как типу жилища очень немного лет: возможно, чуть больше трехсот, а возможно, и меньше.
3. Рождение частной жизни
В нашем случае частная жизнь выросла, как мы видим, из утопии, из идеи о наилучшей жизни. Возможно, поэтому мы отдаемся ей настолько самозабвенно. Это такая же новая религия, какой была в свое время идея социализма. Но в Европе приватная сфера развивалась совсем иначе. В европейской культуре путь к обособленной частной жизни был долгим, трудным и органическим – связанным с Промышленной революцией, ростом торговли, появлением среднего класса и, как следствие, появлением пространства частной жизни – частного дома, предназначенного для одной семьи.
В европейском Средневековье дом был местом публичным. Разделения на комнаты не существовало. В общем жилом помещении, расположенном обычно над лавкой или мастерской, готовили еду, ели, принимали гостей, вели деловые разговоры, работали, здесь же спали. Скамьи, сундуки, столы, состоящие из досок на козлах, разборные кровати были необходимой обстановкой даже в обеспеченных семьях. Все это двигалось, собиралось и разбиралось в зависимости от времени суток и нужд. Все это при необходимости грузилось на подводы и отправлялось в другой дом. Домов у обеспеченных семей могло быть несколько, а предметы обстановки ценились очень высоко и потому переезжали вместе с хозяевами – отсюда и слово «мебель».
Интерьеры реконструированных историками средневековых домов выглядят так, как будто их оформляли дизайнеры-минималисты. Типичный европейский дом, которого не касалась рука архитектора ренессансной школы, состоял из одного или двух больших пустых пространств с несколькими лавками и столами. В действительности дом не был пустым – он был заполнен людьми. Помимо членов семьи, здесь постоянно находились ученики, подмастерья, слуги, клиенты, друзья и партнеры – в доме могло жить 25–30 человек. Ничего похожего на уединение обитатели дома не знали.
Люди сидели, стояли, лежали на полу, на скамьях, сундуках и кроватях, которые могли быть огромными – на несколько человек. Дети могли спать в одной постели с родителями, на соседней кровати или на выдвижной постели под родительской кроватью. Спальные места для слуг иногда устраивались на полу в ногах у хозяев. «Дизайнерские» кровати были роскошью, которой гордились, как мы сегодня можем гордиться модным автомобилем: ее часто держали на первом этаже – так, чтобы гости или прохожие, заглянув через окно, могли оценить уровень достатка хозяев. Во времена Шекспира кровать с балдахином могла обойтись в половину годового дохода школьного учителя[60].
Владельцы постоялых дворов сдавали незнакомым друг с другом людям места не просто в одном номере, а в одной постели. Были даже знаменитые «общественные» кровати – об одной из таких Шекспир говорит в «Двенадцатой ночи»: «Один трактирщик в городе Уэре, в целях привлечения любопытных, поставил в своей гостинице гигантскую кровать, в которой одновременно могли поместиться двадцать четыре человека»[61].
Европейские горожане прошли через неудобства, скученность и антисанитарию. Комфорта и уюта в нашем сегодняшнем понимании – с маленькими отдельными комнатами, мягкими диванами, отоплением, удобными кухнями, туалетами и ванными – просто не существовало. Уют еще предстояло изобрести. «Нашим средневековым предкам просто не свойственно было представление о комфорте как объективной идее»[62].
По-настоящему существенным для человека, жившего до Нового времени, были не переживания по поводу неудобств, которые и не осознавались как неудобства, а его место в строго организованном мире: сословная принадлежность, титул, место при дворе, положение внутри сословия, гильдии, мастерской и даже место за обеденным столом. Большинство, за исключением монахов-отшельников и королей, не знало, что такое собственное пространство. У комнат не было определенного назначения, пространства не отделялись одно от другого, вся жизнь проходила на виду у окружающих.
Нашим дедам и прадедам это напомнило бы бараки или коммунальные квартиры, нам сегодняшним – казарму или пионерский лагерь. Мы можем так говорить, потому что знаем, что такое уединение и домашний уют. Архитектор и писатель Витольд Рыбчинский уверен, что сама идея уютного дома в том виде, в каком ее знаем мы, формировалась в течение долгого времени. Средневековый образ жизни надолго пережил само Средневековье. Чтобы частный дом стал возможен, потребовалось совпадение нескольких случайностей и закономерностей. И эти случайности и закономерности совпали в Голландии начала XVII века[63].
4. Дом голландского плотника
Успехи голландцев того времени вызывали у соседей те же тревожные опасения, что Япония в 1980-х годах или Китай в наше время: недоуменные вопросы и попытки понять, как это им удается. Голландское общество несколько десятилетий вело борьбу с испанской монархией и католической церковью и к моменту окончательного освобождения осознало себя самостоятельным, городским и торговым.
В отличие от Англии здесь не было безземельного крестьянства. В отличие от Франции здесь не было всемогущей аристократии. Общественный «пейзаж», как и пейзаж самой страны, был ровным – почти плоским. Голландский историк и философ Йохан Хейзинга писал, что лишенный красот и возвышенностей ландшафт, к которому с детства привыкал каждый голландец, воспитывал соответствующий характер. Природных чудес здесь не было, зато вся страна была пронизана чудесами рукотворными – сама в какой-то степени будучи рукотворной, частично состоящей из участков, отвоеванных у моря. Экономическое развитие Нидерландов зависело от успехов среднего класса – фермеров-землевладельцев, купцов и ремесленников. В важнейших нидерландских провинциях население уже к XVII веку стало преимущественно городским. В то время, когда в остальных странах Европы сельское население и плоды его труда еще определяли успехи страны, Нидерланды быстро превращались в государство, для которого условием роста и развития стало собственное производство и торговля.
Голландцы, как правило, не брали в дома постояльцев – они могли позволить себе владеть собственным домом, пусть и небольшим. Слуг в семьях не было или было мало – не дюжина, как в богатых домах Франции и Англии, а один или два. Это было связано и с особенностями протестантской культуры, и с политикой государства: в Нидерландах существовал налог на наем слуг. В результате большинство домов в Голландии было домами для одной пары с детьми. То, что дети жили дома, тоже было новостью. Традиционно, на протяжении сотен лет, ремесленники и торговцы отдавали детей в обучение другим мастерам, так что те становились частью другой семьи. Все эти перемены были малозаметными, но в историческом масштабе – революционными. На смену средневековому «большому дому», наполненному слугами, рабочими и гостями, пришел «малый дом».
Сами условия строительства требовали малого масштаба. Издержки, необходимые для прокладки каналов, заставляли ограничивать протяженность фасадов – дома были узкими и вплотную примыкали один к другому. Возводя здания на свайных фундаментах на отвоеванной у моря земле, строители должны были думать об облегчении конструкции. Основной вес прижатых друг к другу домов несли на себе боковые стены, и поэтому фасады, ради экономии на фундаменте, делались максимально легкими – отсюда большие окна, что было существенно до появления газового и тем более электрического освещения. Внутреннее пространство голландских домов в дневное время было залито светом – и это было новостью.
Необходимость облегчать конструкцию была вызвана и тем, что дома строили из кирпича и дерева, а не из камня. На кирпичном фасаде не устроишь резные или лепные украшения – отсюда внешняя строгость и однообразие. Из кирпича строили и общественные здания, не стараясь слишком их выделять. Ритм повторяющихся фасадов, выстроенных вдоль каналов, украшенных только большими окнами, стал голландским культурным открытием. Датский историк Стен Расмуссен писал, что если французы и итальянцы умели создавать удивительные дворцы, то голландцам удавались целые города[64].
Мы и сегодня можем заглянуть в частный семейный дом эпохи его рождения – благодаря художникам. Экономический взлет Нидерландов XVII века был и взлетом голландской живописи. Художники в Нидерландах одними из первых пережили рыночную революцию – тысячу лет их главным заказчиком была церковь, но после Реформации в протестантской части Европы на алтари и изображения святых больше не было спроса. Продать картину можно было только обеспеченному горожанину. Искусство впервые стало предметом торга, и это привело к специализации – к одному художнику клиенты и дилеры шли за морскими пейзажами, к другому – за скабрезными сценками, к третьему – за интерьерами.
Новизна интерьерных сценок в работах Питера де Хоха или Яна Вермеера была именно в центральности частной жизни. В картине могло быть зашифровано нравоучение или пословица, как это бывало и в более ранней голландской живописи, но быт частного дома стал теперь не просто иллюстративным материалом, а собственно сюжетом.
В этой главе мы напомнили самим себе, как складывалось наше частное «я» – через отказ от имперского прошлого, через мечту о социальной утопии, через разочарование в ней и уход в экстремальный индивидуализм, который, в свою очередь, тоже принес обществу немало разочарований.
Многое указывает на то, что самые базовые представления об общем и частном, включая и сам институт частной собственности, не рассматриваются российским обществом как вопросы раз и навсегда решенные и продолжают оставаться предметом обсуждения.
Глава 4. Собственность: мой дом – моя крепость
1. Миф о Спарте
Важная история для понимания вопроса о собственности – противостояние двух городов античной древности – Афин и Спарты (Лакедемона). Афиняне и спартанцы были частью одной культуры, решали одни и те же проблемы, но делали это по-разному. Спарта – символ стабильного монолитного общества, подчиненного единой цели, отгороженного от пагубных влияний остального мира, отказавшегося от богатства, роскоши и искусства. Афины – символ свободы, беспорядка, искусства, политических крайностей и нестабильности. Оба образа – литературные стереотипы, очень приблизительно отражающие историческую реальность.
Но нам важны эти мифы, особенно миф о Спарте. Ведь именно то, как древние писатели рассказывали об идеальном государстве Лакедемоне, сильно повлияло на теоретиков и практиков политического искусства всех времен. Их представления о Спарте были лишь отчасти основаны на исторических фактах, но рассказ, тем не менее, выходил очень складный, и благодаря ему Спарта на протяжении тысячелетий получала «хорошую прессу» со стороны консервативных мыслителей от Платона и Ксенофонта до идеологов нацистского режима в Германии. «Плохую прессу» Спарта получала от людей свободолюбивых и демократически настроенных, но уже во времена, когда люди научились разделять факты и мнения.
Ключевой реформой, которая, как считали сами греки, помогла когда-то в древности возрождению обоих полисов, был передел земельной собственности. Мифический законодатель Ликург в Спарте и вполне исторический законодатель Солон в Афинах решали задачу вывода своих полисов из глубокого кризиса. Решения оказались противоположными.
Ликург всю землю поделил на равные участки, которые должны были передаваться от отца старшему сыну, но не могли ни продаваться, ни дробиться. Землю, которая оставалась в общественной собственности, обрабатывали прикрепленные к наделу государственные рабы, илоты. Ремеслами и другим производством занимались не имевшие политических прав, но не обращенные в рабство жители деревень, периэки. Дохода с наделов должно было хватать на поддержание у граждан «сил и здоровья», так чтобы глава каждого семейства мог целиком посвятить себя спорту, войне и политике. Ни один из граждан не должен был превосходить другого в уровне жизни. Вот так в изображении Плутарха оценил плоды своей реформы Ликург: «Вся Лакония кажется мне собственностью многих братьев, которые только что ее поделили»[65].
В Афинах Солон разрешил царивший в стране долговой кризис амнистией всех долгов. Людей, оказавшихся в долговом рабстве, освободили, и впредь было запрещено давать в долг «под залог тела». Не обошлось без игры на инсайдерской информации. История сохранила рассказ о том, что три друга Солона, с которыми он советовался по поводу реформы, накануне амнистии взяли в долг большие суммы. Когда об этом стало известно, весь успех реформы был поставлен под сомнение, поскольку доверие к законодателю было подорвано. Доверие удалось восстановить только после того, как выяснилось, что Солон сам дал в долг крупную сумму денег и потерял ее[66].
Солон также провел девальвацию валюты, унифицировал систему мер и весов, начал поощрять разведение сельскохозяйственных культур, которые считались более перспективными. Передела собственности проведено не было. Наоборот, был введен имущественный ценз для занятия политических должностей. Было подтверждено право гражданина продавать, дарить и завещать землю по его желанию. Солон, иными словами, не пытался уничтожить неравенство. Он лишь укрепил право частной собственности, которое отрицали в Спарте. Он также внушил гражданам уважение к ремеслам, которые презирали в Спарте. Разницу в подходах Плутарх суммирует вот так: «Спарта была окружена массой илотов, которых лучше было не оставлять в праздности, а угнетать и смирять постоянной работой. Поэтому Ликургу было легко избавить граждан от трудовых ремесленных занятий и держать их постоянно под оружием, чтобы они изучали только это искусство и упражнялись в нем. Между тем Солон приноравливал законы к окружающим обстоятельствам, а не обстоятельства к законам и, видя, что страна по своим естественным свойствам едва-едва удовлетворяет потребностям земледельческого населения, а ничего не делающую праздную толпу не в состоянии кормить, внушил уважение к ремеслам и вменил в обязанность Ареопагу наблюдать, на какие средства живет каждый гражданин, и наказывать праздных»[67].
Спарта подошла к решению проблемы неравенства и внутреннего разлада радикальнее, чем большинство других древнегреческих полисов. Неравенство древние считали главной причиной смуты, и многие хотели его сгладить, но никто не решался на полное уравнение в собственности. Спарта была «общиной равных» (заметим, что уравнение в собственности воспринималось и как уравнение в богатстве, что было ошибкой, но об этом позже).
Вот что восхищало в общественном строе Спарты ее поклонников: всеобъемлющая система воспитания граждан, требовавшая здоровья тела и духа; военная дисциплина; отказ от ростовщичества; суровая простота образа жизни и беспрекословное подчинение закону. К этому набору добавлялась и высокая оценка спартанского строя в целом – он совмещал в себе преимущества монархии, аристократии и демократии[68].
Теперь от мифа к жизни: теоретическое «благозаконие» Спарты, то есть всеобщее уважение к закону, покоилось на жестокой реальной политике. Община равных составляла очень небольшую долю спартанского населения: лишь 5 % жителей Лакедемона были полноправными гражданами. Это меньшинство находилось буквально в состоянии войны с большинством. В начале каждого года власти страны объявляли войну илотам. Это делалось для того, чтобы граждане могли при необходимости убивать рабов, не оскверняя себя убийством, то есть, по сути, убийство в Спарте было узаконено. Более того, юные граждане должны были пройти своеобразный обряд посвящения, который включал ночные рейды с убийствами илотов.
«Большинство лакедемонских мероприятий искони было, в сущности, рассчитано на то, чтобы держать илотов в узде», – пишет Фукидид[69]. Подчинение всей жизни страны борьбе с внутренними и внешними врагами было частью спартанской идеологии. Спартанцы (в отличие от афинян) считали себя захватчиками своей страны, а периэков и илотов – военным трофеем. Если из других полисов граждане периодически уезжали для создания колоний в других землях, то граждане Спарты были убежденными колонизаторами своей собственной земли. Поэтому все они должны были быть профессиональными военными, а их полис – военным лагерем с казарменным бытом и общими трапезами. Дети должны были отбираться у родителей еще при рождении, воспитываться вне семей, в нужде и постоянных тренировках. Только так, верили лакедемоняне, можно было поддерживать страну в состоянии идеальной военной машины.
Кто выиграл в историческом соревновании? Спартанцы были непобедимой военной силой. Они положили конец господству Афин в греческой ойкумене. Но после победы в Пелопоннесской войне счет успехам Спарты пошел на убыль. Из-за военных потерь число граждан там сокращалось, так что армия потеряла боеспособность. Представления о строгом соблюдении законов в Спарте были большим преувеличением – даже поклонники спартанского строя говорили о том, что реальность спартанской жизни не соответствовала идеалу общины равных.
Спарта подарила миру миф об идеальном государстве, построенном на выведении идеального нового человека, на единении, на отказе от собственности в материальном и духовном смысле, на отказе от искусства[70]. Спартанский подход к организации жизни был целостным, тотальным и утопическим (вспомним: они приноравливали обстоятельства к законам). Спартанскую практику селекции сильных и здоровых людей еще Платон сравнивал с разведением породистых животных. В XIX–XX веках эти идеи вернулись в теориях евгеники, «науки» об улучшении наследственных свойств человека, и в преступлениях нацистов.
Что подарили миру Афины? Науку, поэзию, драму, архитектуру, декоративное искусство, демократическую культуру, которая у многих вызывала раздражение, и, конечно, философию, в том числе антидемократическую. Афинский подход к жизни был разным в разное время и в целом скорее реалистичным, не предполагавшим тотального переустройства общества с отменой собственности и перекраиванием всех традиций: афиняне приноравливали законы к обстоятельствам.
2. Domus предков
Семейная жизнь в отдельном доме – довольно позднее завоевание, как мы убедились в предыдущей главе. Но даже просто обособленность жилища, его экономическая автономность и безопасность – тоже достижения поздние, и они суть достижения скорее общества, чем личности.
Наше отношение к дому построено не только на инстинкте самосохранения и жадности, во многом – через культуру, книги и законы – оно продиктовано нам теми, кто уже успел подумать об этих вещах раньше. Древние греки и римляне, если взять их за ориентир и точку отсчета, дали нам разные составляющие идеи дома. Для греков дом был прежде всего экономической единицей. С домом (от греческого oikos произошло слово «экономика») для них были связаны представления о хозяйственности и порядке. А вот представления о доме как крепости, убежище, святыне и защищенной законом собственности – скорее римские.
В отличие от греков, которые для служения богам выходили из дома и отправлялись на площади, римляне служили богам и дома. Римский domus представлял собой освященный частный мир. Здесь хранились домашние святыни. Здесь были изображения предков. Предков не просто почитали, но слушались: основой римского права были «обычаи предков» (mos maiorum). Храмы были жилищами богов, но и дома римлян были храмами – жилищами множества домашних божеств.
Вот как об этом говорил Цицерон: «Есть ли что-нибудь более святое, более огражденное всяческими религиозными запретами, чем дом любого гражданина? Здесь находятся алтари, очаги, боги-пенаты, здесь совершаются религиозные обряды, священнодействия, моления; убежище это настолько свято для всех, что вырвать из него кого-либо запрещено божественным законом»[71].
Блаженный Августин, глядя на языческий мир с христианской высоты и иронизируя над необращенными, писал, что боги у римлян присматривают за каждой мелочью, вплоть до дверных петель. «Каждый к своему дому приставляет только одного привратника, и так как он человек, его вполне достаточно; но они поставили трех богов: Форкула к дверям, Кардею к петлям, Лиментина к порогу»[72].
Пенаты – боги-хранители домашнего очага, покровители человека и его труда. Считалось, что пенаты есть у каждого государства, города, деревни, семьи. Их деревянные изображения, стоявшие на очаге, были символом пребывания именно этой семьи на этом месте, связывали место и человека. Вспомним, что «Энеида» Вергилия – не только путешествие героя, но и перенесение пенатов из захваченной врагом Трои на новое место. Тема пенатов проходит через всю поэму, и в конце концов домом и родиной для Энея становится Лаций с центром в будущем городе Риме.
К ларам римляне относились как к духам – защитникам собственности. Овидий сравнивает их с псами: «Почему вместе здесь Лары и пес? Вместе хранят они дом и оба хозяину верны: За перепутьем следит Лар, и собака следит. Оба сгоняют воров»[73]. Стоит помнить и о том, что изначально главное божество римского пантеона – Янус – был богом входов и выходов. Под его покровительством находились все ворота, проходы и двери.
Историки и антропологи считают, что вера древних римлян в домашние божества, их особое отношение к входам как границам освященной домашней территории помогли формированию законодательства о собственности. Доступ к очагу и жилищу во всех культурах регулировался обычаями предков, но именно у римлян обычаи переросли в писаное законодательство.
За вторжение силой, за попытку ворваться в дом, за сломанную дверь римлянин имел право подать на обидчика в суд. Оскорблением, за которое тоже можно было подавать в суд, считались и менее радикальные действия – например, швыряние камней на соседский участок или его задымление. Римские законы – Законы XII таблиц – относились к ночному вторжению жестче, чем к дневному. Ночью хозяин мог в целях самообороны убить взломщика и был бы оправдан судом. Днем можно было применять оружие, только если вооружен был и злоумышленник. Вторжение в жилище в дневное время и в отсутствие хозяина каралось менее жестко. Все эти нормы были по-разному осмыслены юристами разных стран и последующих эпох, но все они так или иначе вошли в современные законодательные системы, как правило учитывающие право на самооборону.
Даже процедура вызова обвиняемого или свидетеля в суд регламентировалась определенными оговорками. Сообщение о необходимости явиться в суд должно было быть передано в вежливой форме. Силой выводить человека из дома и тащить в суд запрещалось. Вот как это формулировалось римским юристом Гаем, жившим во II веке н. э.: «Никого нельзя силой выводить из его дома в суд, ибо дом – самое надежное убежище и кров для каждого»[74].
Отметим, что римляне хорошо понимали грань между властью и собственностью, между imperium и dominium. Точное значение понятия «собственность» – то, что она должна быть получена по закону, должна быть абсолютной и постоянной, – это уже формулировки последующих эпох, но в его основе лежит различение власти и собственности. Ведь собственность – это то, на что власть не может претендовать, а если может, то только при особых условиях.
Входные двери дома для римлянина – священный рубеж: в дом не полагалось входить без приглашения. Ни властям, ни друзьям, ни врагам. В дни, когда римский патриций принимал своих клиентов, двери в атрий (первый внутренний двор дома) держались открытыми, что служило молчаливым приглашением войти. Те, кто не был допущен привратником, оставались у входа. Человек, считавший себя несправедливо обиженным, мог одеться в траур, прийти к дому обидчика, каким бы могущественным тот ни был, и стоять у входа – в буквальном смысле молчаливым укором. Если хозяин покидал дом, жалобщик мог следовать за ним безмолвно, а мог выкрикивать претензии или оскорбления. Хозяин, пытавшийся отогнать преследователя, мог еще больше повредить своей репутации, поскольку нарушал древний обычай.
Представители «потерпевшего» могли шуметь и выкрикивать оскорбления в адрес обидчика прямо под стенами его дома. Часто это делалось ночью, что считалось особенно эффективным. «[Веррес] вышел из дому ‹…›. Все встретили его такими криками, что он мигом вспомнил об опасности ‹…›. Верреса попрекали его поведением на берегу, его отвратительными пирушками; толпа по именам называла его наложниц»[75].
События могли принимать и более серьезный оборот, если толпа начинала забрасывать дом камнями или поджигать дверь. В этом случае конструкция римского дома оказывалась как нельзя кстати: на улицу domus выходил сплошными стенами без окон, ведь вся жизнь проходила во внутренних дворах. Поскольку дверь была самой уязвимой частью, на нее и обрушивался гнев недовольных.
Дом в известном смысле был «паспортом», а в некоторых случаях даже «заместителем» своего хозяина. В случае изгнания политика его дом мог быть разрушен – так случилось с самим Цицероном. Речь «О своем доме», откуда взяты цитированные выше слова о святости очага, как раз посвящена эпизоду из жизни оратора, когда он был изгнан из Рима, а его дом по наущению, как уверяет Цицерон, его главного врага Клодия был разорен и разрушен плебеями.
Историки считают, что Цицерон не был таким невинным, каким стремился изобразить себя в этой речи. Для нас, впрочем, важно то, что сама жестокость, с которой представители одной партии могли относиться к жилищам своих противников, говорит об особом отношении к дому. Разрушение было крайней мерой, означавшей уничтожение самой принадлежности изгнанника к сообществу, самой памяти о человеке, который совершил преступление. Таким же образом и возвращение из изгнания означало возвращение прав и восстановление дома. Об этом и напоминает Цицерон: «Ведь в этом и состоит возвращение, понтифики, в этом и заключается восстановление в правах: в возврате дома, земельного участка, алтарей, очагов, богов-пенатов. Хотя Публий Клодий разорил своими преступнейшими руками их кров и обитель и, пользуясь консулами как вожаками (словно он завоевал Рим), признал нужным разрушить один этот дом, точно это был дом сильнейшего защитника Рима, все же эти боги-пенаты и мои домашние лары, при вашем посредстве, вернутся в мой дом вместе со мной»[76].
Дом в самом прямом смысле служил римлянину крепостью. История знает множество случаев, когда обвиняемые и должники скрывались от правосудия в собственных домах, в домах патронов, в доме императора или вообще в любом жилище. Представление о доме как о главном убежище было существенно еще и потому, что, несмотря на целую систему обычаев и законов, Рим не был правовым государством в современном смысле. Положение в обществе определялось местом в сословной иерархии и связями, которые были формализованы в виде отношений между патронами (покровителями) и зависимыми от них гражданами – клиентами. Попав в опалу, поссорившись с влиятельным человеком, римлянин мог рассчитывать только на традиционную неприкосновенность своего жилища.
Именно положение римского права о доме как убежище дало начало знаменитому сравнению дома с крепостью. Оно представляется нам связанным с Англией, возможно, потому, что в Новое время первым эти слова произнес английский юрист XVII века Эдвард Кук, конечно хорошо знакомый с римскими источниками: «Дом каждого человека – его замок и крепость, как для защиты против нападения, так и для покоя… и причина тому то, что дом – самое надежное убежище и кров для каждого» (эта последняя фраза у Кука приведена по-латыни – как цитата из упомянутого выше римлянина Гая)[77]. Требовать английский юрист мог на самом деле немногого. До римских стандартов неприкосновенности жилища европейцам было еще далеко. Кук призывал лишь к тому, чтобы шерифы и другие исполнители воли короля стучались и просили разрешения войти, прежде чем врываться в дом.
Во время гражданских войн и революций в Англии свобода от произвольных обысков и арестов была одним из ключевых требований сторонников парламента. А судья Кук был как раз парламентаристом, противником абсолютной монархии. Слова о «замке и крепости» крепко запомнились современникам и стали кочевать из речи в речь. Одним из самых знаменитых утверждений о доме-крепости стали слова политика Уильяма Питта-старшего, жившего во второй половине XVIII века: «Беднейший из бедных в своей лачуге может воспротивиться всем силам короны. Дом может быть хрупким, он может дрожать, продуваясь ветром насквозь, буря может в него проникнуть, дождь может проникнуть, но король Англии проникнуть не может». Слова красивые, но опять-таки в момент своего произнесения скорее выдававшие желаемое за действительное, чем отображавшие реальность. Конечно, слуги короля могли ворваться в дом, но мечта о том, чтобы максимально ограничить их полномочия при обысках и вызовах в суд, была прочной и в конце концов привела к появлению современных правовых норм[78].
Несмотря на то что реальность сильно отставала от стремлений юристов и политиков, слова о доме-крепости вошли в обиход. Те, кто подхватил их, конечно, не помнили ничего ни о судебном процессе, в ходе которого эти слова были сказаны, ни о том, что они были связаны с римской традицией. Слова «мой дом – моя крепость» звучали по-человечески верно, возвращая древнее (а по сути создавая новое) отношение к дому как к священному родовому убежищу. Английское государство в то время еще не готово было обеспечить настоящую защиту частной собственности, но английское общее право, благодаря независимым от короля судьям и парламенту, уже вобрало в себя ключевые принципы защиты дома от непрошеных гостей.
3. Мое и наше
Важно принципиально разделить две вещи – собственность и богатство. Богатство – это накопление ценности, не привязанное к месту и отечеству. Это создание стоимости, которая неизбежно должна быть мобильной, особенно в наше время. Она может принимать форму участков земли, кораблей, самолетов, домов, банков, денег, металлов, камней и картин. Собственность, наоборот, – это не столько выраженная в каких-либо единицах стоимость, сколько принадлежность месту. Не важно, большой или маленький у меня дом, – это признак моей причастности к отечеству и основание для участия в жизни города и государства.
Философ Ханна Арендт пишет об этом так: «Собственность была первоначально привязана к одному определенному месту в мире и как таковая не только „недвижима“, но даже тождественна с семьей, занимавшей это место. Поэтому еще и в Средневековье изгнание могло повлечь за собой уничтожение, а не просто конфискацию имущества. Не иметь никакой собственности значило не иметь родового места в мире, которое называлось бы своим собственным, то есть быть кем-то, кто миром и организованным в нем политическим организмом не предусмотрен»[79]. Собственность, понятая так, была основанием прав свободного гражданина и никак не была связана с идеей богатства. Бедность не лишала гражданина его прав, а богатство не давало прав гражданина тем, у кого их не было, – в древних государствах это были чужестранцы и рабы. Понимание того, что собственность и богатство не одно и то же, очень пригодится нам в дальнейшем.
Даже один из первых противников собственности, греческий философ Платон, собственности-гражданства не оспаривал. Она была для него реальностью. Он думал о том, каким должно быть государство. Ученик и оппонент Платона Аристотель стремился понять, каково государство в действительности. «Утопист» Платон и «аналитик» Аристотель с самого начала задали два направления в отношении к собственности. Первый считал ее неизбежным злом, второй – формой отношения к вещи, лучше других согласной с человеческой природой. Платону важна целостность, единство идеального общества, а владение собственностью для него – помеха этой целостности. Аристотель, наоборот, уверен, что именно ради единства общества имущество нужно не объединять, а четко разграничивать.
В идеальном государстве Платона заботы о собственности не должны отвлекать высшую касту от занятий философией и управления страной, состоящей из лучших людей. Аристотелю важно, что наличие границ между «моим» и «твоим» необходимо, потому что это согласно с человеческой природой. Он размышлял о стране, состоящей из обычных людей, таких, как они есть.
Платон в конце концов «разрешил» собственность в своем позднем диалоге «Законы». Но и здесь, описывая государство «второе, по сравнению с наилучшим», он настаивает на том, что «первым» все равно остается государство без собственности: «Наилучшим является первое государство, его устройство и законы. Здесь все государство тщательнейшим образом соблюдает древнее изречение, гласящее, что у друзей взаправду все общее. Существует ли в наше время где-либо и будет ли когда, чтобы общими были жены, дети, все имущество и чтобы вся собственность, именуемая частной, всеми средствами была повсюду устранена из жизни? Чтобы измышлялись по мере возможности средства так или иначе сделать общим то, что от природы является частным, – глаза, уши, руки, – так, чтобы казалось, будто все сообща видят, слышат и действуют, все восхваляют или порицают одно и то же? По одним и тем же причинам все будут радоваться или огорчаться, а законы по мере сил сплотят в единое целое государство, выше которого в смысле добродетели, правильности и блага никто никогда не сможет установить. Если такое государство устрояют где-нибудь боги или сыновья богов и обитают в нем больше чем по одному, то это – обитель радостной жизни»[80].
Нет, не нужно делать общими ни радости, ни глаза и уши, ни жен, ни имущество, отвечает Аристотель. Так никакого единства не добьешься! Совсем наоборот. Государство – это множество, состоящее из отдельных личностей. Если у личности не будет ничего своего, она растворится в целом и утратит свою индивидуальную сущность, а без частностей нет целого[81]. Это плохо и в экономическом отношении. Аристотель понимал, что такое стимулы: «Люди заботятся всего более о том, что принадлежит лично им; менее заботятся они о том, что является общим… Помимо всего прочего люди проявляют небрежность в расчете на заботу со стороны другого, как это бывает с домашней прислугой: большое число слуг иной раз служит хуже, чем если бы слуг было меньше»[82]. Учитывал Аристотель и то, что таланты и возможности у людей разные: «Так как равенства в работе и в получаемых от нее результатах провести нельзя – наоборот, отношения здесь неравные, – то неизбежно вызывают нарекания те, кто много пожинает или много получает, хотя и мало трудится, у тех, кто меньше получает, а работает больше»[83].
Убедительно? Эти аргументы – через две тысячи лет их можно было бы назвать «утилитаристскими» – звучали еще не раз. Но почему-то каждой культуре и каждому веку были нужны свои аргументы и свои, новые ответы на старые вопросы. Что-то мешало смириться с тем, что делить вещи на «мои» и «твои» – это наилучший способ договориться о правилах общежития. Как будто в разделении есть что-то вынужденное и недоброе. Не давало покоя представление о том «первом», изначальном, лучшем мире, с которого когда-то начиналось человечество.
Веры в то, что от природы люди равны, придерживались философы-стоики, и от них эта вера была унаследована римлянами. Мысль об изначальном равенстве неизбежно вела к мысли о том, что мир в его нынешнем состоянии искажен, поскольку неравенство – рабство и разница в доходах между свободными людьми – слишком очевидно. Образованным римлянам привычно было представление о том, что в изначальном блаженном мире собственности не было: «Даже значком отмечать иль межой размежевывать нивы не полагалось»[84].
«Было ли поколенье людей счастливее этого? Они сообща владели природою, а той, как матери, довольно было сил всех опекать, позволяя всем безопасно пользоваться общими богатствами», – пишет Сенека[85]. Римляне не склонны были сами выдумывать идеальные страны, но они приняли идею естественного, наилучшего состояния человечества, по сравнению с которым все последующие стадии его развития были изменениями в худшую сторону. Появление собственности – реакция на одно из таких изменений: «…алчность разрушила всякую общность и стала причиной бедности даже для тех, кого обогатила. Ведь они, пожелав иметь собственность, перестали владеть всем»[86].
Все, что отдаляет человека от природы, заведомо плохо, но нужно быть реалистами, считали римляне. Может быть, в идеале все имущество и должно быть общим, но здесь и сейчас отношения между людьми нужно оформлять по закону, чтобы навести хоть какой-то порядок в этом испорченном мире. Юридически точные формулировки представления о владении как о праве делать с вещью что угодно – «пользоваться и распоряжаться» – пришли гораздо позже. Но правовой подход к дискуссии, освоенный скорее римлянами, чем греками, стал – и остается – одной из основ западной мысли.
4. Жизнь, свобода и владение
Один из способов думать об устройстве общества и правах людей, из которых общество состоит, – предположить существование некоего «общественного договора». Представить себе, что когда-то в прошлом люди договорились между собой о ключевых принципах общежития. Споры о том, каким мог быть такой договор, велись в Англии как раз во времена глубокой институциональной трансформации XVII века.
Первым пунктом расхождения во мнениях было доисторическое, «естественное» состояние человечества: было ли оно райским или ужасным. Для Томаса Гоббса это первобытное состояние было чудовищным, оно было войной всех против всех – такова сама природа человека: «Мы находим в природе человека три основные причины войны: во-первых, соперничество; во-вторых, недоверие; в-третьих, жажду славы». В этой ежедневной войне человека сопровождают вечный страх и постоянная опасность насильственной смерти. Жизнь его «одинока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременна»[87]. Выход один, уверен Гоббс: все люди одновременно должны отказаться от права делать что угодно и передать право управлять собой одному избранному лицу. Так рождается Левиафан, искусственное существо, государство, «единое лицо, ответственным за действия которого сделало себя путем взаимного договора между собой огромное множество людей, с тем чтобы это лицо могло использовать силу и средства всех их так, как сочтет необходимым для их мира и общей защиты».
Гоббс писал в середине XVII столетия, когда повседневной реальностью был гражданский конфликт между монархией и парламентом. К концу века парламент получил контроль над налоговым режимом и казной. Это было началом качественного изменения всех правил игры. До Славной революции внешняя торговля была достоянием узкой группы игроков, а внутри страны предпринимательство не развивалось, поскольку ни у каких инноваций не было шанса воплотиться. Король не давал на них патента, а монополист мог уничтожить слишком умного конкурента в два счета. Экономическая деятельность по сути представляла собой воспроизводство, а не рост и не развитие. Суд был коррумпированным.
Но отмена права короля даровать монополии – сначала внутри страны, а потом и во внешней торговле – сразу открыла доступ новым деятелям к прежде закрытым для них сферам производства и коммерции. К середине следующего столетия взрывной рост торговли с Новым Светом, а также внедрение новых технологий – станков, паровых машин, фабричного производства – на фоне быстрого расширения дорожной сети и глобализации предпринимательства позволили Англии стать экономической сверхдержавой. Росту помогло и то, что в этих условиях английский суд стал независимым. Ведь теперь он был нужен и короне, и представленным в парламенте новым собственникам и торговцам. Независимые институты, заметим, вообще лучше развиваются там, где ни одна общественная сила не доминирует.
Право собственности так или иначе было в самом центре всех этих конфликтов. Оно формировалось и осмыслялось уже не на вычитанных у древних писателей, а на новых, собственных основаниях. С конца XV и на протяжении XVI–XVII веков в Англии совершалась «земельная революция» – постепенное разрушение феодальных отношений и переход земель от короны, монастырей и узкого круга высшей аристократии в руки множества частных собственников. Стремление землевладельцев заработать на шерстяной лихорадке, их готовность силой сгонять с земель крестьянские семейства, чьи права на пользование землей не были защищены, неспособность короны противостоять палате общин, отстаивавшей интересы землевладельцев, разрыв Генриха VIII с Римско-католической церковью, последовавшая конфискация монастырской собственности и ее перепродажа – все это привело к появлению новой реальности. Земля стала товаром, а землевладельцев стало множество.
В 1450 году около 60 % всей сельскохозяйственной земли Англии принадлежало короне, церкви и приблизительно 30 герцогам, графам и баронам. К 1700 году дворянство, церковь и корона вместе взятые владели менее чем 30 % обрабатываемой земли. Из населения Англии, достигавшего к концу XVII века 5 миллионов человек, около 2 миллионов имели земельную собственность[88].
Суть революции состояла в том, что, не отчитываясь больше перед Создателем, королем или графом, теперь частный человек мог получать прибыль от земли. Он мог работать или не работать на ней, мог держать ее за собой или продать. Все прежние основы земельных отношений – взаимные обязательства феодала и держателя земли, прежние обычаи и представления о справедливости – ушли в прошлое. Разложение общинных ценностей вызывало тревогу современников. Один из основателей пуританизма Томас Бекон писал в середине XVI века, что даже монастыри, когда-то считавшиеся гнездами церковного лицемерия, выглядели прилично на фоне новых спекулянтов земельными участками: «Они отвращаются от имен Монахов, Братьев, Священников и Сестер, но с жадностью захватывают их блага. И там, где монастыри оказывали гостеприимство, сдавали свои фермы по разумной цене, поддерживали школы, воспитывали молодежь в доброй грамоте, они [новые собственники] не делают ничего подобного»[89].
На этом фоне, в условиях уже появившегося нового отношения к земле как к товару, в условиях передела собственности и конфликта между землевладельцами и короной был написан трактат Гоббса. В его понимании право управлять собой люди передавали Левиафану без особых оговорок, об ограничениях «мандата» правителя не договаривались. Но скоро пришло время задуматься именно об этом.
Новая версия идеи общественного договора принадлежала Джону Локку. Локк считал, что когда-то в изначальном, естественном мире люди были равны, жили в согласии и не делили имущество на свое и чужое. Но со временем выяснилось, что у равноправия есть оборотная сторона, – каждый может пользоваться всем, чем захочет. У человека было все, а пользоваться этим «всем» ему было небезопасно – другой претендент на ту же вещь мог оказаться сильнее. И поэтому было решено, что лучше ограничить это всеобщее равенство границами – изгородями и правилами.
«Это [небезопасность] побуждает его с готовностью отказаться от такого состояния, которое хотя и является свободным, но полно страхов и непрерывных опасений; и не без причины он разыскивает и готов присоединиться к обществу тех, кто уже объединился или собирается объединиться ради взаимного сохранения своих жизней, свобод и владений, что я называю общим именем „собственность“. Поэтому-то великой и главной целью объединения людей в государства и передачи ими себя под власть правительства является сохранение их собственности»[90].
Итак, собственность для Локка – не только материальное владение, а «жизнь, свобода и владение». Это отсылка к идее человека-суверена, человека, который уже владеет самим собой и плодами своего труда до того, как государство что-либо человеку подарит. И это институт в том значении, в каком его стали понимать уже в ХХ веке (и которому я следую в этом тексте): «Институты – правила игры в обществе, точнее установленные людьми ограничения, которые определяют взаимодействие между ними»[91].
Собственность, понятая таким образом, индивидуальная суверенность или имение в широком смысле, предшествует суверенности государства и превалирует над ней. Государство нужно, чтобы эту суверенность защищать, а если оно не справляется с этой задачей, то у граждан есть право изменить свое государство. Именно так и объяснили свои действия восставшие против государства французы в Декларации прав человека и гражданина в 1789 году: «Цель всякого политического союза – обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека. Таковые – свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению». Локковское тройственное понимание собственности как «жизни, свободы и владения» вошло в Конституцию США, в пятой поправке к которой говорится: «Никто не может быть лишен жизни, свободы или собственности без надлежащей правовой процедуры».
Это на удивление неочевидные идеи. Потребовалось немало времени, чтобы их сформулировать. С тех пор как они были осознаны и уложены в слова, с ними многие согласились, и множество стран, в том числе Россия, внесли их в свои конституции. Но далеко не все культуры прошли все те стадии развития, которые позволили правовому отношению к «жизни, свободе и владению» сформироваться естественным, выстраданным путем. Возможно, поэтому воплотить записанные в конституциях самых разных стран идеалы Просвещения до сегодняшнего дня удается единицам. Мы в России до сих пор вынуждены задаваться этими вопросами, прекрасно понимая, что спор о них ведется уже тысячи лет.
Прошло немало времени, прежде чем старые традиции и новые запросы общества позволили сформулировать обязательные для всех правила. К концу XVIII века для философов Просвещения и создателей новых государств общим стало представление, что по-настоящему защищенное жилище защищено не просто стенами, а правом. Нормы о праве на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов стали стандартными для большинства законодательных систем мира.
Понимание значения домашнего порога как рубежа существовало давно, можно даже сказать, всегда – с тех пор, как люди перешли к оседлой жизни и научились своими руками возводить крышу над головой. Но сейчас мы ждем от дома большего – не одних только крепких стен. Мы хотим, чтобы от врагов и злоумышленников нас защищали не стены и засовы, а законы и те, кто следит за их исполнением.
Иначе мы, как в Средневековье, должны были бы жить вокруг крепостей и замков, чтобы всегда иметь возможность спрятаться. Мы должны были бы быть вооружены, чтобы при необходимости занять оборону. Нам не следовало бы доверять незнакомым людям, питаться приходилось бы с собственного огорода, а дорога даже до ближайшей деревни была бы опасным предприятием. Чтобы жить свободнее, чем в прошлом, мы платим налоги и на эти деньги нанимаем людей, которые защищают нашу безопасность, дают нам возможность торговать и путешествовать, следят за исполнением правил и честно разрешают конфликты. Это позволяет нам не тратить драгоценные силы и время на защиту дома и не ограничивать свое существование собственным огородом. Мы можем вести более свободную и благополучную жизнь, чем в те времена, когда дом еще не был крепостью.
5. Христианство и утопия
Для всей последующей истории собственности, впрочем, важны не только законы, но и вера, и убеждения. Если когда-то жизнь в согласии с природой или с божеством означала общую собственность, значит, к этому состоянию и нужно стремиться. То, о чем ученый стоик Сенека мог только рассуждать, сторонники новой веры, христиане, взяли и осуществили на практике. Первая иерусалимская община была коммунистической: «Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого»[92].
Это описание из новозаветной книги Деяний апостолов долгое время оставалось для христиан ориентиром. Богатство и обладание материальными ценностями – помеха на пути к спасению. Иисуса легко принять за проповедника бедности. В Евангелии Иисус прямо говорит одному из собеседников: «Пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах»[93].
Но важно понимать, что авторы Нового Завета обращались к людям, так сказать, «ветхозаветным». Слушатели Иисуса знали истории Авраама, Давида и Соломона – для них земля, стада, большое потомство и сокровища были знаками благоволения Бога, а Иисус говорил, что не отменяет закон, то есть прежде всего Десять заповедей, среди которых есть запрет брать и даже желать чужую собственность. В притчах, с помощью которых Иисус общается со слушателями, немало историй о хозяине и работниках. Это значит, что собственность для его слушателей – в порядке вещей. Заметим для себя эту принципиальную вещь: для христианского взгляда, отталкивающегося от ветхозаветного, собственность – это древнее установление[94].
Новизна христианского взгляда заключалась в том, что богатство может завладеть человеком. Отказаться от собственности Иисус призывал только ближайших учеников, а в целом этот вопрос оставался на усмотрение каждого. В Новом Завете отвергается служение материальному как абсолютной ценности. Но ведь абсолютной ценности у земель, стад, золота, алмазов, рублей или долларов нет. Их ценность относительна, она определяется рынком. Накопление относительных ценностей христианство не считает достойной целью, предпочитая ценность абсолютную. Среди святых есть и богатые и бедные. Объединяет их то, что духовные ценности они для себя признавали основными[95]. Скорее всего, у Иисуса просто не было «социального учения», как не было и утопии об идеальном устройстве жизни общества. Он обращался к личностям, а не к коллективам.
Ранние отцы церкви считали, что собственность – неизбежная особенность падшего мира. На Западе Блаженный Августин учил, что собственность установлена земной властью в связи с греховным состоянием человечества. На Востоке Иоанн Златоуст с цифрами в руках убеждал прихожан, что, последовав примеру иерусалимской общины и объединив имущество, они будут жить лучше не только в духовном отношении, но и в материальном[96]. Ни тот, ни другой, впрочем, не говорили, что владение имуществом и богатство плохи сами по себе – золото может служить и добру и злу. Выбор между двумя путями делает не золото, а его обладатель.
Пыл древней церкви был охлажден изощренным умом Фомы Аквинского. Он и его ученики убедили всех в том, что частная собственность – это естественно и хорошо. Во-первых, христиане, если они благочестивы и щедры, не обязательно должны быть бедными. Во-вторых, собственность нужна самой церкви, чтобы быть независимой от земных властителей и чтобы помогать бедным. Конечно, человек приходит в мир голым, таков он от природы, но не станем же мы из-за этого осуждать ношение одежды, говорил Фома. Саму идею естественного можно понимать по-разному. «Если какой-то участок земли рассматривать абсолютно, то не найдется причин, объясняющих, почему он должен принадлежать тому, а не иному человеку, но если исходить из достойного использования этой земли, то возникает необходимость в собственнике, как и показывает философ»[97].
Философ – это Аристотель, а его аргументы – те самые, что изложены выше: человек вообще лучше заботится о своем, чем о ничьем. И если уж земле и дому нужен собственник, то почему бы этим собственником не быть церкви, ведь церковь будет примерным собственником. Вот вам образец виртуозной схоластики: на наших глазах немыслимое (церковь как землевладелец и помещик) становится возможным и даже необходимым.
Философы Возрождения спорили с Фомой и другими схоластами Средневековья практически обо всем, но вопрос собственности не трогали. Точнее так: из множества протестантских течений выжили в основном те, что не были радикально настроены в отношении собственности и богатства. А те, что были настроены радикально, растворились – например, движение анабаптистов. Анабаптисты (перекрещенцы, сторонники крещения в сознательном возрасте) пытались бороться с богатством и социальным неравенством, отказывались от ношения оружия и призывали к обобществлению имущества. Эти позиции, хотя и сохранились в некоторых христианских конфессиях, в целом в организованном христианстве остались маргинальными. Лидер церковной реформации и убежденный противник церковной собственности Мартин Лютер отстаивал необходимость соблюдения права частной собственности как правового принципа. Да, писал он, некоторые из первых христиан добровольно сделали свое имущество общим, но они не пытались отнять имущество ни у Ирода, ни у Пилата[98].
Он – как и другие лидеры Реформации – настаивал на том, что собственность нужна не ради нее самой, а для того, чтобы производить больше благ. Производить не для того, чтобы больше есть и жить в роскоши, а для того, чтобы производить еще больше. Зачем? Затем, что тратить время попусту – грех (отсюда «время – деньги» Бенджамина Франклина). Перестал работать – перестал прославлять Бога. Работать и зарабатывать хорошо для души. Более того, возможно, это знак избранности, считал другой протестантский вероучитель, Жан Кальвин.
Немецкий социолог и философ Макс Вебер вывел из этого знаменитую теорию о протестантской этике, которая у многих вызывает вопросы, но до сих пор сохраняет притягательность. Протестантская закваска если и играла какую-то роль, то точно не была единственной причиной бурного экономического роста в протестантских странах. Кроме того, широкое распространение частной собственности на землю предшествовало распространению протестантизма. Историки указывали, что пуритане, методисты, квакеры были религиозными диссидентами, часто обустраивавшими свою жизнь в условиях гонений и без оглядки на государство. Склонность к самостоятельности, формирование самодостаточных общин, высокий уровень доверия между членами таких островов «правоверия» помогали развитию предпринимательства больше, чем собственно содержание религиозной доктрины.
Помимо протестантских ценностей, помогли экономическому развитию рост средневековых городов и появление гильдий, традиция частной собственности в Англии, идеи Локка и то, что отцы-основатели США сделали эти идеи законом. Американский экономист российского происхождения Александр Гершенкрон вообще считал, что Вебер предложил свою теорию не всерьез – по его мнению, это была красивая игра ума[99].
6. Утопия без собственности
В любом случае Вебер был исследователем, стремившимся описать реальность. Как только за дело брались теоретики и фантазеры, идея собственности часто становилась причиной всех бед. Архитекторы фантастических государств-утопий, французские философы XVIII века и социалисты XIX столетия считали частную собственность источником бедности и поэтому общее благо предлагали сделать в самом буквальном смысле общим.
У английского чиновника Томаса Мора, автора книги, давшей название целому жанру, получилась на удивление тоскливая утопия. Одинаковые города, одинаковые дома и одежда, вместе на работу, вместе, по звуку трубы, – на обед. Каждый житель острова может входить в любой дом, ни права собственности, ни даже замков на дверях не имеется. Место жительства утопийцы должны менять раз в 10 лет – по жребию. Передвижения по острову Утопия – только по паспорту, за нарушение правил «прописки» – рабство. Едят и пьют утопийцы вместе в общественных дворцах под музыку или чтение нравоучительных книг. Все, что производят, утопийцы хранят на огромных складах и получают оттуда ровно те вещи, которые им нужны. Правители ведут строгий учет и перебрасывают товары и продукты туда, где в них случается недостаток. Потребности всегда постоянны и хорошо известны, поскольку определенная численность жителей поддерживается на постоянном уровне не только в масштабах городов, но и в масштабах отдельных семей. Из семей, где детей слишком много, их передают в семьи, где детей не хватает. Деньгами островитяне брезгуют, а золото и драгоценные камни всегда держат на виду, чтобы не создавать искушений. Из золота, как мы уже вспоминали в предыдущей главе, на острове делают цепи для рабов и ночные горшки.
Мору нужно было быть осторожнее с фантазиями, но и его читателям следовало лучше понимать тонкий английский юмор. Утопия – это все-таки игра слов. Это одновременно и «лучшее место», и «не-место», место, которого нет (Eutopia, Utopia). Столица республики стоит на реке, называемой Безводной (Anydrus). Имя героя-рассказчика Рафаил Гитлодей (Hythlodaeus) – тоже шутка, его можно перевести как «архангел, несущий чепуху»[100].
Сейчас мы уже не определим точно, что Томас Мор придумывал в сатирических целях, а что всерьез. В любом случае он придумывал. Английский гуманист придумал и центральное планирование, и коллективное хозяйство, и коммунальный быт, и прописку, и социальное государство, и пионерский лагерь, и даже подрывную внешнюю политику (власти Утопии занимаются подкупом иностранцев и провоцируют войны между другими странами). Он не имел этого в виду, но получилось, что придумал он все вышеперечисленное для далеких и неизвестных ему обитателей холодной России. Лишенные чувства иронии, а очень часто и образования, реформаторы-социалисты вычитали у Мора только буквальную историю об унылой социалистической стране. И мы остаемся заложниками этой ошибки.
Сам же Мор и другие утописты мыслили иначе. Идеал полноценной общественной жизни был придуман как ответ на жестокую реальность, где власть силы и денег становилась невыносимой. «Утопия» писалась в начале XVI века, когда огораживание только начиналось и власть частного собственника только стала набирать свою силу. Мор был свидетелем первых ростков современной экономики, построенной на увеличении производительности. В Англии того времени это означало резкое расслоение общества, появление первых крупных состояний, появление массовой бедности[101]. Мор вдохновлялся рассказами о первых путешествиях за океан, отталкивался от хорошо известного его читателям «Государства» Платона и писал умную книжку для близких ему по духу людей. Он рисовал карнавальный мир наоборот, в котором нашел место и серьезным идеям. «Утопию» не стоит читать буквально. На это, скорее всего, и рассчитывал автор.
Жители острова не знают ни в чем недостатка, но достигается это скорее ограничением потребностей, чем стремлением их расширить и полностью удовлетворить, работой, а не праздностью. Мор хотел передать читателю мысль о полноценной жизни, для которой нужны и работа над собой, и внутренняя дисциплина. Стремление к удовольствию – тоже достойная цель, если это удовольствие творческое, а не разрушительное. В этом смысле «Утопия» нисколько не устарела.
Чем ближе европейские страны подходили к современной эпохе, тем больше становилось сомневающихся в благотворности идеи собственности. Чем быстрее развивалась экономика, тем громче звучали обвинения в ее адрес.
Еще одну очень влиятельную версию общественного договора предложил Жан-Жак Руссо. В его понимании естественная жизнь была не Гоббсовой войной всех против всех и не моментом хрупкого равенства, как у Локка. Для Руссо первобытное состояние человека было потерянным раем: «Пример дикарей, кажется, доказывает, что человеческий род был создан для того, чтобы оставаться таким вечно… и все его дальнейшее развитие представляет собой по видимости шаги к совершенствованию индивидуума, а на деле – к одряхлению рода». Спасение – в новом договоре, в таком, который все общее поставит над всем частным: «Каждый из нас передает в общее достояние и ставит под высшее руководство общей воли свою личность и все свои силы, и в результате для нас всех вместе каждый член ассоциации превращается в нераздельную часть целого»[102].
В развитии цивилизации, в переходе от естественного состояния к общественному Руссо видит регресс. Законы, в том числе законы о неприкосновенности частной собственности, – это путы, наложенные богатыми на бедных: «Они навсегда установили закон собственности и неравенства, превратили ловкую узурпацию в незыблемое право».
«Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: „Это мое!“ и нашел людей достаточно простодушных, чтобы тому поверить, был подлинным основателем гражданского общества. От скольких преступлений, войн, убийств, несчастий и ужасов уберег бы род человеческий тот, кто, выдернув колья или засыпав ров, крикнул бы себе подобным: „Остерегитесь слушать этого обманщика; вы погибли, если забудете, что плоды земли – для всех, а сама она – ничья!“»[103]
Этот знаменитый отрывок из «Рассуждения о происхождении и основаниях неравенства между людьми» Руссо оказался очень влиятельным. Заметим, что утопические – платонические – идеалы здесь, на наших глазах, превращаются в то, что потом станет «левой» идеей. В отличие от будущих анархистов и социалистов Руссо не был категорическим противником собственности как института. Но именно его читатели в последующие столетия создали прочную в сознании многих связку «собственность – несправедливость».
И эту несправедливость можно и нужно исправить, были уверены социалисты. Философия Просвещения изменила умственную ситуацию и санкционировала саму возможность социальных перемен. Это представление, изначально появившееся только на уровне мысли, а затем подкрепленное экономической и политической реальностью, определило историю ХХ столетия. Общества теперь можно было перестраивать по «научному» плану. К началу ХХ века сложилась удивительная ситуация: экономика демонстрировала невиданные достижения, но убежденность в необходимости создания нового справедливого общества была как никогда острой.
Джон Локк считал собственность основой благосостояния и безопасности, а Жан-Жак Руссо – причиной деградации общества, и это расхождение стало одним из оснований долгого и кровавого противостояния правой и левой идей. Если сильно огрубить, можно сказать, что общественный договор Локка был буржуазно-республиканским, а договор Руссо – социалистическим. Если огрубить еще сильнее, то выяснится, что из Локка выросло государство, объединившее североамериканские штаты, а из Руссо – Советский Союз[104].
Социализм был теоретическим учением, претендовавшим на научность, причем прикладную. Но уже одно существование некоей схемы идеального общества лишало науку Карла Маркса сходства с наукой в традиционном понимании. Наука стремится к исследованию природы, к открытию ее законов, но не к достижению заранее выбранной цели. Возможно, именно поэтому в России социалистические убеждения укоренились в образованной среде так прочно. С точки зрения самого марксизма наша страна меньше всех подходила для социалистического эксперимента, но это, видимо, только прибавляло социализму привлекательности в глазах русских мечтателей. Для русских вопрос собственности был делом гораздо более теоретическим, чем для их соседей к западу. Те давно перестали думать о вечных вопросах и стремились осмыслить реальность настоящего. Русские мыслители же рисовали картины возможного будущего. Их мысль, как когда-то у Платона, Аристотеля, Блаженного Августина и Томаса Мора, направлялась к основам: нравственна ли собственность, могут ли отношения регулироваться одним только писаным правом?
Завершая это отступление, скажем, что оно, конечно, упрощает картину. Нельзя сказать, что христианство в целом содержит оправдание собственности, а утопии ему противостоят. Среди христиан во все времена было немало горячих противников собственности. К убеждению о необходимости обобществления имущества пришли радикальные протестанты – анабаптисты. В нашей истории были знаменитые нестяжатели, во главе которых стоял Нил Сорский. Это были проповедники аскетизма и противники того, чтобы церковь владела землями и собственностью. И, наоборот, среди авторов классических утопий были и сторонники собственности, например Джеймс Гаррингтон, автор книги «Республика Океания».
И все-таки так получилось, что христианские церкви самых разных направлений оказались в истории силой, скорее оправдывавшей собственность, а утописты – от Платона до Фурье – силой, скорее ее осуждавшей.
Глава 5. Территория: колониальный размах и порядок подчинения
1. Конкистадор Ермак
Покинув уральские владения купцов Строгановых, казаки под командой Ермака несколько месяцев шли вверх по рекам, перебирались волоком от реки к реке, зимовали, снова шли по рекам и только летом вступили в стычки с сибирскими татарами. После череды побед над ханом Кучумом, осенью 1582 года Ермак вступил в город Сибирь (Кашлык) и стал принимать местных племенных вождей, приходивших к нему с дарами – рыбой и пушниной. Вожди приносили присягу, обещая раз в год платить оговоренную подать, ясак. В ответ новый «хан» обещал защищать население от старого хана – так сибирские жители становились подданными русского царя.
И долгий путь, и сражения, и установление отношений подчинения с местным населением – все это похоже на страницу из хрестоматии по колониальной истории. Эрнан Кортес, отправившийся в Мексику и подчинивший ацтеков испанской короне за 60 лет до сибирского похода Ермака, действовал примерно так же, хотя и более жестоко. Эти истории сопоставимы. Представление о России как о колониальной державе – не экзотика. Эта тема была настолько же широко распространена в исторической дискуссии 100 лет назад, насколько мало обсуждается сегодня, полагает Александр Эткинд, посвятивший развитию колониального подхода к нашей истории книгу «Внутренняя колонизация»[105].
Речь не только об освоении русскими отдаленных восточных территорий, а об истории страны в целом. И Сергей Соловьев определял ранний период русской истории как колонизационный: «То была обширная, девственная страна, ожидавшая населения, ожидавшая истории: отсюда древняя русская история есть история страны, которая колонизуется… Но рассматриваемая нами страна не была колония, удаленная океанами от метрополии: в ней самой находилось средоточие государственной жизни; государственные потребности увеличивались, государственные отправления осложнялись все более и более, а между тем страна не лишилась характера страны колонизующейся»[106].
Вроде бы колонизация – это морские путешествия на край света, столкновения с конкурентами и торговля с туземцами. Наземную империю почему-то трудно представить себе колониальной, хотя до появления железных дорог передвигаться на большие расстояния по суше было труднее, чем морем. Путь из Москвы в Восточную Сибирь был не легче, а возможно, и труднее, чем из Испании на Кубу.
Доставить груз из Архангельска в Лондон морем было дешевле и проще, чем из Архангельска в Москву по суше. В Крымскую войну российские власти, к своему ужасу, убедились, что войска и вооружения в Севастополь быстрее перебросить из Гибралтара, чем из-под Москвы. В начале XIX века снабжение русских баз на Аляске кругосветным морским путем обходилось в четыре раза дешевле, чем путем сухопутным. Технически и психологически Индия была ближе к Лондону, чем многие российские территории – к Петербургу[107].
Оторванность колоний от центра была свойственна русской колонизации, как и всякой другой. Ее особенность состояла скорее в том, что субъект и объект колонизации у нас не были отделены друг от друга с такой очевидностью, как во многих иных случаях. Не было в России вооруженных пришельцев из-за океана, хотя покоренное местное население безусловно существовало. Не было «белого человека» в пробковом шлеме и порабощенного «темнокожего», хотя были присоединенные к империи огромные пространства.
Расширение и освоение страны продолжалось вплоть до крушения империи. Колонисты, приглашенные из Европы, заполняли пустоты на карте. Русские крестьяне перевозились сотнями и тысячами за тысячи верст на новые земли. Российская колонизация вполне уникальна, но в ее истории немало параллелей с освоением Северной и Южной Америки, Западной Австралии и некоторых регионов Африки.
Тем, чем было золото в Южной Америке, специи в Азии или рабы в Африке, в нашем случае была пушнина. На север и восток Евразии русские продвигались в поисках наилучшей охоты. Мех был первым сырьевым товаром, благодаря которому росла и расширялась страна, впоследствии ставшая Россией. Это была и валюта, и валютный товар: мехами собирали и платили дань, в обмен на меха до открытия собственных запасов драгоценных металлов русские князья получали серебро для чеканки монеты.
За два года походов по сибирским рекам Ермак отправил в Москву 2400 соболей, 800 шкур черной лисы и 2 тысячи бобровых шкур. Это, конечно, не золото ацтеков, но значительное богатство, учитывая, что все пушные поступления казны в период чуть более поздний, чем описываемый, оценивались примерно в 50 тысяч шкур в год. По разным подсчетам, доходы от продажи пушнины составляли от 10 до 25 % валового дохода Московского государства XVI–XVII веков[108].
Под конец XIV столетия около 95 % всех мехов, ввозимых в Лондон, были ганзейскими по происхождению и бо́льшая часть из этого количества приходилась на новгородские поставки. Именно тогда в английский язык вошло одно из немногих русских заимствований – sable (соболь). Благодаря большому спросу на Западе соболь был практически истреблен в европейской части страны уже к концу XVI века[109]. Потому и шли русские конкистадоры на Восток.
Если крестьянское освоение земель определяли плуг, коса и топор, то в Сибирь путь прокладывали лук, силки и ружье. Ермак и множество других колонизаторов после него не подыскивали себе места, в котором хотели бы прожить остаток дней, положив начало новым поколениям сибиряков. Они стремились поставить под контроль местных вождей, чтобы те снабжали их пушниной. Вытеснив старую «элиту», они должны были стать элитой новой, собирающей дань с туземного населения. По способу колонизации это сближает Сибирь с большинством стран Латинской Америки.
Колонизацию восточных регионов России не раз сравнивали и с освоением Северной Америки. Американский Дикий Запад, возможно, действительно был чем-то схож с российским Диким Востоком. И на Западе Северной Америки, и в Сибири долгие годы существовали зоны правового вакуума, где всем заправляли вооруженные авантюристы и беспринципные предприниматели. Попытки местного населения сопротивляться грабительской «торговле» жестоко подавлялись. Преимущество в силе благодаря огнестрельному оружию помогало принуждать местное население к выплате дани пушниной. Колонизаторы не останавливались ни перед взятием женщин и детей в заложники, ни перед убийствами. Сибирский историк Николай Ядринцев в конце XIX века перечислил около дюжины народностей, которые были полностью истреблены за прошедшие 300 лет. По некоторым оценкам, потери в численности туземного населения русского Севера в результате колонизации сравнимы с потерями в численности североамериканских индейцев[110].
Удивительны и хронологические совпадения: «золотые лихорадки» в Сибири и Калифорнии пришлись на одно и то же время – 1840–1860-е годы. Отмена крепостного права и принятие акта о гомстедах – два события, за которыми последовало массовое заселение Дальнего Востока и Дальнего Запада, – произошли почти одновременно, в 1861 и 1862 годах. Владивосток и Лос-Анджелес получили статус города во второй половине XIX века.
Но есть ключевое различие, которое определило дальнейшую судьбу этих регионов. Изначальный сырьевой характер освоения, климат, удаленность от европейских столиц и другие факторы привели к тому, что Сибирь заселялась в расчете на извлечение ресурсов в интересах центра. Колонизаторы американского Запада видели себя родоначальниками большой независимой территории. Сибирь в этом смысле гораздо больше похожа на традиционную колонию, чем Калифорния. Колониальный характер освоения подчеркивался и тем, что сибирские поселенцы были в основном военными, а сибирская территория использовалась как место ссылок и каторги. За все время колонизации Сибири, с самого начала и до 1917 года, в ссылки и на поселения туда было отправлено не менее 2 миллионов человек. Города создавались в военно-административных целях. Транспортная система была рассчитана скорее на связь с центром, чем на сообщение между регионами. К 1909 году, когда в России было закончено строительство Транссиба, тихоокеанское побережье США было связано с остальной американской территорией четырьмя железнодорожными магистралями[111].
Такой характер освоения и установка на вывоз ресурсов, как мы увидим, закладывают долгосрочные тенденции отставания в развитии любой колонии – африканской, южноамериканской или российской. Судьба Сибири изменилась в советское время, особенно в послевоенный период. Благодаря мощным государственным инвестициям здесь начался бурный рост добывающей промышленности, металлургии и энергетики, были созданы собственные научные школы. Города становились пригодными для жизни: с 1959 по 1989 год население Сибири увеличилось на треть. Но взлет оборвался вместе с крахом советской плановой экономики – сибирская промышленность была встроена в общесоветские цепочки и в условиях рынка оказалась крайне уязвима. На какое-то время встало почти все, а строительство дорог и инженерных сооружений за редкими исключениями с тех пор вообще не возобновлялось[112].
Захват отдаленных территорий, подчинение местного населения, принуждение к работе и выплате дани – все это этапы формирования правил и институтов господства. Если такие институты утверждены, они, как правило, существуют долго: слишком уж они удобны. Они позволяют малочисленной элите пользоваться всеми плодами развития страны, и не очень важно, какая именно «национальная идея» или идеология в данный момент охватила умы. Такая конструкция господства удобна и имперской, и советской, и какой угодно другой власти – до тех пор, пока этой власти удается оставаться неподотчетной обществу. Даже революции могут оказаться бесплодными: сменить «личный состав» элиты оказывается легче, чем изменить правила, в силу которых она оказывается безраздельным хозяином над бесправным большинством.
2. Попечение и извлечение
Испанский дворянин Эрнан Кортес в начале XVI века отправился в Новый Свет в поисках славы и денег. Колонизаторы интересовались тогда главным образом островами – Кубой и Испаньолой (будущие Гаити и Доминиканская Республика). Кортесу одному из первых удалось собрать достаточно сил, чтобы углубиться на материк (в будущую Мексику) и достигнуть империи ацтеков.
Кортес действовал в Америке точно так же, как действовали испанцы на протяжении столетий Реконкисты – отвоевывания земель Пиренейского полуострова у мавров и берберов. Право собственности на возвращенные земли принадлежало короне, но тот, кто руководил захватом территории, получал над ней «энкомьенду» (encomienda) – право «попечения». Местные жители должны были теперь работать в интересах нового наместника. Испанцы говорили: «Sin indios non hay Indias» – «Без индейцев не было бы „Индии“»[113].
Кортес осваивал самый ценный ресурс Нового Света – население. Колонизатор призван был нести «новообращенным» свет христианского просвещения, а находящиеся под его попечением индейцы должны были работать на нового хозяина. По сути, этот институт представлял собой право колонизатора распоряжаться определенным количеством закрепленных за ним «душ».
Так же действовали и другие. Франсиско Писарро высадился на западном побережье современного Перу и, выяснив, где находится вождь инков, захватил его в плен. В обмен на свободу испанцы потребовали у вождя выкуп – одну комнату, заполненную золотом, и две комнаты, заполненные серебром. Получив золото, Писарро убил вождя и двинулся дальше. В конце концов вся племенная верхушка инков была уничтожена, а их сокровища вывезены в Испанию. Как и в Мексике, каждый из командиров получил по энкомьенде, то есть по определенному количеству подчиненных, обязанных работать на белого человека точно так же, как они работали на старого вождя.
Колонизаторы нашли и другой способ заставить местное население работать на себя. На территории современной Боливии они открыли огромное месторождение серебра. Для работы на рудниках нужны были люди, и эту проблему решил Франсиско де Толедо. Он решил возродить традицию инков, которые в принудительном порядке отправляли часть подданных на сельскохозяйственные работы в интересах аристократии, жрецов и армии. Как и бывшие властители, Толедо стал силой набирать на работу одну седьмую часть мужского населения прилегавших к рудникам деревень. Этот институт, называвшийся «мита», был отменен только в 1812 году. Современные исследования показывают, что вплоть до сегодняшнего дня те территории, где испанцы практиковали «миту», остаются менее развитыми, чем те, откуда колонизаторы работников не рекрутировали.
Да и сами страны, где колониальные порядки были особенно жестокими, остаются менее развитыми. Вся Америка состояла когда-то из одних колоний. Но здесь есть и богатые США, и менее благополучная Мексика. В своем развитии они двигались разными путями во многом в силу изначального направления, заданного европейскими захватчиками[114].
Англичане оказались опоздавшими колонизаторами. Им не достались богатые золотом и серебром земли ацтеков и инков. Не достались «легкие» индейцы, которых испанцы заставили работать на себя. Англичанам пришлось довольствоваться северными землями, где ценных ископаемых было меньше, а сопротивления незваным гостям – больше. Еще одним важным отличием английских колонизаторов от испанских была возможность закрепления земли в частной собственности. У многих из них уже был за плечами опыт огораживания земли и приобретения защищенного права на владение ею.
Испанцам в Южной Америке все давалось проще. Новая элита относилась к Новому Свету как к территории обогащения. Им не нужно было договариваться, создавать институты защиты права для всех, им нужно было только подчинять и контролировать. Все инструменты управления, в том числе упомянутое «попечение», подчинялись именно этой цели. Современные исследования продемонстрировали удивительный факт: цивилизации, бывшие накануне европейского завоевания (то есть около 1500 года) богатыми, и цивилизации, бывшие тогда бедными, поменялись местами в исторической табели о рангах. Империи ацтеков и инков были гораздо более развитыми и богатыми, чем цивилизации, находившиеся на месте нынешних США, Канады, Австралии. Но сегодня США и Канада гораздо благополучнее Мексики и Перу, существующих на месте ацтеков и инков[115].
Власти в этих последних сменялись часто: на смену колонизаторам приходили местные вожди-романтики, потом появлялись новые вожди – офицеры, их сменяли идеологи свободы и братства, борцы за справедливость и счастье. Идеологии менялись резко – от одной крайности к другой. Постоянным оставалось только одно – все национальные богатства находились под контролем элиты. Примеров такой дурной преемственности, к сожалению, больше, чем примеров обратных.
Посмотрите на опыт бедной и раздираемой конфликтами страны Сьерра-Леоне, расположенной на западном побережье Африки. После провозглашения независимости от Британии в начале 1960-х годов «народные» партии некоторое время боролись там между собой. В конце концов, после серии переворотов, президент Сиака Стивенс ввел в стране однопартийное правительство, которое и возглавлял много лет, позаимствовав и усовершенствовав колониальную науку управления.
В колониальные времена британцы установили в стране практику отбора региональных вождей, чтобы легче было держать под контролем всю территорию страны. Стивенс сохранил этот институт и даже ужесточил его принципы – ему было нужно, чтобы местная власть оказывалась в руках только у самых лояльных лидеров. Британские колонизаторы создали систему сбытовых контор, чтобы легче было собирать налоги с фермеров – производителей кофе и какао. Стивенс не изменил эту систему и обложил производителей еще большими налогами. И созданную британцами алмазную монополию новые власти сохранили. Революционное изменение состояло только в том, что в правлении компании оказались родственники президента. Только армию постколониальные власти ослабили, поскольку Стивенс считал ее для себя опасной. Он сделал ставку на отряды наемников, подчиняющихся лично ему.
Есть что-то знакомое во всем этом: и отбор вождей, и монополии, и родственники. Рычаги власти и обогащения, созданные колонизаторами, переходят из рук в руки, власти меняются – но неизменным остается неравенство, бесправие и бедность большинства. Вместо царских наместников приходят председатели областных комитетов партии, вместо председателей – губернаторы и главы федеральных округов. Как бы они ни назывались, получается, что освободители, сторонники демократии, приходящие на смену угнетателям, просто берут в руки старые рычаги. Проходит несколько лет, и население уже не может отличить новых властителей от старых.
Экономисты, стремящиеся понять, почему одни страны в историческом масштабе оказываются благополучнее других, уверены, что успех во многом зависит от характера институтов (то есть правил и ограничений), а еще точнее – от того, насколько широко в данном обществе распространены и защищены права – те самые права на жизнь, свободу и собственность, что описаны в главе 4. Экономисты Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон видят в современном историческом процессе институты двух типов – инклюзивные и экстрактивные[116].
Если действующие законы и правила устроены так, что защищают частную собственность, поддерживают исполнение законов и контрактов, поощряют экономическую активность, создание новых предприятий и компаний, то такие институты Аджемоглу и Робинсон называют инклюзивными. Эти правила стимулируют человека к действию и позволяют людям реализовать свои таланты. Благодаря им все большее число людей оказывается включенными (inclusive) в производительную и творческую деятельность.
Права собственности занимают среди инклюзивных институтов центральное место, потому что только тот, кто знает, что его права защищены, будет вкладывать средства и силы в свое дело. Предприниматель, который ожидает, что его прибыль будет украдена, отнята государством или отобрана с помощью налогов, не будет иметь стимула к долгосрочным инвестициям в производство[117].
Если действующие законы и правила защищают права собственности только для меньшинства, если они обеспечивают закон и порядок только для небольшой группы людей, если множество людей вынуждены браться за работу, которая им не по душе, а начать собственное дело очень трудно, то институты такого общества называются экстрактивными (extractive – добывающие, извлекающие). Экстрактивные институты пользуются силовыми возможностями государства, чтобы перераспределять собственность с помощью «ручного управления» и создавать входные барьеры для «чужих».
Вспомним про энкомьенду, «миту», вспомним наших помещиков и крепостное право. Вспомним, что и в сегодняшней России есть небольшая группа политически и экономически привилегированных лиц. Все это способы извлекать блага для элиты за счет подчинения большинства. Те, кто формирует подобные институты, заинтересованы в том, чтобы добыть для себя максимум благ, злоупотребляя свободой и правами всех остальных.
По сути, государство становится в этом случае не союзником общества, а инструментом защиты привилегий для элиты. И, как показывают исследования, механизм этот способен воспроизводить себя долго. Он способен возобновляться после революций, переживать смену режимов и сохраняться как ни в чем не бывало после перехода к власти от колонизаторов к избранным народом правителям. Проблемой оказываются не конкретные конкистадоры, дворяне или олигархи, а возможности для управления и обогащения, созданные элитой.
Колониальная политика создает колониальную экономику. Экстрактивные политические институты порождают экономические институты, позволяющие небольшой группе населения извлекать максимум дохода за счет всех остальных. Те, кто получает все преимущества, получает и все ресурсы для сохранения власти.
Не случайно и то, что в основе «добывающих» режимов часто лежит добывающая промышленность, полезные ископаемые. Золото инков, африканские алмазы, сибирская пушнина, сибирские металлы, нефть и газ – все это создает огромные стимулы для того, чтобы захватывать и всеми силами держаться за власть-собственность. И поэтому экстрактивные экономические институты в свою очередь поддерживают политическую систему, которая обеспечивает добывающей элите защиту: создается порочный круг.
Большая власть и большое неравенство делают ставки в политической игре гигантскими. Однако всегда находятся люди, готовые под любым политическим флагом сделать такую ставку в надежде на выигрыш. Ведь тот, кто контролирует государство, получает почти безграничную власть и почти безграничное богатство.
3. Сырьевая ирония истории
Василий Ключевский, ученик Соловьева, распространил колонизационную идею своего учителя на всю российскую историю. Да, Россия, писал он, – это страна, которая колонизировалась в начале своей истории, но этот процесс не закончился когда-то в прошлом: «То падая, то поднимаясь, это вековое движение продолжается до наших дней»[118].
Скупку представителями российского «правящего класса» недвижимости по всему миру можно рассматривать как своеобразное закрепление их колонизаторского статуса, статуса внешних игроков. При этом территория самой России была впервые за постсоветское время расширена – за счет присоединения Крыма.
Крым обозначил слом многолетней тенденции. До 2014 года российская элита была склонна осваивать территории путем покупки, а не путем присоединения. В постсоветское время, которое, вероятно, уже можно считать прошлым, старинная склонность русского населения к перемене мест в ответ на трудности выражалась в экономической миграции. Можно вспомнить знаменитое мнение Соловьева по поводу особенностей русской личности: «От такой расходчивости, расплывчатости, привычки уходить при первом неудобстве происходила полуоседлость, отсутствие привязанности к одному месту, что ослабляло нравственную сосредоточенность, приучало к исканию легкого труда, к безрасчетливости, какой-то междоумочной жизни, к жизни день за день»[119].
Напомним и еще одно известное наблюдение классика. Отмечая, что рывок в увеличении страны, включавший расширение границ Московского государства на север, восток и юг в XVI – начале XVII века, совпал по времени с окончательным закрепощением крестьян, Ключевский пишет: «У нас по мере расширения территории вместе с ростом внешней силы народа все более стеснялась его внутренняя свобода». Чем больше становился «размах власти», говорит историк, тем меньше оказывалась «подъемная сила народного духа». То, что до середины XIX века пространственная экспансия шла «в обратно пропорциональном отношении к развитию свободы граждан», Ключевский считал одним из ключевых парадоксов российского развития[120].
В постсоветское время этот парадокс развернулся. Относительно быстрое расширение прав и свобод граждан после крушения СССР совпало со значительными потерями в территории. Начался своеобразный процесс «деколонизации». То, что 2014 год ознаменовался территориальным расширением, может означать попытку властей и общества эту тенденцию остановить. Если верно правило Ключевского о том, что территориальная экспансия и развитие свободы противостоят друг другу, то попыток ограничения свобод ожидать вполне естественно.
Финансовые и экономические потоки по-прежнему настроены на отбор максимального объема ресурсов у регионов и перераспределение их по усмотрению столицы. Организация транспортного сообщения и расположение городов и предприятий на карте по-прежнему отражают имперские и советские приоритеты. Даже пенсионная и налоговая системы действуют во многом по колониальным законам.
Владимир Мау, один из ведущих современных экономистов России, работающий над стратегическими программами развития, иронизируя, говорит, что тонкая настройка налоговой системы в России пока невозможна: «Отношение к налоговой системе в нашей стране уходит корнями в татаро-монгольскую эпоху, когда раз в год в русские города и села приезжали баскаки для получения дани ордынскому хану. „Кричат: давайте дани, / Хоть вон святых неси. / Тут много всякой дряни / Случилось на Руси“, – заметил А. К. Толстой, и был абсолютно прав не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе»[121].
Такому государству нет дела до защиты вашей свободы и собственности. Оно предоставляет только одну услугу (и то без гарантии) – не вмешивается в ваши дела, если вы заплатили дань. Что это, как не отношения между колонизатором и колонизируемым?
Впрочем этот «колониальный» договор нужно признать более гуманным, чем отношения, существовавшие между человеком и государством в советское время. Тогда государство вмешивалось в ваши дела независимо от того, платили вы ему что-то или нет. Такого рода вмешательство сегодня ограничено узким кругом политически запретных тем. В остальном отношения между обществом и центральной властью уже не предполагают серьезных обязательств ни с той, ни с другой стороны. Государство и граждане не желают вступать в близкие отношения и предпочитают наблюдать друг за другом с безопасного расстояния. Это шаг вперед по отношению к советскому прошлому, но это одновременно и шаг назад к досоветским отношениям господства и подчинения.
Преемственность между старыми и новыми институтами господства в России поразительна. Историки всегда будут спорить о том, насколько виновато в этом наследие колонизаторов из Золотой Орды, опричников Ивана Грозного и большевиков Владимира Ленина. Но каждый из нас на собственном опыте и на опыте истории собственной семьи видит, насколько «вечными» кажутся отношения между обществом и элитой. Именно поэтому «Ревизор» Гоголя и «История одного города» Салтыкова-Щедрина каждым поколением читаются как будто заново, как вполне актуальная сатира.
После революции место, которое занимала в обществе дворянская аристократия, долго не пустовало. Постепенно в эту нишу вросла советская номенклатура – группа людей, формирующаяся по закрытым от общества правилам. Эти люди занимали ведущие посты в партии власти, государственной системе и экономике Советского Союза. Прогресс заключался в том, что институт номенклатуры предполагал отбор, пусть и бюрократизированный и коррумпированный, по критериям образования и заслуг. Это формально отличало партийную власть от аристократии, но сегодня это отличие утрачено. Монополия номенклатуры на власть переродилась в монополию на извлечение самых больших доходов, на покровительство над бизнесом, называемое на языке преступности «крышеванием». Входной билет в «элиту» теперь определяется принадлежностью к кругу «лучших людей». Аристократия вернулась[122].
Превращение партийных боссов в «попечителей» бизнеса произошло вполне естественно, хотя и растянулось во времени почти на два десятилетия. Начало было положено еще в конце 1980-х годов. Дэвид Ремник, работавший в то время в СССР корреспондентом Washington Post, писал в книге «Могила Ленина»: «На Западе криминальные группы всегда захватывают те сферы, где нет легальной рыночной экономики, например торговлю наркотиками, игорный бизнес, проституцию. Но в СССР не было рыночной экономики. Практически все экономические отношения были отношениями мафиозными»[123].
Так что территорией борьбы за контроль стала вся экономика. Крушение империи и ее общественного устройства оказалось победой элиты. Наивные прорабы перестройки думали, что косные чиновники противодействуют прогрессивным реформам Горбачева, которые превратят СССР в справедливое и экономически эффективное государство. Но номенклатура, вовсе не косная, а, наоборот, очень сообразительная, думала на ход вперед. Пока умные публицисты в газетах с миллионными тиражами вели споры о социализме и капитализме, элита создавала для себя прибыльную экономику, отдельную от общей, кризисной и убыточной.
Те, кто был допущен к «комсомольской экономике», например к создававшимся во второй половине 1980-х годов Центрам научно-технического творчества молодежи, конвертировавшим безналичные деньги в наличные, к созданию совместных предприятий, к операциям с недвижимостью, сумели превратить старый административный капитал в новый, в том числе финансовый. Если говорить о ельцинской элите в целом, то, по подсчетам социолога Ольги Крыштановской, она на 70 % состояла из прежней номенклатуры разных уровней[124].
Сегодняшние методы «ручного управления», используемые высокопоставленными чиновниками с применением всех возможностей государства, – это наш вариант тех самых экстрактивных колониальных институтов, в силу живучести которых с таким трудом развиваются страны Латинской Америки и Африки.
Политические институты господства, такие как единственная правящая партия, отсутствие разделения властей, управляемость правосудия, порождают и поддерживают добывающий характер экономики. Значительная часть промышленности – и добывающей и производящей – является собственностью небольшого круга людей. Причем закреплены эти права владения за пределами России, в тех странах, где институт частной собственности защищен лучше.
Правительство на протяжении всех постсоветских лет вплоть до недавнего времени откровенно поддерживало эту ситуацию, устанавливая пониженное налогообложение дивидендов. Чем крупнее компания, тем больше вероятность, что контролируемые ею активы являются собственностью офшоров. Это удобно во многих отношениях: за границей можно скрывать собственность, принадлежащую чиновникам. Кроме того, защищенные западным правом крупные бизнесмены не настаивают на создании в самой России предсказуемой и четкой судебно-правовой системы[125].
Терпимость к этой схеме владения резко снизилась в последние годы. Вернуть юридически эмигрировавший бизнес можно либо создав естественное притяжение, то есть инвестиционные условия, включая, конечно, защиту права собственности, либо силой, то есть административным давлением и законодательными ограничениями на обладание собственностью за границей. Первый вариант – трудный и эффективный, второй – легкий и неработающий. Пока власти идут по второму пути.
Живучесть институтов господства означает, что очень живучи старые институциональные схемы. Вспомним, как испанские конкистадоры приходили на смену вождям инков, как на смену колонизаторам приходили национальные правительства, а институты извлечения доходов оставались прежними.
Договора с государством, согласно которому граждане платили бы налоги, а государство в ответ защищало бы их жизнь, свободу и собственность, в России не было и нет. Отношения с государством просты – те, кто обладает ресурсами, от власти, по сути, откупаются. Те, кто не обладает ресурсами, зависят от государства и находятся под его «опекой и попечением». Конечно, сегодняшние отношения господства лишены прежней прямолинейности и жестокости, но, по сути, это все те же колониальные отношения между внешней господствующей силой и подвластным населением.
Ирония истории, отмечает Александр Эткинд, в том, что месторождения нефти и газа, благодаря которым Москва сегодня ведет безбедное существование, находятся в тех же землях, которые были когда-то колонизированы новгородцами ради пушной торговли с югрой, ханты и манси. Среди главных потребителей русской нефти немало тех, кто когда-то был главным покупателем русского меха. Там, где лежат трубы «Газпрома», когда-то шли меховые торговые пути: от Москвы через Польшу в Лейпциг и дальше на Запад. Трубопровод Nord Stream почти точно воспроизводит маршрут торговых караванов Ганзейской лиги[126]. Отметим, что обсуждаются и планы довести трубу до Британии, бывшей когда-то главным потребителем русской пушнины. История в этом случае совершит символический круг.
Глядя через призму «долгого времени», мы видим, что налогообложение торговли сырьевыми товарами было и остается ключевым источником дохода для российского государства; организация добычи – его главной заботой; обеспечение путей доставки товара через всю Евразию – его ответственностью. Добыча требует специализированных навыков, которых нет у большей части населения. В бизнесе заняты немногие. В результате государству нет дела до населения, а населению – до государства. В таких условиях складывается кастовое общество, а аппарат безопасности становится неотличимым от государства.
Наша дореволюционная история должна была бы научить нас, что привилегированные условия (например, существование защищенных прав на личную свободу и собственность) для узкой элиты или одного сословия создают взрывоопасную ситуацию для общества в целом. Отказ от такой правовой исключительности – это тяжелая трансформация, но возможная. Ее прошли множество обществ – от Британии и Японии до Перу и Чили. Во многих странах этот процесс идет и сегодня, но в России ему никак не удается даже начаться. В нашей ситуации, учитывая нашу своеобразную колониальную историю, переход к инклюзивности должен одновременно носить и характер «деколонизации». Но не будем забегать вперед.
Глава 6. Замок на двери: верховенство безопасности
1. Провал монархии на Западе
Английским королям не повезло. Им, в отличие от русских царей, не удалось на долгие века остаться главными собственниками в своей стране. Чем дальше, тем больше в Англии становилось владельцев – крупных и мелких, – и чем дальше, тем больше условий они ставили королям. Монархам начиная с XIII века периодически приходилось подписывать соглашения, навязанные им подданными. Великая хартия вольностей появилась именно так. Но это была лишь временная уступка – борьба продолжалась еще сотни лет. Будь то золотой век сельского хозяйства, взлет торговли с заморскими колониями или бурный рост рынка земли – выгоды всегда доставались немногим.
К началу XVII века практически все – одежду, ремни, пуговицы, булавки, масло, рыбу, соль, перец, уголь – в стране производили и продавали монополии. Их было больше 700, и это был отличный источник пополнения казны. Но 700 приближенных, плативших королю за свои привилегии, перекрывали доступ к богатству для тысяч других. Группа самых удачливых и богатых была слишком маленькой. Число недовольных привилегиями «элиты» росло. У недовольных оказался сильный и активный представитель – парламент, где заседали люди, мечтавшие зарабатывать на производстве и торговле. Им не нравились монополии. Не нравилось и свободное обращение короля с правом собственности, не нравились и произвольные повышения налогов. Мирно договориться не удалось: вслед за спорами последовали гражданские войны и, ближе к концу века, Славная революция, ставшая ключевой для формирования в Англии современного государства.
Парламенту и всем, кто мечтал ограничить власть короля, помогло и еще одно обстоятельство. К XVII веку, после того как король Генрих VIII разорвал отношения с Ватиканом и разогнал монастыри, земли крупнейшего собственника – церкви – были перераспределены. В стране появилось множество новых землевладельцев, то есть новых экономических агентов со своей политической повесткой. В какой-то момент их совокупные силы оказались устрашающе серьезными: граждане, объединившись, могли собрать армию больше, чем корона, что и выяснилось во время гражданских войн 1640-х годов. Об этом писал Джеймс Гаррингтон, современник событий и мыслитель, впервые связавший распределение собственности и политическую власть. Монархия, считал он, может быть абсолютной, если королю принадлежит как минимум две трети земли в стране. Никаких двух третей у английских королей после многочисленных перераспределений не осталось: после Славной революции монарху принадлежала уже лишь десятая часть земли островного королевства (см. также данные об изменении структуры собственности в Англии в главе 4)[127].
2. Успех на Востоке
Русские властители справлялись с теми же вызовами гораздо лучше. Они их предотвращали. Раньше своих английских коллег осознав для себя опасность, они делали все, чтобы подчинить существующих игроков со своей повесткой дня и исключить возможность появления новых.
Между тем опасность появления новых собственников со своими интересами возникала постоянно, ведь Московское государство росло за счет присоединения новых земель. Новые земли – новые подданные и собственники. Носители иных ценностей, эти новые подданные могли быть угрозой для единого государства: московские правители понимали это и всюду наводили порядок. Чем больше становилась Москва, тем меньше московские князья были терпимы к независимости. Перераспределение собственности шло в России по пути ровно противоположному западноевропейскому.
В те времена, когда феодалы в Европе держали своих вассалов в строгом подчинении, у русских князей такой строгости заведено не было: бояре обладали невиданной для западных феодалов свободой. Они могли переходить со службы на службу, сохраняя при этом свою вотчину. Перемена места службы не касалась вотчинных прав, приобретенных в покинутом уделе. Служа по договору, вольный слуга «судом и данью тянул по земле и по воде» – отбывал поземельные повинности по месту землевладения. Эти отношения сводились к одному общему условию княжеских договоров: «А бояром и слугам межи нас вольным воля»[128].
Процессы шли в противоположных направлениях: пока западные землевладельцы были связаны, русские были сравнительно свободны. А когда землевладельцы на Западе стали грозной для монархов силой, русские князья энергично занялись централизацией управления и превращением собственности в держание, обусловленное службой. Великие князья требовали все больше верности, обещая в ответ все меньше гарантий[129].
Собиратель земель Иван III не просто захватывал и присоединял новые территории – он менял характер землевладения. После покорения Новгорода, чтобы обезопасить себя от непокорных новгородцев, князь давал им землю на новых местах, но уже не в наследственное, а в пожизненное владение, ставя их таким образом в полную зависимость от себя. В такое же положение ставил он и москвичей, которых переселял на новгородские земли[130]. Это было расширение через подчинение.
Иван Грозный продолжил дедовскую политику укрепления зависимости подданных. Поместья, то есть земли, новым людям, как правило, раздавались в пожизненное, а не в вотчинное наследственное владение. Причем теперь это положение было обусловлено службой. Иван Грозный развивал условный характер землевладения: поместье сохранялось за пожалованным, только если у него был сын, годный к службе. А не было сына – по смерти владение отбиралось в казну[131].
Постепенно решалась и проблема со старыми собственниками – бывшими владетельными князьями (ярославскими, суздальскими, тверскими и др.) и боярами. Сначала Грозный законодательно ограничил права продажи вотчин, права передачи их в монастыри и в приданое дочерям для некоторых князей. Потом распространил это ограничение на всех. У тех, кто умирал без детей, он велел земли «имати на государя», у тех, кто нарушил закон о продаже, приказывал «взяти на государя безденежно». Тем, кто не оставляет сыновей, разрешал завещать вотчины только братьям и племянникам, то есть тем, кто может нести службу. Завещать земельную собственность дочерям и сестрам нельзя – только царь мог определить, сколько можно оставить вдове в пожизненное пользование, а после ее смерти вотчина все равно отходила «на государя»[132].
Проведенное Грозным разделение страны на опричнину и земщину тоже было механизмом решения проблемы независимости. В опричное управление попали территории, на которых ранее существовали старые удельные княжества. Одной из ключевых задач опричнины, таким образом, было прерывание традиции вотчинного землевладения. Традиционные государства в государстве – уделы с их родовитыми «государями» – должны были исчезнуть. А с ними и вольности и прочие удельные права, включая право держать войско в несколько тысяч человек, с которыми княжата раньше приходили на государеву службу. Это было восстание против старых порядков, организованное самой властью. «Опричнина массами передвигала служилых людей с одних земель на другие… дворцовая или монастырская земля обращались в поместную раздачу, а вотчина князя отписывалась на государя. Происходил общий пересмотр и общая перетасовка владельческих прав»[133].
Речь, впрочем, шла не только о крупных собственниках – удельных князьях и вотчинниках. Грозный разделил слуг на тех, кто «слугует близко», и тех, кто «слугует отдалее», вне зависимости от их происхождения и богатства. Опричный террор был направлен не только против удельной фронды, но и против независимо («шляхетски») настроенных служилых людей. Конфискация земли у каждого, кто не «близок», кто не доказал своей готовности безоговорочно служить царской воле, в буквальном смысле этого слова выбивала почву из-под ног всякой оппозиции. С земель, взятых в опричнину, были согнаны около тысячи дворян и «детей боярских». Небогатые служилые люди составляли главную массу беглецов за рубеж, пишет историк Даниил Альшиц[134].
Эти новые правила не только решили стратегическую задачу установления контроля над игроками, но и пополнили казну. Впрочем, были у них и негативные последствия. Появление множества зависимых людей создало царю и его малочисленному «аппарату» массу новой работы. «Ручного управления», как сказали бы сегодня, стало гораздо больше. Государю приходилось теперь заниматься «поместным верстанием», то есть в буквальном смысле становиться опекуном своих подданных и решать вопросы содержания их престарелых родителей, их детей, жен и вдов. Если помещик чувствовал себя стесненным, то обращался к царю с ходатайством о прирезке к поместью новых земель. При этом время от времени случались и пожалования земли в вотчину – в наследственную собственность. Единой системы отношений, конечно, не было (ее и до сих пор нет): характер собственности зависел от воли царя.
В целом, несмотря на непоследовательность, Грозный в течение всего своего правления добивался одной цели: все прочнее связывал собственность и службу. На эту цель работали и завоеванные новые земли, и опричный передел. Земля не должна была кому-то принадлежать просто так, не должна была «выходить из службы».
3. Контроль как сверхзадача
Если в начале XV века две трети российских земель принадлежали боярам, князьям и церкви, а великому князю – всего треть, то к середине XVI века положение изменилось на противоположное: у знати и церкви – одна треть, а у великого князя, теперь уже царя, – те самые две трети. К концу царствования Ивана Грозного на Руси осталось только два значимых собственника – царь и церковь[135].
Служилый характер стал главной чертой правовых воззрений на собственность в русском государстве. Так что судьба других типов владения, в том числе крестьянского свободного землевладения и церковного имущества, должна была рано или поздно решиться в пользу государства.
В случае с церковными владениями мешало осознание божественной субъектности этого права. Пойти на решительный шаг смогла только Екатерина II. К 1764 году императрица сочла свое положение достаточно прочным и выпустила манифест о секуляризации церковных земель. Государство получило ежегодную прибавку к доходам, втрое большую, чем сумма, которую оно согласилось тратить на содержание церкви[136].
Крестьянский вопрос был масштабнее и сложнее. Судьба крестьян, так же как и судьба боярской аристократии, менялась по пути, противоположному западному. Каждому государству нужно содержать войска и поддерживать потребление. Но если в одних странах эти задачи решались постепенной эмансипацией населения, то в восточной части Европы – его постепенным подчинением.
На Западе огромный недостаток рабочей силы, вызванный Черной смертью, чумой, пронесшейся по Европе в середине XIV века, потряс основания феодальных отношений и позволил работникам требовать повышения заработков. Работники и арендаторы земель начали постепенно освобождать себя от обязательств перед лендлордами. Монархи пытались положить этому предел: Эдуард III в Статуте о рабочих приказал зафиксировать заработки на «дочумном» уровне и запретил землевладельцам переманивать работников друг у друга[137].
Эти попытки возобновить крепостные порядки оказались в конечном счете бесплодными – в стране начались волнения. Восставшие под водительством Уотта Тайлера дошли до Лондона. Волнения были подавлены, Тайлер казнен, но попыток требовать исполнения законов о фиксированных выплатах и запретов на миграцию больше не предпринималось. Феодальные правила постепенно вытеснялись отношениями, все больше походившими на рыночные.
Между тем на востоке Европы землевладельцы, наоборот, укрепляли свою власть над рабочей силой. В Польше, в восточной части Германии, в Венгрии работники становились все более зависимыми – количество времени, которое нужно было отработать на барщине, в течение XVI века выросло с нескольких дней в году до двух-трех дней в неделю[138].
Тот же процесс «вторичного закрепощения» шел и в России. В XVI веке, по мере того как увеличивалась территория страны, пространство вольности сужалось не только для служилых людей, но и для крестьян. Если в Западной Европе зависимые крестьяне именно в это время становились свободными земледельцами или свободными работниками, то на Руси свободные люди превращались в крепостных.
Некоторые историки объясняют вторичное закрепощение русских крестьян ростом спроса на восточноевропейское зерно со стороны Запада. Но русский помещик, в отличие, например, от остзейского, практически не имел возможностей вывозить свою продукцию. До того как порты Черного моря стали в середине XVIII века доступны русским, главным сельскохозяйственным экспортом Руси были пенька и лен, которые англичане закупали в Архангельске. При этом процесс закрепощения шел не вокруг Архангельска, а в центральных районах страны, не имевших выхода к морю. Василий Ключевский показал, что доля крепостных среди крестьян росла по мере приближения к Москве[139]. Москва как будто окружала себя подчиненными и крепостными.
Общим в экономической ситуации на Востоке и на Западе Европы был недостаток работников. «Ни один из факторов не сказался так сильно на закрепощении крестьян, как повсеместная нехватка трудовых ресурсов»[140]. Но если западным землевладельцам не удалось удержать в руках власть над рабочей силой, то восточные справились отлично.
Московские властители сумели построить вертикальную командную структуру, направленную на быстрое извлечение и использование ресурсов – пушных, земельных и человеческих. В их действиях была ясная логика, продиктованная обстоятельствами. Тогда это был, вероятно, самый короткий путь к процветанию и территориальному росту страны. Москвичи играли свою игру и оказались успешнее многих.
Историки, не только российские, охотно это признают. «Московское государство концентрировало усилия на жестко ограниченном наборе целей, прежде всего на сохранении военного и политического порядка, а точнее на стремлении избежать политического хаоса»[141].
Княжеский дом и боярская элита видели своей задачей собирание в единое государство большой, бедной, малонаселенной территории, жителей которой нужно было еще и мобилизовать на защиту от агрессивных соседей. Методы, найденные Москвой в XIV–XVI веках, оказались действенными. Москвичи с успехом решили четыре проблемы, с которыми сталкивалась каждая формирующаяся монархия, – проблему раздробленности, проблему обеспечения казны и мобилизации людей на службу и проблему разрешения конфликтов[142].
В то время как европейцам приходилось постоянно сталкиваться с попытками дворянства разделить власть с правящим семейством, московским монархам удалось получить мандат на царствование одной династии и целиком посвятить себя делу строительства империи. В то время как в Европе различные социальные группы постоянно ставили под вопрос легитимность монархий, у москвичей проблем, сопоставимых по масштабу, не возникало. Великий князь был верховным арбитром между сильными мира. Уже к концу правления Ивана III свидетельств политического сопротивления институту самодержавия не обнаруживается.
После долгих лет кровопролитных усобиц элита пришла к убеждению, что обществу необходимо принять неоспоримую власть одной династии. Установление политической стабильности было первым большим достижением Московского государства. Вторым достижением было создание механизма контроля над ресурсами. Если европейским монархам ради обеспечения короны деньгами приходилось вступать в сложные переговоры с различными слоями общества, московитам долго просить об этом не приходилось.
Третьим достижением стала (вынужденная) готовность дворян служить. Во времена, когда денег категорически не хватало, хорошо было иметь в распоряжении людей, которым можно было просто приказывать и которые обязаны были служить, если хотели сохранить свои поместья.
«Русские не только выжили, но достигли процветания, создав за очень короткий срок империю, растянувшуюся от Архангельска до Киева и от Смоленска до Камчатки», – пишет историк Маршалл По и подчеркивает долговечность описанных институциональных решений. Эти решения были приняты в конкретных исторических обстоятельствах, но продержались гораздо дольше, чем обстоятельства требовали. «С какой точки зрения ни посмотри, политическая культура Московского государства оказалась невероятно прочной. Она просуществовала в своей изначальной форме почти два столетия, а по мнению некоторых, в той или иной форме добралась и до эпохи модерна»[143].
Итак, все это бесспорные достижения, послужившие на благо формирующемуся государству. Оглядывая пять веков истории России, невозможно не признать величие ее военной мощи и масштабов территориальной экспансии. Если в качестве главных критериев успеха государства рассматривать площадь поверхности земли, находящуюся под его властью, и годы, в продолжение которых эта площадь удерживается, то России нет равных во всем мире. Да, у государств могут быть и другие достижения, но мы сейчас не о них: пространство и время, в отличие от свободы и благополучия, легко измерить.
Эстонский статистик и политолог Рейн Таагепера в 1980-х годах посчитал, сколько квадратных километров площади контролировала та или иная империя и на протяжении скольких лет, и сравнил империи разных эпох по этому показателю. Если рассматривать Московию, Российскую империю и Советский Союз как одно государство, то его результат, перед самым распадом СССР, составлял 65 миллионов «квадратных километролет». Ближайший соперник, Британская империя, показала всего лишь 45 миллионов «квадратных километролет», а Римская – 30 миллионов. Основываясь на статистических данных по всем империям, Таагепера утверждал (напомню, это было в конце 1980-х), что Российская империя в своих основных размерах, пусть и теряя отдельные участки территории, может просуществовать еще около четырех веков[144].
Русские властители слишком хорошо справились с вызовами эпохи становления государства, слишком хорошо, хотя и прямолинейно, решили проблему управляемости. С тех пор их последователи стали думать, что именно так надо поступать всегда, в любой исторической ситуации. В распространении этого убеждения сыграла серьезную роль и церковь, освятившая патримониальное самодержавие. Отметим, что те самые конфликты между самодержцем, приближенными и церковью, которые московские правители умели предотвращать, в Европе были питательной средой для развития самостоятельности отдельных социальных групп и вели к формированию договорных отношений между обществом и властью.
Принцип «верховенства безопасности» (или контролируемости) подчинял себе все остальные цели, в том числе развитие торговли и производства. Это привело к нескольким ключевым последствиям. Ради территориальных успехов приходилось жертвовать устойчивостью развития и не останавливаться ни перед какими затратами. Отсюда и готовность и умение поставить под контроль как дворянство, так и крестьян. Отсюда и готовность пойти на отмену тех индивидуальных прав, которые способны мешать эффективному освоению ресурсов, то есть прежде всего права собственности[145].
Еще одно измерение этого процесса – уничтожение республиканских институтов, возникших в Новгороде и Пскове. Вечевую «демократию», конечно, нельзя идеализировать. Важно лишь помнить, что это был институциональный путь, отличный от московского. В едином государстве, которое строили москвичи, права собственности и другие институты борьбы за интересы, не совпадающие с интересами государства, были помехой и вызовом. Веками россияне стремились обеспечить способность своей страны к ведению войны, используя методы силовой мобилизации ресурсов. А это в свою очередь подтачивало силы и ограничивало возможности для развития и интенсивного роста[146].
Фигура верховного правителя в те времена утвердилась не только на вершине административной пирамиды, но и во главе пищевой цепи. А еще точнее – во главе главного обеденного стола страны, расположенного в Кремле.
Приближенные получали при дворе денежное жалованье, но получали они и «дворцовый корм» – мясо, рыбу, вино, солод, сено. По праздникам боярам могла перепасть и более существенная «подача»: шуба или отрез дорогой ткани. Если царского подарка к празднику не было, то это был знак хуже некуда. Власть намекала, что может перекрыть доступ к кормлению – приходилось договариваться с нужным человеком или ждать опалы и перехода на подножный корм.
Петербургский период в истории России можно представить как длительное, но осознанное путешествие по пути, не совпадающему с московским. Появление регулярной структурированной госслужбы, армии, полиции, трансформация служилого владения в полноценное право частной собственности, появление развитой судебной системы, реформа местного самоуправления, отмена крепостного права и первые шаги к распространению права собственности на самое многочисленное сословие империи, крестьян, – это движение заняло 200 лет и – трагически – так и не было завершено. Но это было вполне последовательное движение к большей автономности как граждан, так и организаций и институтов. Это было движение от отношений, основанных на статусе, к отношениям, построенным на договоре.
Советская власть с точки зрения автономности и эмансипации оказалась не модернизирующей, а архаизирующей силой. «По ходу устройства в Кремле большевики унаследовали хронотоп, соответствующий апогею власти в этом месте в XVI–XVII веках», – пишет историк Тамара Кондратьева[147]. Новая власть на новом уровне воссоздала старинную систему отношений. Это получилось почти само собой. Кремль не мог не стать главным источником продовольствия и других благ для своих подданных просто потому, что новая власть уничтожила «петербургские» институты – прежде всего рынок и частную собственность, которые позволяли людям брать ответственность за свое благосостояние на себя. Власть, таким образом, должна была мгновенно накормить голодную страну и дать людям кров.
Парадокс еще и в том, что на смену «петербургскому» государству, не выдержавшему испытания сразу множеством угроз, включая испытание собственным размером, пришло новое, «московское», видевшее перед собой еще больше угроз. Для советского правительства принцип верховенства безопасности стал приоритетом номер один с самого момента захвата власти большевиками. Большевики были бескомпромиссными политиками. Для Ленина даже минимум расхождений в идеологическом символе веры был причиной для непримиримой вражды. Победившая секта отказывалась сотрудничать и с сектами близкого толка, и тем более со своими противниками.
Какие-либо институты, защищавшие интересы других, небольшевистских сил, – парламент, партии, включая идеологически близкие, общественные организации, компании и даже издательства – мгновенно оказались угрозами. Любая деятельность, не санкционированная правительством, стала угрозой.
Забота о материальном благополучии также стала угрозой. Советская Россия оказалась государством обязательного аскетизма. Только избранным было разрешено тайное благополучие – с санкции и при прямой материальной поддержке государства. Запрос на безопасность исторически преобладал в России над запросом на материальное благополучие, а в советском государстве это преобладание было утверждено идеологически и узаконено.
4. Безопасность как угроза
Борьба с различными угрозами – внутренними и внешними – была приоритетом для русского государства во все века его существования. Конечно, любое государство борется с угрозами. Собственно, в борьбе с ними оно и формируется. Вопрос в том, как с обеспечением безопасности соотносятся задачи развития.
Россия – государство, в котором экономическое развитие выполняет служебную функцию по отношению к «нейтрализации угроз», – полагает социолог Симон Кордонский. Министерства и службы видят смысл своего существования в увеличении количества угроз, в раздувании их масштабов и степени опасности – ведь от этого зависит финансирование госструктур[148]. «Поток неверифицируемой информации о потенциальных и актуальных угрозах идет не только вверх по иерархиям государственного управления, но и выходит в общегосударственное информационное пространство (в СМИ и в социальные сети), которое в результате оказывается насыщенным разнообразными сведениями: о проблемах конкретных людей, коммунальных и природных катастрофах, бедственном положении муниципалитетов и регионов, состоянии культуры, здравоохранения, образования, социальной защиты, военной организации государства и способности последнего противостоять внешней и внутренней агрессии»[149].
Таким образом, власть «питается» угрозами. Живет и воспроизводится, пугая граждан и саму себя. Зарабатывает, тратит и отнимает во имя борьбы за безопасность. Так что обеспечение безопасности – по-прежнему важнейшая фундаментальная ценность для русского государства с поправкой на то, что угрозы, на которые государство ссылается, в значительной степени фальсифицированы. Хуже того: поскольку множество угроз является ложью, раздуванием страхов ради бюджетных денег, мы на самом деле не знаем, что действительно угрожает российскому обществу. Мы получаем, с одной стороны, напуганных и недоверчивых граждан, а с другой – гарантированный тормоз для любых преобразований.
Любая реформа – это изменения, а изменения – это новые угрозы, а значит, шанс для «административного предпринимателя» получить дополнительный ресурс. Попытки модернизировать государство приводят к модернизации набора угроз. Вот поэтому реальным результатом приватизации оказывается консолидация нефтяных и энергетических ресурсов. Вот поэтому реальным результатом политической либерализации оказывается ужесточение политики по отношению к любым независимым игрокам – некоммерческим организациям, правозащитникам, оппозиционным политикам, этническим и сексуальным меньшинствам.
Стоит одной части правительства выступить с планом преобразований, как другая часть выстраивается перед правителем с новым списком угроз, которые якобы могут быть вызваны этими преобразованиями. Одни рассказывают о том, насколько опасно размывание активов государства. Другие – о том, как опасны правозащитники. Третьи – о том, в какую цивилизационную пропасть ведет страну терпимость к меньшинствам, поддержка неправильного кино, введение единого госэкзамена и далее по всем пунктам. Так делаются большие деньги и целые состояния – на умении хорошо рассказать и продать главному слушателю страшную историю о будущем. Это, впрочем, не так сложно в среде, и без того пропитанной недоверием к внешнему миру. Несколько новых деталей и цифр, добавленных к привычным сюжетам о коварстве американской внешней политики и крушении государств, – и вот вам новые бюджетные ресурсы и полномочия. А следом и новые виллы в Европе, и возможности для обучения в лучших мировых университетах. Таким вот парадоксальным путем хотя бы небольшая часть бюджета все-таки расходуется на качественное образование.
Пропасть между официальной риторикой и реальными действиями властей, таким образом, говорит не о шизофрении в голове одного человека, а об относительном успехе одних продавцов ужасов перед другими. Те, кто утверждает, что страна скатится в пропасть, если правитель не установит хороший инвестиционный климат, явно проигрывают тем, кто говорит, что страна скатится в пропасть из-за однополых браков, из-за деятельности неправительственных организаций и из-за революции в Киеве.
Угроза революции так или иначе обыгрывается постоянно. Ссылаясь на нее, силовики давно научились обеспечивать себе широкий простор для деятельности. Можно врываться в квартиры граждан, брать все что угодно, проводить тысячи допросов и десятки арестов по принципу «потом разберемся». Официально чрезвычайного положения нет, но de facto оно есть.
Режим экстраординарности, в который российские политики умеют вводить общество, резко увеличивает поддержку любых чрезвычайных мер со стороны власти[150]. Это, впрочем, объяснимо. В российской системе власти чрезвычайное право всегда где-то недалеко, ведь советская правоохранительная система родилась именно как чрезвычайная. Ее задачей была защита революции и – позже – власти, а не прав граждан. Да и чекисты все-таки были «боевым отрядом партии», а не общества. Пока «московский» режим власти продолжает действовать, вопрос состоит в том, кто играет роль «партии», а не в том, готово ли российское общество к чрезвычайным мерам. Готово, потому что не успело по-настоящему от них отвыкнуть и потому что система «требует» все новых и новых угроз.
Необъявленное чрезвычайное положение пронизывает экономику и политику давно. Меняется только его интенсивность и охват. Мало ли откуда придут угрозы – стране нужен список стратегических предприятий. Это не важно, что России необходимы инвестиции. Страх смутной угрозы руководит и политикой. Сначала он заставляет пообещать вернуть губернаторские выборы, а потом – так составить закон, что лучше бы и не возвращали. Страх формирует и настроения бизнеса. Долгосрочное планирование в такой обстановке невозможно. Чемоданные настроения стали повседневной реальностью бизнеса: роль чемоданов давно выполняют недвижимость за границей, паспорта и визы.
Стремление к безопасности, таким образом, само может быть угрозой. Именно в силу этой угрозы людям, если они хотят с гарантией реализовать и защитить свое право на жизнь, свободу и собственность, приходится делать это за пределами страны, в которой мастера по безопасности обладают властью, не ограниченной прозрачными правилами.
Нет нужды повторять, что безопасность – одно из фундаментальных общественных благ, с которого современное государство когда-то начиналось и за предоставление которого оно отвечает перед гражданами. Никак нельзя перестать считать это благо одним из важнейших. Можно сравнить всю ситуацию с дверью: одни концентрируются на том, насколько хорошо дверь открывается и закрывается. Возможность войти и выйти в этом случае оказывается на первом плане. Другие же (и это наш случай) концентрируются исключительно на качестве замка. На первом плане в этом случае оказываются ключи и хранители ключей.
Глава 7. Работники: моральная экономика и искусство выживания
1. Плуг, коса и топор
Крестьяне – самое бесправное и одновременно самое опасное для власти сословие; главный источник государственного благополучия и одновременно пороховая бочка для общества и государства. Ни одной из ипостасей российской власти не было с ним легко.
Оглянувшись на два, три, четыре поколения назад, большинство из нас обнаружит свои крестьянские корни. Мы не так давно живем в городе, чтобы полностью потерять связь с предками. Может быть, в этой наследственности нужно искать какие-то объяснения нашей сегодняшней ситуации? Крепостное право, крестьянская община, занимавшаяся переделом и равнением земли? Колхозы, лагеря? Действительно ли мы унаследовали нетерпимую к новациям уравнительную культуру подчинения и зависимости? Насколько, иными словами, Россия «игом рабства клеймена»?[151]
На протяжении большей части писаной истории русские крестьяне были убеждены в том, что они обладают правами на землю, считал правовед-цивилист Борис Ельяшевич, работавший в начале XX века и заканчивавший свой очерк истории права собственности в России в эмиграции. Древнейшие документы свидетельствуют, что сами крестьяне свое право видели так: «земля Великого Князя, а своего владения». Ельяшевич говорит об изначальном существовании двух параллельных прав на одну и ту же землю – права крестьянина и права вотчинника. Этот конфликт, не имевший четкого правового выражения, проявлялся в разные моменты истории в разных формах и до революции 1917 года так и не был разрешен.
Крестьянин приобретал право на землю в тот момент, когда оседал на ней и начинал трудиться. Это право можно назвать трудовым, потому что приобреталось оно в меру труда. Владение или, по крестьянскому выражению, «посилье» определялось пространством «покамест плуг, и коса, и топор ходили». «По силе» определялись и налагаемые на него повинности. Земля могла приобретаться у другого хозяина. Но важно, что право прекращалось, если прекращалась работа на земле. Крестьянин сохранял право, пока тянул тягло, то есть платил и натурой, и работой. Продажа земли виделась как готовность отступиться от права работать[152].
Право свободного выхода для крестьянина – синоним свободы. Возможность сняться с места всегда хотелось иметь в запасе. И на протяжении большей части истории такая возможность у крестьян была. Фактически, право ухода было ключевым регулятором правового и экономического положения крестьян. Сами крестьяне считали это право древнейшим и неотъемлемым. Именно поэтому закрепощение было долгим и трудным процессом, а память о свободе передвижения в народном сознании не умирала веками.
Когда Петр III и Екатерина II сделали дворян почти свободными (почти, потому что только немногие по-настоящему обеспеченные помещики могли воспользоваться плодами свободы), отвязав собственность от службы, крестьяне сделали такой вывод: раз освобождены от службы дворяне, то освобождены от службы и крестьяне. В крестьянской среде пошли слухи о том, что были изданы два манифеста, но второй, провозглашавший крестьянскую вольность, скрыт господами (это сквозная история: крестьяне на протяжении всего крепостного периода были уверены, что господа скрывают вести о царской милости). В конце концов правительству пришлось выпустить особый указ, чтобы не допустить волнений. Крестьяне помнили о том, что их прикрепленность к земле есть выражение государственных потребностей, а не следствие принадлежности тому или иному владельцу. Крестьяне, особенно государственные, считали себя свободными людьми – гражданами, которые платят налоги и обладают правами: «Это представление у крестьян было тем естественнее, что, несмотря на петровские (и даже на ряд Петру предшествовавших) преобразования правового статуса государственных крестьян в направлении уравнения их с крепостными с тем только отличием, что господином над ними должно почитаться государство, в среде казенных крестьян продолжало сохраняться убеждение (до некоторой степени остававшееся и в законодательстве) в том, что они являются вольными людьми, на праве собственности владеющими обрабатываемой землею и обязанными государству не как земельному собственнику, но именно как государству в нашем современном понимании – то есть как публичной власти, имеющей право на взимание налогов, на обременение различными государственными повинностями, но вне владельческого права»[153].
Положение крепостных крестьян было еще более сложным. Официально речь о введении права помещиков или других субъектов права «владеть» крестьянами никогда не шла. Столетиями власти действовали только с помощью временных ограничений – сначала сезонных (знаменитый Юрьев день – время после сбора урожая и до начала зимы, когда выход был разрешен), а позже годовых. Иван Грозный превратил временную меру в постоянную и объявил «заповедные» годы – такие, в которые «выхода» нет. Позднейшие цари так же боязливо действовали полумерами, то создавая видимость открытого выхода, то отменяя его, пытаясь одновременно не разозлить дворян и не посеять смуту среди крестьян. Окончательно выход был закрыт после Смутного времени. Решением экономических проблем государства мог быть, как считалось, только привязанный к земле крестьянин[154].
Драма закрепощения заключалась в том, что права и возможности отнимались постепенно, недомолвками и обманом. Формального, последовательно оформленного правового института под названием «крепостничество» в России не было. Господствующее положение сословия землевладельцев оформлялось от царствования к царствованию запретами и указами, принимавшимися по случаю. Крестьяне могли вступать в экономические отношения с другими сословиями задолго до появления к тому правовых возможностей: они выкупали мельницы, пастбища, даже целые деревни, записывая права собственности на дворян.
Более того, когда такие возможности появлялись, крестьяне охотно вступали в правовые отношения между собой и с другими сословиями и были готовы отстаивать свои интересы. Об этом говорит, например, проведенный американской исследовательницей Трейси Деннисон анализ архивов одного из имений Шереметевых, села Вощажниково Ярославской губернии. На территории этого поместья Шереметевы, по сути, создали для крестьян правовое государство в государстве. Крестьяне могли зарегистрировать сделку у нотариуса, могли обратиться в суд, а вотчинные власти действовали в качестве судебных приставов, исполняя решения суда.
В вотчинном архиве сохранились сотни контрактов, заключенных крестьянами. Не полагаясь на мир (общину), на патриархальные устои и семейные связи, шереметевские крепостные отправлялись к «нотариусу». Имея доступ к правовым механизмам, крестьяне с удовольствием ими пользовались, и это лишнее доказательство отсутствия какой-либо врожденной крестьянской склонности к коллективизму и бесправию[155].
Беда в том, что доступные крестьянам институты были ненастоящими. Это были либо внутренние институты, созданные просвещенными помещиками и не имевшие правового значения для государства, либо личные, теневые сделки, также остававшиеся за пределами права. Правда закона и правда факта расходились сильно. «Как бы крепки и сильны ни были отдельные крестьянские хозяйства, правовая система крепостничества самым губительным образом сказывалась и на них, создавая ситуацию негарантированности любых их приобретений, невозможности законной защиты своих прав», – пишет современный историк Андрей Тесля[156].
Правовая двойственность характерна для сословного общества. Правами обладало каждое сословие, но сами сословия не были равны по весу и влиянию. Интересы дворянства защищались лучше других, но даже в их положении не было окончательной определенности, ведь, чтобы ответить на чаяния дворянства, нужно было открыто отдать ему крестьян в собственность. Разработка проектов законодательного оформления крепостного права велась со времен Петра I. Но власть, опасаясь, что правовая определенность может взорвать страну новыми крестьянскими войнами, отказывалась произнести последнее слово[157].
Больше того, в повестке дня русских монархов XIX века вопросы сохранения крепостного права соседствовали с идеями освобождения крестьян. Возможные решения этой нерешаемой задачи обсуждались постоянно – неформально и тайно, – но никакого воплощения не имели и не могли иметь. Первые законы, начавшие движение к раскрепощению, были приняты меньше чем через 20 лет после появления екатерининской Жалованной грамоты дворянству (1785; о ней речь ниже). Екатерина даже планировала издать жалованную грамоту государственному крестьянству, но не довела дело до конца, осознав, что любой законодательный акт в этой области может взорвать хрупкое равновесие в отношениях между властью и остальным населением.
Понимание, что из ловушки нужно выходить, было всегда. Но страх перемен сковывал политиков в самый ответственный момент. Александровский указ 1801 года позволил всем лицам свободных состояний – это было особенно важно купеческому сословию – приобретать в собственность ненаселенные земли. А через два года указ о вольных хлебопашцах, выпущенный по частному поводу, впервые описал правовой статус крестьян, выходящих из крепостной зависимости.
На свободу они могли выходить только по желанию помещика, а желающих освобождать крестьян было немного. И при Александре I, и при Николае I продолжались щедрые пожалования земель с крестьянами. Так что, по сути, государственные крестьяне переводились в крепостное состояние одновременно с тем, как другие крепостные переводились в государственное состояние. Баланс, впрочем, был в целом положительный – доля крепостных в крестьянском населении с начала XIX века к моменту отмены крепостного права постепенно уменьшалась. По состоянию на 1857 год частновладельческих крестьян в империи было 42 %, государственных – 52 %, а удельных, то есть принадлежавших императорской семье, – 6 %[158].
Николай I, как и его брат Александр, понимал, что освобождение крестьян необходимо, но был убежден и в том, что страна не выдержит реформы: «Нет сомнения, что крепостное право, в нынешнем его положении у нас, есть зло, для всех ощутительное и очевидное, но прикасаться к нему теперь было бы делом еще более гибельным»[159].
Крестьянская реформа – классический образец политической меры, которая всеми признается необходимой, но откладывается, потому что общество считается к ней не готовым. Консервативная власть боится нарушить равновесие между теми, кто за, и теми, кто против, ошибочно думая, что сложившееся социальное равновесие – единственно возможное. Если власть полагает безусловным приоритетом социальный порядок и политическую стабильность, это значит, что правитель боится задеть чьи-то интересы и в результате позволяет себе только меры, которые никаких существенных интересов не задевают, а значит, ничего не меняют.
В этом ключе и действовал Николай I. Во второй половине 1830-х годов император согласился на упорядочение положения государственных крестьян с формальным закреплением сельского общества как коллективного владельца общинных угодий и введением некоторых элементов самоуправления. В начале 1840-х разрабатывался законодательный акт, устанавливающий новые правила выхода крестьян из крепостной зависимости, но он был принят в такой выхолощенной форме (указ об обязанных крестьянах, 1842), что практически не имел для крестьян никаких последствий.
2. Моральная экономика
Впрочем, некоторые последствия были, но не для крестьян. Указ привлек внимание прусского правоведа барона Августа Гакстгаузена, интересовавшегося институтом сельской общины. Гакстгаузен опубликовал благожелательную статью об указе. Русский посланник в Берлине доложил о статье министру государственных имуществ Павлу Киселеву. Министр доложил императору, а тот велел пригласить Гакстгаузена в Россию и даже выдать ему значительный грант, 1500 рублей, на исследование земельного вопроса.
Путешествие прусского правоведа было кратким и ограниченным по охвату. Он пробыл в России менее года (в 1843-м), проехал несколько тысяч километров, большую часть времени проведя в дороге. Сопровождавшему Гакстгаузена чиновнику было поручено незаметным образом «отстранять все то, что могло бы сему иностранцу подать повод к неправильным и неуместным заключениям». Везли гостя, в частности, по тем регионам, где Киселев в 1837 году провел реформу казенной деревни. Суть реформы состояла в создании вертикали ответственных за крестьян ведомств, то есть во вполне прогрессивной по тем временам бюрократизации управления, совмещенной с официальным закреплением общинного порядка землепользования и отчетности. Последствия этой реформы в основном и наблюдал Гакстгаузен[160].
Гость, впрочем, заранее знал, что хотел увидеть. У Гакстгаузена уже было готовое представление о «славянском общинном наследии», признаки которого он нашел, как он считал, в пограничных со славянскими землями сельских районах своей страны. Прусский романтик был уверен, что именно община, или крестьянский «мир», и есть главная культурная особенность славян. Ведь славяне, полагал он, сохранили – в отличие от западноевропейских народов – этот исконный «республиканский» институт. Барон был убежден, что открыл особый ментальный тип, который соответствует общине. Именно благодаря особому менталитету в общине господствует гармония, и все разногласия решаются коллективно, без обращения к суду и формальному праву, а частная собственность, социальное неравенство и прочие недостатки капиталистического общества полностью отсутствуют[161]. На основе своих изысканий и размышлений Гакстгаузен написал трехтомный труд о жизни и земельных отношениях в России, который оказал огромное влияние на внутрироссийскую дискуссию о настоящем и будущем страны.
Благодаря Гакстгаузену Александр Герцен увидел в крестьянском общинном мире «крепость, оставшуюся неприступной в веках», надежду социальной революции и обещание великого русского будущего[162]. Вскоре представление о том, что русский народ искони отвергал западный институт частной собственности на землю, стало для интеллектуальной элиты само собой разумеющимся. Таким оно было и для Льва Толстого. В 1865 году он писал в дневнике: «Всемирно-историческая задача России состоит в том, чтобы внести в мир идею общественного устройства поземельной собственности… Эта идея имеет будущность. Русская революция только на ней может быть основана»[163].
Славянофил Алексей Хомяков утверждал, что именно он первым открыл русскую общину. Хомяков и Гакстгаузен встречались, и их беседа, возможно, действительно повлияла на прусского правоведа. Но кто бы ни был первооткрывателем, и славянофилы, и Герцен, и Толстой были уверены в древности и славянском происхождении общины. Статьи либерала Бориса Чичерина, уверявшего современников в том, что община представляла собой институт фискального управления, являющийся, к тому же, сравнительно поздним имперским нововведением, не помешали укреплению возвышенного мифа о русской общинности[164].
В действительности общинность – не национальное, не романтическое, а вполне общечеловеческое и во всех смыслах приземленное явление. Нет никаких сомнений в том, что практика периодического передела земельных наделов, как и практика совместного управления общей собственностью, существовала и существует в аграрных обществах всего мира. Антропологи предполагают, что в коллективах охотников-собирателей, где во многом и сформировалась человеческая природа, умеренные формы перераспределения давали группе преимущество перед другими группами, в которых перераспределения не было[165].
Коллективные формы организации в аграрных обществах – это проявления того, что антрополог Джеймс Скотт называет «этикой выживания» (subsistence ethic). Для крестьянина неурожай есть прямая угроза его жизни. Один из способов справляться с рисками неурожаев – делить риски поровну. Так в крестьянском сообществе формируются отношения, которые позволяют выжить в трудные времена.
Со временем общины разбились на два типа: наследственные и передельные, в которых площадь земли, отведенной семье, подлежала регулярному пересмотру. Передел мог осуществляться по-разному, но главной его целью было обеспечить соответствие между количеством земли и трудовым потенциалом семьи[166].
Общая собственность на пастбища и периодические переделы пашни – это стратегии выживания, которые были когда-то общими для французских, русских и итальянских крестьян, они свойственны некоторым развивающимся обществам и сегодня. Суть этих установок – стремление обеспечить всем членам сообщества, и сильным и слабым, минимальный прожиточный минимум в тех размерах, в которых это позволяют сделать имеющиеся ресурсы. Скотт назвал это «моральной экономикой». Ее главенствующий принцип – выживание сообщества превыше всего[167].
В Европе деревенская община как коллективный орган, надзирающий за распределением земли, за использованием ресурсов общего пользования и за поддержанием социального порядка, сформировалась в позднее Средневековье и к началу XIX века уже переживала закат[168].
В России община стала передельной довольно поздно. Одно из объяснений этому состоит в том, что переделы возникли в ответ на подушный налог, введенный Петром I и впервые собранный в 1724 году[169]. Связь между налогом и переделами историки проводят в силу отсутствия свидетельств о переделах до введения налога. Не исключено, что передел мог быть ответом и на рост численности населения и сопутствующую нехватку земли. Так или иначе, с большой вероятностью можно говорить, что переделы начались в России в середине XVIII века[170].
В силу небольшого количества данных о ситуации XVIII века известно немного. Но благодаря последующему стремительному развитию бухгалтерской культуры мы знаем, что уже в начале XIX столетия община в России активно используется управляющими имениями и государством в качестве налогового и административного института. Ее существование узаконивается сначала для государственной деревни, а после реформы 1861 года и для бывшей помещичьей.
Владельцы могли решить, нужно ли, чтобы подушному налогу соответствовало пропорциональное распределение земли. Историк Стивен Хок, изучивший подворные описи, приходные и расходные книги (за первую половину XIX века) тамбовского села Петровского, принадлежавшего князьям Гагариным, обнаружил, что управляющие имениями именно это и делали: требовали, чтобы община распределяла землю пропорционально числу работников в семье. Такой же порядок поддерживался в общинах государственных и удельных крестьян. Можно без преувеличения сказать, что эта практика не больше свидетельствует об исконной склонности русских крестьян к эгалитарности, чем одинаковое распределение станков в заводском цехе[171].
Что делает община? Она распределяет земельные наделы, определяет расходы общинного «бюджета» и обращается в центральную контору имения с прошениями и жалобами. Община следит за разделениями семей, определяет кандидатов на призыв в армию, ведает обработкой общинных земель, необходимых для обеспечения запасов зерна на случай неурожаев, распределяет рабочие обязанности. Община также служит «юридическим лицом» во всех отношениях с местными властями, собирает и платит подати и другие сборы, дает необходимые взятки, может привлекаться к ремонту дорог и мостов, а в военное время – к обеспечению войск транспортом, продовольствием и постоем[172].
Бедняки, середняки, кулаки – это, как правило, стадии развития семей, а не прочные социальные позиции, как пытались доказывать советские идеологи. Патриархальное сообщество заботится о перераспределении благ от тех, кто моложе, к тем, кто старше. Гарантировать такое перераспределение можно только в большой семье. Большие семьи поощрялись системой отношений: управляющие или сами главы семейств при поддержке управляющих ограничивали отделение молодых семей от старых домохозяйств. В результате формировался доминирующий слой крестьян, в котором лидерство определялось возрастом. Домохозяйства, состоявшие в среднем из восьми – десяти человек и объединявшие, как правило, три поколения крестьян, обеспечивали и бесперебойную работу на помещика, и достойную старость «большаку», главе семейства. Интересы старших в большинстве ключевых вопросов совпадали с интересами собственников имения[173].
Военная служба была способом избавиться от бедных домохозяйств и проблемных членов общины. Семейства, не соответствовавшие стандарту патриархальных трехпоколенческих домохозяйств, были практически не застрахованы от экономического краха, если их главы становились жертвой болезни или несчастного случая. В интересах общины и управляющего имением было отправить таких крестьян на военную службу: снижалось количество рекрутов из больших, «успешных» семей, снижалось количество семей, которым была нужна помощь. Кроме того, это был еще один способ сгладить экономическую дифференциацию. В рекруты могли также попасть лентяи, люди, склонные к воровству, сыновья пойманных на воровстве, судимые, вдовцы, калеки, виновные в пожарах, крестьяне, конфликтовавшие с управляющим[174].
Принудительные работы распределяли по тяглам (рабочая единица – муж и жена), а отвечали за исполнение смотрители и нарядчики из крестьян. Ленивого наказывал не управляющий, а старший по возрасту или положению. Налоги рассчитывались подушевым образом, а отвечала за выплату вся община, так что пытаться увиливать от работы и податей было довольно опасно – свои первым делом и накажут – вплоть до того, что забреют в армейскую службу. Если один из крестьян был пойман на воровстве, то тот, кто знал о происшествии, но не сообщил об этом, тоже нес ответственность. Желая начать отдельное хозяйство, молодой крестьянин должен был бы идти против интересов собственного отца. В этом и заключалась гениальность института: издержки принуждения несла сама община. Интересы коллектива и власти совпадали.
Без насилия эта система существовать не могла. Старики и управляющие постоянно сталкивались с сопротивлением молодых поколений. В упомянутом селе Петровском в 1826–1828 годах по крайней мере 79 % взрослых мужчин были подвергнуты порке, 24 % – больше одного раза. На все 1305 душ, мужского и женского пола, было 714 случаев порки[175].
Перед управляющими стояло две очень разных задачи – предотвращать нарушения общественного порядка и мотивировать крестьян к работе. Средство воздействия было при этом одно – применение силы. Судя по избираемым наказаниям и по их сравнительной тяжести, задачи поддержания социального порядка всегда оказывались важнее производственных задач. Это существенный вывод: задача обеспечения доходов помещика оказывалась менее важной, чем задача обеспечения порядка. Социальный порядок оказывался важнее экономической логики: безопасность превыше всего. Это оборотная сторона «морали» в моральной экономике.
3. Общинники против собственников
Если власти и не формулировали проблему таким образом, то осознавали ее несомненно. Только опаздывали с конкретными действиями. Цепочка реформ и изменений законодательства, начавшаяся с 1861 года и продолжавшаяся вплоть до краха империи, была как раз и призвана сделать сельскую экономику более рациональной.
Легко и быстро переключить общество с общинной экономики на индивидуальную не получилось. Изменения оказались мучительными, в чем виноваты и реформаторы, и объективная сложность задачи. Реформаторы проводили преобразования, не отказываясь от сословного права, а значит, пытались модернизировать хозяйство и общество, сохраняя при этом архаичную установку на господство дворянства и поддерживая архаичный институт общины. В результате условия освобождения оказались тяжелыми. Они заставляли многих крестьян держаться за общину.
Старую «программу выживания» власти пытались отменить, не дав людям новой, адекватной «программы развития». В основу «программы развития» могла бы лечь собственность, но этого не произошло, поскольку далеко не всеми она воспринималась как благо и спасение. Введение земельной собственности означало быстрое измельчание наделов и необходимость долгие годы платить за землю. Земля при этом росла в цене: с 1861 по 1901 год – в 7,5 раза, а по некоторым данным – и в 10–13 раз. «Фактическое уменьшение надела, тяжелое бремя выкупных платежей, кабальные условия аренды не способствовали установлению социального мира»[176].
Кроме того, прямым результатом сохранения общины в России стал переизбыток рабочей силы, составивший к началу ХХ века от 5 до 33 миллионов человек. Наличие такой огромной армии наемных работников было также одной из причин низкой заработной платы не только в деревне, но и в городе[177].
Нужно признать, что задача была и объективно сложна: общество не может меняться так быстро. Общинная справедливость стала призмой, через которую крестьяне, по крайней мере в Центральной России, смотрели на мир. Идея уравнения всех владений по общинному образцу не только не ушла в прошлое, но укрепилась в народном сознании и стала для многих (не для всех!) картиной идеального будущего. «В общинах производится через известный срок передел земли, равнение между членами общины, – писал в знаменитых «Письмах из деревни» Александр Энгельгардт. – При общем переделе будет производиться передел всей земли, равнение между общинами. Тут дело идет… об равнении всей земли, как помещичьей, так и крестьянской. Крестьяне, купившие землю в собственность, или, как они говорят, в вечность, точно так же толковали об этом, как и все другие крестьяне, и нисколько не сомневались, что эти земли могут быть у законных владельцев взяты и отданы другим»[178].
Древняя идея трудового права и идея служения царю, а не помещику держались в крестьянском сознании прочно. Собственность помещика – это результат вложений крестьянского труда, оставшегося без вознаграждения. Великий «передел» земли, о котором мечтали крестьяне, должен был всего лишь сделать их из помещичьих работников государственными. Даже Пугачев в своих планах не шел дальше. И через 100 лет после Пугачева, накануне реформы 1861 года, крестьяне не ждали большего: «Они ждали, что их уволят со всей землей, и они будут жить как казенные и отбывать равные с ними повинности одной казне»[179].
Революционность столыпинской аграрной реформы заключалась в том, что она, в отличие от всех предыдущих, поощряла единоличную собственность, а не общинную. Современникам перемена ветра была очевидна. «Всего за два года до начала реформы „господствующий класс“ был склонен поощрять развитие общин, а не запрещать их. Как объяснить это неожиданное изменение?» – задавался вопросом Александр Чупров, статистик и экономист, автор статьи о русской общине, написанной в 1909 году для английского Economic Journal, редактором которого был тогда Джон Мейнард Кейнс[180].
«Произошли два события, из-за которых землевладельческая знать, в защиту которой выступило правительство, возненавидела общину и начала бояться ее: крестьянское восстание 1905–1906 годов и предложенная Первой думой аграрная реформа», – писал Чупров[181].
Эсеры и трудовики, видевшие себя представителями крестьянства, требовали полного передела всей частной сельскохозяйственной земли в пользу крестьян, причем без всяких компенсаций собственникам. Кадеты предлагали увеличить крестьянское землевладение за счет государственных, удельных и монастырских земель, а также принудительно выкупать земли у частных владельцев и безвозмездно передавать крестьянству.
В этой ситуации принцип верховенства безопасности, которому всегда следовало российское государство, требовал уже не спасения социального статус-кво, как раньше, а формирования новых институциональных препятствий «большому переделу», к которому склонялось общество. Власти поверили, что распространение права частной собственности на максимально широкую массу населения рассредоточит и индивидуализирует «горючий материал», то есть крестьянство (выражение Петра Столыпина).
Но все влиятельные политические силы в обществе были, как мы видим, настроены против института частной собственности. Его полноценными сторонниками были лишь консервативные дворянские организации и само правительство. «Начало неотъемлемости и неприкосновенности собственности является во всем мире и на всех ступенях развития гражданской жизни краеугольным камнем народного благосостояния и общественного развития, коренным устоем государственного бытия, без коего немыслимо и самое существование государства», – говорил перед Первой Государственной думой председатель Совета министров Иван Горемыкин. Эта речь, содержащая явные отголоски идей Просвещения и еще за 100 лет до того воспринимавшаяся бы революционно, в начале ХХ века звучала лишь как попытка подыскать еще один аргумент в поддержку обреченного деспотического режима[182].
Насколько реалистично было рассчитывать провести глубокую институциональную трансформацию в пользу частнособственнической культуры в таких политических условиях и в пожарном, по сути, порядке? Трагический вопрос.
Но реформа была предпринята. Первая Дума, открывшаяся весной, была распущена летом, а уже осенью появился указ, первый и главный документ столыпинской реформы, который предоставлял каждому владельцу общинного надела право закрепить его в личную собственность (указ от 9 ноября 1906 года «О дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования»). Крестьянин мог обратиться с «требованием» к общине, которая должна была в течение месяца принять решение, «приговор». Если решения не было, то крестьянин мог обратиться к земскому начальнику, а если и там не было результата, то к уездному собранию и, в исключительных случаях, к губернским властям[183].
Указ стремился разрешить и проблему чересполосицы. Крестьянин мог потребовать от схода нарезать выделенный ему в собственность участок в одном месте. Если договориться не удавалось, то можно было рассчитывать на денежную компенсацию от общины, размер которой определял волостной суд. Размер компенсации не всегда устраивал заявителя, и ему в этом случае приходилось мириться с теми же разрозненными полосками, с которыми он имел дело раньше.
Принятые в дальнейшем законы вносили изменения в процесс закрепления наделов в собственность и порядок надзора за ходом землеустройства, но логика реформы сохранялась – индивидуальные хозяйства должны были вытеснить общину. Процесс между тем шел трудно и медленно.
Власти стремились пропагандировать частную собственность. К 300-летию дома Романовых ряд единоличных хозяйств был премирован, описания этих «пионеров новых форм земледельческого труда» были опубликованы. Но доверия к пропаганде не было: «общинники» ненавидели «собственников» и наоборот. Большинство хозяйств (93 %!) выходили из общины без ее согласия. После указа 1906 года в деревне появилась своеобразная «политическая» партийность: «Кто более убежден правительству, тот считает выгоднее подворное, а кто против правительства, тот общину»[184].
Свидетельства, собиравшиеся исследователями в ходе столыпинской реформы, иллюстрируют эту картину: «Выделенцы для общины являются самыми вредными, потому что поддерживают сторону правительства… Министры и все высшие власти… есть самые крупные помещики, владеют праздно по нескольку тысяч десятин земли, а выделенцы – дураки, укрепляют только по 4 или 5 десятин на душу». А вот антиобщинное: «Всему мешает община: во-первых, нищенские усадьбы; во-вторых, если у кого есть охота развести сад, крестьяне к нему относятся с презрением… Просто поломают все деревья. А если огородину: расхитят. Община и ожидание прирезок избаловала крестьянина и оставила дикарем». Крестьяне все-таки выходили из общины и, как тогда говорили, «укрепляли» землю в собственность. В Поволжье, например, лидером процесса «укрепления» земельной собственности была Самарская губерния: к 1916 году там насчитывалось почти 30 % «выделенцев»[185].
Всего за восемь лет реформы 36,7 % домохозяев подали заявление о выходе из общины. Только Первая мировая война помешала провести реформу для большинства крестьян[186].
Столкновение двух принципиально разных порядков общественного устройства было начато реформой, а завершено революцией. Требования конфискации частновладельческих земель были слышнее, чем медленный и бюрократический процесс закрепления земли в собственность. После революции общинники начали борьбу с собственниками – «выделенцев» возвращали в общину силой. С собственниками боролись как со сторонниками царского правительства, участвовавшими в попрании справедливости. Победой «общинной революции» (точнее, архаизации) можно считать весну 1918 года, когда по всей стране начался новый передел земли и все формы землепользования, кроме общинной, прекратили свое существование. Моральная экономика взяла реванш[187].
4. Диктатура коллектива
Мы видели, что при общинном строе социальный порядок оказывался важнее экономической целесообразности. На «качественное» принуждение к труду не оставалось, так сказать, нужного количества розог. Все усилия уходили на поддержание порядка как такового. А усилия были нужны, поскольку моральная экономика легко уживалась с двойными стандартами морали. Если важнее всего выживание семьи, то нарушение закона ради выживания не грех: «Нужда закона не знает». То, что считалось преступлением с точки зрения органов правосудия, в конкретной ситуации могло быть признано крестьянским миром допустимым. «Веками настроенная на коллективное выживание община формировала у своих членов правосознание, соответствующее этой сверхзадаче: кради, если это отвечает интересам твоего хозяйства и не задевает хозяйственных интересов общины; не плати долгов, за которые община не отвечает по круговой поруке; убей, если конокрад угрожает общему стаду». С другой – крестьяне, скрывавшиеся от судебной или административной ответственности, пользовались гарантированной поддержкой мира – односельчане своих не выдавали[188].
Крестьяне села Петровского, речь о котором шла выше, рассматривали порку за воровство и за плохую работу (78 % всех провинностей) как неизбежность, как естественную часть жизни. Управляющий просто не смог бы поддерживать минимальный порядок посреди постоянного неподчинения и воровства всего – от дров до скота, – не применяя розог направо и налево. Крестьяне отвечали по-своему. Штрафные книги свидетельствуют, что ответом крестьян на управленческие «технологии», принятые в имении, были саботаж и апатия, прерывавшиеся короткими вспышками насилия.
Историки отмечают, что схожим образом вели себя американские рабы. Власть управляющих они не считали легитимной, что не способствовало ни чувству ответственности, ни стремлению вкладываться в работу[189]. Апатия, саботаж, демонстрация усилий скорее, чем собственно усилия, – все эти традиционные формы сопротивления несвободе возникают всегда, как только речь заходит о принудительном труде[190].
Люди похожим образом ведут себя в тюрьмах, психиатрических больницах, концлагерях, на плантациях и в армии, если это призывная обязательная служба, – в учреждениях, которые можно назвать «тотальными институтами». Это институты, в которых сфера частной жизни сведена к минимуму. Это учреждения или формы организации, призванные обеспечивать своих обитателей всем необходимым (как бы «все необходимое» ни определялось). Ничего своего здесь нет или почти нет, только общее или чужое. Обитатели таких учреждений – и тюрем, и больниц, и монастырей, и имений – оказываются в схожих человеческих условиях: их существование строго регламентировано, все действия ежедневно и ежесезонно повторяются. Эти люди замкнуты на свое малое сообщество и отрезаны от внешнего мира.
Ответом на принуждение и отсутствие положительных стимулов к деятельности редко бывает вдохновенный труд. Возникает особенная трудовая этика, о которой мы хорошо знаем из произведений русской литературы, причем не только из Салтыкова-Щедрина, но и, например, из Александра Солженицына. Несмотря на глубочайший политический перелом, «этика выживания» или, если угодно, какая-то особенная версия моральной экономики пережила помещичью собственность и возродилась в колхозах, тюрьмах и лагерях СССР. Вот отрывок из «Одного дня Ивана Денисовича»: «Ты вот что, слышь, восемьсот пятьдесят четвертый! Ты легонько протри, чтоб только мокровато было, и вали отсюда… Шухов бойко управлялся. Работа – она как палка, конца в ней два: для людей делаешь – качество дай, для начальника делаешь – дай показуху. А иначе б давно все подохли, дело известное».
Лагерные десятники, нарядчики и смотрители – это, кстати, понятия из крепостного обихода. Нарядчики и десятники – те же крестьяне (те же зэки), но облеченные небольшой долей власти над остальными. Главное для них наказание – лишение полномочий, главная и повседневная беда – ненависть со стороны своих. И выхода нет: поддашься своим, дашь украсть или отлынить – от управляющего (начальника лагеря) достанется и свои же на шею сядут. У домохозяйства, встроенного в общину, и у бригады, встроенной в лагерную жизнь, кажется, немало общего. И так же устроено принуждение: «Чего бы зэку десять лет в лагере горбить? Не хочу, мол, да и только. Волочи день до вечера, а ночь наша. Да не выйдет. На то придумана – бригада. Да не такая бригада, как на воле, где Иван Иванычу отдельно зарплата и Петру Петровичу отдельно зарплата. В лагере бригада – это такое устройство, чтоб не начальство зэков понукало, а зэки друг друга. Тут так: или всем дополнительное, или все подыхайте. Ты не работаешь, гад, а я из-за тебя голодным сидеть буду? Нет, вкалывай, падло!»
То же непрямое принуждение – задания подушевые, а спрос со всех, круговая порука. В таких условиях и совсем не работать нельзя, и хорошо работать нет смысла. Демонстрация усилий вместо самих усилий – это не апатия и не лень, и вовсе не свойство национального характера. Ни в самом принуждении, ни в реакции на принуждение нет ничего национального. И в имении богатого помещика, и в советском концентрационном лагере экономия усилий и оппортунизм – вполне интернациональная человеческая стратегия выживания. Самая распространенная линия поведения узников тотальных институтов и в Америке, и в Африке, везде – равнодушие. Были бы поактивнее – «давно б все подохли».
Когда угроза насилия со стороны власти уже доказана, когда кровь и аресты уже налицо, обществу становится ясно, что давление будет нависать над ним неопределенно долго. Тогда включается пассивная стратегия выживания: не борьба, не драка, не словесные перепалки, а тихая работа на себя, незаметный оппортунизм и приспособленчество. В таких ситуациях лояльность к группе обычно низка, случаи организованных действий редки[191]. Так было в имении любого среднего помещика, так было и в советском ГУЛАГе и, шире, во множестве институтов советского общества.
Историк Елена Осокина считает, что эту стратегию поведения неправильно называть «повседневным сопротивлением» (термин Джеймса Скотта). «Целью сопротивления является изменение существующей системы, целью повседневного неповиновения – приспособление к жизни в условиях этой системы. Цель повседневного неповиновения – поиск обходных путей, тогда как цель сопротивления – борьба на поражение существующей системы»[192]. Вспомним еще раз Солженицына: «Из рассказов вольных шоферов и экскаваторщиков видит Шухов, что прямую дорогу людям загородили, но люди не теряются: в обход идут и тем живы».
Проблемы, с которыми столкнулись граждане нового советского государства, – голод, хронический дефицит товаров, отсутствие нормального жилья и минимальных жизненных удобств – потребовали скорее навыков выживания, чем навыков революционной борьбы. Общество не ставило цели уничтожить систему, но старалось выработать невосприимчивость к ее многочисленным болезням. Таким образом, считает Осокина, в СССР мы имеем дело не с «сопротивлением», а с активно действующей социальной иммунной системой[193].
Возможно, оглядываясь назад, нам хочется видеть что-то героическое в противостоянии человека и бесчеловечной системы. Но для огромного большинства это было именно отчаянное выживание. Борьба все-таки не первое, что приходит в голову человеку, когда ему трудно живется. Главное – попытаться выжить, приспособиться и по возможности получить выгоду. Социальный конформизм – естественное состояние человека даже в самых неестественных условиях, а стремление к улучшению социальной реальности – приобретенное, результат работы над собой. «Человеческие существа от природы склонны следовать установленным правилам; они рождены для того, чтобы соответствовать социальным нормам, которые они видят вокруг себя. Они склонны нагружать эти нормы особой ценностью и сверхъестественной значимостью», – пишет Фрэнсис Фукуяма в книге «Происхождение политического порядка»[194].
Русские интеллектуалы конца XVIII – начала XIX века с пониманием и надеждой восприняли собственность как основу для личностной независимости и экономического развития. Но менее чем за 100 лет все перевернулось и, как мы увидим в дальнейшем, собственность стала восприниматься как нечто совсем противоположное – как основа для угнетения личности, как препятствие для экономического развития.
Глава 8. Хозяева: трагедия господства
1. Обладатели и правители
Иван Пнин, умерший в 1805 году в возрасте 32 лет, мог бы стать русским Локком или Миллем, если бы прожил дольше. Пнин был внебрачным сыном фельдмаршала князя Николая Васильевича Репнина (отсюда фамилия Пнин: усеченные фамилии давали внебрачным детям) и, хотя и был «незаконным» ребенком, воспитывался как сын вельможи, учился в Благородном пансионе при Московском университете и в Артиллерийском кадетском корпусе в Петербурге, а затем служил в артиллерии.
В конце 1790-х годов Пнин, уже в отставке, сдружился с Александром Бестужевым, отцом декабристов, и совместно с ним в течение 1798 года выпускал «Санкт-Петербургский журнал», передовой для своего времени интеллектуальный ежемесячник. Издание представляло собой полускрытую фронду сына против отца-императора: журнал финансировал сам великий князь Александр Павлович, вольнодумный воспитанник швейцарца Фредерика Лагарпа. Имя высочайшего издателя нигде не указывалось, но, поскольку «все всё знали», Пнин и Бестужев были защищены от вмешательства цензуры. Молодые люди позволяли себе откликаться на самые острые вопросы времени, публиковали переводы современных им и модных политэкономов Джеймса Денема-Стюарта и маркиза де Кондорсе. Редакция журнала видела себя интеллектуальным центром, в котором разрабатывалась политическая программа будущего царствования.
В брошюре «Опыт о просвещении относительно к России», написанной уже после прихода Александра к власти, Пнин расставляет акценты: чтобы быть хорошим подданным, человек должен быть гражданином, а гражданином он может стать, если у него есть собственность: «Чем более гражданин уверен в своей безопасности и собственности, тем становится он рачительнее, деятельнее, счастливее, следовательно, полезнее и преданнее своему государству».
Пнин понимал разницу между писаными и неписаными правилами: «Где нет собственности, там все постановления существуют только на одной бумаге». Он был уверен, что правитель должен действовать не угрозами, а созданием положительных стимулов: «Россия имела многих обладателей, но правителей мало… Управлять – значит наблюдать правосудие, сохранять законы, поощрять трудолюбие, награждать добродетель, распространять просвещение, подкреплять церковь, соглашать побуждения чести с побуждениями пользы, словом, созидать общее благо».
«Собственность! где нет тебя, там не может быть правосудия… Каким же непонятным образом держится общественное здание там, где не имеет оно надлежащего основания, там, где права собственности попраны, где правосудие известно по одному только названию и где оное более приобретается посредством денег или покровительств, нежели исполняется как закон? Там все покрыто неизвестностию, все зависит единственно от случая. Одно мгновение – и общественного здания не станет. Одно мгновение – и развалины оного возвестят о бедствиях народных».
Пафос Пнина заключался в том, что крестьянам необходимо вернуть право частной собственности и другие права свободных людей, поскольку только так можно обеспечить благополучие страны на долгий срок. Крестьяне когда-то обладали правами, но постепенно утратили их из-за недобросовестного поведения землевладельцев и властителей. «Исправить сие зло и возвратить земледельцу его достоинство состоит во власти правительства», – заключал Пнин[195].
Александр прочитал, наградил автора, но книга, несмотря на это, была запрещена цензурой. С программным «Санкт-Петербургским журналом» случилась похожая история: великий князь, ни слова не говоря, просто перестал его поддерживать. Реформаторские идеи, обсуждавшиеся за чаепитиями в Негласном комитете, неформальном кружке молодых прогрессивных друзей императора, постигла та же судьба.
Идеи Пнина остались «бумажной архитектурой» – вполне актуальные для своего времени, они так никогда и не стали магистральным направлением политической мысли. Пнин оказался одним из зачинателей малочисленной и наивной породы интеллектуалов, оказавшихся в стороне и от власти, и от главной колеи российской интеллигентской традиции, в основном «тираноборческой», «левой» и часто экстремистской по содержанию. Официальная мысль стремилась быть максимально реакционной, чтобы не давать слабины. Оппозиционная мысль – максимально радикальной, чтобы больнее уязвлять самодержавие. Середина в такой игре всегда не у дел.
Но она была. «Оппозиция здравого смысла», или, если угодно, «моральная оппозиция», состояла не из одних только писателей и философов. Она всегда имела сторонников на самых верхах власти. И увлеченная Просвещением Екатерина, и ее внук Александр были хорошо знакомы с идеями правового переустройства государства. Они, конечно, не могли публично демонстрировать этим идеям свою поддержку. Зато по-своему пробовали их воплощать.
2. Без суда да не лишится благородный имения
Права дворян на независимое от прихотей короны владение имением были подтверждены в 1785 году Екатериной II[196].
Жалованная грамота давала дворянам такие права и вольности, которые привели бы создателей Московского государства в ужас. Защищенность частной помещичьей собственности сыграла огромную роль в русской культуре, создав материальную основу для независимости нескольких поколений образованных и мыслящих людей.
А ведь всего за 50 лет до екатерининской грамоты попытка дворянства вынудить монарха подписаться под русской Хартией вольностей привела к унизительному поражению. Одна из придворных партий попыталась навязать будущей императрице Анне Иоанновне «кондиции», то есть условия. В их тексте был пункт о жизни, свободе и собственности. Смыслом государства Локк считал «сохранение жизней, свобод и владений» (см. главу 4). Вот и в кондициях было написано: «У шляхетства живота и имения и чести без суда не отымать». Но императрица, получив власть в свои руки, кондиции разорвала. Ей было не страшно.
То, что с легкостью проделала Анна Иоанновна, Екатерина во второй половине того же века позволить себе уже не могла. Она знала, что ее положение не так прочно. Она взяла власть силой, она подавила восстание Пугачева, она полицейскими методами расправилась с самыми яркими фигурами нарождающейся интеллигенции Александром Радищевым и Николаем Новиковым, она внимательно следила за революционными событиями в Америке и Европе. В переписке с французскими философами императрица охотно рассуждала о вольности, но всегда хорошо знала границу между светским разговором и политической реальностью. И тем не менее выяснилось, что об этих вещах можно не только рассуждать. Частные собственники бывают, оказывается, нужны государству. И слова о чести, вольности и имении зазвучали в высочайшей речи.
«Без суда да не лишится благородный чести. Без суда да не лишится благородный жизни. Без суда да не лишится благородный имения… Подтверждаем на вечныя времена в потомственные роды российскому благородному дворянству вольность и свободу», – говорится в Грамоте на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства[197].
Похожие слова звучали тогда же и в Америке, и во Франции. О невозможности лишить человека жизни и имущества без суда говорили и писали тогда во всем мире. Ключевая разница в том, что в Америке и во Франции говорили об этом интеллектуалы и революционеры, а в России – сама носительница абсолютной власти. Наш «билль о правах» был инициативой монарха. Право, завоеванное обществом, и право, дарованное сверху в условиях уже существующего государства, – разные вещи. Тем более если речь идет о сословном государстве, в котором доминирующая социальная группа мечтает сохранить свои привилегии.
Дарование права собственности было в российской ситуации не только модернизационным шагом, но и шагом, направленным на укрепление социального порядка. Российская «декларация прав», с одной стороны, привела к некоторому увеличению числа свободных граждан, способных участвовать в общественной жизни, а с другой – к укреплению власти одних граждан над другими. Грамота была обращена лишь к одному сословию. Освобождая сословие дворян, императрица закрепляла, не оговаривая это, зависимое положение крестьян. Благодаря Жалованной грамоте избранные граждане получили право распоряжаться судьбой значительной части (около 40 %) населения страны.
Само введение института частной собственности оказалось препятствием к освобождению крестьян. Отпускать их на свободу без земли было несправедливо и опасно, а отбирать землю у помещиков – незаконно. Крестьяне, напомним, закреплялись за землей, а не за помещиком, но теперь они – по сути, хотя и не по закону – оказались в собственности у землевладельцев. Эта ловушка не один десяток лет мешала решиться на давно назревшую отмену крепостного права, что не могло не сказаться на восприятии института собственности в России. Отношение к собственности, свойственное самому классу собственников, то есть образованной и максимально свободной части общества, принимало эмоциональные, лубочные формы: «Половина нашего сельского населения гораздо несчастнее западного, мы встречаем в деревнях людей сумрачных, печальных, людей, которые тяжело и невесело пьют зеленое вино, у которых подавлен разгульный славянский нрав – на их сердце лежит очевидно тяжкое горе. Это горе, это несчастье – крепостное состояние… Как в самом деле уверить людей, что половина огромного народонаселения, сильного мышцами и умом, была отдана правительством в рабство без войны, без переворота, рядом полицейских мер, рядом тайных соглашений, никогда не высказанных прямо и не оглашенных, как закон»[198].
Герцен описывает здесь николаевскую Россию, но Николай I, которого обычно принято считать «консервативной» противоположностью «либеральному» Александру, был на самом деле верным продолжателем дела брата. Правительство не собиралось отменять сословное право, так что крестьяне должны были оставаться подчиненным сословием, а дворяне – господствующим.
Наделение землей и дарование связанных с владением привилегий из века в век представлялось российским властителям основой устойчивой власти. Дворянам полагалось исполнять долг «попечения» (энкомьенда) о народных массах (см. главу 5). Им дано было право распоряжаться миллионами крестьян и следить за тем, чтобы подопечные не бунтовали и, по возможности, работали. Это попечение во все последующие эпохи «простиралось» над гражданами в разных формах, включая вполне материальные и крайне затратные. Монархи из поколения в поколение поддерживали расточительный образ жизни элиты.
Экономику, в которой еще не начался индустриальный рост, можно назвать «мальтузианской», то есть такой, в которой растущее количество потребителей претендуют на ограниченный объем ресурсов. Чтобы один стал богаче, другой должен стать беднее. «Прочные права собственности в такой ситуации лишь закрепляют существующее распределение ресурсов, – пишет в книге «Происхождение политического порядка» Фрэнсис Фукуяма. – А это распределение является результатом не высокой производительности, а близости к власти»[199]. Новый правовой режим, возникший в условиях доиндустриальной экономики, был использован российской элитой не для развития собственного хозяйства, не для обогащения, а для консервации своего господствующего положения – при полной поддержке правительства.
В 1823 году министром финансов был назначен Егор (Георг Людвиг) Канкрин. Одна из причин этого назначения – желание монарха сместить предыдущего министра, Дмитрия Гурьева, который остался в истории как изобретатель гурьевской каши, а мог бы положить начало развитию в России эффективной финансовой системы. Гурьев, близкий к Михаилу Сперанскому, планировал закрыть Заемный банк, который был наследником дворянских банков и источником дешевых (и больше похожих на субсидии) кредитов дворянам. Он собирался развивать Коммерческий банк, кредитное учреждение, которое размещало бы средства в промышленные предприятия вне зависимости от ранга клиентов. Это могло стать прорывом: в Заемном банке титул и звание ценились выше надежности заемщика. Кроме того, и Гурьеву, и всему окружению императора было известно, что сельскохозяйственные кредиты дворяне пускали не на развитие хозяйств, а на покрытие текущих расходов и ввоз предметов роскоши[200].
На словах план финансирования промышленности поддерживали все, но придворной элите, естественно, не хотелось терять источник легких денег. Вернуть надежное обеспечение расточительного образа жизни и призван был Канкрин. Новый министр возобновил остановленную Гурьевым выдачу займов, объяснив это тем, что кредитование благородного сословия «неизбежно», а ссуды на развитие промышленности слишком рискованны. В качестве залога принимались «ревизские души», то есть крестьяне, а значит, ссуды были доступны только владельцам имений[201].
Канкрин убил разом двух зайцев – переведя часть средств из Коммерческого банка в Заемный, он сократил возможности для кредитования промышленности и продлил льготы для элиты. Дворянские банки, а позже Заемный банк, в отличие, например, от Банка Англии, созданного для стимулирования торговли, имели своей целью сдерживать неконтролируемый рост промышленности и помогать дворянам сохранять ничем не оправданный уровень расходов. Сдерживалось и развитие инфраструктуры: Канкрин был противником железных дорог, которые, по его мнению, только «подстрекают к частым путешествиям без всякой нужды и таким образом увеличивают непостоянство духа нашей эпохи».
Правительство хорошо понимало, к чему ведет ускоренный экономический рост – к быстрой урбанизации, появлению масштабных производств и обезличенных рыночных отношений. Эти результаты представлялись опасностью, а не благом, а потому рост сдерживали, а не поощряли. Правительство, к примеру, не вводило корпоративную форму предпринимательства, опасаясь, что ее широкое применение будет способствовать ускоренному экономическому развитию. Канкрин говорил, что при создании новых корпораций «требуется вящая осторожность правительства»: «Лучше отказать десяти не совершенно положительным компаниям, нежели допустить одну ко вреду публики и самого дела». Власти пытались законодательно приостановить рост производства, ограничивая количество фабрик, которые можно было строить в непосредственной близости друг от друга, – чтобы избежать скопления рабочих и, как следствие, беспорядков[202].
Было решено, таким образом, что ценность социального порядка важнее ценности развития. Способы управления, принятые в российских помещичьих хозяйствах, как мы видели (глава 7), вполне отвечали этой установке. Эффективное управление было в понимании власти далеко не главной миссией дворянства и, в более поздние годы, купечества. Их главной миссией было достойное исполнение роли социальных «жандармов» – сословий, отвечавших за порядок среди населения, вверенного их попечению.
Империя предлагала дворянам возможность закладывать собственность, не слишком сурово требуя возврата денег. Невыплаченные закладные оборачивались внешними займами и инфляцией. В 1856 году около двух третей российских частновладельческих крестьян мужского пола находились в закладе, но реальных случаев конфискаций земель за долги известно лишь несколько десятков[203].
Долговые проблемы российских дворян были легендарными. Дворяне постоянно обращались к монархам за деньгами – и это несмотря на предельно благоприятные условия кредитования: ссуды, как мы видим, выдавались по сословному признаку, а не в связи с «кредитной историей», которая, как правило, у русского дворянина была ужасной. Не стеснялись дворяне и пользоваться служебными полномочиями для поправки дел.
Джон Квинси Адамс, будущий президент США, провел в Санкт-Петербурге пять лет в качестве посла (а до того еще два года в качестве переводчика), был свидетелем Отечественной войны 1812 года и хорошо знал русский высший свет. Вот как материальная сторона дворянской жизни выглядела в глазах американского гостя: «Тон общества, окружающего нас, почти всецело проникнут преобладанием расходов над доходами. Государственные служащие все живут значительно выше своих заработков, многие из них печально известны тем, что никогда не платят по долгам, но еще большее их число известно тем, что поддерживает баланс своего бюджета с помощью средств, которые в нашей стране были бы сочтены постыдными»[204].
Это, конечно, не открытие. Мы все это проходили в школе. Об этом половина русской литературы, включая современную. Об этом вся русская публицистика. Но ответ властей на общеизвестную русскую правду о моральной несостоятельности элиты всегда был парадоксальным: продолжать поощрять расточительство и казнокрадство. Попустительство, а часто и прямое подстрекательство к воровству и финансовому безрассудству не воспринимались как нечто аморальное.
Единицы проявляли интерес к управлению имениями, росту производства и получению прибыли. Большинству из обитателей дореволюционного российского олимпа стремление к увеличению доходов таким приземленным способом казалось занятием недостойным. (Кормление от должности и взятки недостойными многим, как правило, не казались.) Возможно, свобода владения просуществовала слишком недолго, чтобы принести экономические плоды. Что можно успеть за 130 лет?[205] Могло ли дворянство стать независимой исторической силой за столь короткий срок?
По-настоящему отличиться дворянам удавалось в основном на литературном поприще, поскольку экономическая и политическая сферы были областью сакральной стабильности, порядком, который не подлежал обсуждению. Возможно, с этой оторванностью от реальной экономики и связаны радикальные политические убеждения образованного слоя дворянской элиты. Герцен, Толстой, Тургенев формировались в ситуации, когда власть почти открыто признавала, что стремится затормозить развитие. Ирония в том, что царское правительство пыталось остановить время как раз ради них, дворян, ради сохранения их образа жизни.
3. Рождение свободных людей
Этот образ жизни породил великую литературу и стал главным предметом ее изображения и критики. Конец XVIII и начало XIX века стали временем рождения великой литературы и публицистики по множеству причин. Невозможно объяснить это одними материальными обстоятельствами, но нельзя и полностью их отбросить. Значительное число образованных людей получили свободу и не требующий больших усилий доход. Какая-то часть этих людей сумела реализовать себя в творчестве.
Работая редактором, я постоянно ищу знающих и хорошо пишущих людей, которые могли бы свободно выражать свое мнение. Есть люди, просто не желающие высказываться, опасаясь проблем или преследований. Есть очень образованные и очень осведомленные люди, которые хотели бы публично высказываться, но не могут, поскольку связаны обязательствами или секретностью. Чем важнее мнение человека для общества, тем больше вероятность, что обстоятельства не позволят ему говорить откровенно.
Есть, конечно, люди, готовые высказываться. Но их не всегда интересно слушать. Редкое сочетание компетентности и свободы есть, как правило, результат удачного стечения обстоятельств. Эти люди заработали себе свободу либо коммерческим, либо творческим успехом, например популярностью статей, книг или блогов в интернете. В России практически нет «институтов независимости» – таких позиций, которые гарантировали бы свободу выражения. Такими институтами являются обычно обозревательские должности в значимых газетах, церковная кафедра, общественные организации, профессорские должности в университетах, где приняты пожизненные контракты. Интересно, что слово, которым обозначается постоянная академическая должность в английском языке, tenure, – юридический термин. Tenure – это набор прав и условий, позволяющих владеть и распоряжаться чем-либо. Люди, обладающие «тенурой» в той или иной форме, нередко становились голосом эпохи, авторами книг, открытий и изобретений.
Именно тенуру получили в конце XVIII века российские дворяне. Екатерина действовала в силу политической целесообразности: ей нужна была преданная ее интересам группа общества. Но непреднамеренным результатом ее решения стало появление в России целого класса свободных людей. Сотни лет те, кого можно было бы называть русской аристократией, были, по сути, государственными служащими с особыми привилегиями. И в этом качестве они были полностью зависимы от монарха. Свободы от произвольной конфискации в России со времен подчинения вотчинного землевладения и вплоть до прихода к власти Петра III, а затем Екатерины не было[206].
Современные историки призывают смотреть на институт собственности, введенный Екатериной, с осторожностью. Достаточно заметить, что полное межевание земель в Европейской России было закончено только в 1840-х годах[207]. Но дело не только в этом. Речь не столько об освобождении дворян, сколько об изменении способа принуждения их к государственной службе. В силу петровских преобразований мелкие и средние дворяне бóльшую часть жизни вынужденно проводили вдали от имений, на обременительной службе. Теперь дворян не заставляли служить, а стимулировали к службе. Служба, особенно гражданская, была крайне необходима государству. Профессиональная бюрократия в России XVIII–XIX веков была слабой и неразвитой. Ничего подобного французским высшим школам для государственной элиты в России не существовало, так что дворянские недоросли должны были дополнять малочисленную бюрократию.
Это позволяло одновременно снизить напряженность в дворянской среде и улучшить фактическое состояние администрации и армии, привлекая туда тех, кто действительно желал служить[208].
Желающие были, поскольку подавляющее число дворян просто не могли позволить себе жизнь свободных рантье, так что в реальности освобождение коснулось лишь небольшой части дворянства. Подавляющее большинство дворян владели крошечными имениями. Лишь крайне узкий слой, 1–3 % дворянства, располагал имениями на сотни душ, которые могли стать основой для материально независимого существования.
Но изменения все-таки были глубокими – институциональными. И, в отличие от ситуации на Западе, где институт собственности развивался долго, – резкими. Если раньше судьба личности и собственности находилась в руках государя, то теперь она была выведена из-под «ручного управления». Лишь одна, сравнительно малочисленная группа, воспринимавшая себя как отдельное сословие, получила гарантии самостоятельности, которых не было у других групп. Но даже это оказалось значимой переменой.
Сочетание рентного дохода, возможности получать образование дома или в Европе, путешествовать, выбирать занятие по душе и высказывать в печати любые мнения (если не в России, то за границей), не опасаясь конфискации собственности, оказалось поразительно продуктивным для культуры. Никогда до того в русской истории не было такого количества хорошо образованных людей, материально независимых, ни перед кем не обязанных отчитываться. Они мало интересовались хозяйством и располагали временем для размышлений и творчества. Само их состояние являлось для них и источником существования, и предметом пристального анализа, часто беспощадного.
Александр Герцен был таким свободным гражданином-философом. Он также был политическим эмигрантом, которому удалось вывести свои активы из России. Интересно, что Герцен проложил дорогу на Запад не только русскому свободомыслию, но и русскому капиталу.
4. Презренное и священное право
Внебрачный сын помещика Ивана Яковлева, в 1846 году Герцен унаследовал треть отцовского состояния – 106 тысяч рублей серебром плюс облигации и векселя. После смерти матери, Луизы Хааг, к Герцену перешла и ее часть наследства – еще 106 тысяч и ценные бумаги. Общий капитал матери и сына оценивался в 300 тысяч серебром. Сверх этого Герцен получал в год около 10 тысяч дохода от своей костромской вотчины и двух домов в Москве, которые он, уехав из России, сдавал внаем. В итоге в распоряжении семьи Герцена по прибытии за границу и после вывода всего, что удалось вывести, оказалось около миллиона франков. В одном из писем Герцен рассказывал, что просторную квартиру в центре Парижа он снимал за 8 тысяч франков в год[209]. Для сравнения: экстраординарный профессор столичного университета получал в середине XIX века жалованье 3,5 тысячи рублей в год, а ординарный академик Санкт-Петербургской академии наук – 5 тысяч рублей; квалифицированный рабочий зарабатывал порядка 150–200 рублей в год[210].
Капитал Герцена оказался достаточным, чтобы заинтересовать главу парижской ветви банкирского дома Ротшильдов, которые на всю оставшуюся жизнь стали его финансовыми советниками. Под руководством Джеймса Ротшильда Герцен в конце 1840-х годов сделал свои первые и очень успешные вложения. Он купил дом в Париже, номер 14 по улице Амстердам, за 135 тысяч франков, прибрел государственные облигации США на 50 тысяч долларов и облигации других стран на меньшие суммы[211].
Ротшильд помог Герцену и в переводе за границу состояния матери. Происходила эта почти детективная история на фоне революционных событий во Франции. Герцену, как подданному империи, было велено вернуться в Россию из сотрясаемой антиправительственными выступлениями Европы. Герцен отказался, и тогда власти заблокировали счета Луизы Хааг, на которых находилась ее доля яковлевского наследства. В ответ на это Герцен передал свои долговые обязательства перед Луизой Хааг и права требования по ним Джеймсу Ротшильду. А тот приказал своему агенту в России добиться получения всех средств, что и было исполнено – после сложных переговоров с участием высших российских чиновников. Как показывают архивы банка, в историю были вовлечены министры иностранных и внутренних дел, юстиции, глава корпуса жандармов и лично Николай I. Свою роль сыграла и новообретенная прочность права собственности в России. Но в еще большей степени сказалось нежелание российских властей портить свою кредитную репутацию в Европе[212].
Как в этой истории выглядит Александр Герцен, горячий борец с рабством, автор антикрепостнического памфлета «Крещеная собственность», судить не будем. Он действовал как рациональный человек, что в российской дворянской среде было скорее редкостью. Кроме того, собственность как идея и собственность как основа частной жизни были для эмигранта-революционера совершенно разными вопросами. Стремление к утопии, которая будет построена на основе идеализированной русской общины в каком-то далеком будущем, – это цель. Он верил в эту отдаленную цель и пропагандировал ее. Собственность конкретного человека Александра Герцена – это возможность распространять свои взгляды и убеждать других, издавая книги и журналы. Это – просто средство, пусть и «неприятельское»: «Глупо и притворно было бы в наше время денежного неустройства пренебрегать состоянием. Деньги – независимость, сила, оружие, а оружие никто не бросит во время войны, хотя оно и было бы неприятельское, даже ржавое. Рабство нищеты страшно, я изучил его во всех видах, живши годы с людьми, которые спаслись в чем были от политических кораблекрушений. Поэтому я счел справедливым и необходимым принять меры, чтоб вырвать что можно из медвежьих лап русского правительства»[213].
Герцен ставил высокую цель и отделял ее от низких средств. Умение закрывать глаза на средства достижения цели оказалось в дальнейшем характернейшей чертой русской революционной интеллигенции, а позже стало политической позицией советских лидеров. Герцен, похоже, не видел проблемы в том, что его интеллектуальная и инвестиционная практики сильно расходятся. Вот как пишет об этом современный специалист по русской культуре Дерек Оффорд, исследовавший переписку Герцена с его банкирами в архиве Ротшильдов: «Инвестируя под руководством Ротшильда в активы поддерживаемых банкиром правительств, Герцен делал пусть и небольшие, но все-таки реальные вложения в поддержание стабильного порядка в Европе. Того самого порядка, к ниспровержению которого он как революционер призывал. Еще более сомнительными с этической точки зрения следует признать инвестиции в облигации Виргинии, американского штата, чья экономика, особенно в те времена, была построена на рабском труде»[214]. Отметим справедливости ради, что, оставшись за границей, Герцен перестал быть владельцем «крещеной собственности» в России – преодолеть секвестр, наложенный правительством на его костромское имение, не смог даже Ротшильд.
Другому великому противнику собственности, Льву Толстому, тоже не удалось разрешить противоречие между возвышенными духовными целями и материальными средствами. В 1880-х годах Толстой твердо принял отрицательный взгляд на собственность и стал следовать принципам, которые проповедовал. Сделать это Льву Николаевичу, отцу восьми детей, было нелегко. «Моя мать не только не разделяла отрицательного отношения отца к собственности, но, наоборот, продолжала думать, что чем богаче она и ее дети, тем лучше», – писал старший сын Толстого, Сергей Львович[215]. На попытку писателя раздать имущество его жена Софья Андреевна ответила угрозой «учредить над ним опеку за расточительность, вследствие психического расстройства». Лев Николаевич тогда предложил жене переписать на ее имя дома, имения, землю и всю прочую собственность, но и от этого она отказалась: «Зачем же ты, считая все это злом, хочешь навалить это на меня?» Толстому оставалось прибегнуть к полумерам – такой полумерой была передача жене прав на издание всех произведений. Первое издание собрания сочинений Софья Андреевна Толстая подготовила в 1885 году. Последний, 12-й, том состоял из новых произведений, включая допущенные к печати отрывки из «Что же нам теперь делать?». Интерес к новым работам Толстого был огромный, но купить 12-й том можно было только вместе со всем собранием: Софья Андреевна отказывалась продавать его отдельно. Это вызвало в печати нападки на жадность «кающегося графа»[216].
Ирония положения Толстого заключалась в том, что и ближним и дальним граф был нужен как богатый человек. Деньги были нужны не только семье. К нему шли люди со всей страны, но чаще всего они просили не духовного совета, как он бы хотел, а материальной помощи. Подавляющее большинство писем и словесных просьб были просьбами о деньгах. Напрасно он несколько раз публиковал в газетах письма с напоминанием, что отказался от собственности и прав на сочинения.
Русский «досужий» класс не сумел стать ни экономической силой, ни политической, но ему суждено было быть силой литературной и философской. Собственность пришла на подмогу не экономике, а культуре. XIX век в Европе был временем бурного экономического и параллельного ему гражданского роста. Граждане вели напряженную и в конце концов успешную борьбу за расширение своего участия в делах государства. У нас же в это время создавались «Мертвые души», «Записки охотника», «Отцы и дети», «Война и мир», «Господа Головлевы», «История одного города». Все это написано собственниками-аристократами. Внутренняя свобода, давшая взлет свободе творчества в дореволюционное время, оказалась сильнее цензуры, сильнее законов экономики и общества. Русская литература заняла одно из ведущих мест в мировом творческом процессе и продолжает оказывать влияние на другие культуры. Монархическая политическая система, ставившая сословный порядок выше идеи развития, была для литераторов предметом критики. Собственность, будучи частью этой системы, не стала символом гражданства, права и участия в делах общества; не получила доброго имени ни как идея, ни как институт. Для одних она была легитимным механизмом удержания господствующего положения, для других – свидетельством глубокой несправедливости общественного порядка.
«Слова „моя лошадь“ относились ко мне, живой лошади, и казались мне так же странны, как слова „моя земля“, „мой воздух“, „моя вода“… Люди руководятся в жизни не делами, а словами. Они любят не столько возможность делать или не делать чего-нибудь, сколько возможность говорить о разных предметах условленные между ними слова. Таковы слова: мой, моя, мое, которые они говорят про различные вещи, существа и предметы, даже про землю, про людей и про лошадей. Про одну и ту же вещь они условливаются, чтобы только один говорил: мое. И тот, кто про наибольшее число вещей, по этой, условленной между ними игре, говорит: мое, тот считается у них счастливейшим. Для чего это так, я не знаю, но это так» (Лев Толстой, «Холстомер»).
5. Попытка поделиться
К западу от российских границ политическая игра состояла в том, чтобы распространять действие прав собственности и равенства перед законом на все большее число людей – просто чтобы удержать власть. В России эта игра подразумевала ставку на то, что небольшая группа «лучших людей», получившая все блага и гарантии, поможет удержать власть своим покровителям. Эти люди обладали свободой, образованием, собственностью и безнаказанностью. Они могли зарабатывать, творить и путешествовать. Но их отношения с обществом были не проясненными в правовом смысле и отчужденными в человеческом отношении.
Русский был хозяином над русским, собственники и предметы их собственности говорили на одном языке, ходили в одну и ту же церковь. Разделение было сословным, но настолько глубоким, что заставляло чувствительных и образованных русских, принадлежавших к «правящему классу», как бы он себя ни определял, ощущать себя чужими в родной стране. Это чувство живо в русской публицистике и литературе со времен Петра Чаадаева до наших дней. «В домах наших мы как будто определены на постой; в семьях мы имеем вид чужестранцев; в городах мы похожи на кочевников… У нас совсем нет внутреннего развития, естественного прогресса; прежние идеи выметаются новыми, потому, что последние не происходят из первых, а появляются у нас неизвестно откуда» (Чаадаев). «Трудно схватить общее выражение Петербурга. Есть что-то похожее на европейско-американскую колонию» (Гоголь). «Просвещение и общество, принявшее его в себя: оба носили на себе какой-то характер колониальный» (Хомяков)[217].
Русские собственники были главными критиками власти и сами же были властью, которая ставила собственный образ жизни во главу угла всей национальной политики. Во многом именно поэтому реформы проводились с большим опозданием – кому же хочется реформировать самих себя. Результаты преобразований не успевали сказаться. Ни запоздалое развитие инфраструктуры и промышленности, ни крестьянская реформа, ни попытка преобразовать общинную собственность в частную, предпринятая накануне крушения империи, так и не создали широкий класс людей, способных отстоять свои частные интересы в политическом торге с монархией. А дворянская элита – в чем она виновата? Не то чтобы эти люди осознанно держались за власть и собственность. Они просто могли себе позволить не делиться ни тем, ни другим.
Парадокс собственности в России состоит не в том, что она была недостаточно частной, а в том, что она, со времен Екатерины и до самого октября 1917 года, была слишком частной. Правовая неоднозначность традиционных крестьянских представлений («земля Великого Князя, а своего владения»), в которых вотчинное право князя не противоречило трудовому праву крестьянина, благодаря Екатерине ушла в прошлое. Земля, а вместе с ней реки, озера и леса стали частными.
В этой области, как и в случае с закрепощением крестьян, процесс шел у нас в направлении, противоположном европейскому. Во Франции собственность в отношении природных ресурсов символизировала феодальные привилегии Старого режима, которые были отменены в результате Французской революции. В Германии возможности частных лиц распоряжаться природными ресурсами на протяжении XIX века постепенно ограничивались из соображений рачительного хозяйствования и оптимального использования лесов и рек. В силу этих ограничений собственность на природные ресурсы в Европе в продолжение XIX столетия становилась все более публичной. В России же, напротив, учреждение частной собственности при Екатерине привело к «огораживанию» лесов, недр и рек. Если Петр I установил в империи «горную свободу» – свободу государства осваивать недра на всей территории страны, то Екатерина решила, что свобода владеть будет лучшим стимулом к хозяйственной активности. Если Петр отдал управление лесами Адмиралтейству, главному потребителю древесины в стране, то Екатерина отдала леса землевладельцам[218].
Щедрость Екатерины создавала трудности и для использования водных ресурсов. Частные собственники игнорировали законное правило о необходимости убирать строения, например водяные мельницы, препятствующие судоходству, и крайне неохотно соблюдали право судовладельцев проводить по рекам баржи (по закону должна была существовать «публичная» прибрежная полоса шириной 10 сажен для прохода бурлаков). В случае кораблекрушений землевладельцы, несмотря на попытки правительства добиваться исполнения правил навигации, вымогали у купцов деньги за выловленные из «частной» реки ценности. Граф Илларион Воронцов-Дашков в 1900 году, стремясь предотвратить строительство электростанций на Днепре, утверждал, что «данная», полученная одним из его прадедов от императрицы, предоставляла потомкам право частной собственности на часть реки[219].
Крайне сложным для русского права оказался, как ни странно, вопрос изъятия собственности в пользу государства. Мы привыкли говорить о традиционной слабости института частной собственности в России, но в период расцвета «петербургской» России именно оно было слабой стороной в спорах с собственниками. Случаи изъятия собственности под нужды строительства дорог и мостов, конечно, были, но они не имели стандартного решения, что отчасти было связано с традиционной нечеткостью границ собственности, а отчасти – с правовой неопределенностью статуса государства и общества.
После Наполеоновских войн значительная часть Европы оказалась под влиянием французского законодательства. Гражданский кодекс 1804 года провозглашал абсолютный характер собственности, но при этом не распространял ее на ресурсы общего пользования – реки, озера, дороги, – которые были отнесены к сфере «всеобщего» или «общественного» достояния. Европейское право различало domaine prive, domaine public и domaine de l’État. Русское право хорошо понимало, что такое казенное и что такое частное имущество, но не понимало, что такое имущество общественное (публичное). И действительно – какая субъектность может быть у народа в самодержавной империи? Во Франции право управлять ресурсами от имени народа основывалось на представлении о «политической нации» – идее глубоко чуждой русскому самодержавию. Но и статус государства было определить трудно: что это – бюрократическая машина с царем во главе или сообщество граждан, управляемых монархом? Может ли это сообщество быть собственником? Развитию права общественной собственности мешало представление о владении как о праве, гарантированном монархом[220].
Отношение образованного российского общества к частной собственности – во многом под влиянием европейских настроений – изменилось от восторженного на рубеже XVIII–XIX веков к сдержанному и негативному. В отсутствие системного решения по развитию «общественного домена» в России благотворительность в европейском духе стала хорошим тоном. Мысль о том, чтобы «красиво» поделиться, приходила в голову многим.
Молодой князь Феликс Юсупов в конце 1910-х годов, после гибели брата на дуэли, оказался единственным наследником огромного состояния и стал мечтать о роли мецената: «Хотел я превратить Архангельское в художественный центр, выстроив в окрестностях усадьбы жилища в едином стиле для художников, музыкантов, артистов, писателей. Была б у них там своя академия искусств, консерватория, театр… В Москве и Петербурге мы имели дома, в которых не жили. Я мог бы сделать из них больницы, клиники, приюты для стариков. А в петербургском на Мойке и московском… – создал бы музей с лучшими вещами из наших коллекций. В крымском и кавказском имениях открыл бы санатории. Одну-две комнаты от всех домов и усадеб оставил бы самому себе. Земли пошли бы крестьянам, заводы и фабрики стали бы акционерными компаниями…»[221]
Но возвышенные планы не были поняты родителями. Молодому человеку напомнили, что он последний в роду Юсуповых, что он должен жениться и готовить себя к роли столпа общества в его старом понимании, то есть оставаться привилегированным собственником. Иными словами, продолжать быть «конкистадором» в собственной стране. «Матушку я убедить не смог. Спор наш ее только расстраивал, и спорить я перестал», – заключает Юсупов в мемуарах, написанных уже в эмиграции, когда почти все приведенные выше планы были осуществлены советской властью. Нельзя исключать, что сама эта мысль могла появиться у князя задним числом, замечает современный исследователь[222].
Вспоминая Ивана Пнина, о котором шла речь в начале главы, скажем, что российская элита осознанно предпочла роль «обладателей», а не «правителей». Причем выбор этот делался не в какой-то одной ситуации. Это был много раз подтверждавшийся выбор – в разные эпохи, разными правителями[223].
То, что собственность в нашей культуре не стала результатом развития общего права или либеральной традиции, а была дарована российскому высшему сословию сверху, – очень важное обстоятельство. «Особенность России в том, что первым человеком, продвигавшим представления о собственности в политической и интеллектуальной сфере, была правительница империи, – пишет историк Екатерина Правилова. – Насколько можно судить, императрица скорее видела в собственности дар, а не ответственность, привилегию, а не естественное право»[224].
Как известно, Екатерина II вместе с правом собственности для дворянства ввела в обиход и слово «собственность». Но перед нами не право, отвоеванное в ходе торга или конфликта. Перед нами – делегирование. Право собственности, дарованное императором, было, по сути, приватизацией государственной власти на местах. Сокращая расходы казны и обязательства центрального правительства, власть отдавала собственникам то, чем все равно не могла управлять[225].
На Западе защита права собственности исторически была основой для защиты гражданских и политических прав в широком смысле. Обе эти правовые сферы были, так сказать, одного поля ягоды. В России же собственность и гражданственность произрастали на разных полях. Права собственности защищало правительство, а гражданские права отстаивали те, кто с правительством боролся. Само понятие частной собственности ассоциировалось с судьбой царского государства, которое в глазах оппозиционно настроенной части общества было причиной всеобщего бесправия[226].
Самодержавие и собственность, существующие в системе, которая была основана на сословном праве и общинном землевладении, оказались глубоко увязанными между собой принципами. Они не создавали напряжения, противореча один другому и укрепляя тем самым «третью силу» – сообщество граждан.
Частная собственность была проектом власти. Альтернативного проекта, включавшего бы в себя частнособственническую идеологию, ни одна из популярных накануне революции политических сил предложить не могла. Отказ от самодержавия в 1917 году не привел к формированию в России республиканского устройства, власть начала работать над новым проектом.
Глава 9. Архитектура, счастье и порядок
1. Проект, в котором мы живем
Дома обозначают пространство – они, как вехи, оказываются обычно в самых важных местах: на холме, у озера, в излучине реки. А в городе дома – это и есть само пространство. Мы не знаем, как оно выглядело бы без них. Они и есть та среда, в которой мы живем. Мы ходим и ездим по линиям-улицам вдоль домов, поднимаем взгляд и разглядываем их. Внутри дома мы передвигаемся так, как нам предписано архитектором. Мы ходим по нарисованному плану – дверь, коридор, комната. Мы поднимаемся по лестнице под определенным углом или идем вверх по спирали, если лестница винтовая. Летим вертикально вверх, если это лифт. Внутреннее устройство влияет на наше поведение, помогает или мешает нам. Пространство внутри дома как будто бы образует течения, так что из одних комнат нас выталкивает, а в другие мы сбиваемся вместе.
А что, если внешнего пространства нет? У меня, например, его не было. Из-за того, что оно состояло из одинаковых домов, ровно таких же, как в соседнем микрорайоне, оно не закрепилось в детской памяти. Внутри все помню, снаружи – ничего. Помню, пожалуй, только пруд около дома, потому что он был нашей достопримечательностью. Мы ездили посмотреть на дома в центр города – как в музей. Там был город, где можно было ходить, но нельзя жить (я не мог представить, что на Кропоткинской можно жить!). А у нас можно было жить, но неинтересно было ходить – нужно было только дойти до подъезда и исчезнуть в нем. Я не мог, например, серьезно относиться к попыткам завести клумбу около входа – мне было жалко эти цветы в маленьком цементном углублении. Мимо них, мимо бабушки, сидящей у входа, хотелось скорее пройти, чтоб оказаться внутри. Для меня, как и для многих, наверное, кто вырос в многоэтажном доме, главным было внутреннее пространство.
Оно, конечно, было очень простое, это пространство. Архитектор, точнее инженер, который его «рисовал», был стеснен в средствах – никаких винтовых лестниц или эркеров. Мы жили в ячейке, точно такой же, как и у всех вокруг. Для меня было естественно, что квартира моего лучшего друга, где я проводил почти столько же времени, сколько у себя, была такой же. Совсем такой же – вплоть до того, что вешалка в коридоре была такой же, лампы такими же, книжные полки стояли на том же месте и книги, стоявшие на этих полках, были почти те же.
Эта жизнь, у которой не было внешней стороны, была счастьем для моих дедушек и бабушек. Я помню рассказы про вселение в девятиэтажку. Квартира была лучше, чем комната в коммуналке или бараке, – гораздо лучше. Эта квартира несла благую весть: за вами не будут подглядывать, вы сможете ходить в туалет тогда, когда захотите, вы сможете мыться в собственной ванной. Из мира, где нет частного, а есть только публичное, вы попали в собственный дом. В нем можно спрятаться, пусть это и ячейка, собранная из панелей, сделанных на домостроительном комбинате. В любом случае это единственный выход.
«Закон экономии властно управляет нашими действиями и мыслями. Проблема дома – это проблема эпохи. От нее ныне зависит социальное равновесие. Первая задача архитектуры в эпоху обновления – произвести переоценку ценностей, переоценку составных элементов дома. Серия основана на анализе и эксперименте. Тяжелая индустрия должна заняться разработкой и массовым производством типовых элементов дома. Надо повсеместно внедрить дух серийности, серийного домостроения, утвердить понятие дома как промышленного изделия массового производства, вызвать стремление жить в таком доме. Если мы вырвем из своего сердца и разума застывшее понятие дома и рассмотрим вопрос с критической и объективной точки зрения, мы придем к дому-машине, промышленному изделию, здоровому (и в моральном отношении) и прекрасному, как прекрасны рабочие инструменты, что неразлучны с нашей жизнью»[227].
Это Ле Корбюзье писал в 1920-х годах. Именно он противопоставил архитекторов и инженеров. Он писал, что архитекторам, забывшим об изначальном предназначении жилища, увлекшимся декором, предстояло умалиться. Им скоро нечего будет делать: «У нас больше нет средств на возведение исторических сувениров»[228]. А инженерам, наоборот, предстояло возвыситься и взять в свои руки бразды правления человеческим общежитием. Он, конечно, не мог и предположить, насколько крепко инженеры возьмут в свои руки бразды правления общежитием в далекой России. Не мог и подумать, что еще при его жизни, в 1960-х годах, благодаря индустриализации строительства, проведенной Никитой Хрущевым, возникнет целое общество, растущее и воспитывающееся в «домах – промышленных изделиях».
Мы и стали этим обществом. «Властный закон экономии» перевели на язык постановлений ЦК КПСС, осудили «широкое распространение внешне-показной стороны архитектуры» и провозгласили линию на экономию и эффективность. На свет появилась пятиэтажка – панельный жилой дом с квартирами минимального размера, без подвала, собиравшийся, как конструктор, на стройплощадке методом «без раствора» за 12 рабочих дней. Проект серии К-7 был разработан Виталием Лагутенко и основывался на работе французского инженера Раймона Камю. Советское правительство даже купило у Камю лицензию на первую систему массового производства бетонных изделий для строительства, но в итоге на конвейер была поставлена советская разработка[229]. Позже появились девятиэтажные дома, такие, в одном из которых вырос я, собранные из шершавых серых панелей. Еще позже – 16-этажные и все прочие «дома-машины», прекрасные, как рабочие инструменты, неразлучные с нашей жизнью.
Воспитано ли в нас «стремление жить в таком доме», о котором мечтал Корбюзье? Конечно, потому что для большинства из нас это и есть дом. Для большинства и сегодня это единственный шанс создать хотя бы небольшое собственное пространство – пусть это и ячейка в большом доме. За внешним пространством мы, как в детстве, можем съездить в центр города. А еще лучше в другие города, в другие страны, где на внешнюю среду можно посмотреть и даже на некоторое время в ней задержаться. Старый дом в старом европейском городе – как сувенир. Его хочется взять и забрать с собой.
Без слов ясно, какой дом хочется забрать с собой, а какой не хочется. У меня и у многих, кто живет в домах без лица, особое отношение к архитектуре. Поэтому, наверное, архитектура авангарда – рациональная и уравнительная – настолько малопонятна в наших условиях. Большинство домов, построенных в короткую конструктивистскую эпоху второй половины 1920-х – начала 1930-х, нуждается в культурной реабилитации, чтобы современный школьник мог отличить созданные авангардистами образцы от упрощенных панельных изделий, растиражированных в советское и постсоветское время. Строгий подход к форме, функциональность, рост архитектуры «изнутри», от пространства, а не от фасада, ставший фундаментом и языком мировой архитектуры ХХ века, для нас почти ничего не значит. Функциональность и красота конструктивизма были вытеснены массовым строительством. Нашим архитекторам, в отличие от большинства их коллег за рубежом, дана была возможность создать среду, застроить квадратные километры домами по своему собственному плану. Но закон экономии оказался уж очень суров. Среда получилась такая, что ее как будто и нет.
Знаменитый дом-коммуна, построенный Моисеем Гинзбургом для работников Наркомфина (Министерства финансов), есть во всех учебниках архитектуры. Но люди, поселившиеся в этом доме, отказались менять свою жизнь «под» архитектуру. Советские финансисты не стали жить так, как хотел автор проекта: обедать и отдыхать коллективно, а в «жилъячейках» только спать. Придуманные архитекторами общие пространства для отдыха нарезали на комнаты, еду приходилось готовить прямо в квартире-ячейке. Жильцы не любили эти дома.
Полюбят со временем, были уверены проектировщики. Они были убеждены, что опередили свое время. «Практическая неприемлемость этих зданий в конкретных условиях, как правило, объяснялась преждевременностью их внедрения – предполагалось, что со временем общество „дорастет“ и до тех форм жизни, которые культивировались в домах-коммунах»[230]. Но в действительности авторы тех проектов, как и большинство фантазеров, от времени отставали. Настоящие коммуны если и создавались в реальной жизни, то как попытка рабочих противостоять враждебной социальной среде. Агрессивное окружение заставляло сторонников советской власти объединяться в бытовые коммуны в годы Гражданской войны[231]. В этих сообществах архитекторы и подсмотрели идею домов-коммун, совместив их с утопическими представлениями прошлого. Но в условиях победившего социализма пролетариям, хозяевам их собственной страны, нужны были уже не оборонительные сооружения, а удобные городские жилища. О таких жилищах можно было только мечтать.
2. Сталинский ордер
Сталинские дома могут притягивать внимание и нравиться, потому что в них много лишнего, странного, непропорционального – башен, лепнины и гигантских арок. Архитекторы этих домов были готовы поспорить с человеческим масштабом и природой, устраивая в центре Москвы просторные итальянские лоджии, созданные для жаркого климата и яркого солнца. «Мироощущение этой культуры словно бы сползает на несколько десятков градусов южнее, с 60-й широты до, по крайней мере, средиземноморских широт»[232]. Эти дома как будто говорили каждому советскому гражданину, выбравшемуся из общежития и оказавшемуся в центре города: это место для особенных людей. Инженерия – для плебеев, архитектура – для патрициев: тот, кто живет здесь, возвышается над остальными. Даже климат в этих домах не такой, как у нас: у них средиземноморское солнце, у нас – затянутое тучами небо и вечный холод.
Сталинский стиль возник, как только вождь осознал и смог донести до подчиненных новое содержание архитектуры. Теперь, когда новый социальный порядок был намечен, нужны были инструменты его удержания и укрепления. Тайная полиция, принудительный труд, общественные организации, созданные сверху, – это инструменты сдерживания и насилия. Нужна была и позитивная программа, в частности привлекательная эстетика. Отсюда и кинофильмы, и литература, и быт новой аристократии: величественные дома, увенчанные колоннами «сталинского ордера», сталинского порядка (ордер – это порядок). Это высокие дома, властно заявляющие о незыблемости советской иерархии, построены в буквальном смысле «на зависть».
Слово «ордер» в советском употреблении получило еще несколько значений. Ордер на квартиру (вместе с пропиской, конечно) – это своеобразный титул на владение собственностью в стране, где нет собственности. Это очевидное возвращение к любимой Иваном Грозным практике наделения собственностью за службу. Ордера на квартиры в новых домах с башнями и колоннами государство вручало тем, кто высоко летал, тем, кто был знаменит, и, конечно, тем, кто руководил.
Ордер – это еще и документ, санкционирующий арест. Были случаи (порядок заселения Дома на набережной из этих случаев, конечно, – самый знаменитый), когда вскоре после получения ордера на жилье следовал и ордер на арест. Власть могла дать человеку лицензию на частную жизнь за верную службу. Но власть сохраняла за собой право судить, насколько служба действительно верна. Если служба уже не считалась верной, то частной жизни больше не полагалось – только общественная, в лагере. Такой порядок, такой ордер.
У красивого, желанного, расположенного в хорошем месте жилья в России есть не только архитектурное, но и моральное измерение. Речь не о религиозных течениях или идеологиях, которые не признают собственности. И не о Руссо, который был уверен, что цивилизация с ее страстью к границам испортила человечество. Речь снова о собственности, увязанной со службой.
Осенью 1933 года Осип Мандельштам получил первое и единственное собственное жилье, квартиру в кооперативном писательском доме в Нащокинском переулке. Но оседлой жизни было отмерено ему немного: в мае 1934 года поэта арестовали в этой самой квартире. Как раз в этом случае за ордером на жилье последовал ордер на арест. Считается, что главной причиной были стихи о Сталине («Мы живем, под собою не чуя страны…»), но на допросах речь шла и о стихотворении, прямо связанном с квартирой в Нащокинском, – «Квартира тиха, как бумага…».
А стены проклятые тонки, И некуда больше бежать – А я как дурак на гребенке Обязан кому-то играть… Пайковые книги читаю, Пеньковые речи ловлю, И грозные баюшки-баю Кулацкому баю пою. Какой-нибудь изобразитель, Чесатель колхозного льна, Чернила и крови смеситель Достоин такого рожна. Какой-нибудь честный предатель, Проваренный в чистках, как соль, Жены и детей содержатель – Такую ухлопает моль…[233]Надежда Мандельштам вспоминает, что появление этого стихотворения вызвано одним коротким разговором с Борисом Пастернаком. Пастернак зашел взглянуть на новую квартиру Мандельштамов и, уходя, сказал: «Ну вот, теперь и квартира есть – можно писать стихи». «О. М. был в ярости… По его глубокому убеждению, ничто не может помешать художнику сделать то, что он должен, и обратно – благополучие не служит стимулом к работе. Вокруг нас шла ожесточенная борьба за писательское пайковое благоустройство, и в этой борьбе квартира считалась главным призом. Несколько позже стали выдавать за заслуги и дачки… Слова Бориса Леонидовича попали в цель – О. М. проклял квартиру и предложил вернуть ее тем, для кого она предназначалась, – честным предателям»[234].
В чувствах поэта нет толстовского и вообще какого-либо философского неприятия собственности. Мандельштама вывело из себя напоминание о творчестве, поставленном в прямую зависимость от службы. Пастернак добродушно и, скорее всего, без всякой задней мысли говорил об устройстве быта, об удобном месте для работы. А Мандельштам услышал напоминание о том, что жилье не покупается, а выдается в лучшем случае за игру на гребенке, а в худшем – за предательство и смешение чернил и крови. «Проклятие квартире, – пишет Надежда Мандельштам, – не проповедь бездомности, а ужас перед той платой, которую за нее требовали»[235].
Эта особая цена, не выражаемая в денежном эквиваленте и требуемая государством в уплату за элементарные повседневные блага, – неотъемлемая составляющая всей организации советской жизни. Глубокая бесчеловечность советской власти была не только в том, что она убивала и калечила людей физически. Она калечила морально. В программе партии такой цели записано не было, но партийное руководство, по сути, проводило политику морального унижения образованной и духовно независимой части общества. Компромисс, отказ от свободы творчества в искусстве и науке поощрялся благами, квартирами, едой, деньгами. Бескомпромиссность, творческая свобода, независимость наказывались лишениями, арестами, смертью.
Само присутствие этого чудовищного выбора в повседневной жизни заставляет взглянуть на советскую жизнь особым образом. Любое проявление независимости, каждый отказ шагать в едином строю в советское время оплачены дорогой ценой. Те, кто шел на это, – великие люди, и их нужно помнить. Дилемма о сотрудничестве или несотрудничестве с властью была по-настоящему жестокой в сталинские времена, но и в более поздние годы выбор не был легким. Менялись только масштабы риска. За игру по правилам давали призы (впрочем, без гарантий) – то самое полное «пайковое благоустройство». За игру не по правилам можно было не просто лишиться пайка, а потерять профессию и жизнь. Выбор в пользу недеяния на родине или отъезда с родины (уже в брежневские времена, когда эмиграция стала возможной) был во многих случаях благородным и трагическим выбором. Мы не узнаем имен всех тех, кто не пошел на сделки, не реализовался и никак больше не дал о себе знать, отказавшись и от компромисса, и от собственного голоса.
Выжить, состояться жизненно и творчески, не запятнав себя предательством или другой низостью, было, наверное, высшим человеческим пилотажем тех времен. Но удавалось это единицам. Так что элитные завидные дома были населены людьми, заключавшими сделки с самими собой. Можно было завидовать их благополучию, а можно было и ужаснуться, через что или через кого им пришлось перешагнуть, чтобы стать «элитой».
У сталинской застройки, особенно у высотных домов, есть какая-то привлекательность, которую мне самому трудно себе объяснить. Возможно, это просто-напросто эстетическая привлекательность – наличие какого-то облика на фоне среды, где индивидуальность и выразительность являлись исключением. Вспомним, в начале главы мы говорили о том, что жизнь в построенных советскими инженерами многоэтажках была как будто бы лишена внешней стороны. Сама среда поощряла погружение в себя, в семейственность, спрятанную в одной из панельных ячеек.
Внешняя привлекательность вызвана еще и тем, что в этих домах люди живут уже довольно долго. Притягательность нельзя создать одной только архитектурой. Нужны среда и история. Только эта история глубоко трагическая. И она, в отличие от дореволюционной истории, связи с которой порваны слишком давно, понятна большинству живущих сегодня. Элитные дома – памятники не только архитектурным «излишествам», но и несвободе, возведенной в доблесть. Сервильность и предательство стали в этих домах башенками и ажурными решетками.
В 1960-х и 1970-х для обитателей высших этажей власти стали строить неприметные, но тоже очень хорошие дома. Все здесь имело значение – отказ от декора, большая площадь, «западная» планировка, подсобные помещения, даже камины и подземные гаражи. Высота этажа могла означать место в иерархии – есть известный дом в Гранатном переулке в Москве, где на одном из этажей, построенном специально для Брежнева, потолки выше, чем на всех остальных. Впрочем, заметить это можно, только если специально смотреть: удивительные преимущества номенклатурного жилья, в отличие от декора ампирных сталинских домов, не должны были бросаться в глаза.
Эти башенки, эта планировка, эти высокие потолки – украшение несвободы, которая вообще есть свойство любой условной собственности, то есть держания, обусловленного службой. Если жилье дается за работу, услуги или успехи, оно точно так же может быть и отнято. С точки зрения отношений собственности государство при большевиках, по сути, отыграло назад реформы предыдущих 150 лет и отменило все элементы права частной собственности, которые успели закрепиться к моменту революции. Земля, жилье и другие блага из собственности превратились в объекты держания – условного, то есть зависящего от решения властей.
Проведя ликвидацию права собственности, власти ликвидировали и независимых от них действующих лиц. Советские вожди пошли в деле уничтожения независимости, вероятно, даже дальше Ивана Грозного. Практически любые блага были превращены в привилегии – или, если подойти поближе к Средневековью, в бенефиции. Любое благополучие стало пайковым. Так архитектура стала частью большого проекта, в котором жили советские люди.
3. Социальная революция Хрущева
Советские постройки до сих пор определяют облик большинства российских городов. Дома хотя бы потому очень красноречивы, что они всегда на виду, всегда там, где мы их видели вчера. Они живут дольше людей и несут свое послание спокойно и настойчиво. Иногда то, чего очень хочется, начинает владеть умами. «Дома, которыми мы восхищаемся, – это дома, различными способами восхваляющие ценности, которые мы считаем достойными, – говорит в книге «Архитектура счастья» Ален Де Боттон. – Чтобы понять, почему человек находит то или иное строение красивым, нужно знать, чего этому человеку недостает. Может быть, мы и не разделим его чувство прекрасного, но поймем его выбор»[236].
И выбор многих из нас нетрудно понять. Архитектура в тех странах, где власть сильнее рынка и права собственности, где приказ сильнее договора, всегда особенно красноречива. Именно поэтому мы в России понимаем архитектуру мгновенно и подсознательно. Высокое, уникальное, «элитное» недоступно, его нужно выслужить или купить любой ценой. «Элитность» и создает стоимость, что бы в данный момент ни понималось под элитностью – квартира в сталинской башне, кирпичный особняк-крепость или стерильный минималистский дом. А то, что просто и не имеет лица, – это вообще не архитектура, это продукция инженеров-уравнителей. То есть архитекторов, которых заставили придумывать максимально дешевые дома.
Чтобы по достоинству оценить простоту, нужно хорошо знать, что такое сложность и роскошь. Дистилированные формы модернистской архитектуры, поверхности из необлицованного бетона могли оценить только те, кто устал от сложных пространств, броских фасадов и нагромождений архитектурных «красот». Но те, кому действительно пришлось погрузиться в реальность, в которой архитекторы и инженеры были противопоставлены друг другу, не знали ни сложности, ни красот и, как правило, не имели собственного жилища, а за панельные жилые блоки говорили стране спасибо.
Большинство советских людей, не имея альтернатив, жили в мире, придуманном инженерами, стесненными в средствах. Когда Никита Хрущев возглавил компартию и страну, положение с жильем было чудовищным. Количество построенной за предвоенные и послевоенные годы новой жилой площади было статистически незначимым и в любом случае было поглощено разрушениями: около трети всего жилого фонда СССР было разрушено в годы войны, когда 25 миллионов людей остались без крова[237].
Жилищное строительство было и страстью, и одним из важнейших политических проектов Хрущева. В книге воспоминаний он постоянно возвращается к этой теме: «Люди страдали, жили, как клопы, в каждой щели, в одной комнате по нескольку человек, в одной квартире много семей»[238]. В рассказах о визитах за рубеж с увлечением рассказывает об образе жизни коллег. К примеру, датский премьер жил в квартире в кооперативном двухэтажном доме. «Квартира располагалась на двух этажах. Эта западная система размещения наиболее удобна для семьи. Как правило, внизу находятся кухня и столовая, наверху – спальни, под окнами – садик, – пишет Хрущев. – Хорошая простая семья, без претензий, обеспеченная, но без роскоши, что мне вдвойне понравилось. Понравились также сам дом и устройство квартиры. Я, признаться, мотал там себе на ус, что и нам надо бы придерживаться такого образа жизни. А то у нас для руководителей сложились другие условия быта, вовсе неправильные»[239].
Частное индивидуальное строительство в первое послевоенное время и было решением жилищной проблемы. До появления какой-либо ясной политики люди просто строили себе дома. Индивидуальное строительство по объемам сданной площади обгоняло государственное вплоть до 1961 года[240]. Это была важная развилка. Индивидуальное строительство теоретически могло бы получить и государственное благословение. В марте 1945 года в Доме архитектора прошла выставка «Быстрое строительство в США», которую внимательно изучили советские архитекторы. Чиновники тоже присматривались к индивидуальному строительству: гонцы отправлялись в Британию, Финляндию и Швейцарию.
Но указом 1957 года решено было культивировать иной образ жизни – промышленный. Советские люди должны были получить индивидуальные жилища промышленного типа. Для решения проблемы нужен был переход от архитектуры к строительству, от ремесленных процедур к промышленным, от ампира к инженерии. И благодаря этому скорость строительства была феноменальной. «Жилищный указ 1957 года был одним из величайших сигналов хрущевской эры. Он дал зеленый свет беспрецедентному строительному буму – с большим отрывом самому масштабному в Европе», – пишет современный британский исследователь. В декабре 1963 года на пленуме ЦК компартии Хрущев утверждал, что за 10 лет более 100 миллионов людей улучшили жилищные условия, впрочем, в других случаях он упоминал 75 миллионов[241]. Другие подсчеты, причем за более длинный промежуток, с 1953 по 1970 год, дают удвоение общей жилой площади в стране. За этот срок в городах и на селе советское правительство и граждане построили 38,2 миллиона квартир и индивидуальных жилых домов. Более 140 миллионов людей получили новое жилье[242].
Это была настоящая революция – техническая и социальная, – но революция противоречивая. Пятиэтажные хрущобы спасли страну от бездомности. Появление у миллионов людей собственного угла стало одним из важнейших достижений хрущевской оттепели. Напомним, что ХХ съезд коммунистической партии, развенчавший культ личности Сталина, прошел в 1956 году. Полновластия Хрущев во внутрикремлевской борьбе добился в 1957-м и сразу же взялся за массовое строительство.
Советские архитекторы и дизайнеры были крайне ограничены в том, что они могли предложить гражданам. Дело не в установке на экономию и даже не в нехватке технологий, а в практике и правилах распределения жилых метров. С одной стороны, были нормы (санитарные нормы, изначально введенные еще большевиками и составлявшие 8, с 1970-х годов – 9, а в отдельных городах – 12 квадратных метров на человека; реальные нормы расселения им никогда не соответствовали, достигая в среднем половины требуемой площади), с другой – еще со сталинского времени – приоритет индивидуального расселения по принципу «одна квартира – одна семья». Советский архитектор мог проектировать полноценную квартиру с несколькими спальнями, столовой, кабинетом, прихожей и гардеробной, но в реальной жизни она все равно становилась коммунальной (если не была особо номенклатурной). Ведь если бы в квартиру въехала только одна семья, ее члены получили бы излишек жилой площади: острый дефицит жилья превратил минимумы в максимумы.
Размеры квартир и количество комнат приходилось сокращать. Квартиры своими размерами нарушали нормы («заселение квартиры индивидуальными семьями от трех до пяти человек возможно, только если проект рассчитывается исходя из шестиметровой нормы на человека», – писал архитектор Павел Блохин в 1944 году[243]). Но даже это не решало задачу. Архитекторам пришлось уменьшать не только размеры квартиры в целом, но и коридоры, ванные и кухни. Это еще одно непреднамеренное последствие одновременного существования нормы площади и установки на индивидуальное заселение. Сокращение площадей обеспечивало отдельность квартиры, но повышало стоимость ее строительства. Чем больше инфраструктуры было в здании относительно его жилой площади, тем дороже становился жилой метр. Отсюда неизбежное сокращение подсобных площадей: отказ от прихожей и коридора, совмещенный санузел и появление проходных комнат. Последние помогали не только исключить коммунальное заселение, но и обойтись без коридора[244].
Пространства с уникальными функциями (столовая, гостиная, кабинет, спальня) исчезли с архитектурных планов. Каждая комната теперь исполняла две и более роли. Ванные и туалеты размещались рядом с кухнями, чтобы сэкономить на инфраструктуре. Одновременно это означало смешение зон внутри жилья. Разделение домашнего пространства на интимные, публичные и сервисные зоны было уничтожено. Так появилось пространство, в котором многие из нас живут до сих пор, – пространство советской квартиры, сформированное не столько человеком, сколько нормами и практикой распределения жилья[245].
Каждый новый счастливый обладатель отдельной квартиры получал и собственную кухню – неизбежно маленькую, но свою. И эта маленькая кухня была одной из важнейших арен сражения между капитализмом и коммунизмом.
В 1950 году на промышленной ярмарке в Западном Берлине участники реализации плана Маршалла выставили американский дом – типовой шестикомнатный дом, обставленный самой современной мебелью. В доме была кухня, оборудованная по последнему слову техники. Кухня стала главной сенсацией выставки, тысячи восточных немцев (Стены еще не было) приезжали смотреть на нее. В 1959-м на выставке промышленной продукции США в Москве американцы с успехом повторили этот трюк. Дебаты между будущим президентом Ричардом Никсоном и Никитой Хрущевым проходили, в частности, на кухне того самого типового американского дома. Хрущеву приходилось доказывать преимущества советской системы на фоне невиданных чудес – холодильника, стиральной и посудомоечной машин, встроенных в модернистскую кухню. Он попытался отшутиться: «А у вас нет такой машины, которая бы клала в рот еду и ее проталкивала?» Но просторный и набитый бытовой техникой дом был, конечно, шоком для всех, кто сумел тогда попасть на выставку в Сокольниках.
Советские плановики и строители не могли дать людям удобную и хорошо оборудованную кухню, но сама отдельность квартиры и ослабление государственного вмешательства в частную сферу привели к еще одному непредвиденному результату. Кухня оказалась местом рождения советской публичной сферы, точно так же как английские кофехаузы и французские салоны XVII–XVIII веков стали пространствами, где (по Хабермасу) родилась «буржуазная» публичная сфера.
Тогда, в конце 1950-х – начале 1960-х, вообще было заложено многое из того, что стало основой образа жизни на последующие полстолетия. Был выбран путь, по которому массовое строительство и расселение людей в российских городах идут до сих пор. Интерес Хрущева и его чиновников к индивидуальному жилью по британским, швейцарским и американским образцам не имел шансов воплотиться в программу массового индивидуального строительства. Ритуалы холодной войны требовали этот путь осудить. К ограничению индивидуального жилого строительства вела и нехватка ресурсов: размеры домов на одну семью власти ограничили специальным постановлением. Так и появился на свет панельный городской пейзаж: все ресурсы – на панельные дома, как при Сталине на домны и электростанции. Даже неизбежные трубы ТЭЦ, ставшие зрительной доминантой большинства российских городов, – следствие принятых тогда решений. Без них все эти миллионы метров жилья нельзя было бы осветить и обогреть. Панельные дома и трубы – и по сей день единый городской вид, объединяющий всю страну: от Калининграда до Магадана, от Оренбурга до Мурманска.
Дома живут дольше людей, и если 50 лет назад они строились как спасение, то теперь строятся по инерции, как неизбежность. Срочное решение давно назревшей проблемы стало стратегией на десятилетия и безальтернативной реальностью. Это пример того, как маленький зигзаг на пути к большой цели становится магистралью. Зависимость от выбранного пути формируется очень быстро – как колея в поле. Избавиться от этой зависимости – так же как выбраться из колеи – становится все труднее. Серийные многоэтажные дома были отличным решением для советского государства, поскольку советская экономика хорошо умела производить «вал» – налаживать массовое производство, в котором количество было важнее качества. Соображения стоимости диктовали размеры комнат, высоту потолков, количество этажей (пять – максимум, возможный без лифта), появление проходных комнат. Комнаты не принято было определять по функции – «спальня», «гостиная». Назначение комнат, как правило, менялось в зависимости от времени дня – ночью диван становится кроватью. И до сих пор размеры квартир определяются в России по количеству комнат, а не спален.
С появлением рынка все это должно было бы измениться – спрос должен был бы повлиять на предложение, дома должны были бы стать разными, как и образ жизни. Но оказалось, что в условиях рыночной экономики домостроительные комбинаты – это прибыльный актив. Директора осознали, что комбинаты можно приватизировать и начать зарабатывать, выпуская те же панели – слегка модернизированные. В любом случае это гораздо быстрее и дешевле, чем строить индивидуальные дома. Это один из множества примеров того, как технологии оказываются сильнее революций.
После распада СССР придуманные советскими инженерами и плановиками жилые блоки стали недвижимостью. А районы, застроенные многоэтажками, стали в постсоветской системе координат «непрестижными». Укрепляет это распадение на «престижное» и «непрестижное» то, что сносимые старые пятиэтажки заменяются новыми панельными домами, которые опять, как и 50 лет назад, создают ощущение «выселок», нового района, еще не ставшего городом. «Если снести все пятиэтажки и построить вместо них новые здания, то мы получим ровно то же самое, от чего хотим уйти. А именно – „новый район“. И он не станет престижным оттого, что дома серии К-7 заменят домами серии П-44. Это не будет городом. Это будет выселками нового поколения», – писал еще перед самым началом программы сноса пятиэтажек архитектурный критик Андрей Кафтанов[246].
Сегодняшнее качество жизни, в основе представления о котором лежит отдельная городская квартира, – совсем недавнее приобретение. Если взять за эталон минимальной «нормальности» квартиру, где есть как минимум две отдельные комнаты, кухня размером не менее 8 квадратных метров и все необходимые удобства, то выяснится, что эта обитель частной жизни стала доступной большинству только в последние два-три десятилетия. До 1970-х годов только 10 % строившихся квартир соответствовали описанному стандарту. В 1970-х – 23 %; в 1980-х – уже 60 %. Накануне распада СССР лишь около 30 % взрослых граждан жили в «нормальных» квартирах[247].
Хрущевская революция оказалась долговечнее сталинской, поскольку определила покухонный, поквартирный, помикрорайонный образ жизни страны. Социальная инженерия потерпела полное поражение – построить общество по единому плану не удалось, – но инженерия физическая навсегда оставила нам «массовое» многоэтажное наследие.
Еще одно незапланированное достижение той эпохи – первые шаги к более защищенному праву собственности на жилое пространство. Само количество выданных гражданам квартир вело к большей автономности отдельного человека – за десятками миллионов не уследишь. За ордером на квартиру теперь крайне редко следовал ордер на арест. Квартиросъемщик стал больше походить на собственника. Британский историк Марк Смит напоминает, что права собственности – разные в разные времена в разных культурах. Это комбинация различных «элементов» собственности – права пользоваться, владеть, рапоряжаться, перестраивать, продавать, менять. Советская частная собственность – несовершенная, но все-таки вполне укладывающаяся в европейскую логику комбинация прав. При Хрущеве этих элементов стало больше. Закреплены на бумаге они были уже в постсоветское время[248].
Закрепилась и печальная формула: архитектура для патрициев, инженерия – для плебеев. Это расслоение можно проследить до Древнего Рима, в котором уже во времена поздней республики социальное неравенство проявлялось и в образе жизни, и в характере жилья. Дом-особняк, domus, могли позволить себе немногие. Отдельный дом был признаком высокого общественного и материального статуса. Особняки были наследниками сельской усадьбы, измененной для городских нужд, – это было пространство с двором-атрием и двором-садом, спрятанными внутри помещения за глухими стенами. Дома для среднего класса и бедноты – инсулы – были чистейшим городским изобретением. Это были многоэтажные (до семи этажей!) здания с ячейками, которые сдавались внаем.
Римская поэзия и переписка полны жалобами на ужасные условия жизни в инсулах – тесноту, нечистоту, опасности и дороговизну. Цицерон пишет Аттику, что две его таберны обваливаются и оттуда сбежали не только люди, но и мыши. Плутарх называет пожары и обвалы «сожителями Рима». Представьте, каким антисанитарным было такое жилье, в котором при отсутствии воды – потаскайте-ка ее на пятый этаж! – нельзя было толком убраться и в котором оседали копоть, чад и угар от жаровен и светильников. И при этом жилье было дорогим: Ювенал пишет, что в сельской местности можно купить домик с садиком за те самые деньги, которые в Риме приходится платить за темную конуру[249].
Изменилось ли хоть что-то в условиях человеческой жизни за последние две тысячи лет? Во-первых, к сожалению, то, что больших городов, которым был когда-то только Рим, теперь тысячи. Во-вторых, к счастью, то, что жизнь вне среды, вне архитектуры больше не является неизбежностью для огромного количества людей. В российских условиях функцию настоящего дома, того, в который бегут из города, часто выполняет дача (о которой нужен отдельный разговор в силу огромности темы[250]). Свои ответы на вопрос о доме есть у каждой культуры. Вообще, один из способов измерить прогресс – посмотреть на долю людей, способных позволить себе роскошь патрициев и королей прошлого, то есть возможность обустроить жизненное пространство по собственному плану.
Если человек среднего достатка может взять кредит и построить дом любого стиля, создав пространство, которое он в идеале хотел бы видеть вокруг себя, то прогресс существует. Чем большее число людей может позволить себе личную утопию, тем благополучнее общество. Общество, где все живут в одинаковых домах, а общественные пространства монополизированы государством, страдает от недостатка общественной сферы. Общество, в котором ценится «элитность», страдает от примата частной жизни и расслоения. Дом – это бегство от обоих крайностей к собственному представлению об идеальной жизни. Поэтому если смотреть на частные дома, то можно увидеть не просто соревнование кошельков, но и выставку представлений о счастье[251].
4. Счастье и порядок
В более широком смысле, впрочем, дома и среда, в которую они вписаны, – это, так сказать, выставка порядка, физическое отражение сложившихся в этих краях правил общежития. Живя в ячейках-квартирах, в пространстве частной жизни, но вне пространства жизни общественной, мы пришли к зеркальной противоположности древнегреческого полиса. Полис был городом общественным. Облик частного дома, его планировка не были важны древнему греку, потому что он проводил дома совсем немного времени. Дома в городах-государствах классического периода были такими простыми, что, окажись мы сегодня в жилом квартале Афин V века до н. э., мы не узнали бы, что это те самые знаменитые Афины. Дом не был ни объектом вложения денег, ни предметом гордости, поскольку не был центром притяжения. Центром притяжения была площадь, арена общественной жизни. Мягкий климат и живой интерес к делам государства выталкивали хозяина дома на улицу уже рано утром. Претенциозный богатый дом считался признаком дурного вкуса: расходы и усилия направлялись на строительство общественных сооружений и храмов, а не на частные дома.
Со временем дома становились все удобнее и роскошнее. Алкивиад, живший в V веке до н. э., вызвал всеобщее возмущение, когда украсил стены своего дома росписями. А Демосфен, живший почти на 100 лет позже, жаловался, что в его время подобная расточительность становится обычным делом и частные дома начинают превосходить величием общественные[252].
«Поверь мне, счастлив был век, еще не знавший архитекторов… Тогда не строили для пира покоев, способных вместить многолюдное застолье, и не везли на длинной веренице телег, сотрясающих улицы, ни сосен, ни елей, чтобы построить из них штучный потолок, отягченный золотом. Развилины с двух сторон поддерживали кровлю, хворост или зеленые ветви, плотно уложенные по скатам, давали сток даже сильным дождям. И под таким вот кровом ничего не боялись. Под соломой жили свободные, под мрамором и золотом живут рабы»[253].
Представление о том, что сфера частного может быть ограничена служением общему, что сдержанность и простота могут быть осознанным выбором, требует осмысления. Сама возможность введения осознанных ограничений в мышлении, культуре и повседневной жизни – открытие древних греков. «Ничего сверх меры», – говорил мудрец Питтак («Мера важнее всего» – слова, приписываемые мудрецу Клеобулу). У чувства меры особое место среди важнейших греческих добродетелей. Вот как это объяснял Михаил Гаспаров: «Разумение – это знание, что хорошо и что плохо. Мужество – это знание, что хорошего нужно делать и что не нужно. Справедливость – это знание, для кого нужно делать это хорошее и для кого не нужно. Чувство меры – это знание, до каких пор нужно это делать и где остановиться. Мужество – это добродетель для войны, справедливость – для мира; разумение – это добродетель ума, чувство меры – добродетель сердца. Разумением порождаются понимание и доброжелательство, мужеством – постоянство и собранность, справедливостью – ровность и доброта, чувством меры – устроенность и упорядоченность»[254].
Путь к естественному для нас сегодня преобладанию частного – в быту, в экономике, в общении – был долгим. Можно вспомнить, что не только роскошное индивидуальное жилище, но и искусство портрета, изображающего конкретного человека со всеми чертами индивидуальности, не было знакомо классической Греции.
Частное входило в культуру постепенно, вытесняя и заслоняя идею общего порядка, но это движение было уже не остановить. Искусство строительства, стремление украшать жилище мозаиками, картинами, мраморными статуями усиливалось по мере того, как все более обособленной становилась жизнь частного человека и более выраженным – расслоение между бедностью и богатством. В конце концов образцы идеального порядка взаимоотношений между частной и общественной жизнью остались в культуре как идеи. Они и живы, и воплощены в физической реальности благодаря архитектуре – в лучших ее проявлениях. В этом, наверное, ее сверхзадача. Не случайно ордер («порядок») – один из первых способов осмыслить различные архитектурные формы.
В жизни всегда не хватает последовательности и порядка. Его мало и снаружи, и внутри человека. Поэтому человек пытается в меру сил и способностей создавать его вокруг себя – устанавливать правила и ограничения. Видимое проявление вечно неутоленной тяги к порядку – архитектура. При этом идеи порядка меняются от эпохи к эпохе и от одного дома к другому, даже если те стоят рядом.
Здание – это представление об идеально устроенном мире. Русская церковная архитектура несет в себе стройное представление об иерархии существ в небесах и на земле. Эта идея порядка пережила советские времена, когда в церквях устраивали склады, общежития и бассейны. Внутри могло происходить все, что угодно, но форма церкви продолжала нести свое послание. Даже если иконы убраны, а стены ободраны, понятно, где должна быть земля и где – небо.
Свои идеи порядка несут и крестьянская изба, и рабочий барак, и коммунальная квартира, и сталинская высотка, и хрущевская пятиэтажка, и элитный дом, построенный для работников ЦК КПСС, и дворец на Черном море, построенный «для Путина». Вилла Ротонда, спроектированная итальянским архитектором Андреа Палладио, тоже несет идею порядка. Как и «Дом над водопадом» Фрэнка Ллойда Райта, и даже передвижной дом-прицеп, и рыбацкая хижина, и палатка кочевника. Человек, живущий в доме, может и не соответствовать среде, в которой оказался. И тогда он будет стремиться ее преодолеть – вырваться из дворца, из барака, из панельного дома. А понять, куда же ему стремиться, ему помогут образы порядка и счастья, уже кем-то опробованные раньше. Но идея порядка, которую несут окружающие нас советские дома, очень своеобразна. Раз мы живем в этой среде, стоит о ней задуматься и лучше ее понять.
5. Русский ордер
Сталинский ордер не совсем ушел в прошлое – ни как эстетика, ни как документ. Ордер в архитектурном смысле живет в силу долговечности зданий. Спрос на недвижимость в старых номенклатурных домах по-прежнему есть, хотя и размывается постепенно новой «элитной» эстетикой, которая либо подражает сталинской (как, например, жилой квартал с характерным «господствующим и доминирующим» названием Dominion за университетом на Воробьевых горах в Москве), либо стремится быть подчеркнуто минималистской и похожей на современную (как московская «золотая миля» в переулках между Остоженкой и Кропоткинской набережной). Заметим, что нет больше одного только инженерного строительства, есть и архитектура. Но своей эстетики эпоха Путина не породила – «путинский ордер» выделить не удается. По крайней мере к середине 2010-х своего большого стиля время не создало. Обилие элитного и вообще дорогого жилья, построенного в «неосталинском» стиле, кажется, не является осознанным эстетическим проектом. Это просто проявление эффекта колеи. Другого большого стиля все равно нет, поэтому если хочется дорого продать недвижимость, то один из вариантов – построить реплику высотки или одного из жилых палаццо Жолтовского.
Впрочем, «ордер» и в смысле допуска, и в смысле санкции на арест, конечно, не утратил значения. Элитные квартиры редко выдают просто так, за них платятся деньги, но эти цены ниже рыночных. В допутинские годы, особенно в Москве при мэре Юрии Лужкове, представители политической элиты и обслуживающие ее люди могли получать от муниципального правительства квартиры по заниженным ценам. В этом состоял жест доброй воли со стороны государства, построенный на неписаном договоре с Москвой – Москва таким образом расплачивалась за свои вольности.
Практика защиты высокопоставленных чиновников от жестоких рыночных сил сохраняется и по сей день. Во время предвыборной кампании в Москве в 2013 году выяснилось, что Сергей Собянин, сменивший Лужкова на посту мэра, сумел приватизировать выданную ему служебную квартиру по цене явно ниже рыночной. В 2013 году эта квартира площадью чуть больше 300 квадратных метров стоила около 5,3 миллиона долларов. По оценке оппозиционного политика и борца с коррупцией Алексея Навального, рыночная стоимость квартиры в шесть раз превышает доход семьи чиновника за 10 лет[255].
Некоторые покупают подобные квартиры за полную рыночную цену – притом что еще не всякий пройдет фильтр на право жить рядом с Собяниным или, например, с бизнесменами и чиновниками, известными своей близостью к президенту. В Москве есть так называемый дом друзей Путина – дом 3 в Шведском тупике. Здесь, как удалось выяснить журналистам агентства Bloomberg и журнала Forbes, живут Игорь Сечин («Роснефть»), Андрей Костин (ВТБ), Сергей Лавров (министр иностранных дел), Алексей Кудрин (бывший министр финансов). Чтобы поселиться рядом с избранными, нужно располагать десятками миллионов: двухэтажный пентхаус площадью 1000 квадратных метров в 2013 году стоил 50 миллионов долларов. В доме есть квартиры и подешевле. Их мало, но они все-таки попадают на рынок[256].
За лучшие дома в лучших местах города и пригорода нужно платить «сверхденьги». Ордер (символический) выдается не на саму жилую площадь, как при советской власти, а на возможность заработать те самые «сверхденьги», без которых эту площадь не купишь. Да и не нужна такая собственность тем, кто знает настоящую цену деньгам. Покупка недвижимости по явно завышенной цене – своеобразная плата за допуск к богатству, возврат части средств в некий котел. Этот ордер, своеобразный путинский ордер – пропуск в чиновно-деловую среду, необходимый тем, кто, заработав деньги, должен еще и продемонстрировать свою принадлежность к новой аристократии.
Не исключено, что эта практика будет развиваться. Российским миллионерам и миллиардерам все настойчивее будут предлагать вкладывать деньги в России. Уже не раз звучали официальные заявления о том, что в ходе новой волны приватизации пакеты акций российских компаний должны будут продаваться на российских торговых площадках. Призывы к крупным «офшорным» капиталистам приехать и вложить средства в российские активы были дополнены законом, запрещающим чиновникам иметь счета в иностранных банках[257].
Итак, в постсоветском «русском» ордере есть элементы и дореволюционного, и сталинского, и, шире, советского режимов. В постсоветском жилье, как и в советском, стоимость доминировала над эстетикой. Разница в том, что в нынешнее время стоимость должна быть максимально высокой, а не максимально низкой, как во времена массового жилого строительства. Жилье – это актив. Для большинства граждан это в первую очередь единственный капитал. Капитал в стране, чьи граждане исторически были лишены какого-либо капитала[258].
Цена и ликвидность здесь важнее удобств, инфраструктуры и архитектурных качеств постройки. Эстетики этот ордер не предполагает. Место большого стиля занимала в этой системе ценностей высокая стоимость квадратных метров. А значит, стиль эпохи 2000-х – первой половины 2010-х по определению менее долговечен, чем сталинский, ведь разрушить его может не физическое воздействие, а кризис рынка недвижимости.
Глава 10. Недостроенный дом
1. Милость от государя
Мой дед в 1970 году получил трехкомнатную квартиру в Беляеве. Мне нравится думать, что это был тот самый надел земли, на который он мог бы претендовать, если бы никакой революции не было. Если бы не было коллективизации, у деда был бы отличный дом на высоком берегу Оки. Там жила бы большая семья. В той воображаемой жизни, в которой не было бы ни коллективизации, ни выдавливания людей в города, детей в семье было бы много (в реальной советской жизни у деда был только один сын, мой отец). Та воображаемая семья, впрочем, наверняка мечтала бы отправить детей учиться в город. Деду пришлось бы откладывать деньги или взять ссуду на образование в каком-нибудь губернском банке. У моего отца в таком случае был бы шанс стать горожанином в первом поколении. А может быть, только у меня был бы такой шанс.
Так или иначе, в реальном СССР за несколько лет до пенсии дед получил квартиру в городе, в столице страны. Можно ли считать это проявлением высшей справедливости? В конце концов, многие из бывших крестьян – ровесников деда вообще не дожили до раздачи квартир, сгинули в годы коллективизации и на войне. Они все потеряли и ничего не получили. В этом смысле деду повезло: он и выжил, и получил жилье в свои 55 лет.
Массовое строительство квартир в хрущевские и брежневские годы – социальная революция, повлиявшая на образ жизни, уровень образования и структуру семей. Это явление, соизмеримое по масштабу с коллективизацией, в каком-то смысле коллективизация наоборот. Если события 1929–1930-х годов представляли собой массированное уничтожение прав, лишение собственности, разрушение стоимости, то события начала 1960-х – 1980-х годов – это появление огромного количества новых прав, создание собственности и стоимости.
На рубеже 1920-х и 1930-х бóльшая часть населения страны, деревенские жители, потеряла свою землю, имущество и связь с традиционным местом жительства. В годы войны многие из тех, кто устроился в городах, потеряли все снова. По одной из оценок, в 1710 городах и поселках, оказавшихся в зоне оккупации, была уничтожена примерно половина жилого фонда. Всего в годы войны было разрушено более миллиона домов[259]. Выше мы говорили о том, что около 25 миллионов советских граждан после войны осталось без крова.
Государство, созданное большевиками, отказалось от рынка и заявило свое право распоряжаться любой собственностью от имени народа. Вот только теперь на руках у этого государства было самое большое бездомное население в Европе. Собственность теперь нужно было не делить, а создавать – в отсутствие частных застройщиков. Строительство и раздача жилья стали долгом государства перед людьми, а жилье для людей – правом. В конце концов, они не по собственному желанию отдали свою землю в колхоз и отправились в города жить в бараках. Это не просто конституционное «право на жилище» (которое, впрочем, включили в Конституцию СССР только в 1977 году), а что-то более серьезное: право надеяться на государство, которое взяло у тебя столько сил и энергии и теперь должно вернуть долг.
И государство стало его возвращать: с 1960-х по 1980-е годы бывшие крестьяне и их дети, теперь городские жители, получили квартиры в многоэтажках. Квартиры стали для них чем-то вроде земельных наделов, которые в другой исторической ситуации они получили бы в крестьянской общине. Этой большой общиной управляло теперь государство. Оно постепенно вызволяло бывших крестьян из коммуналок и бараков и давало им небольшую жилую площадь в панельных домах на бесчисленных новых выселках.
Нехватка жилья была больным вопросом системы: советской власти исполнилось 40 лет, а жизнь была теснее, чем до революции. Да и идеологически это была непростая тема: возвращение частной жизни в социалистическом обществе нужно было как-то объяснять. Например, вводить через литературу. Личная жизнь и жилье – главная тема повести Ильи Эренбурга «Оттепель» (она была опубликована в 1954 году и дала название эпохе). В «Оттепели» вопрос об отдельности жилья и качестве частной жизни по значимости становится вровень с производственными заботами. В этом, собственно, оттепель и состоит. Один из главных героев повести, директор завода Журавлев, представляющий сталинский стиль управления, настаивает на приоритете производства – вкладывает в производство выделенные на жилье деньги – и проигрывает, потому что время изменилось. Директор теряет уважение даже со стороны собственной жены (Лены) и в конце концов остается и без жены, и без работы.
«Летом секретарь горкома Ушаков при Лене сказал Журавлеву, что нельзя оставлять рабочих в ветхих лачугах и в бараках, фонды на жилстроительство выделены еще в прошлом году. Иван Васильевич спокойно ему ответил: „Без цеха для точного литья мы бы оскандалились, это бесспорно. Вы ведь первый нас поздравили, когда мы выполнили на сто шестнадцать процентов. А с домами вы напрасно беспокоитесь – они еще нас переживут. В Москве я видел домишки похуже“. Не хочет себя расстраивать, думала Лена, на все у него один ответ: „Обойдется“. Эгоист, самый настоящий эгоист!»[260]
Писатели, сценаристы, режиссеры, архитекторы, инженеры, дизайнеры, специалисты по интерьеру – все так или иначе участвовали в кампании по подготовке и осуществлению культурного прорыва к частной жизни. Архитекторы рисовали новые дома, дизайнеры создавали новую мебель, мастера искусств подбирались к запретным темам.
Хрущев не понимал современного искусства, но тоже был по-своему радикален. Он стремился уйти от эксклюзивности, от распределения по принципу лояльности и прийти к коммунистическому распределению – каждому по потребности. Условия для этого были. Делить старые здания приходилось все реже. При Хрущеве лишь от 5 до 10 % новой жилплощади давалось в коммунальное заселение – в старых и новых больших квартирах. Все остальные миллионы метров были новыми малометражными квартирами, тесными, но отдельными. Объемы строительства подскочили в 1957 году до 3 миллионов квартир, достигли пика в 1959-м и несколько снизились в дальнейшем, достигнув плато на уровне 2,2 миллиона квартир в год. Впервые в советской истории власти в массовом порядке распределяли новое жилье, а не делили старое[261].
Но сделать подход к раздаче жилья полностью автоматическим, основанным только на потребности (то есть создать в СССР действующий коммунистический институт) государству не удалось. Историк Стивен Харрис в своем исследовании процесса распределения жилья в Советском Союзе на материале ленинградских архивов цитирует исполкомовского чиновника: «Не должно получиться так, что парикмахеры получат жилье первыми, а рабочие останутся в хвосте»[262]. Общая очередь, о которой так хорошо помнят все, кто жил в СССР, в реальной жизни, особенно в том, что касалось жилья, не была ни «общей», ни «очередью».
Государство не сумело сделать очередь единой, отобрав все полномочия по распределению жилых метров у предприятий. Заводы и организации всеми силами боролись за сохранение «своего» жилья, поскольку именно это было их главным козырем в привлечении лучших работников. Кроме того, при передаче списков очередников из ведения предприятий в ведение советов менялась логика очереди, снова встревали блат и коррупция, так что в сознании граждан завод мог оказаться «хорошим», а государство – «плохим». Переадресация вины за неполучение жилья была не менее важной процедурой, чем собственно выдача жилья.
Очередь в результате оказалась не коммунистическим институтом, а сложным социально-политическим феноменом. Место в ней нужно было выслужить, высидеть, вымолить, а в идеале необходимо было достигнуть таких высот, на которых квартиру дают вне очереди. Номенклатура возвышалась над общей очередью, хотя и там были свои очереди. На шансы всех остальных влияло положение в партийно-государственной системе, место профессии в социальной иерархии, личные заслуги, возраст, длительность проживания в городе (коренной ленинградец, москвич и т. д.), награды, судимости и проч.
Факт включения или невключения в состав очередников стал важнейшим способом установления связи между человеком и государством. Вспомним, что граждане СССР рассматривали жилье как право. Это право было ключевым новым основанием для осознания связи со страной. Надежда получить собственные, отдельные от других жилые метры и сделать свою жизнь частной, по сути, позволила в постсталинские годы обновить неписаный договор между государством и человеком[263].
Страх постепенно переставал быть раствором, скрепляющим общество. Но вместе с ним исчезал и прежний главный стимул к самоотверженной работе – мобилизация перед лицом смертельных угроз. Конечно, ритуальный идеологический фон холодной войны поддерживал тему внешней угрозы, но у нее уже не было прежней силы. Да и государство, благодаря Хрущеву, отказалось от террора как инструмента принуждения к труду. Необходим был позитивный стимул к работе – и обещание частной жизни в отдельной квартире стало таким стимулом. Нужно только помнить, что к частной жизни советское общество пришло через страх. Оно вышло из страха, было сформировано страхом и стремлением укрыться в собственной маленькой квартире.
Полностью уйти от расслоения, созданного номенклатурным распределением, тотальное советское государство не могло. Но частично деполитизировать распределение жилья, то есть начать раздавать его по потребности, а не по близости к власти, удалось. Да и сами масштабы распределения – выше мы говорили, что за годы правления Хрущева и Брежнева до 140 миллионов граждан переехали в новые квартиры, – сделали общество гораздо более инклюзивным.
Конечно, распределялась площадь не между всеми и не поровну. Конечно, «наделы» партийной элиты были значительно лучше средних. И все-таки в целом, учитывая сильно сглаженную по сравнению с рыночными странами разницу в доходах, в 1960–1980-х годах российское общество было гораздо более эгалитарным, чем сегодня. По подсчетам, основанным на советских и американских исследованиях 1991 года, коэффициент вариативности жилой площади на душу населения был в США в два раза выше, чем в СССР. Кстати, и основной показатель неравенства, коэфициент Джини, был в США в то время значительно выше (0,41), чем в Советском Союзе (0,29). Сегодня в этом смысле мы гораздо ближе друг к другу: у США – 0,45, у России – 0,42[264].
Американская исследовательница Джейн Зависка отмечает, что участвовавшие в ее опросах в середине 2000-х годов россияне говорили о приобретении квартир в необычном для американца (но хорошо понятном нам) пассивном залоге: «Нам дали квартиру», «Квартиру нам выделили». Часто так говорили и молодые люди, задаваясь риторическим вопросом: «Кто теперь даст нам квартиру?» Несмотря на значительно выросшие показатели неравенства, россияне, пишет Зависка, в целом смотрят на владение жильем как на всеобщее право[265]. Отголоски послевоенного общественного договора, таким образом, живы до сих пор.
С некоторой долей иронии можно говорить о том, что послевоенный общественный договор и его постепенная реализация в последующие десятилетия были той самой «милостью от государя» (см. главу 7), которой ждали крестьяне в XIX веке. Только вместо земли теперь распределялась жилплощадь. Квартиры, как и общинная земля, подвергались регулярному переделу: в семье вырастали дети, им нужно было отделяться. Если была возможность, квартира разменивалась, доля сына в квартире его родителей объединялась с долей дочери в квартире ее родителей, и вот – новое тягло и новый надел. Это, конечно, в лучшем случае. Если молодые не имели квартиру, нужно было становиться в очередь и ждать, пока новый надел обеспечит государство. Привязка к земле существовала в форме обязательной прописки по месту жительства, так что аналогия с государственным крестьянством не так уж и натянута. Государь в лице советского правительства отнял землю у помещиков и попов и раздал трудящимся людям – только в виде квартир и не очень поровну – и с большим историческим опозданием.
2. Собственность без рынка
Борьба между социалистической очередью и рыночным распределением оказалась долгой. Появление рыночных механизмов должно было окончательно превратить частное пространство из привилегии в обычный товар, сделав его при этом доступным. Можно ли понять, насколько успешным был переход от распределения жилья к рынку?
Ну, например, при успехе перехода связь между уровнем доходов и жилищными условиями должна была бы усилиться. Но это произошло только в очень ограниченной степени. Да, бóльшая часть жилых квартир и домов в России находится в частной собственности. Но распределение жилья во многом продолжает быть отражением советской очереди: потомки советской элиты распоряжаются бывшими элитными квартирами, потомки инженеров и интеллигенции – квартирами в панельных домах. Слишком малая доля населения может себе позволить купить новую квартиру, хотя доля эта уверенно росла до 2014 года. Значительная часть рынка – это передел имеющегося советского фонда. Зависка называет это «собственностью без рынка».
Если в советской стране жилья не хватало на всех по административным причинам, то в стране постсоветской – по рыночным. Да, за последние 20 лет в самой большой по площади стране мира жить стало несколько просторнее, чем в СССР. Если советский человек был обеспечен жилым пространством на четверть от американского уровня, то постсоветский человек – на треть[266]. Отметим, что этот результат связан не только с новыми квадратными метрами, но и со снижением численности населения. Но ощущение тесноты по-прежнему преследует.
«В крохотной Голландии или Венеции квартирки больше, чем у московских муравьев. Снаружи – крохотный дом, а внутри простор. В России наоборот», – замечает человек, которому приходится часто принимать большое количество людей в обычной московской квартире. Это не преувеличение: средний размер квартир в странах, сильно стесненных площадью, таких как Дания и Голландия, в два раза больше среднего российского. Кроме того, и в Дании, и в Голландии больше квартир на 1000 человек, чем в России[267].
В течение 1980-х годов российский жилищный фонд вырос почти на треть, в тяжелые 1990-е темпы роста замедлились в два раза, а в успешные 2000-е увеличились всего на 14 %. При темпах прироста обеспеченности жильем, характерных для 2000-х, Россия смогла бы преодолеть отставание от Германии примерно за 50 лет, а от США – более чем за 100 лет, показывает Михаил Дмитриев в одном из своих исследований и отмечает, что рост доходов к 2012 году перестал подталкивать вверх рейтинг президента России именно потому, что проблема нехватки жилья и его неадекватности потребностям вышла на первое место в списке претензий к властям[268].
По данным на 2009 год, 42 % взрослых граждан России, живущих в городах, были обладателями отдельной квартиры для ядерной семьи (родители плюс дети). Половина проживала совместно с большой семьей (три поколения и больше); 3 % снимали квартиры в составе ядерной семьи и 4 % жили в условиях общежития или коммунальных квартир[269]. Условия жизни молодой части населения за 1990–2000-е годы даже ухудшились. Доля молодых людей, имеющих отдельную квартиру, снизилась с 44 % в 1995 году до 35 % в 2009-м. Кроме того, две трети респондентов жили в квартирах, где было столько же комнат, сколько поколений[270].
Помимо количества, есть еще и качество жилья, которое удручает, если учитывать данные по всей стране, включая сельские территории. Каждый четвертый дом в России не имеет канализации, каждый третий – горячей воды, каждый пятый – водопровода (данные Росстата). В Ингушетии на ветхое и аварийное жилье приходится 21 % его общей площади, в Туве и Дагестане – около 19 %, в Якутии – 14 %[271].
В целом с доступностью жилья за постсоветское время произошли две ключевые перемены. Во-первых, соотношение цен на жилье с доходами граждан сильно ухудшилось по сравнению с бывшим СССР: цены на жилые метры росли гораздо быстрее доходов. Но, во-вторых, людей, способных купить жилье на свои или заемные деньги, стало больше. Их доля выросла за постсоветское время с 10 до 19 %[272]. В целом это вполне естественный ход событий для бывшего нерыночного государства.
Важно при этом понимать, что в России изначально был выбран американский путь развития рынка жилья (консультанты были американские), рассчитанный на рост кредитования населения, а не на стимулирование особых жилищных сбережений по европейскому образцу. Исследователи опасаются, что механическое воспроизведение американских институтов, особенно института секьюритизации ипотечных кредитов (выпуск ценных бумаг под выданные кредиты), может стать миной замедленного действия. Будущий российский кризис ипотеки может оказаться хуже того, что случился в Америке в 2006–2007 годах, поскольку в России меньше возможностей для оздоровления рынка, чем в США[273].
Впрочем, пока это теория. До кризиса российские граждане в массовом порядке брали кредиты на технику и автомобили, а не на жилье. И это только усугубляло проблему тесноты: одежда, бытовая техника, мебель – все, купленное в тучные годы, перестало помещаться в советских квартирах, проектировавшихся для другого уровня потребления.
Возможность приобретения жилья при помощи собственных накоплений и ипотечного кредита в 2013 году была только примерно у 27 % семей, из которых в реальных сделках ежегодно участвует менее четверти. Это говорит о том, что пока рыночные институты в жилищной сфере обслуживают граждан с наиболее высокими доходами. Другие 73 % населения не имеют реальных доступных вариантов улучшения жилищных условий[274].
При этом люди все активнее решают свои жилищные проблемы сами, понимая, что традиционный для Запада ипотечный путь для них закрыт. Это характерно для России: многие проблемы люди здесь решают индивидуально – и в здравоохранении, и в образовании, и даже в обеспечении безопасности. История с жильем между тем особенно масштабна. Доля индивидуального жилищного строительства приближается к объемам жилья, вводимого профессиональными застройщиками: 30 миллионов квадратных метров против 40 миллионов в год (данные за 2013 год). По размерам жилой площади (43 % всей площади строится индивидуально) Россия достигла уровня 1940-х годов. Здесь, впрочем, нужно учитывать разбивку по регионам: в южных и восточных регионах строят гораздо больше, чем в северных и западных[275].
Исследователи выражают доступность жилья в количестве лет, в течение которых семья может накопить на квартиру при предположении, что та живет по-монашески и все полученные деньги откладывает на главную покупку. Например, для проекта «Доступное жилье» (был такой проект, за который когда-то, еще до своего президентства, отвечал Дмитрий Медведев; этот проект периодически пытаются реанимировать) Институт экономики города рассчитал «коэффиецинт доступности жилья». Это отношение средней рыночной стоимости квартиры в 54 квадратных метра к средним доходам семьи из трех человек за год. Российский результат сейчас составляет 4,3 года, но, по прогнозу, должен снизиться в 2015 году до четырех лет[276].
Это неплохо, если учесть, что в международных исследованиях порогом доступности жилья принято считать три года. Если жилье в стране «стоит» больше трех лет, то оно считается недоступным[277]. Но что такое эти 54 квадратных метра? Ведь это по 18 метров на человека – ниже среднего даже по нашим меркам (в США средняя обеспеченность жильем – около 65 квадратных метров на человека). Да и семья из трех человек – это меньше, чем нужно для воспроизводства населения. Коэффициент доступности был разработан так, чтобы задача выглядела выполнимой и можно было отрапортовать о результате. Но в итоге получился показатель недоступности человеческого жилья и вымирания населения.
Если воспользоваться оценками Всемирного банка, то в 2009 году в России доступность жилья составляла 7 лет. Для московской семьи этот показатель – около 6,7 года, для подмосковной и петербуржской – 7,2 года, в Белгородской области и Пермском крае – 5,7 и 5,2 года соответственно. По тем же оценкам, в том же году в Лондоне жилье «стоило» 4,7 года, в Токио – 5,6, в Стокгольме – 6, в Амстердаме – 7,8. «Дешевле» трех лет (это условная планка доступности) жилье стоит, например, в Кливленде, Лас-Вегасе, Сент-Луисе, Хьюстоне[278].
Не стоит, конечно, забывать, что одновременно во многих странах, в том числе и в Европе, где растет безработица, жилье становится менее доступным. Волна протестов, прокатившаяся по «богатому» миру в 2011–2012 годах, вызвана в том числе и этим. Во время акций «захватчиков» Уолл-стрит в США, демонстраций в Израиле и Западной Европе постоянно звучала тема дороговизны жизни и недоступности жилья. Виноваты и кризис, и рост цен в некоторых странах. Но специалисты, следящие за рынками жилой площади на Западе, начинают бить тревогу, когда медианная цена дома или квартиры переваливает за пять лет[279]. В России такая ситуация – повседневная реальность.
Конечно, все показатели доступности условны. Они сильно зависят от выбранных вводных и оставляют за скобками множество деталей. Попробуем взглянуть иначе. Если мы вспомним советское время, то увидим, что и там путь к собственному жилищу измерялся годами – годами выслуги или временем ожидания в очереди. Мой дед получил свой надел – трехкомнатную ведомственную квартиру в панельном доме примерно после 20 лет работы в большом государственном учреждении. При этом мой дед вел вполне раскованную жизнь (см. главу 1), не имел сбережений и, конечно, даже не слышал об ипотеке. Работал он электриком. Сегодняшний электрик-мигрант, то есть такой же приезжий, как и мой дед, такой же москвич в первом поколении, как и мой дед, не может и мечтать о трехкомнатной квартире в черте города.
О такой квартире может, наверное, мечтать твердо стоящий на ногах представитель верхней части среднего класса. Выплачивая по 2 тысячи долларов в месяц, он может купить ее в кредит примерно за те же 20 лет. Но у него могут возникнуть и другие идеи. За те деньги, которых стоит трехкомнатная квартира в советском панельном доме в Беляеве, с его устаревшей инфраструктурой, с пробками и характерным пейзажем, он сможет купить квартиру на берегу Средиземного моря.
В любой стране, где, как в России, высока концентрация человеческой активности в нескольких гигантских городах, работающий человек вынужден сталкиваться с крайне неприятной цепочкой выборов. Мириться с долгой дорогой до места работы, но продолжать карьеру или найти менее оплачиваемую работу ближе к дому. Снимать квартиру или купить в кредит плохое жилье, попав в крепостную зависимость от банка на 20–30 лет. Остаться в своей стране или найти способ переехать в другую, что, возможно, будет означать работу на будущее детей и крест, поставленный на собственном развитии.
Современному государству вроде бы легче, чем советскому. Ему не нужно строить дома собственноручно и придумывать лозунги о будущем. Достаточно лишь создать условия для того, чтобы строительство было выгодно бизнесу, а получившиеся квартиры – сравнительно доступны для граждан. О будущем граждане позаботятся сами. Но они в своих планах крайне ограничены именно потому, что жилье в России, особенно в больших городах, по мировым меркам недоступно. Чем крупнее город, тем больше в цене жилого метра издержек на административный рынок: стоимость процедур получения разрешений, подключений к коммуникациям, коррупционный налог.
Квартиры переоценены еще и из-за того, что жилые метры – особенно московские – это активы. Других объектов для надежных вложений мало (завод отнять легче, чем квартиру), законы и правила меняются каждый день. Поэтому в квартиры вкладывают деньги все, кто вообще может вкладывать деньги. Эти инвесторы поддерживаются государством, поскольку его представители сами инвестируют в квартиры и заинтересованы в росте их цены, что и делает недвижимость недоступной для обычных граждан. Цели государства и цели составляющих его чиновников противоречат друг другу.
Сверх того, финансовый рынок наказывает всех нас за покупку квартиры гигантскими ставками по кредитам. Все это вместе складывается в крайне высокую цену частной жизни и минимального бытового комфорта.
Впрочем, одно существенное отличие российского сегодняшнего дня от лучшего советского времени, если считать таковым 1987 год (рекорд объемов строительства, перекрытый, кстати, в 2014-м), есть. В 1980-х, на пике промышленного домостроения, индивидуального жилья строилось немного, около 10 %. Но за постсоветские годы его доля выросла больше чем в четыре раза и теперь стремится к половине всего объема. В прошлом году индивидуально было построено 43 % из итоговых 80 миллионов квадратных метров.
Это соотношение, характерное для 1940-х и начала 1950-х, когда советское правительство еще не запустило программу массового жилого строительства[280].
У возросших объемов постсоветского строительства жилья, идущего по советским экстенсивным лекалам, будет одно важное последствие. Вложения в старое жилье и инфраструктуру сильно отстают от вложений в новое строительство. Бесчисленные новые многоэтажки на вчерашних пустырях становятся проблемой. Дальнейшее строительство без увеличения вложений в дороги, сети и ремонт старых домов приведет к катастрофическим последствиям для городов и их жителей[281].
Решение государства раздать в собственность гражданам занимаемые ими квартиры всеми приветствовалось, но оно закрепило результаты советского иерархического распределения жилой площади. Элитные квадратные метры в лучших городских районах стали наследственной собственностью тех, кто преуспел в советских условиях. Но и самые обычные метры в многоэтажных панельных домах на выселках тоже стали собственностью. Миллионы граждан, имея за собой некоторое количество ценной жилой площади, получили доступ к отношениям нового типа: эти отношения требовали гораздо меньше личных сетевых связей и, тем самым, не плодили клиентских зависимостей, в том числе от государства. Возможность сдавать и покупать жилье создавала некоторый потенциал независимости. В соединении с готовностью работать и зарабатывать квартирная собственность помогла оформиться целому классу новых, самостоятельных горожан. Многие из них в конце концов почувствовали себя гражданами.
3. Рынок без собственности
Если раздача квартир была похожа на коллективизацию наоборот, то большая приватизация – явление, равновеликое революции 1917 года. Невообразимые по стоимости активы были национализированы большевиками. Столь же масштабные активы были распределены в собственность в 1990-х годах. Этот процесс восстановил, а может быть, и усугубил несправедливость дореволюционной ситуации. А дореволюционная несправедливость, как мы знаем, крайне болезненно воспринималась обществом и в конце концов привела к социальному взрыву.
Впрочем, в сегодняшней России акценты расставлены иначе. Чем крупнее и важнее актив, тем «условнее» права на него. Кремль выстроил отношения с собственниками так, чтобы те не только не покушались на роль независимых агентов, но были максимально послушными инструментами той или иной политики. Бизнесмены по первому зову вкладывают деньги в любимые проекты Кремля, финансируют предвыборные кампании, покупают медийные ресурсы, контроль над которыми представляется Кремлю необходимым. «В противоположность ожиданиям и догмам западной политологии, крупная собственность в постсоветской России стала инструментом авторитарного режима в его борьбе с либеральными принципами, а вовсе не бастионом демократии», – пишут в своем суровом анализе ситуации крупной частной собственности в России социологи Владимир Шляпентох и Анна Арутюнян[282].
Сравнивать эти отношения с феодальными вполне возможно. Судьба крупных активов часто зависит от воли верховных «феодалов». Но есть и тонкости – не зря российские компании на протяжении всего постсоветского времени регистрировались за границей. Перед нами если и феодализм, то с капиталистической страховкой, но об этом позже.
Нет сомнений, что и приобретение крупных активов, и главные угрозы потери собственности связаны с государством. Государство, утверждая свой статус «конечного собственника», опирается на широкую общественную поддержку, само эту поддержку дополнительно укрепляет. Между тем нелегитимность собственности может в конечном счете ударить по устойчивости и самого государства[283].
Потенциальная возможность передела всегда где-то недалеко – каждый предприниматель и собственник это знает. Это удивило бы капиталистов многих других стран, но источником угрозы в 2000-х годах часто оказывалось государство, а не традиционная организованная преступность. «Реальный бизнес-климат в России формируют рейдеры, милиционеры и судьи», – писала предприниматель Яна Яковлева, ставшая жертвой сфабрикованного обвинения, сумевшая защитить себя и создавшая общественную организацию для защиты бизнеса от правоохранителей-рейдеров[284].
Знаковой стала трагическая история юриста Сергея Магнитского. Магнитский распутал сложную схему, позволившую преступникам, имевшим сообщников среди высокопоставленных чиновников, украсть 5,4 миллиарда рублей из российского бюджета. Магнитский думал, что его работа будет нужна государству, но государство проявило интерес к Магнитскому совсем не в том смысле, в каком он рассчитывал. Юриста арестовали по обвинению в уклонении от уплаты налогов и продержали в предварительном заключении 11 месяцев. В ноябре 2011 года Магнитский был убит в тюрьме в возрасте 37 лет[285].
«Бизнес боится родного государства больше, чем экономического кризиса и всех конкурентов, вместе взятых. И как ему не бояться, если в Уголовном кодексе причинение ущерба по делам экономической направленности заменено получением дохода, а санкции таковы, что предприниматели могут быть осуждены (и осуждаются!) на сроки более длительные, чем сроки, назначаемые убийцам, – писал в 2011 году первый заместитель председателя Верховного Суда РФ в отставке Владимир Радченко. – Дальнейшее сохранение существующей уголовной политики все больше и больше приближает Россию к точке невозврата – невозврата в страну населения и капиталов»[286].
Даже представители власти одно время признавали, что созданная в стране «деловая» атмосфера выдавливает из России людей и деньги. Бывший председатель Высшего арбитражного суда Антон Иванов приводит пример: есть здание в центре Москвы, его купили за 1 миллион рублей 15 лет назад. Теперь оно продается за 1 миллиард рублей. По российскому учету разница в 999 миллионов рублей – это налоговая база по налогу на прибыль и НДС. То есть в совокупности надо отдать государству 38 % этой суммы, или почти 380 миллионов рублей. А если бы это здание принадлежало офшору, а купил бы его другой офшор (как это на практике и происходит), российские налоговые органы даже не узнали бы об этой сделке, не говоря уже об уплате налогов. «Согласитесь, смешно, когда два кипрских офшора судятся за здание парикмахерской в Москве. А у нас были такие дела», – говорил председатель ВАС[287]. Смешно или нет, а со времен этого интервью в уравнении кое-что изменилось: офшорная собственность как была, так и осталась атрибутом ведения бизнеса в России, а вот арбитражные суды, с упразднением ВАС, влились в вертикаль судов общей юрисдикции.
Сегодня в России около трех четвертей промышленной продукции производится на предприятиях, которые формально не имеют российских собственников. Они контролируются фактическими владельцами через цепочку фирм, зарегистрированных в странах, удобных для ведения дел. Деньги офшорных компаний составляют львиную долю иностранных инвестиций, приходящих в Россию. Это капиталы российских предпринимателей, ведущих бизнес с использованием иностранных юрисдикций. Но уходят деньги из России еще большими темпами и объемами. Еще задолго до начала политического и экономического конфликта с Западом российские предприниматели вкладывали за рубежом больше денег, чем возвращали в страну[288].
Важно оговориться, что ни использование офшоров, ни вывод средств сами по себе не являются, конечно, только российской проблемой. Офшорный бизнес глобален, его услугами пользуются компании и частные лица всего мира. Но Россия – новая, растущая экономика, которой капитал необходим для развития. Между тем наша экономика ведет себя как «старая», которой деньги уже не нужны. За последние годы Россия – единственная из числа стран, входящих в неформальный клуб BRICS (Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка), – инвестировала за рубеж больше, чем получала извне[289].
Из-за того, что правосудие внутри страны управляемо, а услуги насилия продаются на рынке, русский капитал, по сути, арендует институты других стран: хранит там ценности, решает конфликты в судах. Так создаются условия для поддержания привилегированной, отдельной от общества «элиты», обладающей своей моралью, своей двухслойной идеологией, своим, отдельным от общества, законом.
Наличие такой как будто чужеродной элиты – не только российская проблема. Экономисты, стремящиеся понять, почему одни страны оказываются благополучнее других, уверены, что дело в том, по каким правилам идет игра в экономике и политике (см. главу 5). Элита в странах, где поддерживаются такие институты, пользуется силовыми возможностями государства, чтобы зарабатывать состояния, перераспределять собственность и создавать входные барьеры для «чужих». По сути, государство становится в этом случае не союзником общества, а инструментом защиты привилегий для элиты. И, как показывают наблюдения над множеством исторических ситуаций, механизм этот способен воспроизводить себя даже при смене политического режима[290].
В России так и случилось. Несмотря на то что с момента крушения советской системы прошло уже больше 20 лет, страна остается как будто бы недостроенной. Рынки и цены есть, а разделения властей, независимых судов, независимого регулирования, возможностей добиваться применения законов о честной конкуренции к монополистам нет. Конечно, можно сказать, что это просто результат незавершенности реформ.
Но это можно рассматривать и как законченный проект. Карательный аппарат практически без реформ перешел в руки постсоветских правительств, поскольку ни одна из групп, оказывавшихся у власти за постсоветские годы, не желала с ним расставаться. Силовики – какие есть – всегда были нужны им, чтобы выставить вокруг себя охрану.
Нереформированные спецслужбы и МВД мешали созданию в России современных институтов защиты прав граждан. Но реформировать спецслужбы и МВД федеральная власть всегда опасалась, поскольку в случае масштабной смены персонала, ограничения полномочий и внедрения современных механизмов отчетности силовики перестали бы быть лояльными Кремлю. Без опоры на «специалистов по безопасности» Кремль боялся браться за структурную модернизацию. С другой стороны, при сохранении опоры на архаичные постсоветские силовые органы подлинную модернизацию провести нельзя, поскольку карт-бланш, выданный силовикам, означает невозможность гарантий прав, включая и право собственности. Порочный круг.
Итак, задачей, решить которую не удалось ни за один день, ни за много лет, оказалось установление всем понятных и для всех единых правил игры в экономике и политике. Советское зазеркалье, о котором мы говорили в самом начале (см. главу 1), оказалось крепким орешком. Правовая сторона развития – верховенство права, в том числе права на свободу, собственность и адекватное представительство интересов, – была исключена коммунистами из их версии модернизации. Это отсутствующее «полушарие» общественного устройства не удалось включить простым нажатием кнопки под названием «приватизация». Общественное здание осталось недостроенным.
Глава 11. Выход: уехать или достроить дом
1. Собственность без права
Российское общественное здание не всем кажется недостроенным. Для многих это вполне завершенный проект. Несогласие между теми, кто считает дом едва начатым, и теми, кто считает, что он всего лишь нуждается в косметическом ремонте, – глубокое и принципиальное. В чем, собственно, недостроенность? Политолог сказал бы, что либерализация режима не сопровождалась его демократизацией. Вслед за освободителем не пришел строитель демократических институтов. В результате процесс перехода застрял на половине пути, и историю нельзя считать законченной, а конструкцию стабильной: «Наполовину построенный дом не может устоять»[291].
Официальными российскими идеологами это представление, конечно, отбрасывается, как враждебное. В России трудно себе представить понятие более дискредитированное, чем «демократизация». Официально принятая точка зрения состоит в том, что российский недострой – это вполне законченный на сегодняшний момент проект и никакая демократизация, тем более по чужим планам, стране не нужна. Современные авторитарные системы, уверен политолог Иван Крастев, не спешат к переходу в новое состояние и отлично чувствуют себя в серой зоне между демократией и авторитаризмом[292].
Руководители автократий, возможно, чувствуют себя хорошо, но большинство таких систем, как показывают периодические вспышки общественного недовольства, все-таки нестабильны. Нестабильна и российская политическая система. Планировался ли в российском случае переход от либерализации к демократизации? Конечно. Беда только в том, что переход к более инклюзивному типу государственного управления был делом крайне невыгодным и просто опасным для новой элиты, а потому и оказался отложен на неопределенное время.
Авторы реформ, ключевым элементом которых были либерализация рынков и приватизация, видели свою задачу в том, чтобы «деполитизировать» экономику. А под политизированностью понимали то, с чем мы не раз сталкивались, – преобладание задач удержания власти над задачами развития.
В Советском Союзе государственные предприятия в первую очередь были призваны поддерживать социальный порядок, а не преследовать экономическую выгоду. Это и хотели изменить реформаторы. «Государственные предприятия неэффективны, поскольку они превращаются в средства, с помощью которых политик достигает своих целей. Раздутые штаты, искусственное поддержание занятости на предприятиях, расположение заводов и фабрик в экономически неэффективных местах, регулирование цен на производственную продукцию – все это нужно политику, чтобы получить голоса на выборах или избежать мятежей»[293].
Эта ситуация не просто не ушла в прошлое, а является характерной чертой сегодняшнего дня. Государство по-прежнему руководствуется принципом верховенства безопасности, понятой предельно прямолинейно и включающей безопасность конкретной правящей группы. Государственные предприятия по-прежнему в первую очередь поддерживают социальный порядок, а уже во вторую являются собственно экономическими единицами.
Охранительные политические задачи, по сути, противопоставлены задачам развития. Право «большой» частной собственности (крупные активы, а не квартиры и дома) в его российском исполнении стало инструментом утверждения тех самых отношений господства, которые оно призвано было демонтировать. Слишком невыгодно было отказываться от рычагов власти.
Можно смотреть на успех или неуспех трансформации как на проблему курицы и яйца. С одной стороны, чтобы получить выгоды от приватизации, нужно построить рыночные институты, с другой – неясно, кто обеспечит поддержку подобных реформ, если не сформирована критическая масса частных собственников, – рассуждают один из ведущих мировых исследователей приватизации Уильям Меггинсон и экономист Сергей Гуриев в своем совместном исследовании[294]. Нельзя сказать, чтобы в одних переходных странах спрос на честные правила был заведомо сформирован, а в других – нет. Просто в одних случаях игра по правилам поддерживалась правительствами и оказалась в конце концов выигрышной, а в других – нет.
В российском случае она выигрышной не оказалась. В 1980-хгодах, в момент утраты всех ориентиров, граждане инстинктивно бросились к демократической форме правления – к выборам как ко всем известному проявлению демократии. И были во многом правы. Выборы – конкурентные, свободные и справедливые – это и есть демократия, если пользоваться определением Йозефа Шумпетера[295]. Но это определение основано на минимуме требований. Наверное, этого минимума достаточно для западных культур, но для нашей – крайне мало. В таком кратком определении за кадром оказываются элементы политической системы, без которых выборы будут лишь инструментом правящего класса: гарантии прав, включая право на свободу высказывания, защита права выдвигаться на выборные должности, защита права на собрания, равный доступ к СМИ для кандидатов, всеобщий доступ к альтернативной информации, защита автономии партий и общественных организаций[296].
Поскольку все эти механизмы остались на втором плане, молодая российская демократия хорошо сработала «на вход», но очень плохо – «на выход». Группа, пришедшая к власти в начале 1990-х, не захотела уходить. Между тем еще одно классическое определение (оно принадлежит Адаму Пшеворскому) говорит нам, что демократия – это режим, при котором политики и партии могут терять власть в результате выборов[297]. Прийти к власти с помощью демократии российские лидеры согласились, а уходить нет.
Политолог Владимир Гельман напоминает, что новые российские власти начали приносить политические реформы в жертву экономическим еще осенью 1991 года. От всеобщих выборов глав исполнительной власти регионов осенью 1991 года решено было отказаться. Да никто и не торопил. В ситуации потери сбережений, утраты социальных ролей, статуса, разрушения всего прежнего уклада жизни гражданам было не до того. Созданный в 1993 году Евросоюз, перспектива вхождения в который могла бы простимулировать правовые реформы (как, например, в Турции), нас не ждал. А к проведению добровольных институциональных реформ, ограничивающих власть, правительство не было готово – да и редко какое правительство бывает к такому готово[298].
Ельцин распустил парламент в сентябре 1993 года, поскольку не мог или не желал продолжать споры о конструкции власти. Начавшийся после этого мятеж сторонников парламента был подавлен. Фактически нынешняя Конституция России, принятая на референдуме 1993 года, была знаменем победы в борьбе за «свободу рук». Ее продуктом и является политическая система, которую в 2000-х годах нужно было лишь довести до ума, что и сделал Владимир Путин. Лихорадка «сражения», привычно объясняющая чрезвычайные меры – от борьбы с возвращением коммунистов в 1990-х до борьбы с иностранными агентами, а теперь и со всем Западом, – так и осталась основой политики Кремля.
Две стороны, столкнувшиеся в 1993 году в конфликте президента и парламента, не нашли способа решить дело миром. Победа любой из сторон означала бы политическую бесконтрольность победителя. Институты, способные быть арбитрами и проводниками интересов общественных групп – суд, партии, общественные организации, – могли стать реальной силой только в случае ничьей. Ничья означала бы соглашение элит и, возможно, толчок к формированию независимого суда. Ведь в этом случае был бы нужен арбитр, которому доверяли бы обе стороны.
Смысл развилки 1993 года не в том, кто именно должен был одержать победу, а в том, что это был шанс на возникновение нового, невиданного в России равновесия равных. Победа одной из сторон снова установила привычное в русской истории равновесие неравных.
2. Демократия без права
Было ли произошедшее в 1993-м и, позже, в 1996 году («управляемые» выборы Ельцина на второй срок) «предательством» демократической революции начала 1990-х? «Отцы [нынешних протестующих] предали ту самую революцию, которую они совершили, – пишет Владимир Пастухов. – Они разменяли свободу на приватизацию и таким образом выбрали для новейшей России ту судьбу, которую она заслуживает»[299]. Ценности действительно были принесены в жертву интересам. Но ценности не столько демократические, сколько правовые. Вопрос о честных правилах игры перестал быть значимым.
Демократия настолько поразила всеобщее воображение – особенно воображение противников реформ, – что вытеснила гораздо более фундаментальный вопрос об основаниях для демократии. Но по большому счету, если четких правил ограничения власти нет, то власть не будет действовать в интересах общества в любом случае – вне всякой зависимости от того, сосредоточена ли она в руках одного человека в лице президента или в руках «народа» в лице парламента.
Самые существенные правила – это ограничения. Кто может действительно ограничить власть? Только тот, у кого есть защищенное право. Например, право собственности. Это такое право, которое власть не может преступить: буквально не может перейти порог дома и уж тем более не может отнять собственность. Это право, вследствие действия которого политик может потерять власть. Политик, таким образом, теряет власть не в результате выборов как таковых. Выборы – это процедура. Он теряет власть, потому что проиграл и должен уйти, чтобы не нарушить права избирателей. Действие права (а не действие собственно выборов) оказывается сильнее власти.
Изменения начала 1990-х, из-за которых слово «либералы» стало в России ругательным, не имели ничего общего с либерализмом. Напомним, что для основателей либерализма фундаментальной ценностью было «право на жизнь, свободу и собственность» (см. главу 4). Авторы приватизации делали акцент на понятии «собственность» и объясняли всем, что появление независимых собственников сделает экономику конкурентной и эффективной. Но из поля зрения выпало понятие «право». А без права нет и собственности.
Стоит понимать, что никакой институт сам по себе не является целительной пилюлей для страны – ни демократия, ни суд, ни частная собственность, ни какая-либо другая. «Я утверждаю, что частная собственность не является наиболее оптимальной и конкурентоспособной, – говорит экономист Александр Аузан. – Также я не могу назвать оптимальным никакой другой вид собственности, ни режим свободного доступа. Представьте, что у вас в гардеробе висят шуба, фрак, джинсовый костюм и купальник. На вопрос, какая одежда лучше, вы не можете ответить, не задаваясь другим вопросом: что вы намерены делать? Потому что если вы намерены плавать, я бы не рекомендовал вам надевать шубу – кончится как с Ермаком Тимофеевичем»[300].
В русской культуре собственность была и есть. Вспомним, как важно сегодняшним россиянам иметь именно собственное жилье. Аренда приживается крайне плохо. Но и власти воспринимают идею полностью защищенного права крайне болезненно. Церковь в этом смысле – их союзник, поскольку тоже не любит право (грех может не быть нарушением права, а исполнение закона теоретически может быть грехом). Это сознание не принимает «чужое» – право владеть независимо от власти – внутри «своего». Для архаичного российского государства частная собственность – это и есть «чужое» внутри «своего».
Введение в России рыночного режима было по преимуществу «экономической реформой». Ею занимались экономисты, то есть, в советской логике, на которой по-прежнему основан государственный механизм в России, – технические специалисты. Специалисты должны были по готовым инструкциям собрать «новую экономику», в которой все работало бы как на Западе. Но установить главную деталь этого западного конструктора – верховенство права – экономисты просто не могли. Реформой занимались они, но ключевые перемены в сфере политики и права были за пределами их влияния. Они работали на правительство, а все, что связано с правоохранительной системой и судами, в России традиционно – «царская» сфера, то есть сфера контроля первого лица. Туда экономистов никогда не пускали и не пускают по сей день[301].
Всерьез надеяться на успех «рыночных реформ» 1990-х можно было только теоретически. Инклюзивная система управления, предполагающая подконтрольность власти и подчинение ее общему для всех закону, не возникает сверху, по воле правителя. Если оставить в стороне реформы, проведенные в результате насильственной оккупации, как это было, скажем, в послевоенной Германии и Японии, то можно утверждать, что либеральная демократия никогда не устанавливалась в результате обдуманных уступок благонамеренного правителя. Она, как мы видели раньше, является результатом конфликтов и торга между разными группами в обществе[302].
3. Правоохранение без права
У российского общества особые отношения с правоохранительными службами. Да, они давно уже нам не «начальники», а мы давно уже – граждане без кавычек, мы должны быть равны перед законом, нам конституцией обещано право на справедливый суд, но практика эти обещания опровергает. Наследие чрезвычайного подхода к правосудию, наследие «социалистической законности», для которого государственная целесообразность была важнее прав граждан, сказывается до сих пор.
Конечно, правоохранительная система в наше время вполне способна выполнять многие предписанные ей функции, но она не является автономным институтом. Не является, потому что с ее помощью решают свои проблемы и власти, и частные игроки. Управляемые приговоры и бесчисленные случаи использования права, особенно уголовного, для устранения соперников в бизнесе и приобретения имущества доказывают это слишком красноречиво.
Почему наша правоохранительная сфера – такая? Российская судебная система, несовершенная, но развивавшаяся благодаря реформам Александра II, была ликвидирована большевиками. По декрету «О суде» от 22 ноября (5 декабря) 1917 года прежние суды были заменены трибуналами и народными судами. При решении вопроса о виновности и правомерности действий они руководствовались законами «лишь постольку, поскольку таковые не отменены революцией и не противоречат революционной совести и революционному правосознанию». Отмененными считались законы, противоречащие декретам и программам социал-демократов и эсеров. Адвокатура, судебное следствие и прокурорский надзор были отменены, а полиция разогнана еще Временным правительством[303].
Однако советские спецслужбы требовали полномочий арестовывать и казнить людей, заподозренных в причастности к контрреволюции, без соблюдения «формальностей». Зампред Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) Мартин Лацис говорил в 1919 году: «ЧК – это не суд, это – боевой орган партии. Она уничтожает без суда или изолирует от общества, заключая в концлагерь. Что слово – то закон»[304].
Гражданская война закончилась, но чекисты настаивали на необходимости сохранять чрезвычайные полномочия контроля над действиями и мыслями людей. На каждого интеллигента должно быть дело, партия должна подвергаться постоянной чистке – белогвардейцы, меньшевики, предатели виделись победившей партии всюду. В начале 1930-х годов были созданы тройки НКВД в составе начальника местного ОГПУ, начальника милиции и начальника следственного отдела прокуратуры, которые во внесудебном порядке могли отправлять за решетку «социально вредные элементы». Другие тройки, в составе начальника ГПУ, секретаря обкома партии и прокурора, решали вопросы о высылке в отдаленные местности «кулаков» и их семей. А в июне 1933 года была учреждена независимая от Наркомюста Прокуратура СССР. Она объединила сразу четыре функции: расследование преступлений, надзор за следствием, поддержка обвинения в суде и надзор за исполнением законов госорганами. Этот сталинский институт был частично демонтирован только несколько лет назад, с отделением Следственного комитета от прокуратуры. В результате из одного суперведомства родилось два ведомства, ведущих между собой позиционную борьбу за влияние. Оба при этом остались орудиями системы.
Параллельно государство расширяло круг потенциальных преступников и ужесточало наказания: 7 августа 1932 года, в период голодомора, Центральный исполнительный комитет СССР выпустил закон «Об охране имущества госпредприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной социалистической собственности», названный народом «законом о пяти колосках», – по нему голодного крестьянина за вынос нескольких колосков или картофелин с колхозного поля могли приговорить к расстрелу или (при смягчающих обстоятельствах) к 10 годам лишения свободы.
В 1937 году ЦК ВКП(б) одобрил «физические методы воздействия», то есть пытки обвиняемых в государственных преступлениях. В январе 1939 года Сталин писал: «ЦК ВКП(б) считает, что метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь, в виде исключения, в отношении явных врагов народа, как совершенно правильный и целесообразный метод»[305].
Самой серьезной попыткой «институционализации» правоохранительной сферы было и остается использование так называемой палочной системы. В своей основе она состоит из трех частей: количественные показатели (например, число совершенных, раскрытых или предотвращенных правонарушений), ожидаемое изменение этого показателя (рост или снижение) и его вес в оценке деятельности какого-либо правоохранительного подразделения[306]. Описание звучит вполне нейтрально, как будто перед нами просто система отчетности, но в реальности это не только отчетность, но и план. Существование «плана преступлений» заставляет правоохранителей скрывать или «генерировать» преступления, поскольку количественные показатели («палки») – основной критерий оценки их деятельности, в силу которой их наказывают или награждают.
О том, что эта практика глубоко порочна, хорошо знали еще советские власти. Постановления ЦК КПСС о работе милиции 1950–1980-х годов с незавидным постоянством фиксировали одни и те же недостатки: многочисленные произвольные задержания, избиения и пытки задержанных. Милиционеры избивали задержанных ради выполнения плана по раскрытию преступлений.
В постсоветской России условия деятельности органов правопорядка формально изменились. Их работа регламентируется законами, которые декларируют приоритет конституции и защиты прав граждан. Но советская практика «плана по преступлениям» сохраняется. В новых условиях без нее не обойтись, поскольку, как объясняет социолог Вадим Волков, она выполняет важную неявную функцию: хотя бы минимально дисциплинирует правоохранителей, привязывая их мотивацию к формальным целям государственной организации, которая дает им соответствующие ресурсы и полномочия.
Абсурдность самой идеи «плана преступлений» только кажущаяся. Если взять простой пример дорожной полиции, то мы увидим, что под план инспекторы получают бланки протоколов. Они обязаны оформить определенное количество нарушений каждого вида. Что было бы, если бы такого плана не было? Инспекторы вообще не тратили бы усилия на оформление протоколов и взимание штрафов в казну, а штрафовали бы себе в карман. А так – сначала поработай на государство, а уже потом – на себя. Тот же принцип и у следователей и других работников системы[307].
Сейчас Россия по числу судимых и осужденных к лишению свободы находится на уровне СССР первой половины 1960-х годов. Притом что ее население уступает Советскому Союзу 1960-х в полтора раза. Увеличение населения лагерей в 1990-х годах до миллиона человек (!) можно объяснить ростом преступности и несовершенством Уголовного кодекса, не успевавшего за изменениями общественной и политической системы, а жесткость правоохранителей – стремлением устрашить потенциальных нарушителей закона. Но и сегодня в России в год осуждается почти в два раза больше граждан, чем в РСФСР[308].
С июля 2002 года предварительное заключение под стражу в России возможно только по суду, Уголовно-процессуальный кодекс и закон об адвокатуре предписывают в кратчайший срок предоставлять задержанному адвоката. В декабре 2003 года была отменена уголовная ответственность за мелкие преступления. Но, несмотря на позитивные изменения, правоохранительная система остается по преимуществу «обвинительной».
Принципиально важно даже не то, что суды выносят почти исключительно обвинительные приговоры. У судей тоже отчетность, им тоже нельзя допускать сбоев в работе, а оправдание или отмененный высшей инстанцией приговор – в их системе координат – это сбой. Именно поэтому фактическое решение о виновности лица и реальный сбор доказательств происходят до возбуждения уголовного дела. Судье достаются уже «верные» дела. Еще одно обстоятельство, делающее правосудие по сути неправовым, состоит в том, что виновность человека определяется на том этапе (до суда), когда ответственность правоохранителей за свои действия минимальна, а права подозреваемого ничем еще не защищены[309].
И еще одно обстоятельство, существенное и до, и во время суда. Возможности защиты несопоставимы с возможностями обвинения. Материалы дела, которое рассматривается в суде, собирает прежде всего следователь. Сбор доказательств обвинения регламентируется 103 статьями российского Уголовно-процессуального кодекса, доказательств защиты – всего тремя. Адвокат, в отличие от следователя, не имеет права назначать экспертизу, самостоятельно приобщать к делу доказательства невиновности подзащитного. Он может лишь ходатайствовать об этом перед судом и следствием, которые могут отказать ему в этом. Обжалование отказа – сложная и трудоемкая процедура.
Исторически сложившиеся представления о том, что «органы не ошибаются», свойственны не только следователям и полицейским. Более трети судей в России – бывшие прокуроры и сотрудники милиции, сдавшие квалификационный экзамен, но не освободившиеся от неизбежных деформаций предыдущей профессии. Часто они не беспристрастно рассматривают дела, а продолжают «бороться с преступностью». Наконец, в наше время следователи и судьи осознали, что личная свобода обвиняемого, его возможность распоряжаться собственностью являются высоколиквидным товаром на рынке соответствующих услуг.
Реформирование советских правоохранительных институтов свелось к тому, что они научились жить в рыночных условиях. Исчезнувшее идеологическое и административное содержание заместилось коррупционным механизмом. Силовики и судьи свои полномочия частично монетизировали, а по большей части продолжают выполнять их в плановой логике. При этом все органы правопорядка как были, так и остаются «царскими», то есть подведомственными только президенту. В этом смысле они стоят в одном ряду с ФСБ, ФСО, Госнаркоконтролем и прочими силовыми структурами.
Команды, находившиеся у власти в России, не важно, реформаторские или консервативные, что бы они ни делали, стремились сохранить за собой ручное управление политическими и экономическими процессами – сохраняя контроль над «царскими» ведомствами. Постсоветским властям аппарат чрезвычайного насилия был нужен именно в том виде, в каком он существовал при коммунистах: в виде «боевого органа партии», то есть надзорно-карательной, а не правоохранительной системы. Партия не выжила, а ее боевой орган со всеми своими методами работы выжил. После краха СССР партийного контроля над спецслужбами не стало, и они превратились в наемников и силовых предпринимателей[310].
У правительства много задач – оно должно защищать собственность, устанавливать режим налогообложения, решать какие-то административные проблемы. Даже если представить, что мы откуда-то возьмем самое компетентное правительство в мире, работать ему придется сидя за одним столом с тираннозавром – непредсказуемым хищником из другого века. Вот законы и правила, а вот «боевой орган», для которого все эти правила ничего не значат. Любая политическая мера, предпринятая правительством, оказывается по определению однобокой или «хромой».
4. Открытая дверь
Жизнь в недостроенном доме – в доме, на который у его жителей нет гарантированного права, – приводит к тому, что живут тут по необходимости. Не уходят из дома те, кто не может. Те, кто может, – уезжают. Это очень странная ситуация. Она задает крайне тяжелую ментальную петлю самосбывающегося пророчества: мы думаем, что у этого места нет перспектив, поэтому не будем планировать здесь будущее. Если мы не планируем здесь будущее, то перспектив действительно не будет.
Задача достройки здания представляется, видимо, настолько сложной и долгой, что немалая часть населения России задумывается об отъезде из страны[311]. Воспринимать эти слова буквально не стоит: ни 10 %, ни тем более 20 % населения уехать не может и никогда не уедет. По-настоящему уезжают лишь единицы. Для большинства разговоры об отъезде – это смесь культурной памяти об эмиграции советских времен с недовольством качеством жизни в сегодняшней России. Но то, как люди думают, влияет на то, что люди делают. А реальность постоянно подбрасывает им новые свидетельства того, что в стране будущего нет.
Еще более значимо – в смысле отчетливости сигнала – то, что те самые игроки, которые выигрывают от существования недостроя – от бесправия и отсутствия единых правил игры, – сами эвакуируют близких и собственное богатство (см. предыдущую главу). Это поведение, помимо неверия в будущее страны, свидетельствует о вере в фатальную цикличность русской истории. В этом мифическом представлении за протестами граждан обычно следует период реакции, а за ним – революция. Возможно, по этой причине видимый триумф политической системы после протестов 2011–2012 годов – с арестами и цепочкой репрессивных законов – никого из инсайдеров не обманул. Бегство капитала не прекратилось, а ускорилось, ведь люди знают: за реакцией следует революция. Когда? Неизвестно. Но когда-то она обязательно последует – такова логика колеи. Гигантские суммы, пересекающие границы, и очередь за инвестиционными визами в Британию – это вполне определенное прочтение российской истории.
Невысказанная вера в неизбежность очередного обнуления (см. главу 1) всегда будет работать как самосбывающееся пророчество. Эта вера похожа на представления сектантов, убежденных в скором конце света, – они избавляются от всех вещей и готовятся не к обычному земному будущему, а к встрече со Спасителем.
В годы, предшествовавшие новому, резко антизападному курсу Кремля, взятому в 2012–2014 годах, традиционная для России картина с эмиграцией и ее политическим измерением перевернулась. «Русского зарубежья» – активной и политизированной части эмиграции – в прежнем смысле давно не существовало. Активная гражданская и политическая позиция стала гораздо более осмысленной в стране, чем вне ее пределов.
Бизнес эмигрировал практически весь: активы годами регистрировались за границей, дела велись по законодательству других стран, все значимые собственники без исключения получили заграничные виды на жительство.
Эмигрировали и семьи многих чиновников, что внесло забавную путаницу в картину. В Европе, в городах, где когда-то жили революционеры и беглецы от советского режима, поселились семьи российских губернаторов. Губернаторские дети на променаде в Ницце сталкивались с детьми налоговых чиновников, следователей и строителей непостроенных дорог. До революции 1917 года в Россию тайком везли книги. В советское время везли книги и вывозили рукописи. Теперь вывозят и ввозят деньги[312].
Герцен 150 лет назад провернул хитроумную операцию по выводу причитавшегося ему состояния из России в Европу (см. главу 8). В постсоветские годы на тысячи «Герценов» работала и работает целая индустрия. Чиновники и силовики со своими поместьями и предприятиями стали карикатурами на беглецов прошлого. Они бежали из страны, в которой называли себя «элитой».
В постсоветские годы в жизнь вернулись элементы домосковской вольности. Той вольности, которая позволяла боярам сохранять за собой права на вотчины, даже если они переставали служить князю. Только в нулевые годы эти вотчины оказались вынесенными за пределы границ российского государства – туда, где действует право собственности и большинство граждан равны перед законом.
Экономист Альберт Хиршман ввел в экономический и политический обиход понятия «выход», «голос» и «верность»[313]. Хиршман предложил смотреть на отношения между компаниями и клиентами или между государствами и гражданами через призму трех этих возможностей: если не доволен продуктом или не согласен с политикой, то можешь перестать покупать или уехать («выход»), а можешь выразить протест («голос»). А если всем доволен или возможностей бороться нет, то твой выбор – лояльность («верность»). Один из выводов Хиршмана, существенных для нас, – ответ на вопрос о том, почему госуслуга плохого качества может оставаться плохой несмотря на наличие альтернативы. Альтернатива в случае с государством не всегда работает как источник конкурентного давления. Те, кто может себе позволить перестать пользоваться, например, российскими железными дорогами, ездят на автомобилях или вовсе уезжают из страны и начинают пользоваться железными дорогами во Франции или Испании, но у остальных нет выбора.
Политолог Иван Крастев уверен в том, что именно в этом и состояла основа стабильности российского политического режима в период, предшествовавший резкому антизападному повороту России в 2013–2014 годах. «Парадокс в том, что открытие границ и появление возможности жить и работать за границей привели к замиранию политической реформаторской активности, – пишет Крастев. – Те, кто с наибольшей вероятностью могли быть расстроены низким качеством госуправления в России, – это те же самые люди, которые с наибольшей вероятностью были готовы и способны покинуть страну. Для них уехать из страны было проще, чем реформировать ее. Зачем пытаться превратить Россию в Германию, если на это может не хватить человеческой жизни, а сама Германия при этом находится всего в нескольких часах перелета?»[314]
Эта ситуация уникальна в русской истории. В прошлом большинству граждан России редко доводилось выбирать между «верностью», «выходом» и «голосом». Были моменты, например при Сталине, когда не было ни «выхода», ни «голоса». Для многих выбор был между «верностью» и небытием – профессиональным, гражданским, а возможно, и просто физическим. В нашей истории выбор, как правило, был между «верностью» и «выходом». Конечно, не у всех он был одинаковым. У верхушки дворянской и советской элиты выбор существовал, и людей с такими возможностями всегда были единицы.
Меньше всего было возможностей подать «голос». А вот «выходить» русский человек научился хорошо. Российская история хранит одну из самых богатых коллекций «выходов», уходов, исчезновений и «эскейпов» всех типов и оттенков. Бывали громкие политические истории – например, бегство Андрея Курбского при Иване Грозном, отъезд Александра Герцена при Николае I или решение Рудольфа Нуреева не возвращаться в СССР при Хрущеве. Бывали – в огромном множестве – истории негромкие: бегства, отъезды, невозвращения малоизвестных людей, ставшие достоянием статистики. И больше всего во все времена было «выходов» тихих, не попавших ни в газеты, ни в статистику.
Исторически, именно «выход» и есть «русская свобода» (вспомним про значимость «выхода» для крестьян, см. главу 7). Отказ от работы, связанной с политически чувствительными сферами, с политикой, физический труд, уходы в молчание, в себя, в религию – самый давний и миллионами людей опробованный путь.
Собственность в русской культуре, в отличие от англо-американской, исторически не была равна свободе, была даже противоположна ей. Потому что право владеть утверждалось сверху и включало собственность одного сословия над другими. Отсюда и проблема с «введением» верховенства права. Закрепление за одним человеком права владеть чем-то признанно ценным воспринималось – и будет восприниматься – как закрепление несправедливости.
Выбор в пользу «верности», лояльности более прямолинеен. Самые лояльные и при царях, и при генсеках, и при президентах получали доступ к эксплуатации ресурсов (природных, бюджетных, человеческих), как правило в форме условного держания, и должны были платить за это сделками с совестью, готовностью перешагнуть через близких и коллег. «Верности» приносились и человеческие жертвы – в виде доносительства. Еще одна плата за «верность» – полная потеря «голоса».
В этом смысле важным исключением было положение богатых дворян в последние 100 с небольшим лет царствования Романовых. Возможности самовыражения, возможности подать «голос» – вплоть до прямой критики режима (во второй половине XIX века) – становились все более доступными и не влекли за собой потерю доступа к ресурсам, о чем мы подробно говорили выше (в главе 8). При советской власти и даже в постсоветское время отношения между монархом и элитой были в этом смысле скорее «доекатерининскими».
В 2000-х годах доступ к ресурсам снова стал требовать безусловной лояльности, а попытки критических выступлений по отношению к власти снова стали оборачиваться утратой благосклонности власти. Конечно, в постсоветское время это правило распространяется на узкий круг олигархов и приближенных президента. Поддерживается «верность» не столько силой, сколько созданием зависимости от источника благ, от возможности зарабатывать. Касается этот древний уклад только очень небольшого круга людей, хотя не исключено, что принцип будет распространяться все шире.
Там, где этот принцип действует, он действует во всей своей древней полноте: желание обрести «голос» может означать потерю лицензии на кормление. Возможности публичного высказывания, владения активами и доступа к ресурсам остаются условными. Эти возможности не гарантированы, а обусловлены соблюдением неписаных правил, определяемых «верностью» власти.
Круг замкнулся: новая Россия пыталась отбросить зависимость и привилегии, как пережиток, но вернулась к ним. Внутри России по-прежнему самой эффективной в экономической игре оказывается установка не на защиту своих прав, не на прибыль и независимость, а на поиск привилегий. Это удивительно прочная константа.
Но есть, или было до 2014 года, бесчисленное множество новых возможностей «выхода». Можно менять занятия, переезжать из города в город и из своей страны в другую страну: государственные границы открыты. Свободы передвижения, доступной такому большому количеству людей, у русских не было никогда. Каждый день, можно сказать, стал «Юрьевым днем».
Стоит, при этом, отметить, что, по официальным цифрам, количество граждан, покидающих страну, с каждым годом снижается, а не растет. По данным Росстата, в 2003 году их было чуть меньше 100 тысяч человек, а в 2010-м – 33,5 тысячи человек[315]. Эти цифры, впрочем, раскрывают лишь часть истории, поскольку множество людей, получающих вид на жительство за пределами России, сохраняют российские паспорта и постоянно передвигаются между странами. И конечно, эти цифры не позволяют судить о качестве современной эмиграции.
Экономист Владислав Иноземцев предложил рассматривать людей, связанных с Россией, но живущих за границей, не как единое целое, а как Русский мир I и Русский мир II. Русский мир I – это люди, в основном по своей воле очутившиеся за границей и начавшие встраиваться в общества тех стран, где они оказались. Русский мир II – это те, кто в большинстве своем оказался не способен уехать из стран, образовавшихся после распада СССР, и те, кто стал «профессиональным русским» – не желающим встраиваться в новую жизнь. Представителей Русского мира I десятки и сотни тысяч в Вене, Берлине, Лондоне, Париже, Нью-Йорке. Они занимают высокооплачиваемые рабочие места (в США средний заработок таких «русских» превышает национальный средний на 39 %), имеют высокий уровень образования (в тех же США работает более 6 тысяч «русских» профессоров колледжей, в Европе – не менее 4 тысяч). Они контролируют и управляют в Америке и Европе активами, стоимость которых превышает триллион долларов. По сути, пишет Иноземцев, Русский мир I создал вне России экономику и интеллектуальное сообщество, вполне соизмеримые с самой Россией[316].
Глядя на ситуацию начала 1990-х, можно было бы подумать, что стремление к независимости, которую дает собственность, должно было бы стать определяющим в новой, постсоветской России. Да, российское общество – в том, что касается индивидуальных возможностей, – в наше время свободнее, чем когда-либо. Но свобода может иметь разные основания.
Основанием свободы может быть прочная связь с землей и уверенность в завтрашнем дне, основанная на понятных и соблюдаемых всеми правилах игры. Но свобода может быть основана и на отсутствии прочной связи с землей и страной. Жизнь в осознании неясности правил, в постоянной готовности сняться с места (при условии, что возможность для «выхода» все-таки есть) – тоже свобода. И это до сих пор наш случай – свобода уйти, уехать или просто не вкладываться в будущее.
Именно свободу «выхода» власти принялись ограничивать в 2012–2014 годах (когда писалась эта книга). Приняты законы об ограничении для госслужащих владения собственностью за рубежом и возможностей держать средства на счетах в иностранных банках, закон о необходимости заявлять в миграционную службу о существовании у гражданина второго гражданства или вида на жительство в другой стране, негласные правила, ограничивающие выезд сотрудников силовых министерств и части других государственных организаций за рубеж.
Это может означать, что принято принципиальное политическое решение отказаться от установки на хранение собственности за рубежом. Это решение, дополненное и усиленное заявлениями о восстановлении традиционных ценностей, должно, вероятно, свидетельствовать о том, что границы закрываются, и, таким образом, будет постепенно исчезать прежде доступная возможность пользования зарубежными институтами защиты права.
Но не станем забывать, что именно в свободе «выхода», в традиционной российской свободе, заключается одна из ключевых гарантий стабильности политической системы в том виде, как она сформировалась в постсоветской России. Открытая дверь – это решение той самой проблемы недостроенного политического дома, о которой мы говорили в начале главы. Не так важно, сколько именно людей может выйти за пределы огороженной территории и уехать. Не так важно, уезжают они на время или навсегда. Важно, что эта возможность, как «Юрьев день», существует в сознании общества.
Открытая дверь, или, если угодно, калитка в заборе, служит клапаном, через который уходят самые активные, самые недовольные и все, кому нужны высококачественные услуги, в том числе образовательные, медицинские и юридические.
Открытая дверь – это и решение институциональной проблемы. Мы говорили выше о том, что в силу управляемости правосудия внутри страны русский капитал арендует институты других стран: таким образом он получает гарантии сохранности своих ценностей, гарантии передачи их по наследству и возможности разрешить конфликт в суде, если таковой возникнет. Условная, то есть незащищенная, собственность в России потому и возможна, что ее держатели обеспечили себе двойные гарантии сохранности богатства: неписаные внутри страны и писаные, обеспеченные принципом верховенством права – за ее пределами.
Эта двойная система, при которой физические активы находятся в стране, а права собственности на них гарантируются за границей, имеет еще одной своей целью отделить защиту прав собственности от защиты гражданских и политических прав: одно не должно быть основанием для другого. Ситуация, исторически сложившаяся в Российской империи (см. главы 7 и 8), иными способами воспроизведена в новой России.
Благодаря тому, что правовые гарантии собственности внутри страны являются фикцией, политические лидеры могут пользоваться активами подконтрольных собственников как дополнительным бюджетом. Но не стоит забывать, что «вторая нога» системы, облегчающая эти отношения, все-таки находится за границей – она крепко стоит на фундаменте западных правовых институтов.
Отказавшись от этой опоры, политическая система действительно начнет движение к феодализму – уже не метафорическому, а вполне реальному. Чего можно добиться, забив калитку в заборе, то есть перекрыв предохранительный клапан и вернув хотя бы часть капитала обратно в страну? Добиться можно того, что спрос на гарантии выживания и сохранения капитала внутри страны неизбежно повысится. Но гарантии и так являются крайне дефицитным ресурсом в стране, где их может дать только один человек, находящийся в Кремле. Да и те гарантии не абсолютны, поскольку не являются четкими и однозначными. Собственник может думать, что его собственность и свобода защищены, а в действительности защиты давно нет. О перемене участи он узнает, когда к нему в компанию придут с обыском.
Причиной может быть проступок, нарушение неписаных правил или просто возвышение кого-то из старых врагов. Но ясно одно: на поддержание хрупкого мира между держателями крупной собственности гарантий в их нынешнем виде не хватит. «Бояре» неизбежно вынуждены будут в еще большей степени, чем раньше, опираться на неформальные способы разрешения конфликтов – на неформальную «полицию», неформальные «суды» и неформальный присмотр за соблюдением прав. Значимость и цена услуг этих неформальных «гарантов», то есть представителей силовых структур, а возможно, и каких-то их конкурентов, вырастут еще больше. Давление в системе в конце концов неизбежно повысится.
И тогда всем в стране станет ясно, что дом не достроен. Правящему классу придется идти по одному из двух путей. Либо срочно договариваться с собственниками и другими активными меньшинствами, либо рассчитывать только на применение силы. Пользоваться ли одним из старых российских решений или искать новое, а достраивать дом все равно придется. В этот момент история России со всеми попытками князей, царей, генсеков и президентов найти идеальное и вечное решение вопроса власти-собственности снова пробежит у нас перед глазами.
Послесловие
Поиск идеальной формулы отношений между властью и собственностью – тема, объединяющая внешне различные периоды русской истории. Эту формулу искали и цари, и генеральные секретари коммунистической партии, и постсоветские лидеры.
Отношения между властью и собственностью – игровое поле для политики. Но не стоит забывать и об отношениях более высокого уровня – отношениях между государством и человеком. Собственность можно понимать и как собственность на себя самого. Это позволяет подойти к вопросам, связанным с обустройством жизни независимой личности в условиях общества и государства. Защита прав собственника невозможна в отрыве от защиты гражданских прав и права на самостоятельность.
Во многих странах государство, собственники и, шире, собственники самих себя, независимые личности, живут, следуя давно выработанным правилам сосуществования и взаимодействия. Если изменения и происходят, то не тектонические. Страны, переживающие социальные трансформации, нередко перенимают готовые модели отношений власти и собственности, выбирая культурно близкие образцы готовых правил игры. Например, в постсоветское время Эстония тяготела к Финляндии, Польша – к Германии, а Азербайджан – к Турции.
Россия – одна из тех держав, которым тяготеть не к кому. Отношения между властью и собственностью здесь подвижны и в перспективе, существенной для планирования, непредсказуемы. Само это непостоянство – константа. Поиск наилучшего решения продолжается уже который век. Возможно, поэтому перипетии отношений человека и государства здесь переживаются так остро. Когда живешь в зоне постоянной сейсмической активности, трудно планировать встречи и путешествия на год вперед. В России как будто бы нет мелких проблем, есть только большие: как свободному человеку жить в этом государстве, какой выбрать путь, чтобы и себя не потерять, и обеспечить семье хотя бы какую-то долю бытового комфорта. Как застраховать себя от очередного обнуления собственных усилий и сбережений?
Ирония в том, что жизнь в ожидании землетрясения, которая всем в России так хорошо знакома и которая закономерно приводит к политическим землетрясениям и исчезновению сбережений, является результатом культа стабильности. Многовековые усилия, направленные на создание неприступного и священного государства, приводят к тому, что жизнь в России обнуляется чуть ли не раз в поколение. Видимо, подсознательно мы все хотим постоянно начинать жизнь заново.
Формирование московского самодержавного государства в XV–XVI веках сопровождалось стремлением к полному подчинению собственников великому князю. Создатель московского самодержавия Иван Грозный – возможно, самый последовательный из русских правителей – укреплял власть, методично уничтожая все очаги автономии. Он ликвидировал церковную и земскую оппозицию, уничтожил альтернативные политические системы (Новгород и Псков), предотвратил внутридинастические угрозы, но главное – обусловил собственность государственной службой.
Во второй половине XVIII века власть пыталась решить вопрос ровно противоположным способом – передав землю и ресурсы дворянам в частную собственность. Империя возложила на дворянство задачу «попечения» о крестьянах, делегируя высшему сословию управление ими, с которым она не справлялась, и закрепляя крепостную зависимость крестьян. Это был дар монарха, а не право, отвоеванное в ходе торга или конфликта. Собственность не воспринималась как кровью заработанное право. На протяжении последних 100 лет существования империи частную собственность в хорошем обществе принято было ненавидеть и за то, что она была синонимом рабства, и за то, что этот институт глубоко несправедлив в принципе.
В XX веке власть снова сменила институциональную модель. Большевики нашли третье решение проблемы собственности, не похожее на решение Грозного и Екатерины: отменили практически все частное, оставив лишь немного личного и попытавшись сделать всю крупную собственность «общественной». При Сталине произошло возвращение к любимой Иваном Грозным практике наделения собственностью за службу. Ордера на квартиры в новых домах с башнями и колоннами государство вручало тем, кто верно и «близко» ему служил – руководил, строил, представлял страну на международных соревнованиях и кинофестивалях.
Очень скоро эта служилая собственность стала обретать черты настоящей: ее можно было обменивать, наследовать и в общем считать все более и более «своей». Решение передать квартиры в собственность гражданам, принятое в начале 1990-х годов, закрепляло уже существующий порядок вещей.
Право частной собственности было формально распространено (в случае с занимаемой людьми жилплощадью) и предложено (ваучеры) практически всему населению страны. Право собственности, каким бы уязвимым оно ни было в силу несовершенства институтов нового российского государства, оказалось вполне реальным. Но оно не стало волшебной палочкой, способной превратить население в граждан, а электорат – в собственников своей страны.
Можно сформулировать и так: Россия стала обществом собственников, но не стала инклюзивным обществом собственников западного типа – таким, которое начало формироваться с появлением нефеодальной собственности на землю. Если считать минимальным набором условий, необходимых для формирования такого общества, частную собственность, рынок и верховенство права, то условий нам явно не хватает: в России мы не имеем третьего и имеем большие проблемы со вторым.
Проблема в том, что даже стимулов к формированию этих условий было мало. Постсоветские «торговые люди», не считая отдельных упрямых представителей этого слоя, просто не боролись за право собственности внутри страны, потому что оно, как мы видели, не было им нужно. В постсоветские годы в Россию из глубины веков вернулись элементы домосковской «вольности». Она позволяла боярам сохранять за собой права на вотчины, даже если они переставали служить князю. Разница с догрозненскими временами состоит в том, что постсоветские «вотчины» вынесены за пределы границ российского государства – туда, где действуют механизмы защиты прав. Зачем бороться за право, если всегда можно купить билет и за три часа долететь и до недвижимости, и до гарантированного права на нее?
Но эта блаженная эпоха «гибридного» права – ситуации, когда в стране правил нет, но можно пользоваться правилами других стран, – уходит в прошлое. Формальные институты, включая законодательство, суды и органы принуждения к исполнению законов, представляют собой смысловое ядро западных режимов, которым многие представители российского государства стремятся себя противопоставить.
Это, впрочем, не проблема текущей политики, а долговременный и фундаментальный вопрос. И России вряд ли удастся избежать его решения. Каждой стране нужна преемственность, а собственность – один из опробованных механизмов ее обеспечения. Тем обществам, которые сумели обеспечить преемственность собственности, часто удавалось добиться и преемственности в политической жизни. Вспомним, когда радикальные революции в последний раз потрясали голландское, британское или американское общество.
Многим странам преемственность дается с трудом, но Россия – совсем радикальный случай. Ни один из режимов не существовал в России достаточно долго, чтобы пустить крепкие корни. У нас правилом является не сохранение связей с прошлым, а обнуление традиций, состояний и сбережений (см. главу 1).
Конечно, какие-то связи удерживаются просто потому, что людям вообще свойственно передавать младшим поколениям навыки, знания и ценности. Но эти связи, как правило, персональные, личностные, внутрисемейные, а не общественные. В России есть потомственные музыканты, художники, архитекторы, ученые, дрессировщики, инженеры, врачи. На нижнем стоимостном уровне существует и преемственность собственности. Среди собственников городских квартир немало детей и внуков их первых владельцев. Пусть это совсем небольшие активы, но здесь уже наработан опыт передачи материальных ценностей от поколения к поколению.
В России есть разные виды преемственности, но практически нет такой, которая по-настоящему значима для стабильности политических режимов, – преемственности на уровне институтов, включая конституцию и другие ключевые законы, организации, корпорации и партии. Отсутствие этой полезной преемственности позволяет воспроизводиться преемственности «дурной».
Российские режимы менялись. Но реформы дореволюционного правительства, советский эксперимент и шоковое включение рыночных механизмов более 20 лет назад не изменили некоторых констант русской жизни: особенностей отношений между элитой и правителем, между частным человеком и государством. Константой оставалась и готовность власти в любой момент смешать карты и переустроить отношения с собственниками и обществом в целом на каком-то новом принципе. Неспособность обеспечить преемственность собственности и связанную с ней общественную и организационную преемственность снова и снова приводит к воспроизведению в России персоналистских режимов. А это в свою очередь неизменно влечет за собой преобладание эмоций в политике, псевдорелигиозное мессианство и утрату связи с землей в прямом и переносном смысле.
Вот и сегодня, на момент окончания работы над этой книгой, шансы российского общества выработать дееспособные принципы преемственности, которые позволят мирно передать собственность и власть от первого поколения новой республики, возникшей после распада СССР, второму, выглядят неопределенными.
Владельцы и номинальные держатели крупных и средних российских состояний в огромном большинстве – собственники первого поколения. Массовой передачи сырьевых, производственных компаний, больших конгломератов активов второму поколению владельцев в постсоветской истории еще не было. Вопрос статуса крупной собственности лежит в самом центре будущей политической повестки дня для России.
Переход от первого поколения ко второму всегда есть первый шаг к закреплению любой традиции. У второго поколения олигархов и просто крупных собственников есть шанс стать новой российской аристократией. Но для того чтобы это осуществилось, будущие аристократы должны позаботиться о надежной институциональной защите своих прав и привилегий внутри страны, а не только за ее пределами. Во всех обществах, проходивших подобные трансформации, защита прав изначально была привилегией, распространявшейся на узкий круг людей. Давление снизу, требования все более многочисленных групп граждан позволяли со временем расширять круг привилегированных. Отдельный вопрос, готово ли российское общество признать существование в стране такой аристократии, готово ли к ее возвращению и укоренению в стране.
Ирония нашей истории заключается в том, что Россия стала страной собственников тогда, когда проблемы экономических и политических систем, построенных в продолжение последних 500 лет на частной собственности во всем остальном мире, обострились. Именно в последние десятилетия общества, построенные на частной собственности, стали испытывать сомнения в долговечности и справедливости своей модели развития.
Богатые западные общества, те самые, которые благодаря хорошей защите прав собственности совершали экономические прорывы, сохраняя при этом политическую стабильность, переживают кризис углубляющегося неравенства. Различные альтернативы частной собственности – разные формы аренды, совместного или поочередного использования ресурсов – становятся все более популярными. Люди делятся друг с другом квартирами, домами, автомобилями, бытовой и прочей техникой. Важно при этом помнить, что без изначальной институциональной базы защиты прав личности и контрактных прав массовое распространение новой «моральной экономики» не было бы возможно. Формирование такой моральной экономики – интереснейшее поле для дальнейших исследований. Еще одно важнейшее поле – интеллектуальная собственность, в отношении которой сейчас происходят примерно те же процессы, что шли в отношении собственности на землю 500 лет назад.
Россия в минувшие пять веков много экспериментировала, но ни к какому долгосрочному решению проблемы собственности не пришла.
Нынешнее российское общество дальше, чем все его предыдущие поколения, прошло по пути частной жизни. Никогда в российской истории собственного отдельного пространства не было у такого большого количества людей. Никогда такая огромная доля населения страны не была свободна от работы на барина и от хождения строем.
Не стоит забывать об этом, но стоит и понимать, что, добившись того, чтобы нас оставили в покое, мы не перестанем жить в обществе.
Мы можем сделать домашнюю обстановку похожей на японскую, можем купить немецкий автомобиль и говорить по-английски. Можем одеться так, что никто, глядя со стороны, не определит, в какой культуре мы родились. Но мы все равно должны будем однажды осознать, что находимся внутри границ конкретной страны. Потому что страны различаются между собой не теми вещами, которые можно там купить, а теми, которые купить там нельзя.
Выходить из любимого дома иногда приходится, и на улице мы встречаемся с согражданами, вместе с которыми отвечаем за среду, в которой живем. И все вместе попадаем в пробки, миримся с отравленным воздухом и испытываем унижение, осознавая, что за пользование всем этим с нас берут все больше денег и стремятся контролировать все плотнее.
Только из-за того, что происходит на улице, люди и уезжают. Среда не зависит от одного человека. Уезжая из своей страны, человек покупает окружающую среду другой страны. По сути, он платит за вещи, которые являются главным продуктом общественного развития: работающие правила игры, межличностное доверие, чистоту, воздух и безопасность.
Отдельный человек, если ему повезет, может никуда не уезжать. Он может поселиться в охраняемом поселке, работать за высокими стенами и передвигаться на бронированной технике. Это, впрочем, не всем доступно. Это стоит дорого, потому что за то, что должно быть общим, приходится платить в частном порядке – свой воздух, своя безопасность, своя дорога. Но есть люди, готовые платить, поскольку их субсидирует государство – через государственные должности, доступ к ресурсам, безнаказанность. Так всегда жили российские «избранные», приближенные к власти, которых в постсоветские годы принято стало называть по-сельскохозяйственному – «элитой».
Честно заработать на частный воздух – задача нерешаемая. Но именно этим и заняты все, кто живет в стране, – попытками найти место, где можно дышать, попытками выстроить личную систему здравоохранения, обеспечить личную безопасность и личное образование. Конечно, у большинства из нас нет ни государственных должностей, ни погон, ни доли в торговле нефтью, но мы все делаем то, что нельзя сделать в принципе: решаем общественные задачи личными усилиями. Это как бег на месте. Поэтому так устаем и тратим так много денег.
Общественное развитие – это снижение цены, которую мы платим за чистоту, правила и безопасность. Отказ общества от развития есть готовность строить все более высокие заборы и платить за угрожающе враждебную среду все дороже.
Модернизация последних 25 лет в России проходила на индивидуальном, а не на общественном уровне: многие жители страны стали современными людьми. Но взятые вместе, все эти искушенные, много путешествующие, освоившие все современные технологии люди образовали крайне архаичную общественную систему, управляемую крайне архаичным государственным механизмом.
Отделение права собственности от права самостоятельного действия ведет к тому, что российская система позволяет купить машину, но не позволяет «купить» дорожную сеть и свободу от пробок. Позволяет обнести дом забором, но не позволяет гарантировать безопасность и право на самостоятельность за его пределами.
Общественное устройство, в котором Россия обнаружила себя после краха СССР, способно многое дать частному человеку, но не способно обеспечить общественную среду, в которой частный человек только и может по-настоящему воплотить свои таланты. Можно научиться писать, но нельзя научить всех читать. Можно обеспечить себя всем необходимым в области материальной и нематериальной культуры, но нельзя создать частное «общее». Именно «общим» и придется российскому обществу заниматься в дальнейшем.
Сноски
1
Бибихин В. Свое, собственное
(обратно)2
По данным первой Всеобщей переписи населения Российской империи, проведенной в 1897 году, менее 15 % населения, проживавшего в современных границах России, было городским. См.: Демоскоп Weekly. 2001. 10–23 сентября. № 33–34 . О современной ситуации см.: Вот какие мы, россияне: Об итогах Всероссийской переписи населения 2010 года // Российская газета. 2011. 26 декабря.
(обратно)3
Росстат. Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2014 года .
(обратно)4
Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. М.: МИК, 2000. С. 227.
(обратно)5
Riasanovsky N. Russian Identities: A Historical Survey. New York: Oxford University Press, 2005. P. 216.
(обратно)6
Ibid. P. 228.
(обратно)7
Из личной беседы с историком Василием Рудичем, преподавателем Йельского университета.
(обратно)8
Ofer G. The Soviet Growth Record Revisited. Доклад, представленный на конференции ACES – AEA meetings. Бостон, 5–8 января 2006 года. Цит. по: Сонин К. Свой опыт // Ведомости. 2008. 9 сентября.
(обратно)9
Сонин К. Указ. соч.
(обратно)10
Malia M. The Soviet Tragedy: A History of Socialism in Russia, 1917–1991. New York: The Free Press, 1994. P. 15.
(обратно)11
Это не противоречит мысли самого Малиа, для которого Россия была не «антизападом», а одной из «европ»: «Не существовало и не существует Европы как однородного культурного целого, противостоящего России… Европу следует изучать как целый ряд Sonderwege, „особых путей“ (в том числе русского пути)…» (Малиа М. Non possumus // Отечественные записки. 2004. № 5. С. 266).
(обратно)12
Трудолюбов М. Перевернутый дворец или школа гибкости // Openspace.ru. 2011. 1 июня .
(обратно)13
Южаков В. Капитализация поколений // Ведомости. 2011. 22 августа.
(обратно)14
Там же.
(обратно)15
Седаков П. Памятник эпохе: Дворец подрядчика «Газпрома» // Forbes. 2010. № 82.
(обратно)16
Шлейнов Р. Сор из дворца // Ведомости. 2010. 29 декабря.
(обратно)17
Трудолюбов М. Программа Путина в действии // Ведомости. 2011. 18 февраля.
(обратно)18
Перевод М. Зенкевича впервые опубликован в 1936 году (Интернациональная литература. 1936. № 4) и неоднократно переиздавался (в частности: Фрост Р. Из девяти книг. М.: Издательство иностранной литературы, 1963).
(обратно)19
Raab L. From Touchstone: American Poets on a Favorite Poem / Ed. by R. Pack, J. Parini. Hanover: University Press of New England, 1996 .
(обратно)20
Ibid.
(обратно)21
Содержание беседы в передаче сопровождавшего Фроста слависта Франклина Рива (Рив Ф. Роберт Фрост в России // Иностранная литература. 2000. № 5).
(обратно)22
Там же.
(обратно)23
Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М.: ЭКСМО, 2002. С. 139.
(обратно)24
Найман А. Рассказы о Анне Ахматовой. М.: Вагриус, 1999. С. 162.
(обратно)25
Рив Ф. Указ. соч.
(обратно)26
Ruble B. St. Petersburg’s Courtyards and Washington’s Alleys: Officialdom’s Neglected Neighbors. Washington: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2003.
(обратно)27
Эткинд А. Внутренняя колонизация: Имперский опыт России. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 155.
(обратно)28
Паперный В. Культура Два. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 75.
(обратно)29
Товкайло М. Дачный налог // Ведомости. 2011. 17 января.
(обратно)30
King W. Illegal Settlements and the Impact of Titling Programs // Harvard International Law Journal. 2003. Vol. 44. № 2.
(обратно)31
Трудолюбов М. Экономика – это не культурное явление // Ведомости. 2007. 17 сентября.
(обратно)32
Там же.
(обратно)33
Field E., Torero M. Do Property Titles Increase Credit Access Among the Urban Poor? Evidence from a Nationwide Titling Program. Гарвардский университет, экономический факультет. Рукопись [%20Do%20Property%20Titles%20Increase%2 °Credit…pdf].
(обратно)34
См. таблицу с основными характеристиками трех типов государства (персоналистское, модерное, новое) в статье: Трудолюбов М. Линия Медведева // Ведомости. 2010. 1 октября.
(обратно)35
Честный налог: От редакции // Ведомости. 2011. 31 августа.
(обратно)36
Трудолюбов М. Задача нового поколения // Ведомости. 2011. 2 сентября.
(обратно)37
Пресс-релиз МВД РФ от 18 ноября 2010 года []. О состоянии рынка охранных услуг на 2003 год см. пресс-релиз от 27 мая 2003 года [].
(обратно)38
Материалы World Values Survey см.: [].
(обратно)39
Putnam R. Making Democracy Work. New York: Princeton University Press, 1993. P. 177.
(обратно)40
Трудолюбов М. Карта ценностей // Ведомости. 2007. 2 февраля.
(обратно)41
Aghion Ph., Algan Y., Cahuc P., Shleifer A. Regulation and Distrust. Ecole Polytechnique Central National de la Recherche Scientifique, 2009 []; см. также статью: Гуриев С., Цывинский О. Ловушка недоверия // Ведомости. 2009. 9 июня.
(обратно)42
Галкин М. В своем дворце я буду жить вдвоем с Аллой // Труд7. 2010. 25 августа.
(обратно)43
Открытое письмо С. Колесникова см.: [].
(обратно)44
Анин Р. Дворцовая площадь 740 тысяч квадратных метров // Новая газета. 2011. 14 февраля.
(обратно)45
Шлейнов Р., Дмитриенко Д. Заказчиками «дворца Путина» выступали управделами и ФСО // Ведомости. 2011. 14 февраля.
(обратно)46
Дранишникова М. Путин без дворца // Ведомости. 2011. 4 марта.
(обратно)47
Боярский А. и др. Тайна за семью заборами // Коммерсантъ-Деньги. 2011. 31 января.
(обратно)48
Седаков П. Памятник эпохе: Дворец подрядчика «Газпрома» // Forbes. 2010. № 82.
(обратно)49
Владелец алюминиевой корпорации «Русал» Олег Дерипаска в 2007 году в интервью Financial Times говорил, что не отделяет себя от государства и готов передать ему активы по первому требованию. Владимир Потанин, ключевой совладелец никелевой корпорации «Норникель», не раз заявлял, что не будет завещать детям всей собственности. Геннадий Тимченко сообщил в интервью ИТАР-ТАСС в 2014 году, что готов передать активы государству.
(обратно)50
Паперный В. Мужчины, женщины и жилое пространство // Жилище в России, век ХХ: Архитектура и социальная история. М.: Три квадрата, 2002.
(обратно)51
Меерович М. Наказание жилищем: Жилищная политика в СССР как средство управления людьми. М.: РОССПЭН, 2008. С. 16.
(обратно)52
Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. М.: РОССПЭН, 2008. С. 59–60.
(обратно)53
Сарнов Б. Наш советский новояз: Маленькая энциклопедия реального социализма. М.: ЭКСМО, 2005.
(обратно)54
Паперный В. Культура Два. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 148–149.
(обратно)55
Мор Т. Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия / Пер. с лат. А. Малеина, Ф. Петровского // Утопический роман XVI–XVII веков. М.: Художественнаялитература, 1971. С. 78.
(обратно)56
Ленин В. О значении золота теперь и после полной победы социализма // Он же. Полное собрание сочинений. M.: Издательство политической литературы, 1964. Т. 44. С. 225.
(обратно)57
Cheng J. A Palace of Gold Is Sold Off For Its Melt Value, but Not the Throne // Wall Street Journal. 2008. July 7.
(обратно)58
Mumford L. The Story of Utopias. New York: The Viking Press, 1962. P. 5.
(обратно)59
Ibid.
(обратно)60
Bryson B. At Home: a Short History of Private Life. New York: Doubleday, 2010. P. 323.
(обратно)61
Пер. Э.Л. Линецкой.
(обратно)62
Rybczynski W. Home: a Short History of an Idea. London: Penguin Books, 1986. P. 32.
(обратно)63
Ibid. P. 59.
(обратно)64
Rasmussen S.E. Towns and Buildings: Described in Drawings and Words / Trans. by E. Wendt. Liverpool: University Press of Liverpool, 1951. P. 80. Цит. по: Rybczynski W. Op. cit. P. 61.
(обратно)65
Плутарх. Ликург // Он же. Сравнительные жизнеописания: В 2 т. М.: Наука, 1994. Т. 1. С. 53.
(обратно)66
Он же. Солон // Там же. С. 102.
(обратно)67
Там же. С. 106.
(обратно)68
Ксенофонт. Лакедемонская полития. СПб.: Гуманитарная Академия, 2014. С. 60–62.
(обратно)69
Фукидид. История. Л.: Наука, 1981. С. 196.
(обратно)70
Андреев Ю. Архаическая Спарта: Искусство и политика. СПб.:Нестор-История, 2008. С. 280.
(обратно)71
Марк Туллий Цицерон. Речь о своем доме // Он же. Речи: В 2 т. М.: Издательство Академии наук СССР, 1962. Т. 2. С. 90.
(обратно)72
Августин. О граде Божием. Минск: Харвест; М.: АСТ, 2000. С. 172.
(обратно)73
Публий Овидий Назон. Фасты // Он же. Элегии и малые поэмы. М.: Художественная литература, 1973. С. 332.
(обратно)74
Treggiari S. Roman Social History. London; New York: Routledge, 2002. P. 88.
(обратно)75
Марк Туллий Цицерон. Речь против Гая Верреса // Он же. Речи. Т. 1. С. 137–138.
(обратно)76
Он же. Речь о своем доме // Там же. С. 101.
(обратно)77
Treggiari S. Op. cit. P. 92.
(обратно)78
Ibid. P. 93.
(обратно)79
Арендт Х. Vita Activa, или О деятельной жизни. СПб.: Алетейя, 2000. С. 80.
(обратно)80
Платон. Законы // Он же. Собрание сочинений: В 4 т. М.: Мысль, 1994. Т. 4. С. 191.
(обратно)81
Schlatter R. Private Property: the History of an Idea. New Brunswick: Rutgers University Press, 1951. P. 14.
(обратно)82
Аристотель. Политика // Он же. Сочинения: В 4 т. М.: Мысль, 1983. Т. 4. С. 406.
(обратно)83
Там же. С. 409.
(обратно)84
Вергилий. Георгики // Он же. Буколики. Георгики. Энеида. М.: Художественная литература, 1979. С. 78.
(обратно)85
Луций Анней Сенека. Письма Луцилию // Он же. Нравственные письма к Луцилию. М.: Наука, 1977. С. 207.
(обратно)86
Там же.
(обратно)87
Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Он же. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1991. Т. 2. С. 95–96.
(обратно)88
Linklater A. Owning the Earth: The Transforming History of Land Ownership. New York; London: Bloomsbury, 2013. P. 36.
(обратно)89
Ibid. P. 37.
(обратно)90
Локк Дж. Два трактата о правлении // Он же. Сочинения: В 3 т. М.: Мысль, 1988. Т. 3. С. 334.
(обратно)91
North D. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. P. 3.
(обратно)92
Деян. 2: 44–45.
(обратно)93
Mф. 19: 16–24.
(обратно)94
Например, притча о работнике и виноградарях (Мф. 21: 33–41) или о бодрствующих слугах (Лк. 12: 37).
(обратно)95
Трудолюбов М. Проход через игольное ушко // Forbes. 2004. № 8.
(обратно)96
«Скажите, в самом деле, сколько теперь вообще жителей в нашем городе? Сколько, думаете вы, в нем христиан? Думаете ли, что сто тысяч, а прочие язычники и иудеи? Сколько же тысяч золота было бы собрано? А как велико число бедных? Не думаю, чтобы больше пятидесяти тысяч. И чтобы кормить их каждый день, много ли было бы нужно? При общем содержании и за общим столом, конечно, не потребовалось бы больших издержек» (Творения св. отца нашего Иоанна Златоуста, архиеп. Константинопольского: В 12 т. СПб., 1903. Т. 9. Кн. 1. С. 113).
(обратно)97
Schlatter R. Op. cit. P. 49–50.
(обратно)98
Ibid. P. 87.
(обратно)99
Gerschenkron A. City Economies: Then and Now // The Historian and the City / Ed. by O. Handlin, J. Burchard. Cambridge: The MIT Press; Harvard University Press, 1963. P. 57–58.
(обратно)100
«Утопия» написана на латинском языке, а играл словами Мор по-древнегречески.
(обратно)101
«Один обжора, ненасытная и жестокая язва отечества, уничтожает межи полей, окружает единым забором несколько тысяч акров, он выбрасывает вон арендаторов, лишает их… их собственного достояния или, замучив обидами, вынуждает к продаже его» (Мор Т. Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия // Утопический роман XVI–XVII веков. М.: Художественная литература, 1971. С. 36).
(обратно)102
Руссо Ж. – Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми // Он же. Трактаты. М.: Наука, 1969. С. 72.
(обратно)103
Руссо Ж. – Ж. Об общественном договоре // Там же. С. 161.
(обратно)104
Трудолюбов М. Договор с Левиафаном // Ведомости. 2011. 5 августа.
(обратно)105
Эткинд А. Внутренняя колонизация: Имперский опыт России. М.: Новое литературное обозрение, 2013.
(обратно)106
Соловьев C. История России с древнейших времен. М.: Мысль, 1988. Т. 4. С. 631.
(обратно)107
Эткинд А. Указ. соч. С. 15.
(обратно)108
Fisher H.R. The Russian Fur Trade, 1550–1700. Berkley: University of California Press, 1943. P. 122. Цит. по: Эткинд А. Указ. соч. С. 122.
(обратно)109
Вилков О. Пушной промысел в Сибири // Наука в Сибири. 1999. 19 ноября [].
(обратно)110
Ядринцев Н. Сибирь как колония в географическом, этнологическом и историческом отношениях / 2-е изд. СПб.: Издание И.М. Сибирякова, 1892; Curtin Ph. Cross-Cultural Trade in World History. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. Цит. по: Эткинд А. Указ. соч. С. 124–125.
(обратно)111
Иноземцев В., Пономарев И., Рыжков В. Континент Сибирь: на пути от колониальной к глобальной парадигме развития // Россия в глобальной политике. 2012. Т. 10. № 6.
(обратно)112
Там же.
(обратно)113
Linklater A. Owning the Earth: The Transforming History of Land Ownership. New York; London: Bloomsbury, 2013. P. 77.
(обратно)114
Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation // The American Economic Review. 2001. Vol. 91. № 5. P. 1369–1401.
(обратно)115
Idem. Reversal of Fortune: Geography and Institutions in the Making of the Modern World Income Distribution // The Quarterly Journal of Economics. 2002. Vol. 117. № 4. P. 1231–1294.
(обратно)116
Аджемоглу Д., Робинсон Дж. Почему одни страны богатые, а другие бедные: Происхождение власти, процветания и нищеты. М.: АСТ, 2015. С. 105–107.
(обратно)117
Там же. С. 108.
(обратно)118
Ключевский В. Курс русской истории // Он же. Сочинения: В 9 т. М.: Мысль, 1987. Т. 1. С. 50.
(обратно)119
Соловьев C. Указ. соч. С. 631.
(обратно)120
Ключевский В. Указ. соч. Т. 3. С. 8.
(обратно)121
Мау В. Верность ордынской традиции // Ведомости. 2007. 5 марта.
(обратно)122
Трудолюбов М., Аптекарь П. От «матрицы» до «крыши» // Ведомости. 2009. 27 марта. Подробный анализ формирования элиты см.: Гудков Л., Дубин Б., Левада Ю. Путинская «элита». М.: Иностранка, 2008.
(обратно)123
Remnick D. Lenin’s Tomb. New York: Random House, 1993. P. 185.
(обратно)124
Крыштановская О. Трансформация старой номенклатуры в новую российскую элиту // Общественные науки и современность. 1995. № 1.
(обратно)125
Иноземцев В. Инвестиционная политика: Слово и дело // Ведомости. 2011. 4 апреля.
(обратно)126
Эткинд А. Указ. соч. С. 136.
(обратно)127
Пайпс Р. Собственность и свобода. М.: Московская школа политических исследований, 2000. С. 52.
(обратно)128
Ключевский В. Курс русской истории // Он же. Сочинения: В 9 т. М.: Мысль, 1987. Т. 1. С. 359.
(обратно)129
Ostrowsky D. Muscovy and the Mongols: Cross-cultural Influences on the Steppe Frontier. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. P. 62.
(обратно)130
Ельяшевич В. История права поземельной собственности в России. Париж, 1951. Т. 2. С. 27.
(обратно)131
Там же. С. 32.
(обратно)132
Там же. С. 36.
(обратно)133
Платонов С. Лекции по русской истории / Ed. by A. Soloviev, A. Kimball. Hague: Europe Printing, 1967. P. 208.
(обратно)134
Альшиц Д. Начало самодержавия в России. М.: Наука, 1988. С. 120–122.
(обратно)135
Ляхова Е. Русские монастырикак фактор влияния на державную государственность //Молодой ученый. 2011. Т. 2. № 6.С. 73–75.
(обратно)136
Тесля А. История законодательства о праве поземельнойсобственности в России с IXпо начало XX века. 2004. С. 44 [-law.narod.ru/wissled/teslya/zemsob].
(обратно)137
Аджемоглу Д., Робинсон Дж. Почему одни страны богатые, а другие бедные: Происхождение власти, процветания и нищеты. М.: АСТ, 2015. С. 138.
(обратно)138
Там же. С. 140.
(обратно)139
Эткинд А. Внутренняя колонизация: Имперский опыт России. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 195.
(обратно)140
Hedlund S. Russian Path Dependence. New York: Routledge, 2005. P. 97.
(обратно)141
Keenan E. Muscovite Political Folkways // Russian Review. 1987. Vol. 45. № 2. P. 130.
(обратно)142
Poe M. A People Born to Slavery. Ithaca: Cornell University Press, 2000. P. 220–221.
(обратно)143
Ibid. P. 219.
(обратно)144
Taagepera R. An Overview of the Growth of the Russian Empire // Russian Colonial Expansion to 1917 / Ed. by M. Rywkin. London: Mansell, 1988. P. 6. Спасибо Александру Эткинду, обратившему мое внимание на эту статью.
(обратно)145
Hedlund S. Op. cit. P. 47, 132.
(обратно)146
Ibid. P. 310.
(обратно)147
Кондратьева Т. Кормить и править: О власти в России XVI–XX вв. М.: РОССПЭН, 2006. С. 10.
(обратно)148
Кордонский С. Классификация и ранжирование угроз // Отечественные записки. 2013. № 2.
(обратно)149
Там же.
(обратно)150
Дубин Б. Нарциссизм как бегство от свободы // Ведомости. 2014. 27 августа.
(обратно)151
Из стихотворения А.С. Хомякова «России» (1854).
(обратно)152
Ельяшевич В. История права поземельной собственности в России. Париж, 1951. Т. 1. C. 46–64, 112–113.
(обратно)153
Дружинин Н. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева. М.; Л.: Издательство АН СССР, 1946. Т. 1. С. 28–29. Цит. по: Тесля А. История законодательства о праве поземельной собственности в России с IX по начало XX века. 2004. С. 24 [-law.narod.ru/wissled/teslya/zemsob].
(обратно)154
Ельяшевич В. Указ. соч. Т. 2. С. 95.
(обратно)155
Dennison T. The Institutional Framework of Russian Serfdom. New York: Cambridge University Press, 2011. Цит. по: Федюкин И. Мужик и институт // Коммерсантъ-Власть. 2009. 27 июля.
(обратно)156
Тесля А. Указ. соч. С. 75.
(обратно)157
Там же. С. 72.
(обратно)158
Moon D. The Russian Peasantry, 1600–1930: The World the Peasants Made. Harlow; New York: Longman, 1999. P. 99. См. также: Тесля А. Указ. соч. Таблица на с. 75–76.
(обратно)159
Речь Николая I в заседании Государственного Совета 30 марта 1842 года. (По записи бар. М.А. Корфа) // Николай I и его эпоха / Под ред. М. Гершензона. М.: Захаров, 2001. С. 82.
(обратно)160
Соколов Н. Лекция в Московской школе политических исследований. Апрель 2012 года.
(обратно)161
Федюкин И. Указ. соч.
(обратно)162
Герцен цитировал и анализировал Гакстгаузена в статье «Россия» (Герцен А. Собраниесочинений: В 30 т. М.: Издательство Академии наук СССР, 1955.Т. 6. С. 187–223). Поездку Августа фон Гакстгаузена, написавшего о России «позитивную» книгу, Герцен сравнивал с российской поездкой маркиза де Кюстина, написавшего книгу «негативную». Но интереснее сопоставить вояж прусского юриста в Российскую империю с путешествием французского юриста и политика Алексиса де Токвиля в Америку. Оба иностранных гостя были исполнены доброжелательного любопытства к предмету своего исследования, оба хотели увидеть и понять жизнь далекой страны, оба по результатам своих путешествий написали очень влиятельные книги. Гакстгаузеновская община поразила воображение властей и интеллектуалов России. Невероятно популярной оказалась и «Демократия в Америке» Токвиля. Только подходы к исследованию у немца и француза были принципиально различными. В отличие от Гакстгаузена Токвиль отталкивался от реальности и пытался ее осмыслить.
(обратно)163
Бирюков П. Л. Н. Толстой: Биография. Берлин: Издательство И.П. Ладыжникова, 1921. Т. 2. С. 81.
(обратно)164
Эткинд А. Внутренняя колонизация: Имперский опыт России. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 223.
(обратно)165
Rubin P. Darwinian Politics: The Evolutionary Origin of Freedom. New Brunswick: Rutgers University Press, 2002.
(обратно)166
Уильямс C. Либеральная реформа при нелиберальном режиме: Создание частной собственности в России в 1906–1915 гг. М.: ИРИСЭН, 2009. С. 53.
(обратно)167
Scott J. The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. New Haven: Yale University Press, 1976. P. 2.
(обратно)168
Blum J. The Internal Structure and Polity of the European Village Community from the Fifteenth to the Nineteenth Century // The Journal of Modern History. 1971. Vol. 43. № 4. P. 541–576.
(обратно)169
Moon D. Op. cit. P. 80.
(обратно)170
Уильямс С. Указ. соч. С. 55.
(обратно)171
Hoch S. Serfdom and Social Control in Russia: Petrovskoe, a Village in Tambov. Chicago; London: the University of Chicago Press, 1986. P. 177–186. О том, что касается государственных и удельных крестьян, см.: Moon D. Op. cit. P. 217–218. Сравнение с промышленным производством: Уильямс С. Указ. соч. С. 59.
(обратно)172
Hoch S. Op. cit. P. 134.
(обратно)173
Ibid. P. 128.
(обратно)174
Ibid. P. 154–157.
(обратно)175
Ibid. Данные о статистике наказаний, о целях их применениясм. на с. 162–164.
(обратно)176
Сухова О. Десять мифов крестьянского сознания: Очерки истории социальной психологии и менталитета русского крестьянства (конец XIX – начало ХХ в.) по материалам среднего Поволжья. М.: РОССПЭН, 2008. С. 160.
(обратно)177
Рогалина Н. Аграрный кризис в российской деревне начала ХХ века // Вопросы истории. 2004. № 7. С. 13–14. Цит. по: Сухова О. Указ. соч.
(обратно)178
Энгельгардт А. Из деревни: 12 писем, 1872–1887. М.: Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, 1956. С. 415.
(обратно)179
Там же.
(обратно)180
Чупров А. Уничтожение сельской общины в России // Вопросы экономики. 2010. № 10. С. 135–146.
(обратно)181
Там же.
(обратно)182
Wortman R. Property Rights, Populism, and Russian Political Culture // Civil Rights in Imperial Russia / Ed. by O. Crisp, L. Edmondson. Oxford, England; New York: Clarendon Press; Oxford University Press, 1989. P. 31.
(обратно)183
Уильямс С. Указ. соч. С. 166–167.
(обратно)184
Толки и надежды помещичьих крестьян: Записка Корибут-Дашкевича // Русский архив. 1874. № 8. С. 452. Цит. по: Сухова О. Указ. соч.
(обратно)185
Чернышев И. Община после 9 ноября 1906 г. Пг., 1917. Ч. II. С. 38. Цит. по: Сухова О. Указ. соч.
(обратно)186
Сухова О. Указ. соч. С. 271–272.
(обратно)187
Там же. С. 304.
(обратно)188
Вронский О. Крестьянская община на рубеже XIX–XX вв.: Структура управления, поземельные отношения, правопорядок. М., 1999. С. 138. А также: Сухова О. Указ. соч. С. 227.
(обратно)189
Fredrickson G., Lasch C. Resistance to Slavery. Ohio: Kent University Press, 1967. P. 230–232. Цит. по: Hoch P. Op. cit. P. 184.
(обратно)190
Sykes G. Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison. Princeton: Princeton University Press, 1958. P. 28. Цит. по: Hoch S. Op. cit. P. 184.
(обратно)191
Fredrickson G., Lasch C. Op. cit. P. 241.
(обратно)192
Осокина Е. О социальном иммунитете, или Критический взгляд на концепцию пассивного (повседневного) сопротивления. Расширенный вариант доклада, представленного на международной конференции «История сталинизма. Итоги и проблемы изучения». Москва, 5–7 декабря 2008 года.
(обратно)193
Там же.
(обратно)194
Fukuyama F. The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011. P. 7.
(обратно)195
Пнин И. Сочинения. М.: Издательство Всесоюзного Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1934. С. 130.
(обратно)196
Жалованная грамота Екатерины была не первым, а одним из первых законодательных актов, касающихся нашей темы, но стала самым важным из них и приведшим к наиболее существенным последствиям. Еще в 1762 году Манифестом о вольности дворянской Петр III освободил дворян от обязательной службы, чем, по сути, сделал собственность безусловной: дворяне могли выходить со службы, не возвращая вотчины и поместья. Но напрямую права собственности и личности в манифесте оговорены не были.
(обратно)197
Текст грамоты см.: [].
(обратно)198
Герцен А. Крещеная собственность. Лондон: Вольная русская книгопечатальня, 1853. C. 3–4.
(обратно)199
Fukuyama F. The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011. P. 142.
(обратно)200
Pintner W.M. Russian Economic Policy under Nicholas I. Ithaca: Cornell University Press,1967. P. 37.
(обратно)201
Предусматривалась выдача ссуд на различные сроки – на 8, 12 лет и 24 года. Ссуды на 12 лет и 24 года предоставлялись из расчета 6 % годовых и 2 % в счет погашения ссуды. Размер ссуды устанавливался от 5 до 500 тысяч рублей в зависимости от количества заложенных ревизских душ. Под одну душу предоставлялось 150–200 рублей в зависимостиот класса губернии (Бугров A.Из истории Банка России: Заемный банк []).
(обратно)202
Оуэн Т. Право собственности в истории России // Ведомости. 2012. 14 декабря.
(обратно)203
Pintner W.M. Op. cit. P. 37–42.
(обратно)204
Ibid. P. 30.
(обратно)205
Даже если считать, что Екатерина грамотой 1785 года только подтвердила практику, уже существовавшую пару десятков лет, то мы получим 155 лет помещичьей собственности: 1762–1917. Это меньше «московского» периода(Иван IV – Петр I) и меньше «монгольского» – очень короткий срок по историческим меркам.
(обратно)206
Farrow L.A. Between Clan and Crown: The Struggle to Define Noble Property Rights in Imperial Russia. Newark: University of Delaware Press, 2004. P. 208.
(обратно)207
Ibid. P. 193.
(обратно)208
Тесля А. История законодательства о праве поземельной собственности в России с IX по начало XX века. 2004. С. 7–9 [-law.narod.ru/wissled/teslya/zemsob].
(обратно)209
Offord D. Alexander Herzen and James de Rothschild // Toronto Slavic Quaterly. 2007. № 19 []. Другая версия статьи: The Rothschild Archive: Review of the Year. April 2005 – March 2006. P. 39–47.
(обратно)210
Шипилов А. О бедности и богатстве // Общественные науки и современность. 2008. № 5. C. 163–175.
(обратно)211
Offord D. Op. cit.
(обратно)212
Ibid.
(обратно)213
Герцен А.И. Былое и думы // Он же. Собрание сочинений: В 30 т. М.: Издательство Академии наук, 1956. Т. 10. С. 132.
(обратно)214
Offord D. Op. cit.
(обратно)215
Басинский П. Лев Толстой: Бегство из рая. М.: АСТ, 2011. С. 65.
(обратно)216
Бирюков П. Л.Н. Толстой: Биография. Берлин: Издательство И.П. Ладыжникова, 1921. Т. 2. С. 558–559.
(обратно)217
Эткинд А. Внутренняя колонизация: Имперский опыт России. М.: НЛО, 2013. С. 31.
(обратно)218
Pravilova E. Public Empire: Property and the Quest for the Common Good in Imperial Russia. Princeton: Princeton University Press, 2014. P. 25.
(обратно)219
Ibid. См. также: Журнал Высочайше утвержденной комиссии для пересмотра действующих законов о бечевниках и о порядке объявления рек судоходными и вплавными. СПб.: Типография Министерства путей сообщения, 1878. С. 12.
(обратно)220
Pravilova E. Op. cit. P. 43–45.
(обратно)221
Юсупов Ф. Мемуары. М.: Захаров; Вагриус, 2004. С. 112–113. Цит. по: Юдин Е. Российская модернизация и аристократия: состояние семьи Юсуповых в начале ХХ в. // Новый исторический вестник. 2006. № 1.
(обратно)222
Юдин Е. Указ. соч.
(обратно)223
Политический философ Фрэнсис Фукуяма склонен рассматривать эту ситуацию как ситуацию выбора. «Если элиты предоставлены сами себе, они будут увеличивать свои владения. У правителя в этом случае есть два пути. Во-первых, он может встать на сторону крестьян, заняться земельной реформой и обеспечением равных прав на землю, что подрежет крылья аристократии. Именно это случилось в Скандинавии, где короли Швеции и Дании в конце XVIII века поддержали крестьянство в противостоянии со сравнительно слабой аристократией. Во-вторых, правитель может принять сторону аристократии и использовать государственную власть для укрепления власти помещиков над крестьянами. По этому пути начиная с XVII века пошли монархи России, Пруссии и других стран к востоку от Эльбы. Земледельцы, ранее обладавшие значительной свободой, были превращены в крепостных с помощью государства» (Fukuyama F. Op. cit. P. 143).
(обратно)224
Pravilova E. Op. cit. P. 32.
(обратно)225
Ibid. P. 30.
(обратно)226
Wortman R. Property Rights, Populism, and Russian Political Culture // Civil Rights in Imperial Russia / Ed. by O. Crisp, L. Edmondson. Oxford, England; New York: Clarendon Press; Oxford University Press, 1989. P. 32.
(обратно)227
Ле Корбюзье. К архитектуре // Он же. Архитектура ХХ века. М.: Прогресс, 1977. С. 12.
(обратно)228
Там же.
(обратно)229
Ерофеев Н. История хрущевки // Открытая левая. 2014. 24 декабря [].
(обратно)230
Хан-Магомедов С. Архитектура советского авангарда. М.: Стройиздат, 2001. Кн. 2: Социальные проблемы. С. 322.
(обратно)231
Там же.
(обратно)232
Паперный В. Культура Два. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 169.
(обратно)233
Ср. блестящий анализ и разбор литературных источников этого стихотворения: Успенский Ф. Молоток Некрасова: «Квартира» О. Мандельштама между стихами о стихах и гражданской поэзией 1933 года // Дар и крест. Памяти Натальи Трауберг: Сборник статей и воспоминаний. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010. C. 319.
(обратно)234
Мандельштам Н. Воспоминания. М.: Книга, 1989. С. 140.
(обратно)235
Там же.
(обратно)236
De Botton A. The Architecture of Happiness. New York: Vintage Books, 2006. P. 98.
(обратно)237
Шнеерсон А. Что такое жилищный вопрос. М.: Издательство ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 1959. С. 63. См. также: Andrusz G. Housing and Urban Development in the USSR. London: Macmillan, 1984. P. 19.
(обратно)238
Хрущев Н. Время. Люди. Власть: Воспоминания: В 4 кн. М.: Московские новости, 1999. Кн. 2. С. 390.
(обратно)239
Там же. С. 547.
(обратно)240
Harris S. Communism on Tomorrow Street: Mass Housing and Everyday Life after Stalin. Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press, 2013. P. 90. См. также таблицу на с. 89–91.
(обратно)241
Smith M. Property of Communists: the Urban Housing Program from Stalin to Khrushchev. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2010. P. 100.
(обратно)242
Это подсчеты историка Стивена Харриса (Harris S. Op. cit. P. 5). См. также: Zavisca J. Housing the New Russia. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2012. Kindle edition. Loc. 665.
(обратно)243
Блохин П. Малоэтажный жилой дом. М.: Издательство Академии архитектуры СССР, 1944. С. 59.
(обратно)244
Harris S. Op. cit. P. 80.
(обратно)245
Ibid. P. 82–83.
(обратно)246
Кафтанов А. Элитные выселки // Коммерсантъ-Власть. 2000. 2 мая.
(обратно)247
Zavisca J. Op. cit. Loc. 891.
(обратно)248
Smith M. Op. cit. P. 144–145.
(обратно)249
Сергеенко М. Жизнь Древнего Рима. СПб.: Летний Сад; Нева, 2000. C. 78–79.
(обратно)250
Замечательную книгу о русской даче написал британский исследователь С. Ловелл (Ловелл С. Дачники: История летнего жилья в России, 1710–2000. СПб.: Академический проект; ДНК, 2008).
(обратно)251
Трудолюбов М. Выставка счастья // Ведомости. 2006. 14 июля.
(обратно)252
Van Hook L. Greek Life and Thought. New York: Columbia University Press, 1930. P. 39.
(обратно)253
Луций Анней Сенека. Письма Луцилию // Он же. Нравственные письма к Луцилию. М.: Наука, 1977. С. 202.
(обратно)254
Гаспаров М. Занимательная Греция. М.: Б.С.Г. – Пресс, 2009. С. 450.
(обратно)255
Петрова Ю., Агамалова А. Навальный: Квартира дочери Собянина стоит в 6 раз больше десятилетнего заработка семьи // Ведомости. 2013. 9 августа.
(обратно)256
Kravchenko S., Pismennaya E., Reznik I. For $50 Million You TooCan Enter Putin Moscow Playhouse // Bloomberg. 2013. July 10 [-07-09/for-50-million-you-too-can-enter-putin-moscow-playhouse.html].
(обратно)257
Корня А. Путин предложил запретить чиновникам иметь за рубежом счета и ценные бумаги // Ведомости. 2013. 12 февраля.
(обратно)258
См. главу 1, а также статью: Южаков В. Капитализация поколений // Ведомости. 2011. 22 августа.
(обратно)259
Бронер Д. Жилищное строительство и демографические процессы. М.: Статистика, 1980. С. 25.
(обратно)260
Эренбург И. Оттепель: Повесть. М.: Советский писатель, 1954. С. 15.
(обратно)261
Harris S. Communism on Tomorrow Street: Mass Housing and Everyday Life after Stalin. Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press, 2013. P. 95–96.
(обратно)262
Ibid. P. 151.
(обратно)263
Varga-Harris C. Forging Citizenship on the Home Front // The Dilemmas of De-Stalinization: Negotiating Cultural and Social Change in the Khrushchev Era. London: Routledge, 2006. P. 101–116.
(обратно)264
Zavisca J. Housing the New Russia. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2012. Kindle edition. Loc. 4210–4215.
(обратно)265
Ibid. Loc. 1030–1034.
(обратно)266
По данным исследования Высшей школы экономики, в 1989 году обеспеченность общей площадью жилья составляла 26 % от обеспеченности в США (16,1 и 61,3 кв. м на человека соответственно), а в 2009 году – 32 % (22,5 и 69,7 кв. м на человека соответственно) (Рост недоступности жилья в сравнении с СССР преувеличен // Коммерсантъ. 2011. 11 апреля). Есть и более жесткие оценки: «Обеспеченность жильем в России – 40 % от уровня развитых стран, если учитывать все жилье, включая бараки, – говорит вице-президент Ассоциации региональных банков России Владимир Гамза. – Если не учитывать те жилые объекты, которые в развитых странах не признаются жильем, то обеспеченность в России составляет 20 % от развитых стран» [].
(обратно)267
Цитата о тесноте взята отсюда: Квартирная благодать: [Блог Якова Кротова на сайте «Радио Свобода»: ]; см. данные об относительном количестве квартир в исследовании Research and Branding Group [].
(обратно)268
Дмитриев М. Почему рост доходов не спасает рейтинг Путина // Forbes.Ru. 2013. 28 февраля [-column/vertikal/234935-pochemu-rost-dohodov-ne-spasaet-reiting-putina].
(обратно)269
Zavisca J. Op. cit. Loc. 1905.
(обратно)270
Ibid. Loc. 1923.
(обратно)271
Рай в шалаше: От редакции // Ведомости. 2012. 1 июня.
(обратно)272
По некоторым данным – на 80 %.
(обратно)273
Джейн Зависка уверена, что в неудаче рынка в России виноваты американские консультанты, которые механически перенесли американские институты на российскую почву. В США банки выдают ипотечные кредиты, а потом продают их предприятиям, поддерживаемым государством (Fanny Mae, Freddy Mac), и другим финансовым учреждениям. Те, в свою очередь, превращают выплаты по ипотеке в ценные бумаги (mortgagebacked securities), которые выпускают в свободное обращение на рынок. Изначально выданный кредит таким образом исчезает с баланса того банка, который этот кредит выдал. В самой этой ситуации заложена безответственность – банку не страшно выдавать кредиты. Кредиты не страшно и брать, если они дешевы и не требуют никаких сбережений и особых усилий от кредитополучателя. Это прямой путь к формированию пузыря на рынке и, как выяснилось в 2007 году, рецепт мирового финансового кризиса. В Европе распространены различные формы поощрения жилищных сбережений. Вкладчик в этом случае сотрудничает со специальной, отделенной от ≪большого≫ финансового рынка системой строй-сберкасс (Bausparkassen, epargnelogement). Накопив значительную часть суммы (от 40 до 60 %), вкладчик получает доступ к недорогому кредиту. В этом случае рынок капитализируется сбережениями, а не ценными бумагами.
(обратно)274
Косарева Н., Полиди Т., Пузанов А., Ясин Е. Новая жилищная стратегия. М.: ВШЭ, 2015. С. 7.
(обратно)275
Полиди Т. Жилищное строительство в России: Мифы и реальность. Научный семинар Фонда «Либеральная миссия», 31 марта 2015 года [].
(обратно)276
Данные исследования Deloitte. В среднем по ЕС доля ипотечных кредитов в ВВП составляет 51,7 %. Самый высокий уровень – в Нидерландах и Дании, самый низкий – в Чехии. В России доля ипотечных кредитов ниже чешского минимума в 5 раз: всего 2,6 % ВВП. Уровень задолженности по ипотеке на душу населения в России также является самым низким – 311 евро, это в 7 раз ниже показателя Польши (минимум по ЕС, 2280 евро). См.: Россияне свободны от ипотеки // Ведомости. 2013. 27 августа. Данные опроса НАФИ о доступности ипотеки: Лишь 2 % россиян готовы приобрести квартиру в кредит // Ведомости. 2012. 26 апреля.
(обратно)277
Результаты расчетов Института экономики города: [].
(обратно)278
Cox W., Pavletich H. 9th Annual Demographia International Housing Affordability Survey: Ratings for Metropolitan Markets []. Отметим, правда, что по методике Всемирного банка в расчетах используется медианная, а не средняя цена семейного дома и доход домохозяйства за три года берется медианный, а не средний. Медианные величины доходов в странах с большим расслоением оказываются обычно заметно ниже средних.
(обратно)279
Показатель Всемирного банка: сколько медианных годовыхдоходов средней семьи (целиком) уйдет на покупку квартиры по медианной цене. Расчеты для России и Белоруссии (9,5 года) произвели Джузеппе Торлуччо из Университета Болоньи и Елена Дорох из Белорусского госуниверситета (Dorokh E., Torluccio G. Housing Affordability and Methodological Principles: An Application // International Research Journal of Finance and Economics. 2011. № 79. P. 64. См. также: Рай в шалаше: От редакции; Cox W., Pavletich H. Op. cit.).
(обратно)280
C развитием рыночных отношений структура сектора жилищного строительства в России по основным рыночным игрокам (профессиональные застройщики и непрофессиональные застройщики – граждане) стала такой, как 70 лет назад. См.: Косарева Н., Полиди Т., Пузанов А., Ясин Е. Указ. соч. С. 8.
(обратно)281
Там же. С. 18.
(обратно)282
Shlapentokh V., Arutunyan A. Freedom, Repression, and Private Property in Russia. New York: Cambridge University Press, 2013. P. 40.
(обратно)283
Почему это так, объясняется здесь: Капелюшников Р. Собственность без легитимности. М.: ГУ ВШЭ, 2008.
(обратно)284
См., например, статьи Яны Яковлевой: Яковлева Я. Прибыль как преступление // Ведомости. 2012. 9 февраля; Она же. Русский дисконт // Ведомости. 2010. 26 апреля; Она же. Не просто рыбки // Ведомости. 2009. 14 сентября.
(обратно)285
Всю историю в изложенииУильяма Браудера см.: Гессен М. Интервью с Уильямом Браудером, главой инвестиционного фонда Hermitage Capital []; см. также: Сейранян Т., Никольский А. Юрист Hermitage Магнитский умер в тюрьме // Ведомости. 2009. 17 ноября; Гуриев С., Цывинский О. Модернизация-37 // Ведомости. 2009. 24 ноября.
(обратно)286
Радченко В., Жалинский А. Политика изгнания бизнеса // Ведомости. 2011. 24 июня.
(обратно)287
Казьмин Д. Офшорные компании – отдушина для бизнеса: Интервью председателя Высшего арбитражного суда Антона Иванова // Ведомости. 2012. 25 января.
(обратно)288
О чем умолчал Путин: От редакции // Ведомости. 2012. 12 апреля.
(обратно)289
Кувшинова О. Инвестиции в Россию: деньги есть, уверенности нет // Ведомости. 2013. 20 июня.
(обратно)290
Трудолюбов М. Колониальные будни России // Ведомости. 2011. 29 апреля.
(обратно)291
Huntington S.P. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman: University of Oklahoma Press, 1991. P. 137.
(обратно)292
Krastev I. Paradoxes of the New Authoritarianism // Journal of Democracy. 2011. April. Vol. 22. № 2. P. 12.
(обратно)293
Boycko M., Shleifer A., Vishny R. Privatizing Russia // Brookings Papers on Economic Activity. 1993. Vol. 24. № 2. P. 142.
(обратно)294
Кувшинова О. Цена отложенных реформ // Ведомости. Приложение «Форум». 2012. 20 ноября.
(обратно)295
Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика, 1995. С. 335.
(обратно)296
Трудолюбов М. Линия Медведева // Ведомости. 2010. 1 октября.
(обратно)297
Przeworski A. Democracy and the Market. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 10.
(обратно)298
Причины неудачи демократизации в России сформулированы здесь: Гельман В. Из огня да в полымя: Российская политика после СССР. CПб.: БХВ-Петербург, 2013. С. 50–53.
(обратно)299
Пастухов В. Преданная революция // Новая газета. 2013. 9 января.
(обратно)300
Аузан А. Частная собственность – не лучший вариант: У каждого режима собственности свои преимущества и проблемы. Запись выступления на встрече из серии «Дорожная карта гражданина» в клубе «Март» 3 апреля 2012 года [].
(обратно)301
Экономический обозреватель Борис Грозовский, анализируя воспоминания и споры российских реформаторов, собранные в книге «Революция Гайдара: История реформ 1990-х из первых рук», говорит: «Мандата на реформу общественных отношений – суда, армии, администрации – у гайдаровского правительства не было, да оно и не представляло, как этим заниматься» (Грозовский Б. Недореволюция: Кто виноват в провале реформ начала 1990-х // Forbes.Ru. 2013. 27 июня [-nedorevolyutsiya-kto-vinovat-v-provale-reform-nachala-1990-h]).
(обратно)302
Следующие несколько абзацев представляют собой выдержки из статьи, написанной в соавторстве с Павлом Аптекарем (Аптекарь П., Трудолюбов М. Чрезвычайное право // Ведомости. 2009. 4 сентября).
(обратно)303
Декреты Советской власти. М.: Госполитиздат, 1957. Т. 1. С. 124–126.
(обратно)304
Лацис М. Чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией. М.: Государственное издательство, 1921. C. 8–9.
(обратно)305
Шифротелеграмма И.В. Сталина секретарям обкомов, крайкомов и руководству НКВД – УНКВД о применении мер физического воздействия в отношении «врагов народа» // Лубянка: Сталин и НКВД – НКГБ – ГУКР «Смерш», 1939 – март 1946 / Фонд Александра Яковлева [-doc/58623].
(обратно)306
Волков В. Палочная система: инструмент управления // Ведомости. 2010. 19 февраля.
(обратно)307
Там же.
(обратно)308
Например, за пять лет с 1987 по 1991 год на территории РСФСР было осуждено 2,5 миллиона человек. В современной России за пять лет, с 2004 по 2008 год, по данным Судебного департамента при Верховном суде, было осуждено 4,4 миллиона человек.
(обратно)309
Панеях Э., Шклярук М. До суда виноватые // Ведомости. 2013. 12 марта.
(обратно)310
Волков В. Силовое предпринимательство, ХХI век: Экономико-социологический анализ. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012.
(обратно)311
Корня А. Неуютная Россия // Ведомости. 2011. 10 июня.
(обратно)312
Трудолюбов М. Своя дорога в ад // Colta.ru. 2012. 6 августа [].
(обратно)313
Хиршман А.О. Выход, голос и верность: Реакция на упадок фирм, организаций и государств. М.: Новое издательство, 2009.
(обратно)314
Krastev I. Op. cit. P. 12.
(обратно)315
Михайлов А. Никто сюда не понаехал // Газета.ру. 2012. 25 декабря [].
(обратно)316
Иноземцев В. Русский мир I против Русского мира II // Ведомости. 2014. 29 июля.
(обратно)


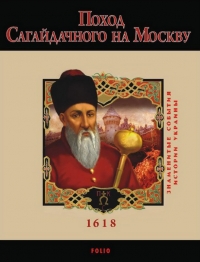
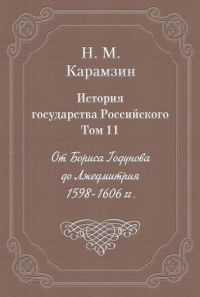

Комментарии к книге «Люди за забором. Частное пространство, власть и собственность в России», Максим Анатольевич Трудолюбов
Всего 0 комментариев