fs
Янов А.Л.
я 64 Россия и Европа. 1462—1921. В з кн.
Кн. третья. Драма патриотизма в России. 1855-1921. — М.: Новый Хронограф, 2009. - 664 стр., ил.
Заключительная книга трилогии известного историка и политического мыслителя Александра Янова посвящена одной из величайших загадок русского прошлого, перерождению самого светлого и драгоценного общественного чувства, любви к отечеству, в собственную противоположность: «из любви к своему, - по словам Г.П. Федотова, - в ненависть к чужому». Иначе говоря, в национализм. Как это могло случиться? На обширном документальном материале. связанном с борьбой идеологий в XIX веке, автор убедительно показывает, как и почему сбылось мрачное пророчество B.C. Соловьева о том, что эта зловещая деградация патриотизма в конце концов погубит петровскую Россию. В 1917-м она погибла.
УДК 94fo7).04/.043 ББК 63.3(2)43 Я 64
Сегодня, в постсоветской России, когда разница между патриотизмом и национализмом снова на наших глазах стирается, опыт этой роковой деградации становится столь же актуальным, каким он был в XIX веке, во времена Соловьева.
ISBN 978-5-94881-072-0
Агентство CIP РГБ
©Янов АЛ., 2009 © Новый Хронограф, 2009
Светлой памяти моих наставников Владимира Сергеевича Соловьева и Василия Осиповича Ключевского, а также Александра Николаевича Яковлева, товарища по оружию, посвящается зта трилогия
ОГЛАВЛЕНИЕ
9 От издателя 15 Глава ПЕРВАЯ. Вводная
65 Глава ВТОРАЯ У истоков «государственного патриотизма»
Расстрелянное поколение. Легенда о «революционном классе». Момент истины. Две русские идеи. Центральный парадокс. Объяснение Герцена. Объяснение Соловьева. Два примера. Особенности национального эгоизма. Репутация В.С.Соловьева. Что «рухнуло в пожаре 1917-го»? Возвращение Московии. «В царе наша свобода». Роковое наследство. Повторение пройденного? Незадача? Всем сестрам по серьгам? Ответ «с того берега». Чаадаевские пороховницы. По второму кругу? Зов самоуничтожения. Девять лет спустя.
125 Глава ТРЕТЬЯ. Упущенная Европа
Священный Союз. Международная анархия. Головоломка. Преодоление анархии. Коллегиальная модель. Преступление и наказание. Урок. Выпадение памяти? Открытый мир Европы. Вторая Хартия Вольностей. Перспектива. Что в этом для России? Патриотическая истерия историков? Цена ошибки.
161 Глава ЧЕТВЕРТАЯ. Ошибка Герцена
Оттепель. Несостоявшееся чудо. Еще одно роковое «почему». Политические страсти. Репетиция контрреформы. Мина № i; Конституция. Альтернатива. В идейном плену. Другая версия. Мина № 2: Крестьянский вопрос. Гетто. Орвеллианский мир постниколаевской России. Мина № 3: империя. Объяснение с читателем. Два взгляда на империю. Патриотическая истерия. Крушение «Колокола». «Россия глуха»? Жестокая судьба. Откуда болезнь? Чего не заметил Герцен. Мысленный эксперимент. Россия не исключение.
215 Глава ПЯТАЯ. Ретроспективная утопия
Завязка славянофильской драмы. Успех Официальной Народности. Метаморфоза. Самодержавие или деспотизм? Второй корень славянофильства. Третий путь. Почему Россия превосходит Запад? «Souverainete du peuple». Истина или справедливость? Нация-личность. Нация-семья. Заметки на полях. Кого винить? Метод «исторического разрыва». Игра в поиск исторического злодея. Еще раз о «России, которую мы потеряли». Прав ли был Чаадаев? Настоящая тайна славянофильства. Ловушка.
263 Глава ШЕСТАЯ. Торжество национального эгоизма
Экстремизм радикального западничества. Лукавая двусмысленность. В плену интеллектуальной моды. Лорис-Меликов и Игнатьев. Жестокая ирония. Эхо ретроспективной утопии. Спор о «начальнике мира». Бюрократическое иго. «Упразднение славянофильства»? «Середины нет». Деградация. Молодая гвардия. Неизбежность? «Катехизис славянофильства»? «Поворот на Германы». «Россия сосредоточивается». Будни «сосредоточения». Депеша Горчакова. Проблемы Всеславянского союза. Неожиданные союзники. Игры Бисмарка. Тревоги Оттоманской империи. Работая на Бисмарка. На пути к войне. Отыгранная карта. Зачем нужна была война? Плевелы. Развязка.
339 Глава СЕДЬМАЯ. Три пророчества
«Национально ориентированные». Мифотворчество. Ахиллесова пята мифотворцев. Ставрогин и Мефистофель. Пророчество Бакунина (1860-е). Пророчество Достоевского (1870-е). Человек-миф. Ревизионист славянофильства. Консервативный революционер. Пророчество Константина Леонтьева (1880-е). Консервативный проект и реальность. Почему? Итоги.
393 Глава ВОСЬМАЯ. На финишной прямой
Интеллектуальная нищета власти. Прав ли Бердяев? Три дороги. Тупик. «Россия под надзором полиции». «Блестящий период». Приключения русского кредита. Извивы молодогвардейской мысли. Три войны. Россия против еврейства. Евангелие от Сергея. «Еврейский вопрос». Русский вопрос. Уроненное знамя. Проблема «политического воспитания». Корень ошибки. Альтернатива большевизму?
445 Глава ДЕВЯТАЯ. Как губили петровскую Россию
Три школы. Глупость или измена? Предчувствия. Контрреформистская догма и Ричард Пайпс. Геополитика Дурново и Витте. Столыпин и Розен. План Розена. Загадка. Версия Хатчинсона. Версия Хоскинга. Версия Базарова. Версия Кожинова. Патриотическая истерия. Век XX. Кто кого? Военная контроверза. Декабризм. Несостоявшееся начало.Фантасмагория Официальной Народности. Славянофильская фантасмагория. «Молодые реформаторы». Второе поколение. Третье поколение. «Разрушение цивилизации». Акт за актом. Последний парадокс.
53* Глава ДЕСЯТАЯ. Агония бешеного национализма
Возрождение империи или агония? Энтузиасты очередной реставрации. Самоубийство и реставрация. Тяжелый диагноз. Черносотенный соблазн. Судьба победившего большевизма. Реакция бешеных. «Еврейская революция» по Н.Е. Маркову. Н.Е. Марков и русский консерватизм. Эволюция «жидо-масонского заговора». Эсхатологическая истерика. Что мы знаем и чего мы незнаем. При чем здесь нечистая сила? Опять предчувствия. Другой путь.
581 Глава ОДИННАДЦАТАЯ. Последний спор
Хронологический маневр. «Ах, если бы...». «Скачок». Странное совпадение. О «деспотической линии». Дворцовый переворот? Самодержавная революция. Наследство Грозного царя. Перерождение. Традиция «долгого рабства». Россия без Сталина? Еще одна загадка. Раскол. «Вялый пунктир»? Либеральные депрессии. Свободна, наконец? Имитация держа в н ости. Масштабы вызова. Либеральная «мономания». Скептики и национал-либералы.
637 ПОСЛЕСЛОВИЕ. И.Н.Данилевский
645 ПИСЬМО И.Н. ДАНИЛЕВКОМУ. А.Л. Янов
654 ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
От издателя
Нравственность человека видна в его отношении к слову.
Л.Н. Толстой
Мое знакомство с Александром Львовичем Яновым началось с его статьи «Предпосылки литературы», попавшей мне из «самиздата» в 1969 году. Статья эта произвела на меня глубочайшее впечатление и во многом определила мой интерес к российской истории. Но получить у него ответы на все возникшие у меня тогда вопросы мне так и не удалось. В 1974 году за публикацию статьи о Герцене (подумать только!) в журнале «Молодой коммунист» его выдворили из страны. Так Янов повторил судьбу многих выдающихся сынов России. С тех пор он живет в Соединенных Штатах, продолжая заниматься российской историей. Чего это ему стоило, знаетлишь он - историк России, неожиданно оказавшийся в чужой стране без знания языка, привычной среды и общения. Но это не было для него/лавным, как не было и проблемы выбора. В России, как завещание, он оставил свой труд, посвященный судьбам интеллекта, извечно оппозиционного власти в силу ее специфики. Жанр своего труда он определил как философия русской истории, задача которой может быть сформулирована «как попытка концептуального осмысления политической практики и политического мышления в России за время ее полутысячелетнего существования в концерте европейских держав. Полторы тысячи страниц текста, насыщенного фактами, гипотезами и размышлениями в течение десяти лет распространялись в самиздате.
В обращении к читателю, он писал:
«Важно раз и навсегда понять, что «завтра» наше зависит не от одного лишь нашего «сегодня», но и от нашего «вчера». Что лишь от взаимодействия прошлого и настоящего может родиться предвидимое будущее.
Игнорируя прошлое, опираясь только на одно обнаженное, усеченное как ствол с обрубленными корнями настоящее, рискуешь навсегда остаться в заколдованном кругу прошлого. Именно таким образом прошлое и превращается в рок, тяготеющий над будущим. Ибо, как сказал мудрец, народ, забывающий свое прошлое, рискует пережить его снова.
И нет из этого заколдованного круга никакого иного выхода, нет иного способа рассчитаться с этим заклятьем, кроме бесстрашного, ... предельно честного его осмысления. Кроме возрождения философии истории. Кроме анализа политической культуры, становящегося неотъемлемым элементом общественного сознания. Я не знаю и не представляю себе сейчас дела, которое было бы важнее этого. Важнее именно для будущего. Для действительно честного будущего человечества.
Ибо человечество состоит не только из профессионалов- историков. Состоит оно как раз из профанов. И если забудут что-то историки, их пожурит ученый совет. А мы, профаны, платим за то, что забываем историю, значительно дороже».
В заключении он подчеркнул: «Следует понять, наконец, что действительным содержанием споров о природе абсолютизма, о сущности политических институтов и идеологий или тому подобных отвлеченных материй, является не архаическая схоластика, а собственная наша судьба».
Собственная судьба Александра Янова, историка и гражданина, неразрывно связана с историей России. Вопрос о том, как сделать уроки прошлого полезными для будущего и возможно ли это - один из ключевых.
Трилогия «Россия и Европа. 1462-1921» - обобщающий труд историка, изданный на родине. Доступное широкому читателю исследование увлекает страстностью убеждений, яркостью стиля и стремлением включить в процесс осмысления российской истории как можно больший круг людей. Читая Александра Янова, можно спорить с ним, можно соглашаться, но нельзя остаться равнодушным. Его трилогия возбуждает острый до болезненности интерес к прошлому. И для меня это не попытка к бегству от современности, а скорее возможность обрести внутреннюю опору и пусть неустойчивое, но душевное равновесие. Теперь я знаю: сокрушительный результат семидесятилетних усилий вождей КПСС противопоставить себя остальному миру непоправим, если не осмыслен исторически, не станет нашим духовным опытом, каким бы он ни был горестным. Но он - и только он - поможет разобраться в настоящем, сориентироваться в системе координат судьбы. И это тоже немало. И А.Л.Янов нам только поможет в этом. Читайте его. Он собеседник современный и своевременный. Он ясно излагает, потому что ясно мыслит. Он увлекает, потому что сам увлечен.
Драма патриотизма
в России 1855-1921
ПЕРВАЯ
Вводная
ГЛАВА ВТОРАЯ
У истоков «государственного патриотизма»
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Упущенная Европа
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Ошибка Герцена
ГЛАВА ПЯТАЯ
Ретроспективная утопия
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Торжество национального эгоизма
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Три пророчества
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
На финишной прямой
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Как губили петровскую Россию
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Агония бешеного национализма
ГЛАВА
Последний спор
ОДИННАДЦАТАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Вводная
Как мало в нас
справедливости и смирения, как дурно понимаем мы патриотизм...
А.П.
О причинах российской Катастрофы семнадцатого года, о том, почему почти без выстрела рухнула трехсотлетняя империя Романовых, а вслед за нею, уступив место диктатуре пролетариата, и новорожденная Февральская республика, написана без преувеличения библиотека - на всех языках. Но как-то так случилось, что вся эта мировая историография вертится, как вокруг оси, около одной и той же старой схемы, предложенной еще в романе Достоевского «Бесы». Согласно ей, как знает читатель, непосредственные исполнители разрушения России, бесы, заимствуют свои «красные» поджигательские идеи с Запада - через посредство «русских европейцев», либералов-западников.
Я не хочу сказать, что все историки следуют этой схеме буквально. Некоторые- и их, собственно говоря, большинство - вполне убедительно оспаривают отдельные её аспекты. Ричард Пайпс, допустим, развернув старую схему в трехтомную эпопею «большевистского заговора», отвергает тем не менее идею о западном происхождении русского бесовства. Для него бесы-большевики - вполне самобытный, домашний, так сказать, продукт, выросший из особенностей истории «патримониального», как он думает, государства. Но и Пайпс, разумеется, исходит из тезиса Достоевского, что виновниками Катастрофы могли быть только «красные» бесы. Потому и датирует он её начало октябрем семнадцатого, т.е. моментом их прихода к власти.
Александр Солженицын, в противоположность Пайпсу, копирует схему Достоевского целиком. И потому в его многотомной эпопее «Красное колесо» на роль главных злодеев выдвигаются, естественно, «русские европейцы», породившие бесов, старательно подчеркивается роль «черного вихря с Запада» и дата начала Катастрофы отодвинута к февралю 1917-го, т.е. к моменту падения монархии и торжества западников.
Эти хронологические - и этнологические, если хотите, - разногласия еще больше осложняются тем, что эмигрантский историк Григорий Бостунич и бывший шеф Союза русского народа Николай Марков идут в своих размышлениях о Катастрофе куда дальше и Пайпса и Солженицына. Согласно их версии событий (а каждый из них, не забудем, тоже опубликовал по двухтомной эпопее, трактующей наш многострадальный сюжет), происхождение бесовства оказывается не русским и даже не западным, а вовсе еврейским. То есть для них и сами бесы, и породившие их либералы (тут они, естественно, верны схеме Достоевского) были если и не чистокровными евреями, то уж непременно «жидовствующими».
Соответственно дата начала Катастрофы отодвинута у Бостунича к 929 году до Р. X., когда, как он полагает, «был составлен царем Соломоном политический план порабощения мира жидами». А у Маркова дата эта вообще теряется в туманных временах, когда, по его сведениям, бывший «высший ангел Сатанаил-Денница был низвергнут в бездну». Разумеется, низвергнут он был за мятеж против своего самодержавного Государя и в результате «стал сатаною» и прародителем жидомасонства.
Конечно, упомянул я здесь лишь самых выдающихся представителей всех трех течений мысли. На самом деле работало над этими версиями причин русской Катастрофы, заимствованными из Достоевского, великое множество писателей, политиков, историков и поэтов - на протяжении почти столетия. И признаться, мне эти их занятия всегда казались странными, чтобы не сказать абсурдными.
В частности, никому из них не пришло почему-то в голову, что и сам-то Достоевский представлял все-таки в драме постниколаевской России лишь одну из сторон, а именно славянофильскую (на современном сленге, почвенническую), и был, следовательно, в своих суждениях о ней лицом, мягко говоря, заинтересованным. А значит вся его схема с её переплетением либерализма и «красного» бесовства могла быть основана на элементарном политическом предубеждении. Я не говорю уже о том, что великий спор о происхождении русской Катастрофы сводится у всех этих авторов к таким тривиальным сюжетам, как хронология или этнические корни бесовства. Серьезные вроде бы люди, годы жизни на это дело потратили, а спорят о пустяках...
Оттого, может, и стал я историком, чтобы хоть самому себе объяснить, где именно все они ошибаются.
1 Сомнения сомнениями, однако решение загадки не давалось мне и после того, как я закончил исторический факультет МГУ. Потому, надо полагать, что, хотя и оказалось это решение элементарно простым, лежало оно совсем в другой области и никакого, собственно, отношения к этническому происхождению русского бесовства не имело. Первые его намётки пришли, можно сказать, случайно, осенью 1967 года, когда был я уже разъездным спецкором Литературной газеты и Комсомолки и приключилась со мною совершенно необыкновенная история.
Признаюсь, я не придал ей тогда особого значения, хоть и суждено ей было определить мою судьбу на десятилетия вперед. На самом деле показалась она мне престранным курьёзом, какими полна была жизнь в ту короткую пору «междуцарствия», когда динамический импульс, заданный России хрущевским десятилетием реформ, уже агонизировал, но не решалась еще поверить страна, что стоит на пороге беспросветного тупика брежневизма. Фоном моей истории, короче, было время, когда возможность для СССР пойти по тому, что ныне зовётся «китайским путем», оказалась упущена - безвозвратно: Россия больше никогда не будет крестьянской страной, как Китай.
Но вот сама история. Тогдашний главный редактор Литературной 'газеты Александр Маковский, с которым я и знаком-то не был, пригласил меня вдруг к себе и предложил написать статью на полосу (!) о
Владимире Соловьеве. Чтобы представить себе, насколько странным было это предложение, надо знать, конечно, кто был Соловьев и кто Чаковский. И почему, собственно, обратился он с такой неожиданной просьбой именно ко мне.
Владимир Сергеевич Соловьев умер в 1900-м на 48 году жизни. Был он сыном знаменитого историка и основателем «русской школы» в философии. В 1880-е он пережил мучительную духовную драму, сопоставимую разве что с аналогичной драмой фарисея Савла, внезапно обратившегося по дороге в Дамаск в пламенного апостола христианства Павла. Бывший славянофил Соловьев не только обратился в жесточайшего критика покинутого им «патриотического» кредо и не только очертил всю дальнейшую историю предстоящей ему деградации, но и точно предсказал, что именно от него Россия и погибнет.
Случаев, когда крупные русские умы обращались из западничества в славянофильство, было в позапрошлом веке предостаточно. Самые знаменитые примеры, конечно, Достоевский и Константин Леонтьев. Никто, кроме Соловьева, однако, не прошел этот путь в обратном направлении. В истории русской мысли остался он фигурой трагической. Но и монументальной. Если его идеи воссоединения христианских церквей и всемирной теократии не нашли последователей и остались в истории лишь курьёзом, то его философия всеединства вдохновила блестящую плеяду мыслителей Серебряного века. И Николай Бердяев, и Сергий Булгаков, и Георгий Федотов, и Семен Франк считали его своим учителем.
Он и Лев Толстой, лишь два человека решились в тогдашней России публично протестовать против казни цареубийц в 1881 году. И говорили они одно и то же: насилие порождает насилие. Оба напророчили, что дорого заплатит Россия за эту кровавую месть.
Константин Леонтьев однажды назвал Соловьева «Сатаною», хотя и признавался с необыкновенной своею отважной откровенностью: «Возражая ему, я все-таки благоговею».[1]
Другое дело Чаковский. По сравнению с Соловьевым, шпана да и только. Сатаною его едва ли кто назвал бы, но благоговения он тоже ни у кого не вызывал. О духовных драмах и говорить нечего. Был он среднесоветским писателем и важным литературным бюрократом, кажется, даже кандидатом в члены ЦК КПСС. Что мог знать он о Соловьеве, кроме того, что тот был «типичным представителем реакционной идеалистической философии»? Имея, впрочем, в виду, что никаких антибольшевистских акций Соловьев - по причине преждевременной кончины - не предпринимал, имя его вполне уместно было упомянуть в каком-нибудь заштатном узко специализированном издании. Но посвятить ему полосу в «газете советской интеллигенции» с миллионным тиражом было бы, согласитесь, событием экстраординарным.Так зачем же могла столь экзотическая акция понадобиться Чаковскому? У меня и по сию пору нет точного ответа на этот вопрос. Хотя некоторые - и весьма правдоподобные - догадки, опирающиеся на компетентные редакционные источники, есть. С ними мы, однако, повременим. Хотя бы потому, что нужно еще объяснить читателю, почему я принял такое невероятное предложение. И почему не показалось оно мне неисполнимым.
В двух словах потому, что мне в ту странную пору всё казалось возможным. Я только что объехал полстраны и отчаянная картина сельской России меня буквально потрясла. Удивительнее всего было, однако, что мне разрешили честно, т.е. без какого бы то ни было вмешательства цензуры, рассказать о ней в наделавшей когда-то много шуму серии очерков на страницах самых популярных газет страны2.
Едва ли может быть сомнение, что кому-то на самом верху такая неприкрытая правда о положении крестьянства в СССР была в тот момент очень нужна. И я со своими очерками пришелся кстати какому-то из бульдогов, грызшихся тогда под кремлевским ковром. Во всяком случае Виталий Сырокомский, в то время замглавного в У/Г, сообщил мне однажды конфиденциально, что «Тревоги Смоленщины», мой очерк, опубликованный в июле 1966 года в двух номерах газеты, очень понравился одному из членов Политбюро. И
Вот лишь те из них, что я запомнил: «Колхозное собрание», Комсомольская правда, 5 июля 1966; «Тревоги Смоленщины», Литературная газета (далее ЛГ). 23 и 26 июля, 1966; «Рационалист поднимает перчатку», ЛГ, 5 апреля 1967; «Костромской эксперимент», ЛГ, 17 декабря 1967; «Спор с председателем», ЛГ, 7 августа 1968.
будто бы даже тот пожелал со мной встретиться, чтобы обсудить проблему персонально. Никакой такой встречи, впрочем, не было. Но удивительное ощущение, что я могу писать без оглядки на цензуру, кружило мне голову.
Тем более, что еще охотнее печатали меня в Комсомолке, где собралась тогда сильная команда, проталкивавшая так называемую «звеньевую» реформу в сельском хозяйстве и в особенности замечательный эксперимент Ивана Никифоровича Худенко, с которым я долгие годы был дружен. Верховодил там Валентин Чикин (представьте себе, тот самый нынешний редактор черносотенной Советской России, которому тоже в ту пору случалось ходить в подрывниках советской власти). Комсомольская команда, надо полагать, имела собственного патрона в Политбюро, для которого страшная картина переформированной деревни тоже была козырной картой в драке за власть. «Колхозное собрание», например, мой очерк из Воронежской области, опубликованный почти одновременно с «Тревогами Смоленщины», где банкротство «социалистической демократии» описано было столь графически, что, по сути, звучало ей смертным приговором, стал на время своего рода манифестом комсомольской команды.
Как видит читатель, было от чего голове закружиться. И моё тогдашнее впечатление, что я могу всё, совпало, по-видимому, с впечатлением Чаковского. Ему я тоже, наверное, казался восходящей звездой советской журналистики, за которой стоит кто-то недосягаемо высокий и кому позволено то, что запрещено другим. (Добавлю в скобках, что точно такое же впечатление сложилось, как пришлось мне узнать позже, когда я - выдворенный из СССР - попал в Америку, и у аналитиков ЦРУ. Во всяком случае они долго и въедливо допытывались, кто именно стоял за мной в Политбюро в бо-е годы). Потому-то, я думаю, и возник тогда в голове у Чаковского план коварного спектакля, где я должен был невольно сыграть главную - и предательскую- роль.
Как это ни невероятно, ничего подобного мне тогда и в голову не приходило. И воспринял я новое задание с таким же воодушевлением, как если бы мне предложили съездить в Казахстан и еще раз рассказать, как замечательно идут дела у Худенко - на фоне кромешной тьмы в соседних совхозах-доходягах. И, по совести говоря, показалось мне новое задание еще более интересным.
Мощная трагическая фигура Соловьева давно меня занимала. Рассказать о его судьбе, о его драме и монументальном открытии, о котором, кажется, не писал еще никто - ни до меня, ни после (да и копия моей рукописи затерялась куда-то то ли в катастрофическ и спешном отъезде из России, то ли в бесконечных переездах по Америке), казалось мне необыкновенно важным. Это сейчас, когда сочинения его давно переизданы и доступны каждому, рассказ о духовной драме Соловьева никого, наверное, не удивит (впрочем, и в наши дни едва ли посвятит ему полосу популярная газета). Но в бо-е, после процесса над Синявским и Даниэлем, полоса о Соловьеве была бы событием поистине из ряда вон выходящим.
Для меня, однако, вся разница состояла, как мне тогда казалось, лишь в том, что на этот раз командировка была не в забытые богом колхозы Амурской или Пензенской области, но во вполне комфортабельную Ленинку, где и перечитывал я несколько месяцев подряд тома Соловьева.
Я не могу, конечно, точно воспроизвести здесь то, что тогда написал. И память не та, да и давно уже не пишу я так темпераментно, как в те далекие годы. Полжизни прошло с той поры все-таки. Впрочем, в книге «После Ельцина» я о Соловьеве упомянул. И написал в ней вот что: «Предложенная им формула, которую я называю «лестницей Соловьева», - открытие, я думаю, не менее замечательное для политической мысли, чем периодическая таблица Менделеева для химии. А по смелости предвидения даже более поразительное. Вот как выглядит эта формула: национальное самосознание - национальное самодовольство - национальное самообожание - национальное самоуничтожение».3
Вчитайтесь и вы увидите: содержится здесь нечто и впрямь неслыханное. А именно, что в России национальное самосознание, т.е. естественный, как дыхание, патриотизм, любовь к отечеству,
А. Янов. После Ельцина. М., 1995. с. 5.
может оказаться смертельно опасным. Неосмотрительное обращение с ним неминуемо развязывает, говорит нам Соловьев, цепную реакцию вырождения, при которой культурная элита страны и сама не замечает происходящих с нею роковых метаморфоз.
Нет, Соловьев ничуть не сомневался в жизненной важности патриотизма, столь же нормального и необходимого для народа, как для человека любовь к детям или к родителям. Опасность лишь в том, что в России граница между ним и второй ступенью соловьевской лестницы, «национальным самодовольством» (или, говоря современным языком, национал-либерализмом), неочевидна, аморфна, размыта. И соскользнуть на неё легче легкого. Но стоит культурной элите страны подменить патриотизм национал-либерализмом, как дальнейшее её скольжение к национализму жесткому, совсем уж нелиберальному (даже по аналогии с крайними радикалами времен Французской революции, «бешеному») становится необратимым. И тогда «национальное самоуничтожение» неминуемо.
Конечно, как мы скоро увидим, в реальной жизни происходило это намного сложнее. Но сведенная в краткую формулу драма деградации национализма (в ситуации когда, несмотря на все эти страшные метаморфозы, люди, затронутые ими, так всю дорогу и продолжают считать патриотами именно себя), выглядит, согласитесь, устрашающе. Тем более, что, как мы скоро увидим, полностью подтверждена историей.
О том, как пришел Соловьев к этой жестокой формуле, и попытался я рассказать в своем очерке для У7Г. В 1880-е, когда Владимир Сергеевич порвал с национализмом, вырождался он на глазах, неотвратимо соскальзывая на третью, предпоследнюю ступень его «лестницы». Достаточно сослаться хоть на декларацию того же необыкновенно влиятельного в тогдашних славянофильских кругах Достоевского, чтобы не осталось в этом ни малейшего сомнения.
Вот эта декларация: «Если великий народ не верует, что в нём одном истина (именно в нём одном и именно исключительно), если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своею истиной, то он тотчас же перестает быть великим народом
и тотчас же обращается в этнографический материал... Истинный великий народ никогда не может примириться со второстепенною ролью в человечестве и даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою... Но истина одна, а стало быть, только единый из народов может иметь Бога истинного... Единый на- род-богоносец - русский народ».4 Что это, скажите, если не «национальное самообожание» в терминах Соловьева?
Разумеется, я цитировал монолог Шатова из «Бесов». Однако в «Дневнике писателя» за 1877 год Достоевский ведь снова вернулся к этим идеям и защищал их справедливость уже от собственного имени5. Это-то как объяснить? Всякий, кто просмотрел вторую книгу трилогии, тотчас увидит, что мысль о великом народе, которому грозит превращение в «этнографический материал», вычитал Федор Михайлович у Н.Я.Данилевского. Но ведь и Данилевский, как мы помним, специально оговаривался, что имеет в виду лишь «первую роль» славянской расы, а вовсе не одной России.
Декларациями, однако, пусть даже полубезумными, дело не ограничивалось. За ними следовали вполне уже безумные - и агрессивные - рекомендации правительству. Например, что «Константинополь должен быть НАШ, завоеван нами, русскими, у турок и остаться нашим навеки»6. Более того, Федор Михайлович еще и яростно спорил с самим Данилевским, который тоже, как мы знаем, был убежден, что захват Константинополя - императив для России, но полагал все же необходимым владеть им - после войны с Европой, разумеется, - наравне с другими славянами. Для Достоевского об этом и речи быть не могло: «Как может Россия участвовать во владении Константинополем на равных основаниях со славянами, если Россия им не равна во всех отношениях - и каждому народцу порознь и всем вместе взятым?»7.
Поистине что-то странное происходило с этим совершенно ясным умом, едва касался он вопроса о первенстве России в чело-
Достоевский Ф.М. Собр. соч. в зотомах, Т.ю, л., 1947, С. 199-200.
Там же. Т. 25. С. 17.
Там же. Т. 26. С. 83.
Там же (выделено мною - А.Я.).
вечестве (для которого почему-то непременно требовалась война за Константинополь). С одной стороны, уверял он читателей, что «Русская идея может быть синтезом всех тех идей, которые... развивает Европа в отдельных своих национальностях»8, даже в том, что «Россия живет решительно не для себя, а для одной лишь Европы»9. А с другой, наше (то есть, собственно, даже не наше, чужое, которое еще предстоит захватить ценою кровавой войны) не трожь! И не только с Европой, для которой мы вроде бы и живем на свете, но и с дорогими нашему православному сердцу братьями-славянами не поделимся.
Да тот же ли, помилуйте, перед нами Достоевский, которого мы знаем как певца и пророка «всечеловека»? Тот самый. И знал об этой странной его раздвоенности еще Бердяев: «Тот же Достоевский, который проповедовал всечеловека и призывал к вселенскому духу, проповедовал и самый изуверский национализм, травил поляков и евреев, отрицал за Западом всякое право быть христианским миром»10.
Бердяев знал это, но объяснить не умел. Тем более, что не в одном же Достоевском было дело. Все без исключения светила современного ему славянофильства, и Иван Аксаков, и Данилевский, и Леонтьев, как бы ни расходились они между собою, одинаково неколебимо стояли за войну с Европой и насильственный захват Константинополя. А Тютчев так даже написал об этом великолепные стихи
И своды древние Софии В возобновленной Византии Вновь осенят Христов алтарь. Пади пред ним, о царь России, И встань как всеславянский царь.
Вот чего не мог объяснить национал-либерал Бердяев уже несколько десятилетий спустя и что с безукоризненной точностью
Там же. Т. 18. С. 37. Там же. Т. 13. С. 377.
Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990. С. 16.
объяснил нам в своей формуле современник всех этих людей Соловьев. Оказалось, что деградация национализма действительно делала вполне рассудительных, умных и серьезных людей неузнаваемыми. По сути, превращала их в агрессивных маньяков. И что еще хуже, делала она этих патриотов, своими руками толкавших страну к «национальному самоуничтожению», опасными для самого ее существования. В самом деле, попробуйте, если вы национал-либерал, объяснить эту потрясающую метаморфозу без помощи формулы Соловьева - и посмотрите, что у вас получится.
Удивительно ли, что Соловьев был потрясен этой бьющей в глаза драматической пропастью между высокой риторикой бывших своих коллег и товарищей и их воинственной, эгоистичной и откровенно агрессивной политикой? Ну, как поступили бы вы на его месте, когда на ваших глазах разумные, уважаемые люди, и не политики даже, а моралисты, философы провозглашали свой народ, говорит Соловьев, «святым, богоизбранным и богоносным, а затем во имя всего этого стали проповедовать такую политику, которая не только святым и богоносным, но и самым обыкновенным смертным чести не делает»?11
Еще более странно, впрочем, что даже столь очевидная и пугающая пропасть между словом и делом нисколько не насторожила последователей (и, добавим в скобках, исследователей) славянофильства. Никто из них даже не спросил себя, как, собственно, следует судить о нём - по делам его или по его декларациям? Еще, однако, поразительнее, что и по сей день ведь не спрашивают.
Вот пример. Один из видных идеологов сегодняшнего русского национализма, инициатор печально известного «письма пятисот» о запрете в РФ еврейских религиозных организаций, публикует столетие спустя после смерти Соловьева толстенный (734 страницы) том «Тайна России». Так вот, усматривает ли этот идеолог, М.В. Назаров, какое бы то ни было противоречие между высокой миссией России, состоящей, по его мнению, в том, чтобы «спасти мир от антихриста», и маниакальным стремлением его дореволюционных пращуров непременно водрузить православный крест над Св. Софией в
Соловьев B.C. Сочинения в 2 т. М., 1989. Тл, С. 630.
Константинополе? Нисколько. Напротив, представляется ему это стремление совершенно естественным.
Более того, даже праведным, богоугодным, поскольку «открывало возможность продвижения к святыням Иерусалима, всегда привлекавшим множество русских паломников, которым ничего не стоило заселить Палестину; для этого митрополит Антоний (Храповицкий) мечтал проложить туда железную дорогу... вновь вспомнились древние пророчества об освобождении русскими Царьграда от агарян; уже готовили и крест для Св. Софии»[2]. Это накануне Первой мировой войны, когда попытка реализовать мечту об «освобождении Царьграда» как раз и означала «национальное самоуничтожение» России.
Даже подробно проштудировав «Тайну России», я так, честно говоря, и не понял, почему, собственно, спасение православной души от соблазнов антихриста непременно требовало завоевания Константинополя и подчинения Ближнего Востока. Просто не понял, почему нельзя противостоять этим соблазнам без того, чтобы зариться на чужие земли, имея за спиной гигантскую незаселенную Сибирь. Не понял даже, почему столь безутешно горюет Назаров в 1999 году по поводу того, что коварная Антанта кощунственно предназначила Палестину «для создания еврейского национального очага» вместо того, чтобы отдать её русским паломникам.
Впрочем, это лишь заметки на полях, невольные сегодняшние маргиналии и, конечно же, в статье о Соловьеве, которую готовил я в 1967 году для Маковского, ничего подобного не было. Но рассказ о могущественном мифе, который искусно использовал православную риторику для откровенной агрессии, был. И о том, что, когда Соловьев публично задал роковой вопрос о жестоком противоречии между высокой риторикой Русской идеи и ее агрессивной политикой, попал он нечаянно в самое уязвимое место мифа, тоже было. Так же, как и о том, что оказался он в результате в своей среде один против всех.
Но не был бы он Соловьевым, когда бы удовлетворился лишь вопросом. Однажды выступив против деградации национализма, Владимир Сергеевич пошел дальше, попытавшись обратить внимание общества на то, что столь откровенный разрыв между словом и делом смертельно опасен для России. Что новая война за Оттоманское наследство, в которую опять упорно втравливали эти люди страну, была точно так же обречена на позорное поражение, как и прошлые - Крымская в 1850-х и Балканская в 1870-х.
Берлинский трактат 1878 года так же неопровержимо об этом свидетельствовал, как и постыдный для России Парижский договор 1856-го, завершивший кровавую севастопольскую эпопею. Так разве не стало бы вам на его месте страшно смотреть на бывших союзников, когда и после этих драматических поражений продолжали они настаивать на своём? Когда, словно обезумев, упрямо толкали они правительство на еще одну завоевательную, обреченную и, самое ужасное, чреватую «национальным самоуничтожением» войну - ради того же Константинополя (или Галиции, или проливов, или Сербии)? Почему вообще не хватало национал-патриотам (или, что в конечном счете всегда, как мы еще увидим, оказывалось тем же самым, национал-либералам) в такой громадной стране, как Россия, еще и куска-другого чужой землицы?
Конечно, удивительное долголетие этой жадной национал-пат- риотической агрессивности, так ярко отразившееся в полубезумных признаниях православного фундаменталиста М.В.Назарова, отдельная тема и требует специального исследования. Пока что скажем лишь, что Назаров вовсе не одинок. И вопрос, заданный почти полтора столетия назад Соловьевым, в равной степени относится и к сочинениям самых последних лет, ничего общего не имеющих с православным фундаментализмом и даже претендующих на некоторую, я бы сказал, академическую солидность. Вот лишь два примера.
С.В. Лебедев не скрывает своего национал-патриотизма, даже гордится им, но претендует тем не менее на объективность своего анализа истории этого течения общественной мысли. И привел его этот анализ, между прочим, к заключению, что «для века великих колониальных завоеваний требования русских национал-патриотов были на редкость умеренными»[3]. В подтверждение он ссылается на
известные стихи Тютчева: «Москва и град Петров и Константинов град /Вот царства Русского заветные столицы/Но где предел ему? И где его границы?/На Север, на Восток, на Юг и на закат?/Семь внутренних морей и семь великих рек/От Нила до Невы, от Эльбы до Китая/От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная /Вот царство Русское...и не прейдёт вовек/Как то предвидел Дух и Даниил предрек».
Стихи и впрямь великолепные. Одна беда, нелепые. Вернемся, впрочем, к нашему современнику. И спросим: если границы России, включающие Индию, Ирак и Египет (не говоря уже о половине Европы) представляются С.В. Лебедеву «на редкость умеренными», то как, по его мнению, должны были выглядеть неумеренные? И зачем, спрашивается, следовало владеть этими далекими странами России, и без того раскинувшейся, в отличие от Англии, на шестую часть земной суши? И возможно ли было для неё завладеть ими без великой, если угодно, мировой войны? И самое главное, стала ли бы от этих завоеваний жизнь людей в России лучше? Вот ведь они, вопросы, которые поставил в 1880-е Соловьев и которые не пришли в голову С.В. Лебедеву - даже в 2007-м. Почему?
Еще более интересно, что не пришли эти вопросы в голову и Е.Г. Костриковой во вполне уже академической книге, изданной Институтом российской истории и посвященной внешней политике России в канун первой мировой войны. Вот, допустим, совершенно бесстрастно цитирует она чудовищный пассаж из газеты Московские новости: «История требует исчезновения Турции»14.
Имея в виду территориальную протяженность тогдашней Турции, тотчас ведь и поставило бы на повестку дня её «исчезновение» ту самую тютчевскую претензию на границы России по Евфрату. И что же Е.Г. Кострикова? Устрашилась она, подобно Соловьеву, неминуемости эпохального поражения России, которую возвещали такие людоедские требования (в конце-концов именно это ведь и произошло после цитированных С.В. Лебедевым аналогичных притязаний Тютчева после Крымской войны)? Да ничуть! Для неё это в порядке вещей, просто еще одна национал-патриотическая цитата среди
Московские новости. 1912. 9 ноября; цит. по Кострикова Е.Г. Российское общество и внешняя политика накануне первой мировой войны. 1908-1914. M., 2007.
сотен других подобных. Ничему, выходит, не научила печальная участь «тютчевских» притязаний ни постниколаевские элиты, ни, что еще трагичнее, наших современников.
Оставим покуда в стороне, однако, сегодняшних интерпретаторов национал-патриотизма постниколаевской России. Спросим лишь,что же все-таки застило глаза тем ярким, красноречивым и, казалось бы, расчетливым людям, кто на протяжении всей истории постниколаевской России проповедовал под видом патриотизма откровенную, как мы видели, агрессию? Почему не заметили они очевидного? Право же, без формулы Соловьева мы никогда не смогли бы понять эту загадку и тем более представить себе, к чему она должна была привести. Вот что объясняет нам, между прочим, его формула. Пока славянофильство оставалось в 1840-е диссидентской сектой, изнывающей под железной пятой николаевской цензуры, все его отвлеченно-философские декларации о «гниении Европы» и о «богоносности России» могли и впрямь казаться безобидным салонным умничаньем, модным тогда «национальным самодовольством». Тем более невинным на фоне грубой сверхдержавной агрессивности николаевского режима.
Едва, однако, Великая реформа 1860-х вывела славянофилов из барских салонов на арену открытой политики, превратив их во влиятельную интеллектуальную и политическую силу, вчерашний диссидентский миф вдруг разом утратил свою абстрактность и безобидность. Разгром России в Крымской войне, беспощадно обличивший её застарелую отсталость по сравнению с «гниющей» Европой, унизительные условия парижской капитуляции и, главное, нестерпимая ностальгия по внезапно утраченной сверхдер- жавности, та самая, которую назвали мы во второй книге трилогии фантомным наполеоновским комплексом, очень быстро трансформировали вчерашнее безобидное национал-либеральное «самодовольство» в ослепляющий, агрессивный, помрачающий рассудок «бешеный» национализм. Соловьев с ужасом наблюдал эту драматическую метаморфозу, и у него, единственного в тогдашней России, достало мужества и проницательности, чтобы не только выступить против безумия вчерашних друзей и союзников, но и свести свои наблюдения в четкую формулу, предупреждавшую, что национализм погубит страну.
В разгар «патриотической истерии» по поводу Константинополя он заявил: «Самое важное было бы узнать, с чем, во имя чего можем мы вступить в Константинополь? Что можем мы принести туда, кроме языческой идеи абсолютного государства, принципов цезарепапиз- ма, заимствованных нами у греков и уже погубивших Византию? Нет, не этой России, изменившей лучшим своим воспоминаниям, одержимой слепым национализмом и необузданным обскурантизмом, не ей овладеть когда-либо Вторым Римом»15.
Надо знать одержимость националистических пророков, чтобы представить себе их реакцию на такое «ренегатство». Они были в ярости. Соловьев ведь, по сути, говорил то же самое, что Герцен в разгар Варшавского восстания и антипольской «патриотической истерии» 1863 года. Он размышлял, он пытался понять умом то, во что позволено было только верить. И пощады ему, как Герцену, ждать было за такую ересь нечего. Зато теперь мы знаем, что именно застило глаза его оппонентам: выродившийся патриотизм,незаметно для участников этой политической драмы трансформировавшийся в «национальное самообожание».
Мы уже говорили довольно подробно о феномене фантомного наполеоновского комлекса в предшествовавших книгах трилогии. Здесь я хотел бы лишь напомнить читателю о его последствиях. Так устроена мировая политика, что абсолютное военное превосходство одной из великих держав над другими - «сверхдержавность» на современном политическом жаргоне - не бывает постоянным. Подобно древним номадам, кочует она из одной страны в другую, неизменно оставляя за собою жгучую, нестерпимую тоску по утраченному величию. И почти необоримое, как видели мы на примере славянофилов, стремление любой ценой вернуть стране потерянный сверхдержавный статус.
Соловьев B.C. Цит. соч. С. 226.
Самый известный пример пронзительности этой ностальгии продемонстрировала миру, как мы уже говорили, Франция, непосредственная предшественница России на сверхдержавном Олимпе. На протяжении полутора десятилетий между 1800 и 1815 годами её император повелевал континентом, перекраивал по своей воле границы государств, стирал с лица земли одни и создавал другие, распоряжался судьбами наций. В конце концов, однако, коалиция европейских держав во главе с Россией - и на английские деньги - разгромила Наполеона и заставила Францию капитулировать.
Казалось бы, даже величайший злодей не мог принести своей стране столько горя, сколько её прославленный император. Целое поколение французской молодежи полегло в его вполне бессмысленных, как выяснилось после 1815 года, войнах. Даже рост мужчин во Франции, говорят историки, оказался после них на несколько сантиметров меньше. Страна была разорена, унижена, оккупирована иностранными армиями - в буквальном смысле пережила национальную катастрофу. (Мы еще увидим дальше, что подобные катастрофы неизменно сопровождали падение со сверхдержавного Олимпа всех без исключения стран, имевших несчастье добиться в XIX-XX веках злосчастного статуса мировой державы.)
И что же? Прокляли своего порфироносного злодея французы? Не тут-то было! Они его обожествили. Он стал легендой. И еще четыре десятилетия маялись они в тоске по утраченной с его падением сверхдержавности, покуда не отдали, наконец, Париж другому, маленькому Наполеону - в надежде, что он им это величие вернет. Надо ли напоминать читателю, что ничего, кроме нового унижения и новой капитуляции, не принес им еще 20 лет спустя этот трагический опыт?
Что даёт нам пример Франции для понимания драмы патриотизма в России ? Две вещи. Во-первых, получили мы здесь экспериментальное, если хотите, подтверждение простого факта: поставленная в те же условия, что и любая другая великая держава Европы, Россия ответила на них точно так же, как другие великие державы Европы: расцветом национализма и его деградацией. Условия, о которых я говорю, включали как триумфальное пребывание на сверхдержав-
2 Янов
ном Олимпе, так и скандальное изгнание с него. Во всех случаях ответ на эти условия состоял в одинаковом вырождении национального самосознания и в трансформации патриотизма в его противоположность - в национализм. Другими словами, в том, что я, собственно, и называю драмой патриотизма.
Так ответила на изгнание с Олимпа после 1815 года Франция. Так ответила на него после 1918-го Германия. И так же ответила на него после 1856-го Россия. Разумеется, каждая из них нисколько не сомневалась в своей исключительности и уникальности. Каждая была совершенно уверена, что, как слышали мы от Достоевского, никогда не сможет примириться со второстепенною ролью в человечестве и даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою. А также в том, что предназначена для этой первой роли в человечестве именно она, т.е. в одном случае Франция, в другом - Россия, в третьем - Германия. При всем том, однако, отвечали они на изгнание с Олимпа абсолютно одинаково - фантомным наполеоновским комплексом. И в этом смысле все их высокомерные претензии на исключительность были бы смешны, когда б не принесли их народам столько горя.
Во-вторых, не только оказалась их реакция стандартной, во всех случаях заключалась она в одном и том же: страна заболевала. Надолго. Да, великие нации, учит нас этот эксперимент, болеют, точно так же, как люди. И называется их болезнь сверхдержавным реваншем. Протекает она так. Прежде всего изгнание со сверхдержавного Олимпа ассоциируется с заговором внешних врагов или с ударом ножом в спину со стороны предателей внутри страны. Чаще всего и с тем и другим вместе. Потом болезнь требует исправления трагедии, кактрактуется изгнание с Олимпа. Иначе говоря, возвращения стране статуса мировой державы. И настолько могущественна оказывалась эта ностальгия по утраченному величию, что способна была полностью помрачить национальный рассудок. Следующий шаг - война во имя восстановления «исторической справедливости». Кончалась эта война во всех случаях, естественно, новым, еще более страшным поражением, сопоставимым с тем, что Соловьев называл «национальным самоуничтожением».
Особое коварство этой болезни в том, что больные ни на минуту не подозревают о том, что они больны. Чтобы обнаружить роковую болезнь, нужен взгляд со стороны. Вот эту функцию и исполнил в заболевшей постниколаевской России Владимир Сергеевич Соловьев.
У Надеюсь, что теперь, когда читатель получил некоторое представление о последствиях сверхдержавного реванша, ему будет понятнее, почему плохо становилось Соловьеву при мысли, что еще одна «патриотическая истерия» может оказаться последней. Отсюда, надо полагать, его удивительное пророчество: «Нам уже даны были два тяжелых урока, два строгих предупреждения - в Севастополе, во-первых, а затем, при еще более знаменательных обстоятельствах, в Берлине. Не следует ждать третьего предупреждения, которое может оказаться последним»16.
Мороз по коже подирает, когда читаешь эти строки. Ну, просто как в воду глядел человек. Именно так ведь всё и случилось в момент следующей «патриотической истерии» между 1908 и 1914 годами. Она и впрямь оказалась последней.
Положительно, писать об этом времени, не упомянув Соловьева, все равно, что писать о музыке XIX века, не упоминая, скажем, Чайковского. Ничего этого, как мы видели, не заметила Е.Г. Кострикова, хотя агония постниколаевского национализма как раз и представляла, казалось бы, предмет ее исследования. Получается, что, годами it
самоотверженно вдыхая архивную пыль и добросовестно перелистывая пожелтевшие газеты, так никогда и не заметила Е.Г. Кострикова суть гигантской исторической загадки, сформулированной Соловьевым. В том-то и беда с нашими «академиками», что очень уж как-то безнадежно не видят они за деревьями леса.
Загадка тут между тем двойная. 1914 год все-таки не 1863-й, когда, по словам Герцена, «до сих пор нас гнала власть, а теперь к ней присоединился хор. Союз против нас полицейских с доктринера-
· ми»[4]. Тогда славянофилы первенствовали в культурной элите и вели
16
Соловьев B.C. Сила любви. М., 1991. С. 60-61 (выделено мною- А.Я.).
за собою общественное мнение. Даже и в 1870-е, во времена истерии балканской, могли они опереться на Аничков дворец, на контрреформистскую клику наследника престола, будущего императора Александра 111. И это сделало их давление на правительство практически непреодолимым.
Но в 1914-м, когда пик контрреформы давно миновал и выросли сильный средний класс и западническая интеллигенция Серебряного века, ничего уже от былого славянофильского преобладания вроде бы не осталось. К тому времени они опять, как в 1840-е, превратились в диссидентскую секту. Первую скрипку в культурной элйте - от государственной бюрократии до оппозиционных партий в Думе, от футуристов до символистов - играли теперь западники. Как же, спрашивается, смогли в этом случае снова вовлечь их славянофилы в свою очередную - и, как мы теперь знаем, последнюю - «патриотическую истерию»?
В том, что их самих накрыла эта истерия с головою, сомнений, конечно, быть не может. Послушаем хотя бы известного знатока славянофильских древностей С.С. Хоружего: «Кровавый конфликт между ведущими державами Запада означал [для славянофилов] явное банкротство его идеалов и ценностей и с большим вероятием мог также означать и начало его конца, глобального и бесповоротного упадка... Напротив, Россия явно стояла на пороге светлого будущего. Ей предстоял расцвет, и роль её в мировой жизни и культуре должна была стать главенствующей. "ExOriente lux" [провозгласил Сергий Булгаков], теперь Россия призвана духовно вести европейские народы. Жизнь, таким образом, оправдывала все ожидания, все классические положения славянофильских учений. Крылатым словом момента стало название брошюры Владимира Эрна "Время славянофильствует"»18.
Ничего нового для читателя, уже знакомого с «лестницей Соловьева», здесь, конечно, не было. Стандартная картина национализма на ступени «самообожания», когда разум умолк окончательно. Тут вам и Россия «на пороге светлого будущего», когда лишь три года оставалось ей до гибели. Тут и очередное видение «начала конца
Начала. №4. М., 1992. С. 19.
Запада», которому предстояла еще долгая жизнь.
Непонятно другое. Непонятно, как смогла эта столь явно утратившая рассудок секта заразить своим безумием - и увлечь за собою в бездну - западническую элиту страны. А ведь увлекла же. Ведь это факт, что вся она - от министра иностранных дел Сергея Сазонова до философа Бердяева, от председателя Думы Михаила Родзянко до поэта Гумилева, от «высокопоставленных сотрудников» до теоретиков символизма, от веховцев до самого жестокого из их критиков Павла Милюкова - в единодушном и страстном порыве столкнула свою страну в пропасть «последней войны». И не хочешь, а вспомнишь, что предсказывал-то Соловьев вовсе не уничтожение России, но её САМОуничтожение. И вправду ведь можно сказать, что совершила русская культурная элита в июле 1914-го коллективное самоубийство. Как могло такое случиться?
Отчасти объясняет нам это князь Николай Трубецкой, один из основателей евразийства, того самого, которому суждено было после Катастрофы начать реабилитацию русского национализма. Трубецкой указывает на странное поветрие «западничествующего славянофильства», которое «за последнее время [перед войной] сделалось модным даже в таких кругах, где прежде слово национализм считалось неприличным»19. Правда, Трубецкой вообще был убежден, что «славянофильство никак нельзя считать формой истинного национализма»20. Князь усматривал в нём «тенденцию построить русский национализм по образцу и подобию рома- но-германского», благодаря чему, полагал он, «старое славянофильство должно было неизбежно выродиться»21.
Но откуда все-таки взялось в России накануне Катастрофы это «западничествующее славянофильство» (точнее, наверное, было бы назвать этот странный гибрид славянофильствующим западничеством или национал-либерализмом), Трубецкой так никогда и не объяснил. За действительным объяснением придется нам обратиться
Цит. по: Россия между Европой и Азией, M., 1993, С. 46. Там же. Там же.
к «Тюремным дневникам» Антонио Грамши, где показано, как некоторые диссидентские идеи, пусть даже утопические, но соблазнительные для национального самолюбия, трансформируются в могущественных идеологических «гегемонов», не только полностью мистифицируя и искажая реальность в глазах единомышленников, но постепенно, шаг за шагом завоевывая умы оппонентов.
Другими словами, если верить Грамши, идея, раз запущенная в мир интеллектуалами-диссидентами, не только начинает жить собственной жизнью, она может оказаться заразительной, как чума. И в случае, если ей удаётся «достичь фанатической, гранитной компактности культурных верований», способна завоевать элиту страны.[5] Очень помогает ей в ее борьбе с конкурентами за статус «гегемона», если «первоначально возникшая в более развитой стране, вторгается она в местную игру [идеологических] комбинаций в стране менее развитой»[6].
Сам того не подозревая, Грамши описал драму славянофилов. Их идеи действительно первоначально возникли, как мы уже знаем, не в России, а в Германии. И действительно были ими заимствованы у тамошних романтиков - тевтонофилов начала XIX века.
^ Тевтонофильство, возникшее из ненависти к тогдашней сверхдержаве Франции, было первым в Европе интеллектуальным движением, которое противопоставило космополитизму Просвещения националистический миф Sonderweg («особого пути» или, как заклеймил его Соловьев, языческого особнячества). Романтический миф провозглашал, что Германия - не Европа, что её Kultur духовнее, чище, выше материалистического европейского Zivilization. Столицей этой германской «духовности» стал, в противоположность западническому Берлину, Мюнхен.
К 1830-му, когда заимствовали её у немцев славянофилы, процесс превращения Sonderweg в «идею-гегемона» был в Мюнхене в полном разгаре. В конечном счете Мюнхен победил Берлин. Sonderweg стал идейной основой германской сверхдержавности в 1870-1914 годах, а впоследствии и фантомного наполеоновского комплекса (в 1918-1933). Как и следовало ожидать, за победу романтического мифа заплатила Германия страшно. Три национальных катастрофы в одном столетии (в 1918-м, в 1933-м и в 1945-м) - такова оказалась цена особняческой идеи, что «Германия не Европа» и что, говоря словами Гитлера, которые мы уже в первой книге трилогии цитировали, «Германия либо будет мировой державой, либо ее вообще не будет».
Значение, которое придается здесь идеям Грамши (или Соловьева), может показаться преувеличенным. Особенно нам, воспитанным на постулатах, что бытие определяет сознание, материя первична и т.п. Не вступая по этому поводу в спор, замечу лишь, что еще за столетие до Грамши аналогичную мысль высказал в своей «Апологии сумасшедшего» один из самых проницательных российских мыслителей Петр Яковлевич Чаадаев. «История каждого народа, - завещал он нам, - представляет собою не только вереницу следующих друг за другом фактов, но и цепь связанных друг с другом идей... Чрез события должна нитью проходить мысль или принцип, только тогда факт не потерян, он провел борозду в умах, запечатлелся в сердцах... и каждый член исторической семьи носит её в глубине своего существа»24.
Конечно, предстоит нам еще подробный разговор о злосчастном - и страшном - мифе, искалечившем судьбу двух великих народов Европы. Пока что подтвердим лишь сам факт заимствования. Вот уже известное нал* свидетельство такого компетентного современника, как Борис Николаевич Чичерин: «Пишущие историю славянофилов обыкновенно не обращают внимания на то громадное влияние, которое имело на их учение тогдашнее реакционное направление европейской мысли, философским центром которого был Мюнхен. Из него вышли не только московские славянофилы, но и люди, как Тютчев, которого выдают у нас за самостоятельного мыслителя, между тем как он повторял только на щегольском французском языке ту критику всего европейского движения нового времени,
которая раздавалась около него в столице Баварии»[7].
Другое дело, что это «реакционное направление» было талантливо адаптировано группой русских национал-либералов к чуждой ему поначалу российской реальности (Трубецкой сказал бы «построено по чужому образцу»). Конечно, адаптируя чужой националистический миф к русским условиям, славянофилы полностью его перелицевали. Что германская Kultur (духовность) оказалась неожиданно передислоцирована в Россию, это само собою разумеется. Но какая мрачная ирония заключалась в том, что и сами изобретатели этой Kultur, тевтонофилы, угодили вдруг - под рубрикой рома- но-германской цивилизации - в ненавистную им западную Zivilization! Один лишь миф Sonderweg перенесли славянофилы в свою «русскую» доктрину в целости и сохранности. Миф «Россия не Европа» оказался отныне ядром идеологии русского национализма по меньшей мере на полтора столетия вперед.
Единственное, таким образом, чего недооценил в славянофилах в своем презрительном отзыве князь Трубецкой, это что прежде, нежели выродиться, их националистический миф не только прижился в России, но и - прямо по Грамши - шаг за шагом завоевал русскую культурную элиту. Три поколения спустя, победив в «местной игре идеологических комбинаций» и обретя статус гегемона, работал он уже сам по себе, совершенно независимо от политического статуса породившего его движения. Вот почему даже вырождение славянофильства к началу XX века в маргинальную секту ничего на самом деле в судьбе мифа не меняло. К тому времени, переплетаясь с неостывающим фантомным наполеоновским комплексом, хозяйничал он уже и в умах даже тех, кто прежде яростно ему оппонировал.
И когда пробил в июле 1914-го решающий час, славянофилам нечего было беспокоиться за курс русской политики. Их дело было теперь в надежных руках давно завоеванной ими интеллигенции, хотя и западнической, но «национально ориентированной», иначе говоря, национал-либералов. Потому-то так отчаянно напоминала «патриотическая истерия» западнической элиты, начавшаяся в
25 Цит. по: Русские мемуары. 1826-1856. М., 1990. С. 179.
1908-м, славянофильское наваждение 1880-х, против которого поднял свой голос Соловьев. Вот почему оправдалось его роковое предчувствие. Вот, наконец, откуда коллективное самоубийство русской культурной элиты в июле 1914-го.
Ю Конечно, все это так лишь, если верить гипотезе Грамши. Чтобы проверить её, нужно подробно, шаг за шагом проследить, как именно переплеталось на протяжении десятилетий постепенное «заражение» западнической интеллигенции националистическим мифом с фантомным наполеоновским комплексом, которым заболела после Крымской войны Россия. Иначе говоря, именно то, чем и займемся мы в этой книге. Ибо Соловьев, не имея представления, что много лет спустя после его смерти появятся теории «идеи-гегемона» (и фантомного наполеоновского комплекса), такую работу не проделал. Ему вообще было не до научных изысканий. Он лишь предчувствовал, что впереди бездна, и боролся, сколько хватало сил, с «бешеным» национализмом, не щадя при этом и национал-либералов с их «национальным самодовольством», которые, как знаем мы из его формулы, и послужили, собственно, спусковым крючком всего процесса деградации национализма в России.
Прав ли был, однако, Соловьев, усмотрев в невинных вроде бы национал-либералах первопричину будущего «бешеного» национализма? К нашему удивлению поддерживает эту точку зрения и уже упоминавшийся? современный простодушный историк «национал-патриотической» мысли С.В. Лебедев (простодушный, говорю я, поскольку, не подозревая этого, он нечаянно повторил Карла Шмитта, знаменитого в свое время тевтонофильского идеолога, сотрудничавшего с гитлеровским режимом). На самом деле это ведь Карл Шмитт первым провозгласил, что в основе всякого «особняче- ства» (начало которому в России положили с легкой руки все тех же тевтонофилов в 1830-е, как мы помним, славянофилы) лежит «потребность в образе врага».
Без такого «образа», повторяет вслед за Шмиттом С.В. Лебедев, «вообще не может быть национализма». Ибо «национальное Мы может существовать лишь в сопоставлении с кем-то... чужим, непонятным и скорее всего враждебным»[8]. Опираясь на эту нацистскую племенную архаику, и приходит С.В. Лебедев к главному своему выводу, что «центральным вопросом русской философии истории» неминуемо должно было стать «противопоставление России и Запада». И происхождение своё этот «центральный вопрос» действительно ведет, как и предположил Соловьев, от «ранних славянофилов, [которые первыми] выявили и обосновали культурный антагонизм России и Запада»[9].
Как видим, идейная «гегемония» особнячества и впрямь пережила в России все её революции и контрреволюции. Чаадаевский «переворот в национальной мысли», произошедший в давно, казалось бы, забытом царствовании Николая I, превратил эту самоубийственную идею в расхожий стереотип, в постулат, если хотите, не требующий доказательств, - даже полтора столетия стустя. До такой степени, что мало кому нынче приходит в голову спросить, а какое, собственно, отношение имеет это особнячество, не говоря уже о «культурном антагонизме России и Запада», к патриотизму. Я не говорю уже о том, какое отношение имеет вся эта нацистская племенная архаика, положенная в основу совсем уже недавней монографии С.В. Лебедева, к реалиям современного глобализирующегося мира.
11 Так или иначе, я даже и не коснулся в своем очерке для Чаковского сложнейших проблем соловьевской философии всеединства, не говоря уже о всемирной теократии. Они-то уже и вовсе неуместны были в газетной статье. И потому сосредоточился я лишь на общедоступной стороне дела, тем более, что драма - и личная и национальная - била здесь в глаза. Упомянул я, конечно, и об уязвимости его формулы. Ведь читатель Соловьева так и не узнал, где именно расположена та критическая точка, за которой начинается вырождение естественного для всякого нормального человека патриотизма в помрачающий разум - и необратимый, как мы только что видели, - националистический морок. Тем более в болезнь сверхдержавного реванша, представляющую, как мы теперь тоже знаем, интеллектуальную основу этого морока. Не узнал, другими словами, читатель Соловьева, как и благодаря чему трансформировалась натуральная человеческая эмоция в смертельно опасную для самого существования страны идеологию. И как удалось этой идеологии (не только в Германии, но и в России) стать общенациональной «идеей-гегемоном», т.е. завоевать западническую элиту страны.
Короче, за пределами формулы Соловьева остался сложнейший клубок причин этой трансформации - начиная от исторических и кончая психологическими. И нет, похоже, другого способа его распутать, нежели детально проследить процесс превращения русских западников в «национально ориентированных» интеллигентов. Другими словами, следовало написать историю русского национализма, ту самую, замечу для сегодняшнего читателя, которой и по сей день не существует - ни в России, ни на Западе. (Страннейший ведь, согласитесь получается парадокс: немыслимо представить себе знание о России без, допустим, истории русской литературы или русской музыки, или, если уж на то пошло, русской кухни... да чего угодно, начиная от истории ремесел в древней Руси до истории социалистической мысли в XX веке. И все это исследовано тщательно и подробно. Нет лишь истории русского национализма.) Вот почему книге,
I
которую держит сейчас в руках читатель, придётся исполнить функцию первой в мировой историографии попытки заполнить эту брешь. Как видит читатель, подчеркиваю я здесь именно слово «попытка». *
Разумеется, найдись у Соловьева ученики, которых волновала бы не одна лишь его философия всеединства, но и духовная драма наставника (и, стало быть, национальная драма России), они, надо полагать, не только исследовали бы историю русского национализма, но и вообще расшифровали все, что осталось в его формуле темным. Увы, не нашлось у него таких учеников.
Поэтому, наверное, никто так и не связал драму патриотизма в России с аналогичным несчастьем, постигшим в XX веке, например, Германию или Японию, где точно так же ведь выродился патриотизм в Тевтонский и Синтоистский имперские мифы. И точно так же привели их эти мифы к «национальному самоуничтожению». Таким образом, основополагающий факт, что драма патриотизма в имперской стране, впервые описанная Соловьевым применительно к России, имеет на самом деле смысл всемирный, универсальный, так и остался непонятым.
Конечно, «национальное самоуничтожение» термин условный. И у Германии, и у Японии, и у России была, так сказать, жизнь после смерти. Но цена национального воскрешения оказалась, как и предвидел Соловьев, непомерной, катастрофической, просто уничтожающей. И подумать только, что предсказал все это человек за два десятилетия до Первой мировой войны, когда сама возможность такого развития событий никому, кроме него, даже и в голову не приходила. Поистине неблагодарное мы потомство...
Вот это, или примерно это, и принёс я Маковскому через несколько месяцев после его заказа.
Что произошло дальше? А ничего. Статью не отвергли, но и не опубликовали. Никаких объяснений, не говоря уже об извинениях, не последовало. Чаковский просто исчез с моего горизонта. И двери ЛГ стали медленно, но неумолимо передо мной затворяться. Редакционные старожилы разъяснили мне подоплеку. Оказалось, что Владимир Соловьев сочувственно цитировался в самиздатском «Раковом корпусе» Солженицына. Идея Чаковского, как думали старожилы, состояла в том, чтобы я, ничего не подозревая (романа я тогда еще не читал), либо уличил Солженицына в невежестве, показав, что ничего он на самом деле о Соловьеве не знает, либо скомпрометировал его в глазах либеральной публики как поклонника реакционного националиста. А еще лучше и то и другое.
Одним словом, чепуха какая-то. Ни малейшего представления о Соловьеве Чаковский, как я и думал, не имел. Ни о его духовной драме, ни о его страшной «лестнице» не подозревал. Интриговал мошенник вслепую. Но и сознавая непристойность его интриги, я все-таки ему благодарен. Кто знает, выпала ли бы мне в суете тех дней, между командировками на Кубань или в Киргизию, другая возможность так близко прикоснуться к делам и заботам величайшего из политических мыслителей России? Остановиться, оглянуться, задуматься над судьбами страны и мира, которыми жил Соловьев, научиться у него, как это делается.
Я не говорю уже о том, что общение с Соловьевым объяснило мне, наконец, всю ту мучительную абракадабру, с описания которой начал я эту главу. Вотже оно перед нами решение загадки, которое столько лет от меня ускользало.
Формула Соловьева свидетельствует неопровержимо: «красные» бесы, по поводу этнического - и географического - происхождения которых так яростно ломали копья в многотомных эпопеях и Пайпс, и Солженицын, и Бостунич, и Марков, и многие другие, имя же им легион, имеют к российской Катастрофе отношение, вообще говоря, лишь косвенное. Ибо прийти они могли только на готовое. Только в случае если культурная элита, заглотнув националистичскую наживку и соблазнившись «освобождением Царьграда», расчистит им дорогу. Другими словами, обескровит страну в совершенно ненужной ей мировой войне и положит её, обессиленную, к ногам палачей.
В бешеном национализме, настоянном на сверхдержавном реванше, оказалась причина Катастрофы, а вовсе не в путанице, смешавшей в одну кучу глупых либералов и «красных» бесов, в путанице, которую отчаянно пытались распутать позднейшие историки, сбитые с толку Достоевским.
Ведь разгадка здесь лежит на поверхности. Ясно же, что, не соверши русская элита коллективного самоубийства в июле 1914-го, не втрави она страну в чужую, по сути, войну, не видать бы «красным» бесам власти в России как своих ушей. Тем более, что и буквально на её пороге не предвидели бесы никакой революции и нисколько на неё не рассчитывали. Сам Ленин тут лучший нам свидетель. Вот что писал он Горькому еще в 1913 году: «Война Австрии с Россией была бы очень полезной для революции штукой, но мало вероятия, чтобы Франц Иозеф и Николаша доставили нам сие удовольствие».28
Я не говорю уже, что тогдашние бесы были ничуть не менее без-
Ленин В.И. ПСС. Т. 48. С. 155.
надежными маргиналами, нежели сегодня, допустим, нацио- нал-большевики Лимонова или евразийцы Дугина. Спору нет, старые бесы с их пламенной мечтой о «превращении империалистической войны в гражданскую» всегда были точно так же готовы погубить Россию, как и сегодняшние (недаром же у Дугина война с языка не сходит). Но ведь сначала нужно было, чтобы кто-то втравил страну в эту смертельную для неё войну. А также не дал возможности выйти из неё - до полного истощения сил, до рокового предела. Были на это способны большевики, имея в виду, что их влияние на принятие решений в стране равнялось в ту пору нулю?
Вот тут и возникает совершенно резонный вопрос: если не могли это сделать бесы, то кто мог? А с этим вопросом выходим мы в совсем иную плоскость исследования причин российской Катастрофы. Не в ту, вокруг которой бесплодно крутилась все эти десятилетия мысль мировой историографии. Но в ту, которую оставил нам в наследство Владимир Сергеевич Соловьев[10].
Сейчас, четыре десятилетия спустя, я понимаю, что научил меня Соловьев не только распутыванию монументальных исторических загадок и не только необходимому масштабу размышлений о судьбе России и мира, благодаря которому всё, чем я до тех пор занимался, вдруг выстроилось, обрело контекст и перспективу. Но судя по тому,
что всю последующую жизнь я строго следовал идеям, открывшимся ему в его духовной драме, большему, неизмеримо большему научил меня Соловьев. Он передал мне свой арах, что даже самое умеренное национальное самодовольство обязательно раньше или позже оборачивается в России, как, впрочем, и Германии, национал-патриотизмом.
Удивительно ли, что становится мне теперь не по себе, когда я слышу, как Алексей Подберезкин, бывший серый кардинал Народно-патриотического союза, даже и не подозревая, что повторяет пройденное, упивается мифом Sonderweg: «Россия не может идти ни по одному из путей, приемлемых для других цивилизаций и народов»?30 И что страшно мне, когда главный сегодняшний теоретик бесовства Александр Дугин словно бы между делом вставляете разговор «Россия немыслима без империи» 31 или «кто говорит геополитика, тот говорит война»?32 И еще страшнее, когда руководитель самой еще недавно массовой в стране партии, пусть и не попавший в президенты России (Бог миловал), Геннадий Зюганов повторяет, как попугай, за Дугиным: «Либо мы сумеем восстановить контроль над геополитическим сердцем мира, либо нас ждет колониальная будущность»?33 Чем в таком случае отличаются наши сегодняшние мифо- творцы от «патриотов» 1914 года? От тех, т.е., кто привел тогда страну к Катастрофе?
И удивительно ли на таком фоне, что и сам Александр Дугин восторгается ползучей, если угодно, «национализацией» российской политики? Что чудится ему «постепенный и мягкий сдвиг российской политической элиты к евразийским позициям»? Сдвиг, который, по его мнению, «не будет сопровождаться радикальными лозунгами или декларированием нового курса. Напротив, власть будет активно и масштабно практиковать двойной стандарт, внешне продолжая заявлять о приверженности демократическим ценностям, а внутрен-
Подберезкин А. Русский путь. M., 1996. С. 41.
Дугин А.Г. Основы геополитики. М., 1997. С. 193.
Дугин А.Г. От имени Евразии. Московские новости. 1998, №7.
Зюганов Г.А. Уроки истории и современность// Нг-Сценарии. №12.1997.
не - экономически, культурно и социально - возрождать исподволь предпосылки глобальной автаркии»34.
Но всё это, конечно же, лишь сегодняшние торговцы мифом в розницу, так сказать. И работают они по тому же сценарию, что и дореволюционные бесы. А мы, слава Богу, по опыту уже знаем, что слетаются бесы, как стервятники, лишь на падаль. Действительным барометром, указывающим бурю или штиль в будущем страны, являются вовсе не их замыслы, но умонастроение её культурной элиты, тех, кого один из чутких её наблюдателей Модест Колеров именовал еще в бытность свою свободным художником «производителями смыслов». Имел он в виду, конечно, людей, чья «профессиональная или публицистическая деятельность позволяет им формулировать то, что на современном бюрократическом сленге называется интеллектуальной повесткой дня, то, что на практике оказывается языком общественного самоописания, самовыражения и риторики»35.
Но и тут картина, представленная нам Колеровым, взявшим на себя труд в середине 2001 года опросить в пространных интервью тринадцать из этих «производителей смыслов», по крайней мере, той их группы, которую он счел представительной, тоже в высшей степени тревожная. Похоже, что вырождение национализма, описанное Соловьевым в применении к XIX веку, начинает, как увидим мы во второй главе, повторяться и в XXI. Во всяком случае формирование национал-либерализма, который Соловьев полагал, как мы помним, пусковым крючком всего процесса деградации, можно, если верить Колерову, считать совершившимся фактом. И это пугает больше всех бесовских пророчеств.
Возвращаясь к наставнику, однако, скажу, что с осени 1967-го, с момента, когда я безоговорочно ему поверил, написал я о драме патриотизма в России много книг, переведенных на многие языки и опубликованных во многих странах. И никогда за это время не сомневался в безупречности аргументов учителя.
Но вот пришел час - и я усомнился.
Завтра. №21.1998.
Колеров М. Новый режим. Мм 2001. С. 6.
Не знаю, почему произошло это именно сейчас. Может быть, потому, что - вопреки всякой логике - и надо мной, оказывается, властен фантомный наполеоновский комплекс, и я тоже переживаю крушение российской сверхдержавности как унижение. Умом-то я понимаю, я ведь ученик Соловьева, что крушение это - величайшее благо, какое только могла подарить нам история после четырех столетий блуждания по имперской пустыне. (Достаточно ведь просто взглянуть на политические режимы, которые воцарились в республиках, отколовшихся от империи, начиная от Узбекистана и кончая Туркменией и Белоруссией, чтобы не осталось сомнений, в какую именно сторону тащили бы они Россию.) В каком-то интервью Александр Лебедь сказал после своей отставки: «А чем в конце концов кончила Россия? У нас четыреста лет Смутное время»36. И он, значит, это понимал. И у него ум с сердцем были не в ладу (вспомните хотя бы название его книги «За державу обидно»).
Но именно в момент такой мучительной раздвоенности как раз и важно чувство патриотизма, лояльности, верности отечеству в тяжкую его минуту. И именно в такую минуту, когда патриотизм оказывается единственным, быть может, якорем гражданина России, подозрительность по отношению к нему начинает вдруг выглядеть кощунственно.
Между тем Соловьев, как мы уже знаем, так и не сформулировал точно ту грань, за которой этот благородный патриотизм превращается в «патриотическую истерию», где и начинается его драма. Нелепо же отрицать: в том виде, в каком она есть, формула его учит подозрительности ко всякому патриотизму. Ну, вот ее точный текст: «Национальное самосознание есть великое дело, но когда самосознание народа переходит в самодовольство, а самодовольство доходит до самообожания, тогда естественный конец для него есть самоуничтожение»37. И, хоть убей, непонятно, как, где и почему начинает вдруг патриотизм переходить в это роковое «национальное самодовольство». Неточна, стало быть, здесь аргументация Соловьева, требует уточнения, дополнения, выяснения того, что он опустил. Требует, короче, защиты патриотического чувства от националистической идеологии.
Цит. по: Русская реклама. Нью-Йорк, 1996. 29 октября - 4 ноября. Соловьев B.C. Сон. в 2 т. Т. 1. С. 262.
И сделать это, наверное, не так уж было бы трудно, когда б всерьёз задумались над этим предметом сегодняшние русские историки и философы, в особенности молодежь, «поколение непоротых». Нет спора, миф Sonderweg и сейчас, как мы видели, рвётся к гегемонии в идейной жизни страны. Достаточно ведь показать, опираясь на открытия В.О. Ключевского и советских историков-шестидесятников, что есть у России и другая, европейская политическая традиция, ничуть не менее древняя и легитимная, нежели холопская - националистическая. И даже, честно говоря, куда более отечественная, если можно так выразиться, по крайней мере, не заимствованная у немецких тевтонофилов. Ведь еще в начале XIX века именно эта европейская традиция господствовала в русской культурной элите.
Немыслимо ведь, согласитесь, представить себе главного идеолога декабризма Никиту Муравьева произносящим, подобно Бердяеву, жуткую расистскую формулу: «Бьёт час, когда славянская раса во главе с Россией призывается к определяющей роли в жизни человечества»38. Или Сергея Трубецкого, декламирующим, подобно Достоевскому, о «русском народе-богоносце». Или Пушкина, наконец, уверенным, подобно Сергию Булгакову, что «Россия призвана духовно вести за собою европейские народы». Немыслимо потому, что глубоко чуждо было декабристскому поколению «национальное самодовольство». Не найдете вы в нем ни малейшей претензии на Sonderweg или на статус мировой державы. Европеизм был для него, в отличие от сегодняшних «производителей смыслов», естественным, как дыхание.
Ни у кого из серьезных историков не повернется язык обвинить декабристов в недостатке патриотизма. В конце концов это они пошли на виселицу и в каторжные норы, чтобы Россия стала свободной. Они не держались националистического принципа «Что бы ни случилось, моя страна всегда права», того самого, который Соловьев впоследствии окрестил национальным эгоизмом. Заключался их патриотизм не в риторике о мессианском величии России, а в жесткой национальной самокритике. Он был неотделим от стремления что-то реально для своей страны сделать, избавиться, наконец, от вечной и
Бердяев Н.А. Цит. соч. С. ю.
унизительной второсортности ее повседневного быта, развернув её в сторону Европы и покончив таким образом как с самодержавной диктатурой, так и с крестьянским рабством.
«Профессиональными патриотами» декабристы, покрытые славой победителей Наполеона, прошедшие путь от Бородина до Парижа, не были, рубах на себе публично не рвали, в «патриотических истериях» замечены не были. Просто любили свою страну. И чувствовали, что любовь эта - дело интимное, на площадях о ней не кричат и истерик по поводу неё не устраивают. Они-то и продемонстрировали нам воочию, что такое патриотизм, свободный от националистического «самодовольства». Никто не сказал об этом «внутреннем противоречии между требованиями истинного патриотизма, желающего, чтобы Россия была как можно лучше, и фальшивыми притязаниями национализма, утверждающего, что она и так всех лучше»[11], точнее Соловьева.
Другими словами, русский патриотизм, хоть и уязвим для националистического вырождения, чувство не только реальное, но высокое, достойное. А формула Соловьева подчеркивает, увы, лишь его уязвимость. Есть и масса другого, что осталось в ней необъяснённым. Например, почему именно в России так страшно открыт патриотизм для деградации? Что конкретно в строении её политической культуры способствует его вырождению? И что происходите патриотизмом в сопоставимых с нею великих державах, во Франции, допустим, или в Америке? Иначе говоря, как выглядит его формула на фоне мирового опыта? *
И нельзя же, наконец, пройти мимо того, что все альтернативы националистическому вырождению, предложенные Соловьевым, оказались на удивление неработающими. И философия всеединства, и тем более всемирная теократия или воссоединение христианских церквей. Всё оказалось наивно, нереалистично, бесплодно. И ничего в результате не изменила его формула в ходе истории - ни российской, ни мировой. Это, конечно, делает его судьбу еще более трагичной, но ясности в главных, волновавших его как политического мылителя вопросах, тоже ведь не прибавляет.
Вот эти вопросы. А существует ли вообще в России (и в сопоставимых с ней великих державах) жизнеспособная идейная альтернатива деградации патриотизма, перерождению его в национализм? Или обречена она нести в себе эту угрозу как вечное проклятие? Иными словами, если это болезнь, то излечима ли она? И если да, то как?
Не найдет читатель в книгах Соловьева ответов на эти вопросы. Боюсь, не найдет и в моих. Это ведь я на самом деле не столько его так жестоко критикую, сколько себя. В конце концов умер Владимир Сергеевич столетие назад. И не мог, естественно, знать, что не только рухнет, как в 1856-м, после крымской капитуляции, с головокружительных высот сверхдержавности, но и развалится на куски «гниющая империя России», как назвал её в 1863 году Герцен. И что именно этот её обвал переживать будет страна не только как величайшую геополитическую катастрофу, но и как невыносимое унижение, чреватое новой и на этот раз, быть может, роковой для неё «патриотической истерией».
Как мог знать это Соловьев? Но я-то знал. И все-таки не пошел дальше учителя, не попытался ответить на вопросы, на которые он не ответил. Я ведь тоже, вплоть до этой трилогии, не зафиксировал точно ту роковую грань, за которой начинается вырождение патриотизма. Но главное, не предложил я патриотам России никакой работающей идейной альтернативы национализму взамен тех непрактичных, предложенных Соловьевым. Не сделал того, что, наверное, сделал бы Соловьев, знай он то, что теперь знаем мы. Того, чего не слышим мы от наших сегодняшних «производителей смыслов».
Соловьев был большим мыслителем, и я не знаю, по силам ли мне эта задача. Нет, конечно, не намерен я отрекаться от своих книг, написанных в ключе его формулы. И тем более от учителя. Просто попытаюсь здесь пойти дальше него - и себя прежнего.
Я хочу заранее уверить читателя, что предстоящее нам путешествие по двум столетиям истории патриотизма/национализма в России обещает быть необыкновенно увлекательным. Хотя бы потому, что полна она гигантских загадок - интеллектуальных, психологических, даже актуально-политических. На самом деле оттого, сумеем ли мы вовремя разгадать их, вполне может зависеть само существование России как великой державы в третьем христианском тысячелетии. Между тем нету нас сегодня не только разгадок, сами даже вопросы, на которые мы попытаемся здесь ответить, и поставлены-то никогда не были.
Кто и когда спросил себя, например, почему столько раз на протяжении двух столетий охватывала, как лесной пожар, российскую культурную элиту мощная «патриотическая истерия»? Почему принималась вдруг она страстно доказывать, что Россия не государство, а Цивилизация, не страна, а Континент, не народ, а Идея, которой предстоит спасти мир на краю пропасти, куда влечет его декадентский Запад. И что истина, вспомним Достоевского, открыта ей одной. Откуда эта средневековая страсть к «Русской идее»? Откуда лозунг 1999 года, словно бы заимствованный из 1914-го: «бомбят не Сербию, бомбят Россию» в момент, когда Запад отчаянно пытался остановить геноцид косоваров, устроенный «балканским мясником» Милошевичем, а Россия пальцем о палец для этого не ударила? Ведь говорим мы о своего рода коллективном помешательстве, охватывавшем вдруг время от времени всю страну.
Причем, накрывал ее этот страшный вал с головою вовсе не только в периоды упадка империи, но и в минуты величайших её триумфов, когда она еще гордо восседала на сверхдержавном Олимпе, уверенная, чтр поселилась там навсегда. Вспомним, как восклицал в одну из таких минут знаменитый историк Михаил Петрович Погодин: «Спрашиваю, может ли кто состязаться с нами и кого не принудим мы к послушанию? Не в наших ли руках судьба мира, если только захотим решить её?»40. Так откуда это безумие? Не странно ли, что никому до сих пор не приходило в голову увидеть его как болезнь?
А вот еще вопрос. Почему даже когда рухнули вокруг России обе последние континентальные империи, Оттоманская и Австро-Венгерская, умудрилась она тем не менее снова бросить вызов истории, продолжая своё одинокое путешествие в средневековом пространстве - по-прежнему уверенная, что «не может идти ни по одному из
путей, приемлемых для других цивилизаций и народов»? Почему, короче говоря, затянулась в ней агония средневековья на два столетия, если уже в начале XIX века декабристы были совершенно уверены, что оно в России обречено? До такой степени уверены, что рискнули собственной вполне благополучной жизнью, попытавшись это доказать?
И это ведь лишь малая доля тех монументальных и жестоких загадок, которые предстоит нам с читателем разгадывать на страницах этой книги. Здесь упомянуть я могу лишь некоторые из них. Ну вот вам еще одна: загадка Солженицына. Он только что вырвался в 1974 году из коммунистической клетки, и Америка великодушно приняла его, приветствуя как героя. Чем ответил он на этот приём? Беспощадным обличением декадентства западной интеллигенции, не способной в силу своего, так сказать, западничества понять, как «каждую минуту, что мы живем, не менее одной страны (иногда сразу две-три) угрызаются зубами тоталитаризма. Этот процесс не прекращается никогда, уже сорок лет... Всякую минуту, что мы живем, где-то на земле одна-две-три страны внове перемалываются зубами тоталитаризма... Коммунисты везде уже на подходе - и в Западной Европе и в Америке. И все сегодняшние дальние зрители скоро всё увидят не по телевизору и тогда поймут на себе - но уже в проглоченном состоянии»[12].
Я как-то подсчитал, что если принять грубо число минут в сорока годах за 20 миллионов, а число стран в тогдашнем мире за 150, то окажется, если Солженицын прав, что каждая из них была уже «угрызена» и даже «внове перемолота зубами» коммунистов, по крайней мере, 133 тысячи 333 раза. Удивительно здесь, однако, не эта смехотворная в устах профессионального математика арифметическая абракадабра. Удивительна бесшабашность его обвинений. Откуда в самом деле эта высокомерная уверенность, что истина одна и она у него в кармане? Откуда этот пророческий зуд - в современном мире, о сложностях которого он, выходец из средневековой резервации, не имел ни малейшего представления?
Ну чего, собственно, хотел Солженицын от Запада? Превращения в беспощадную военную машину, подобную своему тоталитарному антагонисту, которая «угрызала» бы и перемалывала мир антикоммунистическими «зубами»? Но ведь для этого понадобилось бы пожертвовать той самой свободой, ради которой и воевал Запад с тоталитаризмом.
Так стоит ли недоумевать, почему во мгновение ока растранжирил Солженицын весь громадный героический капитал, с которым прибыл в Америку? Что местные интеллектуалы тотчас же и перестали принимать его всерьез? А ведь умный же вроде бы человек, планировщик по натуре, скрупулезно рассчитывающий наперед, судя по его автобиографической книге, каждый шаг, слово и жест. И так оскандалился. Почему?
Но кроме всех этих увлекательных загадок, которые имеют все-таки отношение к прошлому, перед нами ведь и еще одна, главная загадка, касающаяся будущего. Нашего будущего. Четырежды на протяжении двух последних столетий представляла России история возможность «присоединиться к человечеству», говоря словами Чаадаева42. В первый раз в 1825 году, когда силой попытались это сделать декабристы. Во второй - между 1855 и 1863 годами, в эпоху Великой реформы, когда ничто, казалось, не мешало сделать это по-доброму, в третий - между 1906 и 1914 годами, когда Витте и Столыпин положили как будто бы начало новой Великой реформе, так жестоко и бессмысленно прерванной мировой войной, до которой России и дела-то никакого не было. И, в четвертый, наконец, в 1991-м, когда рухнули её империя и сверхдержавность. Три шанса из четырёх, по разным, как мы еще увидим, причинам были безнадежно, бездарно загублены. Судя потому, что и сегодня «время славянофильствует», пятого может и не быть.
Столетие назад, соглашаясь после революции пятого года возглавить правительство, Петр Столыпин потребовал: «Дайте мне двадцать
Приводя здесь слова Чаадаева, я, естественно, далек от мысли, что человечество ограничивается Европой. Просто отношения с нею имели для России на протяжении столетий особое значение, о чем, собственно, и говорит Чаадаев.
лет мира и я реформирую Россию». Но ведь не дала их реформатору русская культурная элита. Еще прежде того, наблюдая бушевавшее вокруг него «национальное самообожание», предвидел Соловьев, что не даст. Так и случилось. Отдали страну бесам.
Столетие спустя, когда„как говорит в книге «Агония Русской идеи» американский историк Тим МакДаниел, «история коллапса царского режима опять стала историей наших дней»43, пришло для нас время вспомнить ужас Соловьева, продиктовавший ему его прозрение. Ибо если в великом споре между декабристским патриотизмом и евразийским особнячеством опять победит особнячество, Россия снова будет отдана бесам - на этот раз национал-патриотическим.
Я ведь не случайно начал эту вводную главу со знакомства с монументальной и трагической фигурой Владимира Соловьева. В момент, когда страна снова на роковом распутье, пробил, я думаю, час для культурной элиты России взглянуть на судьбы отечества глазами великих предшественников, глазами декабристов, Чаадаева и продолжавшего их патриотическую традицию Соловьева.
Ибо именно этого масштаба, этого контекста, этой исторической ретроспективы прошлых эпохальных поражений и недостает нам сегодня, чтобы избежать еще одного, быть может, последнего. Без них и спорим мы не о том, и воюем не за то. И не ведаем, что всё это Россия уже проходила. Представления не имеем о том, как губили ее националисты, прикинувшиеся патриотами И как погубили.
Именно поэтому попытаюсь я здесь показать, как случилось, что мировая историография пошла по ложному следу, проложенному для неё Достоевским, напрочь игнорируя гениальное прозрение Соловьева. Несмотря даже на то, что только это прозрение (вместе с гипотезой Грамши) может помочь нам расчистить гигантские завалы, накопившиеся за целое столетие на пути к пониманию Катастрофы, высвечивая для нас действительных её виновников. Завершись история русского национализма в 1917-м, оставалось бы мне здесь лишь
McDaniel Tim. 7he Agony of the Russian Idea. Princeton Univ. Press, 1996. P. 52.
облечь соловьевскую формулу живой исторической плотью, лишь показать, почему оправдалось его страшное предчувствие.
К сожалению, однако, последствия академической путаницы оказались отнюдь не только академическими. Свалив всю вину за Катастрофу на «красных» бесов, дала эта путаница возможность уйти от ответственности демонам национализма. Уже в 1921 году группа молодых интеллектуалов-эмигрантов, назвавших себя евразийцами, начала работу по его реабилитации. Евразийцы были ревизионистами славянофильства, наследниками, как увидим мы в этой книге, скорее, идеологов реванша Данилевского и Леонтьева, нежели национал-либералов Хомякова и Аксакова. И уже поэтому вызвали на себя огонь как со стороны правоверных националистов, подобных популярному сейчас Ивану Ильину, так и со стороны «национально ориентированных» (теперьуже в эмиграции) интеллигентов, подобных Петру Струве и Николаю Бердяеву. В результате великий спор о причинах Катастрофы, о том, кто виноват в величайшем злодеянии века, в том, что три поколения россиян оказались обречены на жизнь в имперской резервации, был подменён спором между разновидностями его виновников, сваливших всю вину за него на «красных» бесов. Вот же почему так и остались действительные причины Катастрофы неразгаданными.
В конце 1960-х, тотчас после поражения хрущевской реформы, центр спора переместился в советскую Москву и с той поры драма патриотизма, описанная в этой книге, начала вдруг роковым образом повторяться на подмостках XX века. Сперва, как в 1840-е, безобидные диссидентские кружки, опять проповедовавшие «мессианское величие России» и её «богоизбранность», заново забросили в общественное сознание славянофильскую уверенность, что успешно сопротивляться диктатуре (на этот раз, конечно, не николаевской, а коммунистической) страна может, лишь возродив Русскую идею.
И точно так же, как в 1850-е, полиция и цензура преследовали бедных националистических диссидентов. И точно так же, как Константин Аксаков царю, писал советским лидерам пламенные эпистолы об этом предмете Солженицын. И точно так же, наконец, ни к чему это не вело, покуда не рухнула, как после Крымской войны, возродившаяся при Сталине (и обреченная, разумеется, на туже судьбу, что и николаевская) сверхдержавность России. Только на этот раз пришлось расплачиваться за нее и крушением империи.
И точно так же, как в 1870-е, возобновила Русская идея свою борьбу за идейную гегемонию в постсоветском обществе после 1991-го, когда хлынул в Россию поток эмигрантской славянофиль- ско-евразийской литературы, сообщив вчерашнему националистическому диссидентству гигантский интеллектуальный импульс. И мотивы, её поначалу вдохновлявшие, ничем, собственно, не отличались от славянофильских. Опять вышли на первый план николаевский постулат «Россия не Европа» и фантомный наполеоновский комплекс - мучительная ностальгия по внезапно утраченной сверхдержавности (к которой на этот раз, естественно, добавилась тоска по империи).
Первыми жертвами нового «гегемона» пали, как и следовало ожидать, вчерашние «красные» бесы, составившие ядро непримиримой оппозиции режиму. Эти, впрочем, не задержались на ступени национал-либерализма, сходу скатившись к «бешеной» пропаганде реванша (что и отрезало их от большинства культурной элиты). Ей-то предстояло спуститься по лестнице Соловьева, как он и предсказывал, ступень за ступенью - начиная с «национального самодовольства». Лишь когда сама эта элита усомнилась в основах собственного европеизма, лишь когда зазвучали из её недр «национально ориентированные» речи, словно бы списанные с тех, против которых восстал в 1880-е Соловьев, зазвучали причем и снизу и сверху, опасность нового - и тотального - заражения страны сверхдержавным реваншем стала очевидной.
Вот тесты, если угодно. Послушайте, против каких деклараций возражал в своё время мой наставник: «Русскому народу вверены словеса Божии. Он носитель и хранитель истинного христианства. У него вера истинная, у него сама истина...»44. Или другая: «верноподданническая присяга есть единственная гарантия общественных прав, а внимание высших государственных сфер к голосу правовер-
СоловьевВ.С. Цит. соч. С. 605.
ных публицистов есть настоящая свобода печати... всё остальное - мираж на болоте»[13]. Или третья: «в глазах человека здравомыслящего и рассудительного не может быть личной свободы, а только свобода национальная»[14]. Достаточно? Удивительно ли, что, читая всё это, Соловьев воскликнул всердцах: «Нелепо было бы верить в окончательную победутемных сил в человечестве, но ближайшее будущее готовит нам такие испытания, каких еще не знала история»?[15] И двух десятилетий не прошло, как начало оправдываться это страшное пророчество.
А теперь приглядитесь к тому шквалу псевдоакадемической литературы, который обрушился после развала СССР на голову российского читателя, и сравните её содержание с примерами, которые цитировал Соловьев. Найдете ли разницу?
Чтобы читателю не утонуть в каталогах, сошлюсь лишь на несколько образцов. Таких, скажем, как «Истина Великой России» Ф.Я. Шипунова[16] или «Русская цивилизация» О.А. Платонова[17], или «Возрождение Русской идеи» Е.С. Троицкого[18], или «Русская идея и её творцы» А.В. Гулыги[19], или «Русская идея и армия» В.И. Гиди- ринского[20], или «Черносотенцы и революция» В.В. Кожинова[21], или «Российская цивилизация» В.В. Ильина и А.С. Панарина[22], или «Россия и русские в мировой политике» Н.А. Нарочницкой,55 или «История человечества, т. VIII. Россия» под ред. А.Н. Сахарова56, или,
наконец, «Время быть русским!» А. Севастьянова57. А ведь многие из этих авторов профессора, молодежь учат. Чему? Но разве названия их книг не говорят сами за себя?
Что ж, о том, как дурно понимаем мы патриотизм, знал ведь еще Антон Павлович Чехов. Потому и вынес я его слова в эпиграф вводной главы. Самые выдающиеся примеры противостояния мутному школярскому потоку националистов, величающих себя патриотами, продемонстрировали нам Петр Яковлевич Чаадаев, Александр Иванович Герцен, Владимир Сергеевич Соловьев. Но обратил ли кто-нибудь внимание на то странное обстоятельство, что ни один из этих людей не был историком? А если обратил, то попытался ли привлечь внимание своих собратьев по цеху к тому, что это означает?
С моей точки зрения, означает это вот что. Цех историков, т.е. экспертов, чья профессиональная обязанность объяснить соотечественникам, что будущее страны принадлежите конечном счете тем, кто овладел её прошлым, в долгу перед своей страной. Наблюдая на протяжении почти двух столетий за драмой патриотизма в России или, иначе говоря, за откровенной подменой любви к отечеству тем, что Соловьев назвал «национальным эгоизмом», мало кто из них, исчезающе мало обличил эту мистификацию.
Из поколения в поколение магическое слово «патриотизм» наполнялось противоположным, зловещим содержанием, перешибая таким образом хребет истине - и стране. Зачем далеко ходить? Где и в наши дни ясная и артикулированная европейская альтернатива русскому национализму? Где солидарный протест против тех, кто и по сию пору считает декабристов цареубийцами, Чаадаева космополитом, Герцена ренегатом, а Соловьева - проповедником какого- нибудь «сверхимперского проекта» всемирной теократии или на худой конец «вселенской гармонии а la Достоевский»?58
Кто сегодня повторяет вслед за Чаадаевым: «Я думаю, что время
М., 2002.
М., 2003. л
М., 2004.
Цит. по: Колеров М. Указ. соч. М., 2001. С. 152..
слепых влюбленностей прошло, что теперь мы прежде всего обязаны отечеству истиной»? И тем более вслед за Герценом: «Мы не рабы нашей любви к родине, как не рабы ни в чем. Свободный человек не может признать такой зависимости от своей родины, которая заставила бы его участвовать в деле, противном его совести»? Повторяют, скорее, вслед за каким-нибудь Подберезкиным, «Россия не может идти ни по одному из путей, приемлемых для других цивилизаций и народов»...
Нет, я не хочу сказать, что будущее страны зависит только от историков. Говорю я лишь о том, что отнихонозависиттоже.
Не могу не сказать под занавес, что как раз у историков, причем не только у российских, но и зарубежных, и вызвало протест простое, я бы даже сказал очевидное, утверждение, которое легло в основу заключительной книги трилогии (читатель, я уверен, помнит это утверждение: именно имперский национализм толкнул Россию в роковую для неё мировую войну, без которой у «красных бесов» не было ни малейшего шанса овладеть страной в 1917-м). Сошлюсь здесь лишь на коллег из Польши. Просто потому, что упрек в этом случае пришел с совершенно неожиданной стороны. Анджей де Лазари, например, пишет: «Янов допускает характерную ошибку историосо- фа, полагающего, что он открыл законы, управляющие историей, и обнаружил заговоры, влияющие на её ход. Он не описывает исторические факты, а подчиняет их собственной теории»59.
Как видев даже в этой вводной главе читатель, всё на самом деле происходило с точностью до наоборот; «исторические факты» были перед моими глазами (так же, как перед глазами коллег, в том числе польских) на протяжении десятилетий, и «описаны» они были многократно. А вот до «теории», т.е. до их объяснения, додумался я (да и то с помощью Соловьева) много лет спустя. И лишь додумавшись, отважился проверить свою гипотезу этими самыми «историческими фактами». Что же мне еще оставалось делать, если факты её подтвердили? Так при чем здесь, спрашивается, «историософия»? И тем более
[23] Русско-польско-английский словарь.//под ред. Анджея де Лазари. Т. 1. Лодзь, 1998. С. 486.
«законы, управляющие историей», не говоря уже о «заговорах», на открытие которых я никогда не покушался?
Речь ведь всего лишь об объяснении вполне конкретного факта, а именно вступления России в ненужную ей войну, погубившую трехсотлетнюю империю Романовых. Конструктивный спор возможен был бы тут лишь в одном случае: если бы пан де Лазари предложил другое объяснение этого факта. Но ничего подобного он ведь не предлагает...
Интереснее, однако, становится дело, когда вступился за меня другой польский историк Гжегож Пшебинда. Защищает он меня, впрочем, тоже очень своеобразно. «Не было на русской почве после смерти Плеханова, - пишет он, - ни одного мыслителя, который так страстно, как Янов, сводил бы весь исторический процесс к единственному общему знаменателю, зачастую пренебрегая очевидными фактами»60. Пан Пшебинда называет этот мой (и Плеханова) первородный, так сказать, грех «историософским монизмом». Допустим. Но какими же все-таки «очевидными фактами» я во имя этого монизма пренебрег? Суть дела-то в этом!
Пан Пшебинда ссылается лишь на один такой факт: Александра II убили не националисты, а народовольцы, т.е. говоря словами Достоевского, «бесы нигилизма». Оппонент, впрочем, согласен со мной, что победа этих «бесов» в 1917-м не была фатально запрограм- мирована русской историей. «Янов прав, - говорит он, - когда утверждает, что «катастрофы 1917 года, а вместе с нею и красной эпопеи, затянувшейся на три поколения и, словно топором, разрубившей на части мир, могло вообще не быть. «Революции 1917-го действительно могло не быть61».
Но революция-то в 1917-м была! И что тому виною? Злодейство «бесов нигилизма» в марте 1881 года? Или несопоставимо более страшное злодейство «бесов национализма», завоевавших в полном согласии с формулой Соловьева российские элиты и втянувших страну в самоубийственную для неё войну в июле 1914-го?
Пан Пшебинда совершенно уверен, что виновны в Катастрофе
Новая Польша. 2000. № 2. С. 31. Там же. С. 33.
1917-го «бесы нигилизма». «Рациональному развитию России, - полагает он, - главным образом помешали не поздние славянофилы и не государственный балканский империализм, а максимали- сты-революционеры, которые убили царя-реформатора»62. Согласитесь, что тезис по меньшей мере спорный. Хотя бы потому, что влияние «максималистов-революционеров» на принятие государственных решений было в июле 1914-го, как мы уже говорили, равно нулю. И принимали эти решения, от которых зависела судьба страны на столетие вперед, те, кого B.C. Соловьев считал «бесами национализма». Вопрос, следовательно, в том, почему они приняли именно эти губительные для России решения.
Я согласен с пророчеством Соловьева и вытекающим из него объяснением этих событий. И потому, в отличие от пана Пшебинды, не могу винить «бесов нигилизма» в решениях их антагонистов, принятых 33 года спустя после убийства царя. Означает ли это, однако, что я пренебрегаю «историческими фактами»?
Корректнее, наверное, было бы сказать, что пренебрег я тезисом пана Пшебинды подругой причине. Просто потому, что он освобождает нас от какого бы то ни было объяснения рокового торжества «бесов национализма» в июле 1914-го. Другое дело, что пророчество Соловьева (и моё объяснение этого торжества), в свою очередь, требуют подробного исторического анализа и обоснования. Их я и предлагаю читателю в заключительной книге трилогии.
И подумать только, что началось это всё для меня с ничтожной интриги Чаковского!..
Там же.
f
\ i
глава
Вводная
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ВТОРАЯ
ударственного
ГЛАВА ТРЕТЬЯ ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА ПЯТАЯ ГЛАВА ШЕСТАЯ ГЛАВА СЕДЬМАЯ ГЛАВА ВОСЬМАЯ ГЛАВА ДЕВЯТАЯ ГЛАВА ДЕСЯТАЯ ГЛАВА
ОДИННАДЦАТАЯ
патриотизма
Упущенная Европа Ошибка Герцена Ретроспективная утопия Торжество национального эгоизма Три пророчества На финишной прямой Как губили петровскую Россию Агония бешеного национализма
У истоков «гос
Последний спор
глава вторая
У истоков «государственного
патриотизма»
В том-то и дело, что Мусоргский или Достоевский, Толстой или Соловьев - глубоко русские люди, но в такой же мере они люди Европы. Без Европы их не было бы. Но не будь их, и Европа была бы не тем, чем она стала.
\ Владимир Вейдле
Мне кажется невероятным, чтобы американец даже с самой необузданной фантазией мог представить себе, как сложилась бы история его страны, если бы в один туманный день, допустим, 1776 года интеллектуальные лидеры поколения, основавшего Соединенные Штаты, все, кто проголосовал 2 июля за Декларацию Независимости, оказались вдруг изъяты из обращения - казнены, заточены в казематы и рудники, изолированы от общества, как прокаженные. Во всяком случае я не знаю ни одного историка Соединенных Штатов, ни одного даже фантаста, которому пришло бы в голову обсуждать такую дикую гипотезу. А вот историку России мысль эта вовсе не покажется дикой. Не покажется и гипотезой. В прошлом его страны такие интеллектуальные катастрофы случались не раз.
Впервые произошло это еще в середине XVI века, когда основоположник Российской империи царь Иван IV неожиданно, вопреки сопротивлению политической элиты страны и пренебрегая исламской угрозой, «повернул на Германы», т.е. бросил вызов Европе. Сопротивлявшаяся элита была беспощадно вырезана (эту страшную историю читатель, я уверен, помнит по первой книге трилогии).
В последний раз произошло это, когда большевистское правительство посадило на так называемый «философский пароход» интеллектуальных лидеров Серебряного века, в том числе и учеников Соловьева, и выслало их за границу (тем, кто остался на суше, суждено было сгнить в лагерях, как Павлу Флоренскому, погибнуть в гражданской войне, как Евгению Трубецкому, или от голода и отчаяния, как Василию Розанову и Александру Блоку).
Тема этой книги, однако, касается другой культурной катастрофы, случившейся в промежутке между этими двумя. Той, что повернула вспять дело Петра, а с ним и процесс «присоединения России к человечеству», говоря словами Чаадаева, и на столетия вперед сделала русский патриотизм уязвимым для националистической деградации. Оказалась, другими словами, завязкой его вековой драмы.
Глава вторая У истоков «государственного патриотизма»
вателей Америки против имперской метрополии, которое вошло в исторические реестры как революция, декабристское восстание против самодержавия и крестьянского рабства окончилось неудачей. И потому осталось в истории как мятеж. Сказать я хочу лишь, что улыбнись им фортуна, декабристы вполне могли бы возродить дело Ивана III, разделив с ним таким образом славу отцов-основателей европейской России.
Во всяком случае именно они, патриоты своей страны и цвет нации, носители интеллектуального потенциала, накопленного ею за столетие после смерти Петра (он умер в 1725-м), оказались единственными в тогдашней России, у кого был достаточно серьезный и логически последовательный план её европейского преобразования, причем, несопоставимо более основательный, нежели у архитекторов Великой реформы три десятилетия спустя.
Косвенно признали это даже их палачи. «Революция была у ворот России, - сказал император, вернувшись с Сенатской площади, - но клянусь, что, пока я живу, она не переступит ее порога».
И тем не менее из следственных материалов по делу революционеров составлен был, как мы помним, специальный Свод, который, по словам графа Кочубея, «государь часто просматривает и черпает из него много дельного». Больше того, именно эти материалы даны были «в наставление» Преобразовательному комитету, учрежденному уже в 1826 году, дабы мог он «извлечь из сих сведений возможную пользу при трудах своих».
Само собою разумеется, что никакого толку от бюрократических трудов этих не произошло. И произойти не могло. Это было все равно, как если бы кто-нибудь попытался по чертежам ракетоносителя соорудить античную катапульту. Но не в этом ведь дело. Оно в том, что даже враги не могли отказать декабристской программе преобразования России ни в реалистичности, ни в компетентности и своевременности.
Еще более, однако, ценна для нас их патриотическая программа тем, чего в ней не было. А именно, не было в ней «национального самодовольства», не было противопоставления России и Европы как двух полярных по духу миродержавных начал, двух чуждых и враждебных друг другу цивилизаций. Не было мистической идеи избранности русского народа, веры в то, что, говоря словами Достоевского, «в нем одном истина и он один способен и призван всех воскресить своею истиной». Не было и претенциозной мысли о «великом и мистическом одиночестве России в мире»1. Нечего и говорить о том, что называют сегодня популярные философы «государственной и даже мессианской идеей с провозглашением мирового величия и призвания России»2. Ничего, одним словом, из того, что именует сегодня С.В.Лебедев «центральным вопросом русской философии истории».
Вообще никаких признаков того, что германские тевтонофилы назвали Sonderweg, Герцен «государственным патриотизмом», а Соловьев «языческим особнячеством». Все это стало результатом расстрела декабристского поколения. Пусть случился этот расстрел не так давно, как «крестьянская конституция» Ивана III, илитрагиче-
ПанаринА.С. Россия и Запад: вызовы и ответы. Реформы и контрреформы в России. М., 1996.0.254.
Новый мир. 1995. № 9. С. 137.
екая развязка вековой борьбы нестяжателей за православную Реформацию, и вообще все, нему посвящена первая книга трилогии, но все же достаточно давно, чтобы оказаться за пределами исторической памяти большинства современных интеллектуалов. И потому отчасти извиняет их убеждение, что у России просто нет другой традиции, кроме милитаристской, холопской и особняческой. Если я и преувеличиваю, то совсем, право, немного. Ну вот вам серьезный либеральный политик, который нисколько не сомневается, что «тысячелетняя история России есть история рабства»3.
Это Борис Немцов. Но разве он одинок в своем убеждении? И всё же опыт декабристов, одного из самых интеллектуально одаренных в русской истории поколений, вопиёт против столь вульгарной мистификации. Он свидетельствует неопровержимо, что есть у России и другая традиция. Ну подумайте, ведь не ради карьеры и не по принуждению вышли на площадь столько знатных, богатых и благополучных дворян. Ну что, скажите, было им до крестьянской свободы? А они вышли. Рискнули всем только из-за того, что им было стыдно.
Стыдно, говорю я, жить в европейской стране, победительнице Наполеона, которая соглашается терпеть средневековый произвол власти, давно уже забытый европейцами. Стыдно того, что B.C. Соловьев назовет впоследствии «общественными грехами» России. И вот они вышли на площадь, терзаемые «не национальной гордостью, не сознанием своего превосходства, но сознанием своих общественных грехов и немощей»4. Возможны были такое сознание, такой стыд, такой риск, не будь декабристы абсолютно убеждены, что живут в Европе и стоит за ними вековая отечественная европейская традиция, вопиющая к их защите?
Цит. по: Johnson's Russia List. 2006. March 1B. B.C. Соловьев. Сочинения в 2 т. М.,1989.Т. 1. С. 444.
ная точка зрения. Точнее всех, пожалуй, высказал её в знаменитой статье «Памяти Герцена» В.И. Ленин. Для него, как и для современных российских интеллектуалов, тоже, разумеется, не существовало отечественной европейской традиции. Он тоже был уверен, что тысячелетняя история России была историей рабства и единственным её политическим наследием оставалась традиция «азиатски дикого самодержавия»5, к тому же еще и «насыщенная азиатским варварством»6.
Другое дело, что во чреве этого дикого самодержавия, несмотря даже на его полную «азиатскую девственность»7 непонятным образом зародилась революция - сначала дворянская, потом разночинная и, наконец, по мере созревания «единственного до конца революционного» среднего класса, виноват, пролетариата8, социалистическая.
Читатель, конечно, понимает, что оговорился я не случайно. Просто слишком многие сегодняшние интеллектуалы, отрицающие, подобно Ленину, европейскую традицию России, приписывают среднему классу срвершеннотуже мессианскую роль, какую приписывал он в свое время пролетариату. И основывают все свои надежды именно на ленинской гипотезе о «единственном до конца революционном классе». Несмотря даже на то, что Ленин был политиком и пропагандистом, а не историком, и гипотеза его оказалась на поверку совершенной - и опасной - утопией.
Ленин В.И. ПСС.Т. 12.С.Ю.
Там же. т. 9. С. 38г.
Там же. т. 20. С. 387.
g
Глава вторая У истоков «государственного патриотизма»
Цитпо: Герцен AM. Избр. философские произведения. М., 1948. Т. 1. С. п.
Я это к тому, что исключительная опора на опровергнутую историей ленинскую теорию «революционного класса», способного творить чудеса, представляется мне несерьезной. Меня, по крайней мере, она не убеждает. Может быть, впрочем, просто потому, что я, в отличие от Ленина и Немцова, историк. И помню то, чего они не помнили. С одной стороны, помню я, как единодушно поднялся в 1930-е годы на защиту гитлеровского режима именно средний класс в самой образованной тогда стране мира. А с другой, помню опыт декабристов, которых тоже, согласитесь, трудно отнести к среднему классу. Помню и опыт всех конституционных поколений России, начиная с поколения Михаила Салтыкова в 1600-е, когда никаким еще средним классом и не пахло.
Глава вторая
ж д У истоков «государственного
Момент ИСТИНЫ патриотизма»
Вернемся, однако, к декабристам. Это важно потому, что если мы хотим точно установить исторический момент, когда «идея личной свободы как самой фундаментальной и исходной ценности»9 начала угасать в постекатерининской России, когда чувство любви к отечеству оказалось уязвимо для деградации и превращения в государственный патриотизм, то искать его должны мы именно в разгроме декабризма. То есть в той самой интеллектуальной катастрофе, которая постигла страну, когда поколение несостоявшихся отцов-основателей европейской России, её «производителей смыслов», вырабатывавших для своей эпохи «язык ее общественного самовыражения»10, внезапно исчезло с исторической сцены. Словно пенку с молока сняли.
Что должно было наступить в стране, опустошенной таким политическим смерчем? Естественно, глубочайший идейный вакуум, духовное оцепенение, пустота. «Первое десятилетие после 1825 г. было страшно не только от открытого гонения на всякую мысль, - писал впоследствии Герцен, - но от полнейшей пустоты, обличившей-
Зорин Л. Модест Колеров. Новый режим. M., 2001. С. 8.
Там же. С. 6.
ся в обществе: оно пало, оно было сбито с толку и запугано. Лучшие люди разглядывали, что прежние пути развития вряд возможны ли, новых не знали»11. Не в том только было дело, следовательно, что «говорить было опасно», но и в том, что «сказать было нечего»12.
Именно эту глухую безнадежность точно зарегистрировал в своем знаменитом Философическом письме П.Я. Чаадаев. Вот как суммировал Герцен смысл его печального послания: «Все спрашивали "Что же из этого будет? Так жить невозможно - тягость и нелепость настоящего невыносимы. Где же выход?" "Его нет" - отвечал человек петровского времени, европейской цивилизации, веривший при Александре в европейскую будущность России»13.
Выхода нет! Могло ли удовлетвориться таким страшным приговором подраставшее на смену декабристам поколение русской молодежи?
русские идеи
Глава вторая У истоков «государственного патриотизма»
Не одному лишь постдекабристскому поколению молоде-
жи, однако, нужен был «выход», в котором отказывало ей письмо Чаадаева. «Выход» нужен был и новой власти. Найти убедительное оправдание крепостного рабства и самодержавия, против которых восстали декабристы, было для нее императивом. Но если мощь аргументов восставших покоилась на убеждении, что в европейской стране терпеть это невозможно, то, логически рассуждая, ответ на него мог бьуь только один - и для образованной молодежи, и для власти: Россия не Европа. Ответом, короче говоря, могло быть лишь то, что B.C. Соловьев и назвал особнячеством. И практически могло это в ту пору выглядеть только так: на первый план выдвигалось мос- ковитское православие, истолкованное как отдельная от общепринятого христианства вера со своим собственным, говоря известными уже нам словами В.О. Ключевского, «русским Богом, никому более
Герцен АИ. Былое и думы. Л.: ОГИЗ, 1947. С. 291. Там же. С. 287. Там же. С. 291.
не принадлежащим и неведомым», - и основанная на нем альтернативная европейской цивилизация. В двух словах, русская идея.
И напрасно станет, как мы скоро увидим, недоумевать Герцен, каким образом его европейски образованные сверстники, славянофилы, «отрекаясь от собственного разума и познания... дошли до восхищения узкими формами московского государства», иначе говоря, фундаменталистской Московии. Просто ничего, кроме этого, не в состоянии было для постдекабристской молодежи заполнить идейный вакуум такой глубины и безнадежности.
«Явилась новая школа, - комментировал этот ответ в „Апологии сумасшедшего" Чаадаев, - не хотят больше Запада, хотят обратно в пустыню... У нас совершается настоящий переворот в национальной мысли, страстная реакция против просвещения, против идей Запада... Кто серьёзно любит свою родину, того не может не огорчать глубоко это отступничество наших наиболее передовых умов от всего, чему мы обязаны нашей славой, нашим величием»14.
Но зря пытался «человек европейской цивилизации» объяснить националистическим отступникам, что «есть разные способы любить отечество». Например, - говорил он, - «самоед, любящий свои родные снега, которые сделали его подслеповатым, дымную юрту, где он проводит, скорчившись, половину своей жизни, и прогорклый олений жир, заражающий его воздух зловонием, любит свою страну, конечно, иначе, нежели английский гражданин, гордый учреждениями и высокой цивилизацией своего славного острова». «И потому, — продолжал Чаадаев, - было бы прискорбно для нас, если б нам все еще приходилось любить места, где мы родились, на манер самоедов. Прекрасная вещь - любовь к отечеству, но еще прекраснее - любовь к истине»15.
Зря старался Чаадаев. Было поздно. «Переворот в национальной мысли» уже совершился, отступничество от Европы произошло. И теперь, я думаю, нам понятно, почему нашлись в постдекабрист-
Чаадаев П.Я.. Философические письма. Ардис. 1978. С. 87. См. также: Пыпин А.Н. Характеристики литературных мнений от двадцатых до шестидесятых годов. Спб., 1909. С. 180.
Чаадаев П.Я. Цит. соч. С. 8о; Пыпин А.Н. Цит. соч. С. 172.
ском поколении не один, а два националистических кандидата на заполнение идейного вакуума. Одним была новая идеология самодержавия, другим - реакция значительной части образованной молодежи. Две Русские идеи конкурировали за власть над оцепеневшими умами современников. Обе, конечно, говорили одно и то же: Россия не Европа. Но во всем остальном разнились они поначалу очень сильно.
Первая была казенного чекана. Ее проповедывали министры, как Сергей Уваров, и профессора, как Степан Шевырев; журналы на содержании П1 Отделения, как «Северная пчела» Фаддея Булгарина, и авторы популярных исторических романов, как Михаил Загоскин. Грандиозные «патриотические» драмы третьестепенного поэта Нестора Кукольника, такие как «Рука всевышнего отечество спасла», собирали аншлаги. С подачи известного литературоведа А.Н. Пыпина вошел, как мы помним, этот «государственный патриотизм» в историю под именем Официальной Народности.
Глава вторая У истоков «государственного патриотизма»
Центральный парадокс
Да и то сказать, разница между ним и национал- либеральным славянофильством была и впрямь огромной. В первом случае имели мы дело с национализмом «бешеным», во втором - с умеренным, мягким, интеллигентным, в котором явственно еще звучали критические и либеральные мотивы декабризма. Если Официальная Народность начинала прямо с «национального самообожания», то национал-либералы удовлетворялись «самодовольством». Еще важнее было то, что первая, как и подобает идеоло-
Его соперница, известная под именем славянофильства, никакой поддержкой правительства не пользовалась. Она вызревала в недрах самого общества, была тем ответом на безнадежное Чаадаев- ское memento mori, в котором отчаянно нуждалось постдекабристское поколение образованной молодежи. Государственный патриотизм она откровенно презирала.
гии государственной, делала ударение на внешней политике, а у славянофилов никакой еще внешней политики в ту пору не было.
Короче, две Русские идеи, возникшие в духовном вакууме, отличались друг от друга резко, как только может живая мысль отличаться от казенного канцелярского монолога. Можно сказать, что славянофильство помогло русской культуре выжить в условиях, когда, как записывал в дневнике либеральный цензор А.В. Никитен- ко (27 апреля 1843 г.), «гнусно, холодно в природе, но чуть ли не еще гнуснее среди этой нравственной пустыни, которая называется современным обществом»[23]. Помогло уже тем, что оказалось, по сути, единственной публичной альтернативой удушающему государственному патриотизму. Мы еще увидим как.
Сейчас заметим лишь, что перед нами парадокс - для этой книги центральный. Подумайте, как в самом деле могло случиться, что оппозиционная идеология, национал-либерализм, словно пламень ото льда отличавшаяся от официальной, двинулась вдруг после Крымской войны ей навстречу - да так безоглядно, что в конечном счете с нею слилась? И в момент, когда славянофильство обрело, наконец, свою внешнюю политику, оказалась она именно политикой государственного патриотизма?
Современные историки, изучающие националистические идеологии, обычно обращают внимание на разницу между ними - мягкие отличают от жестких, либеральные от «бешеных», безобидные, граничащие с нормальным патриотическим чувством, от человеконенавистнических. Все эти идеологии, полагают историки, как бы сосуществуют параллельно друг другу, образуя некий националистический диапазон (или на ученом языке «дискурс»). И каждая требует индивидуального, так сказать, подхода. Славянофильство, допустим, следует изучать само по себе, государственный патриотизм сам по себе, а черносотенство и расизм сами по себе. И ни в коем случае не дозволено подверстывать одну идеологию к другой. В просторечии - мазать их одной краской.
Этот преобладающий сегодня «дискурсный» подход имеет свои достоинства. Вот и я ведь очень старательно подчеркнул, как глубоко
отличалось первоначальное, классическое славянофильство от николаевского государственного патриотизма. Достаточно сказать, что оно, подобно декабризму, считало крепостное право позором русской жизни, тогда как Официальная Народность его оправдывала и даже пыталась увековечить. Проблема, следовательно, лишь в том, что «дискурсный» подход никак не объясняет наш центральный парадокс, т.е. эволюцию славянофильства, его постепенную трансформацию из национал-либеральной идеологии в государственный патриотизм, а затем и в черносотенство.
Короче говоря, «дискурсный» подход хорош, когда его предмет, националистическая идеология, изучается в состоянии статичном, динамику её - и тем более деградацию - он не объясняет. Не объясняет и узурпацию ею самого представления о патриотизме, той подмены его национализмом, в которой, собственно, и состоит драма патриотизма в России. Между тем именно над этим парадоксом как раз и ломали себе голову такие серьезные и современные ему наблюдатели, как Герцен или Соловьев.
Шава вторая У истоков «государственного патриотизма»
Герцена
Впервые Александр Иванович попытался объяснить его еще в 1851 году в статье «Московский панславизм и русский европеизм»17. Вот как он это делал: «Славянофилы с ожесточением напали на весь петербургский период [русской истории], на всё, что сделал Петр Великий и, наконец, на всё, что было европеизировано, цивилизовано. Можно понять и оправдать это увлечение как проявление оппозиции, но, к несчастью, эта оппозиция зашла слишком далеко и увидела себя тогда странным образом рядом с правительством против собственных стремлений к свободе».18
Но как же все-таки не увидели этого парадокса сами славянофилы? Ответ Герцена, увы, скорее, тривиален: «решив a priori, что всё...
Объяснение
17Герцен А.И. Избр. философские произведения. Т. 1, М., 1948.
введенное Петром, скверно, славянофилы дошли до восхищения узкими формами московского государства и, отрекаясь от собственного разума и познания, с рвением устремились к кресту греческой церкви... Исполненные негодования против деспотизма, они приходили к политическому и моральному рабству»19.
Но тут ведь никакого парадокса нет, напротив, это вполне логично. Не могли же славянофилы ограничиться одним отрицанием. Как для всякой осмысленной оппозиции, требовался им, так сказать, второй шаг, позитивный, требовался идеал (или, как сказали бы сегодня, проект будущего), который могли бы они противопоставить деспотизму существующей власти. Но поскольку чаадаевский или, если хотите, екатерининский проект («Россия есть держава европейская») был для них лишь инобытием ненавистной им «петровской системы», а торжествующую Официальную Народность презирали они тоже, пришлось искать свой проект будущего в прошлом - в «истинно русской», как им казалось, допетровской Московии. Не заметив при этом, что как раз в ней и берут начало крестьянское рабство и деспотизм.
В принципе объяснение Герцена более или менее верно. Бросаются в глаза, однако, три его серьезных недостатка. Во-первых, основная мысль не выходит за рамки враждебного отношения славянофилов к реформам Петра, приведшего их к восхищению фундаменталистской Московией. Возникает, однако, элементарный вопрос: а если бы тогдашние славянофилы менее враждебно относились к Петру и не подняли на щит «узкие формы» Московии, если бы, другими словами, отвергли они европейское будущее России по какой-нибудь иной причине, изменило бы это обстоятельство общую траекторию их политической эволюции? Вопрос остался без ответа.
Во-вторых, не принимая всерьёз феномен николаевской Официальной Народности и откровенно его высмеивая, Герцен, к сожалению, не заметил, что антипетровский курс на «ретроспективную утопию», как назвал славянофильское восхищение Московией Чаадаев, взяло не только национал-либеральное крыло тогдашней русской молодежи, но и само правительство. Иначе говоря, движе-
ние назад, к Московии происходило в николаевской России не только снизу, но и сверху.
В-третьих, наконец, писал все это Герцен задолго до Крымской войны, т.е. до катастрофического падения России со сверхдержавного Олимпа и, стало быть, до того, как поняли национал-либералы несущественность ихтеоретических расхождений с правительством по поводу Московии по сравнению с тем, что их с ним объединяло, т.е. с недоверием и неприязнью к Европе. Не говоря уже об их тоске по реваншу. (С этой стороной дела Герцену предстояло еще познакомиться 12 лет спустя, в 1863-м, во время очередного польского восстания. Подробному описанию этой роковой для обеих сторон встречи посвящена четвертая глава этой книги.)
Объяснение
В общем объяснение Герцена, хотя и дает читателю некоторое представление о начавшейся уже в 1840-е политической эволюции славянофильства, оставляет все-таки чувство неудовлетворенности. По-видимому, страстные идейные битвы времен его молодости заслонили для него действительный смысл политической эволюции славянофильства.
Глава вторая У истоков «государственного патриотизма»
Соловьева
Предложенное три десятилетия спустя, оно несопоставимо более серьезно. Сама уже его «лестница» ориентирует читателя именно на общий смысл драмы патриотизма в России - вполне независимо от увлечения славянофилов Московией. Введенные им принципиальные различия между патриотизмом и национализмом (он же «псевдопатриотизм», он же «государственный патриотизм»), а также дефиниции «особнячества» и особенно «национального эгоизма» оказываются незаменимыми инструментами анализа этой драмы.
Фатальное противоречие, говорит Соловьев, «между требованиями истинного патриотизма, желающего, чтобы Россия была как можно лучше, и фальшивыми притязаниями национализма, утверждающего, что она и так всех лучше, погубило славянофильство»20. Вот что он нам объясняет. В первоначальном своем значении любви к родному очагу обращен патриотизм (для верности Соловьев называет его «истинным») острием внутрь, стремясь сделать свою страну «как можно лучше». Например, избавив её народ от крепостной неволи и от произвола власти. Однако, пережив уваровскую трансформацию и оказавшись собственной противоположностью, т.е. патриотизмом государственным, обращается он острием вовне, обнаруживая вдруг, как Степан Шевырев, что от Европы «уже пахнет трупом».
примера
Глава вторая У истоков «государственного патриотизма»
Иногда переживания отдельных людей убеди-
тельнее любых теоретических выкладок. Попробуем поэтому, пусть кратко, проследить реакции двух хорошо известных русскому читателю персонажей на одно и то же современное им обоим историческое событие - Крымскую войну. Первый из них в нашем случае - Федор Иванович Тютчев. Как и положено государственному патриоту, он переживал эту несчастную для России войну очень тяжело. Соответственно, его реакция на неё была почти столь же незамысловата, как, скажем, отношение современных московских национал- либералов к бомбардировкам НАТО стратегических объектов в Сербии весною 1999-го. Я имею в виду, что переживания Тютчева проще всего, наверное, выразить в серии восклицаний: Наших бьют! Заговор против России! Гнусность! Лицемеры! Разглагольствуют о свободе, а сами?! Но вот тексты.
20 Соловьев B.C. Цит. соч. С. 444.
Государственному патриоту больше не было дела до произвола отечественной власти, поскольку, идентифицируя себя с нею, говорил он с миром как бы от её имени. Оказавшись олицетворением «национального эгоизма», он уверен, что в любом международном споре своя власть всегда права и его, «патриота», обязанность заключается в срывании масок с лиц злодеев в чужих правительствах, неустанно против его страны злоумышляющих.
«Итак, мы в схватке со всею Европой, соединившейся против нас общим союзом. Союз, впрочем, не верное выражение, настоящее слово: заговор... В истории не бывало примеров гнусности, замышленной и совершенной в таком объеме»21. А в стихах и того пуще
Все богохульные умы, Все богомерзкие народы Со дна воздвиглись царства тьмы Во имя света и свободы!
Здесь все ясно. Тютчев полностью отождествляет Россию с диктатурой, откровенно провоцировавшей эту войну, как видели мы во второй книге трилогии. Отождествляет просто потому, что, как гласит бессмертный клич всех националистов, «права или не права, моя страна всегда права». И от государственного патриота требуется лишь сорвать маски с «богохульных умов», вознамерившихся под предлогом защиты света и свободы унизить родного диктатора. Требуется, несмотря даже на то, что он этого диктатора, как мы хорошо знаем, искренне презирает. Требуется, поскольку в сравнении с окружающим миром его страна со сколь угодно презренным диктатором во главе все равно «всех лучше». Вот это и называл B.C. Соловьев «фальшивыми притязаниями национализма».
Посмотрим теперь, как переживал то же самое событие патриот, по выражению философа, истинный. В нашем случае речь о его отце, знаменитом* историке Сергее Михайловиче Соловьеве. Для него Крымская война тоже была ужасным испытанием. Не только потому, однако, что его страна её проигрывала, но еще и потому, что поражение диктатора могло сделать Россию «как можно лучше». По этой причине переживания С.М.Соловьева были намного сложнее и драматичнее, нежели страсти, одолевавшие государственного патриота. Сердце ему одинаково разрывали как хорошие, так и дурные вести с фронта. Впрочем, пусть читатель судит сам. «В то время, как стал грохотать гром над головой нашего Навуходоносора, мы находились в тяжком положении. С одной стороны, наше патриотическое чувство
21 Цит. по: Кожинов В.В. Тютчев. М., 1988. С. 337.
было страшно оскорблено унижением России; с другой, мы были убеждены, что только бедствия, а именно несчастная война, могли произвести спасительный переворот, остановить дальнейшее гниение; мы были убеждены, что успех войны затянул бы еще крепче наши узы, окончательно утвердил бы казарменную систему; мы терзались известиями о неудачах, зная, что известия противоположные привели бы нас в трепет»22.
Разница очевидна, не так ли? В отличие от патриота государственного, патриот истинный идентифицирует себя не с российской диктатурой, но с российской свободой. Нет, он не пытается взвалить вину за свои страдания на «богомерзкие народы». Он ясно видит роль своей, отечественной диктатуры. Иначе говоря, национальным эгоизмом он не страдает.
Глава вторая У истоков «государственного
Особенно CT И патриотизма»
национального эгоизма
Таково первое следствие, вытекающее из соловьевской формулы. Вот второе. Коварство этой семантической путаницы (два патриотизма) в том, что кипящий ненавистью к «богомерзким народам» национальный эгоизм не только продолжает оперировать под присвоенным им патриотическим именем, но и узурпирует его. Он отказывает в любви к отечеству всем, кто его ненависти не разделяет, клеймя их если не «национальными нигилистами», то уж во всяком случае «космополитами». Или, чтобы совсем было понятно, Тютчевы выживают с политической арены Соловьевых.
А вот и третье - самое важное - следствие. Оно в том, что монополия национального эгоизма как всякая монополия неминуемо ведет к вырождению, к деградации. К тому, иначе говоря, что Тютчевых выживают Катковы, а тех, в свою очередь, Данилевские, а тех Пуришкевичи или, как сказали бы сегодня «отвязанные» черносотенцы. Эти уверены, что все беды страны от инородцев, захватив-
22 Соловьев С./И. Мои записки для моих детей... Спб., 1914. С. 152.
ших её в свои руки, по сути, оккупировавших Россию (если это наведет читателя на мысль об откровениях в газете Завтра некого полковника ГРУ, который уже в наши дни стрелял, по утверждению прокуратуры, в видного чиновника-инородца и баллотировался после этого в Думу из тюремной камеры, я спорить не стану).
Вот в этом открытии неминуемой радикализации и вырождения национализма в России и состоит, собственно, то, что можно назвать,если хотите, своего рода законом Владимира Соловьева (это я просто продолжаю аналогию с Менделеевым). В частности, история постниколаевской России может служить экспериментальным подтверждением этого закона. Документальной верификации его и посвящена, по сути, заключительная книга трилогии. Здесь поэтому сошлюсь я лишь на один пример.
Покойный В.В. Кожинов был в последние годы жизни буквально одержим «одной, но пламенною страстью» доказать, что истинными патриотами России в предреволюционные десятилетия выступали именно Квачковы того времени, черносотенцы. Нет смысла останавливаться на причинах этой страсти. Кто знаком с работами Кожинова и без того знает, что он считал себя идейным наследником героев своей последней книги «Черносотенцы и революция»23. Более того, гордился этим.
Намного важнее результаты его исследования, непреложно свидетельствующие, что в те, финальные, годы императорской России черносотенцами были вовсе не только толпы погромщиков, руководимые вульгарными демагогами, но и элита русской интеллигенции, причем трудовой, научной интеллигенции, можно сказать, цвет нации. «В публиковавшихся в начале XX века списках членов главных из этих [черносотенных] организаций, - писал Кожинов, - таких, как Русское собрание, Союз русских людей, Русская монархическая партия, Союз русского народа, Русский народный союз им. Михаила Архангела, мы находим многие имена виднейших деятелей культуры (причем, некоторые из них даже занимали в этих организациях руководящее положение)»24.
Кожинов BS. Черносотенцы и революция. М., 1998.
И без преувеличения списки, о которых говорит Кожинов, впечатляют (несмотря даже на то, что он сознательно запутывает читателя, смешивая в одну кучу такие сравнительно умеренные, элитарные организации, как Русское собрание или Союз русских людей с погромщиками из Союза русского народа). Сошлюсь хоть на известного пушкиниста и переводчика Катулла Б.В. Никольского, который был членом Главного совета Союза русского народа. А заместителем (товарищем, как это тогда называлось) председателя Главного совета был, между прочим, знаменитый филолог академик А.И. Соболевский. И рядом с ним его не менее знаменитые коллеги - академик К.Я. Грот (тоже филолог), академик Н.П.Лихачев (историк), академик Н.П. Кондаков (византинист), академик (впоследствии президент Академии наук) В.Л. Комаров (ботаник). Это не говоря уже о художниках Константине Маковском и Николае Рерихе, поэтах Константине Случевском и Михаиле Кузмине, медике профессоре С.С. Боткине, актрисе М.Г. Савиной или книгоиздателе И.Д. Сытине.
Кто бы мог подумать, что в единомышленниках великосветского авантюриста Пуришкевича (или сегодняшнего полковника ГРУ Квачкова) были на исходе царских времен такие достойнейшие из достойных люди, creme de la creme, как сказали бы французы, тогдашнего российского общества, и что главная их заслуга перед историей состояла, по мнению самого Кожинова, в том, что «они не подчинялись запретам и осуществляли свободу слова в еврейском вопросе»?25 То есть именно в том, в чем сегодня «осуществляет» ее полковник Квачков.
И удивительное дело, Кожинов был убежден: обнародованная им коллекция знаменитых предшественников неопровержимо доказывает, что, если и есть чем гордиться России, то это черносотенством. Вот уж на самом деле нам не дано предугадать, как слово наше отзовется... Ибо в действительности он лишь усердно подтверждал закон Соловьева. Да разве могла быть другой культурная элита страны на последней ступени соловьевской «лестницы» - в канун национального самоуничтожения России? «Страну губят инородцы (в первую очередь, конечно, евреи)!» - таким ведь только и мог быть
Там же. С. 120. (Курсив Кожинова).
её предсмертный крик, столь глубоко, столь безнадежно она деградировала.
И нисколько ее, эту черносотенную элиту, не смущало, в отличие от классического славянофильства, что идет она в своей ненависти рука об руку и даже впереди власти. В конце концов числила она в своих рядах и самого Николая II, который ведь тоже был членом Союза русского народа. И тоже, ничуть не меньше Кожинова, этим гордился. Да, их, спасителей России, не послушали, убеждал нас Кожинов, они погибли, пытаясь «сказать правду о безудержно движущейся к катастрофе стране... являя собой своего рода донкихотов»26. Проблема лишь в том, что правда этих «донкихотов» свелась, как и предвидел Соловьев, к самоубийственной в многоэтнической империи идее «Россия для русских»...
Глава вторая У истоков «государственного патриотизма»
Репутация B.C.Соловьева
Россия, как мы знаем, ему не поверила, закон его не приняла. Отчасти, наверное, потому, что слишком уж странно - и страшно - он звучал. Не последнюю роль, однако, сыграла в этом его репутация.
Соловьев, как я его понимаю, относился к той редкой породе русской интеллигенции, которая, словно высеченная из гранита, не гнется, не адаптируется к обстоятельствам, но, поверив в свою исти-
Вот такой парадокс. На наших глазах идеолог черносотенства подтвердил закон деградации национализма, сформулированный еще в 1880 годы «либералом и космополитом», если послушать сегодняшних эпигонов, Владимиром Сергеевичем Соловьевым. Это ведь он объяснил нам, почему оппозиционное в свое время славянофильство неотвратимо должно было обратиться после Крымской катастрофы в согласное с правительством почвенничество, после польского восстания - в опережающий власти национал-патриотизм и, наконец, после революции пятого года - в черносотенство.
ну, отстаивает её до конца. В этом смысле он совершенно не походил ни на своего отца, ни на того же Тютчева при всех различиях между ними, ни на большинство окружавших его людей. Все они были секу- лярными агностиками, а он - глубоко и искренне верующим. Религиозное чувство было напряжено в нем, как струна.
Если искать аналог Соловьеву в истории русской интеллигенции, то, как ни странно, скорее всего это, мне кажется, Белинский. Тот тоже был рыцарем, тоже верил в свою истину напряженно и беззаветно, и тоже был убежден, что, окажись она неверной, единственной ей альтернативой был бы конец света. Во всяком случае для России.
Разница, конечно, бросается в глаза: Белинский был атеистом. Согласитесь, в его время и это было бесстрашным убеждением. Но общее, помимо характера и темперамента, бросается в глаза тоже: каждый был убежден, что неудача его идеи чревата для страны гибелью. Белинский, младший современник декабристов (он умер в 1848 году), верил, что у России есть будущее лишь в случае, если она найдет в себе силы избавиться от крестьянского рабства и самодержавной диктатуры. Станет, короче говоря, европейской страной. Соловьев верил, что у России и Европы есть будущее лишь в случае, если они найдут в себе силы согласиться на воссоединение христианских церквей.
Увы, в последние годы жизни Соловьев был убежден в окончательном крушении своей идеи (хотя, кто знает, было ли это крушение на самом деле окончательным?) В отчаянии он и впрямь предсказал тогда конец света. Естественно, тем, кто хотел похоронить его беспощадный анализ русского национализма, нетрудно было после этого представить Соловьева гениальным чудаком, средневековым мистиком, балансировавшим на грани безумия. В любом случае человеком не от мира сего.
И никто не вспомнил, что не без греха были в этом смысле и Исаак Ньютон с его теологическими экскурсами и мистическими опытами, и Готфрид Лейбниц с его монадологией (и Богом как «монадой монад»). Тем не менее, сколько я знаю, закон земного притяжения не пострадал от экзотической репутации Ньютона, так же, как дифференциальное исчисление от репутации Лейбница. Закон деградации патриотизма, однако, от репутации Соловьева пострадал. С ним случилось самое страшное, что может произойти с научным открытием: он был забыт. Несмотря даже на то, что судьбу страны Соловьев предсказал, опираясь на этот закон, безукоризненно точно.
Я и сам, если честно, не без греха: я тоже однажды пренебрег законом Соловьева. В основу опубликованной в 1995 году книги «После Ельцина: Веймарская Россия», легла гипотеза, что события в России могут развиваться по веймарскому сценарию и закончиться так же, как в Германии. Для меня как ученика Соловьева такой ляп,конечно, непростителен. Объяснить его могу лишь страшным потрясением, пережитым в момент октябрьского националистического мятежа 1993 года, так отчаянно напоминавшего аналогичный мятеж в Мюнхене в ноябре 1923-го.
Так или иначе, веймарская гипотеза прижилась в России - и в мире. И вылилась, наконец, десятилетие спустя в пародийную государственную антифашистскую кампанию. Одно уже то обстоятельство, что первыми подписали Антифашистский пакт в Думе самые оголтелые националисты, свидетельствовало о его пародийности. Конечно, и германский фашизм был результатом деградации патриотизма. Но при всем том был он диктатурой национального эгоизма, обращенной в будущее (сколь бы гротескным будущее это ни выглядел^).
В России - после большевиков - победить могла бы лишь диктатура национал-патриотическая, обращенная в прошлое. В случае, допустим, победы мятежников в октябре 1993-го, вдохновляли бы новую власть идеи традиционные, архаические. Часть победителей ратовала бы, конечно, за возврат к советской империи, но другая, преобладающая, за возврат к Православию, Самодержавию и Народности. Иначе говоря, произошло бы то же самое, что после подавления декабристов при Николае I (насколько возможно это в современном мире).
Так или иначе, диктатура национального эгоизма, в просторечии называемая фашизмом, не могла быть в России по духу ни герман-
ской, ни итальянской - только черносотенной, московитской. Для неё не существовало бы будущего, не существовало бы даже настоящего - одно лишь прошлое.
И потому, скажем, апрельское 2006 года отвержение на Всемирном русском соборе принципов Всеобщей Декларации прав человека во имя московитских ценностей есть куда более существенный шаг к такой диктатуре в России, нежели, допустим, псевдогерманская фашистская символика на знаменах национал-больше- виков. Ибо смысл отвержения общепринятых в современном мире принципов состоять можетлишь в намеренной демонстрации моско- витского особнячества.
По этой причине единственным реальным инструментом борьбы против фашизма в России может быть лишь политическая модернизация, лишь ясное и недвусмысленное отделение того, что Соловьев называл истинным патриотизмом, т.е. любви к родному очагу, от его националистической подмены, национального эгоизма.
Глава вторая
I . У истоков «государственного
ЧТО «рухнуло патриотизма.
в пожаре1917-го»?
Не помогало в свое время делу Соловьева и то, что многие радикальные «русские европейцы», отчаявшиеся добиться поддержки в обществе, предпочли отречься от самого представления о патриотизме. Припомнили своим торжествующим оппонентам заявление Герцена, что «любовь к отечеству... не смешиваю с больше и больше ненавистной мне добродетелью патриотизма»27. Припомнили и саркастическое замечание английского классика XVIII века Сэмюэла Джонсона, что «патриотизм есть последнее прибежище негодяя», а то и окрестили его устами того же Герцена «патриотическим сифилисом»28.
Короче, выплеснули вместе с водой и младенца, упустив каким- то образом из виду, что и Чаадаев, и Белинский, и Герцен, и, конеч-
Герцен AM.. Цит. соч. С. 272.
Цит. по: Янов А. Альтернатива// Молодой коммунист. 1974. № 2. С. 75.
но, Сэмюэл Джонсон искренне любили свой народ и заботились о его душевном здоровье. Но как уживалась эта любовь с отрицанием патриотизма? Уж слишком очевидно было здесь противоречие. Золотую середину между крайностями нашел, как всегда, Соловьев, объяснив, что дело идет «о спасении народной души»29. И, даже, оставаясь в безнадежном меньшинстве, должен же кто-то противостоять «неразумному псевдопатриотизму, который под предлогом любви к народу желает удержать его на пути национального эгоизма»30. А что, если не патриотизм, не любовь к отечеству может вдохновить такое Сопротивление?
Именно поэтому не уставал он подчеркивать основополагающую разницу между «истинным патриотизмом и национализмом, представляющим для народа то же, что эгоизм для индивида»31. Ибо как раз тогда, когда народ, подстрекаемый проповедниками национального эгоизма, впадает «в искушение решать [свои] вопросы не по совести, а по своекорыстным и самолюбивым расчетам... подвергая себя величайшей опасности, предостеречь от неё долг истинного патриота»32.Соловьев исполнил свой долг, предостерег. Но поверила постниколаевская Россия, как мы знаем, Данилевскому, а не ему, позволила себе решать свои вопросы «по своекорыстному расчету» - и страшно расплатилась за это. Четверть века спустя после того, как были написаны эти строки предостережения, она перестала существовать, «самоуничтожилась». По отчаянному тогдашнему выкрику Максимилиан^ Волошина, «С Россией [было] кончено». И что же? Чему научил нас этот немыслимо жестокий опыт?
Словно бы ничего этого не было, по-прежнему продолжают сегодняшние телевизионные проповедники государственного патриотизма, как Михаил Леонтьев или Алексей Пушков, «под предлогом любви к народу удерживать его на пути национального эгоизма». И оправдание у них прежнее: все в этом мире так делают. Какая там
Соловьев B.C. Цит. соч. С. 273. Там же. С. 261.
Соловьев B.C. Сила любви. М., 1991. С. 57. Соловьев B.C. Сочинения: в двух томах. Т. 1. С. 273.
совесть? Какое «спасение народной души», когда, условно говоря, «в Америке негров линчуют»? Без этого анекдотического мотива не обходится ни одно их выступление. А Соловьев между тем специально предупреждал против их коварной уловки. «Каждый народ, - завещал он нам, - должен думать только о своем деле, не оглядываясь на другие народы, ничего от них не требуя и не ожидая. Не в нашей власти заставить других исполнять свою обязанность, но исполнять свою мы можем и должны»33.
Едва ли смогут государственные патриоты, как Леонтьев или Пушков (или, что важнее, все те, кто усвоил их уроки национального эгоизма), что-нибудь понять втайне «самоуничтожения» постниколаевской России. Тем более немыслимо представить себе, чтобы ответили они что-нибудь внятное на уже известные нам результаты исследования крупнейшего из знатоков николаевской эпохи профессора Калифорнийского университета Н.В. Рязановского. Согласно ему, Россия, «слинявшая», по словам В.В. Розанова, в 1917-м, все еще была той самой Россией, которую оставило нам в наследство проклятие николаевского национального эгоизма. Вот, как мы помним, заключение Рязановского: «В конечном счете обрушился в пожаре 1917-го [не просто царский режим, но] именно архаический старый режим Николая I»34.
Так неужели судьба постниколаевских поколений совсем ничему нас не научила? И самоотверженная борьба таких преданных своему народу патриотов, как Чаадаев, Белинский, Герцен или Соловьев, прошла впустую, не оставив живого следа в нашем сознании? И вообще, как могло случиться, что после всех потрясавших страну со времен Николая реформ, контрреформ и революций, так и стоял еще полстолетия во всей своей нерушимости архаический ancien regime Николая? Почему? В чем секрет его потрясающей долговечности? И как связана она с леонтьевско-пушковским национальным эгоизмом, даже не подозревающим, что берет начало именно в этом архаическом режиме?
33 Там же.
Riasanovsky Nicholas V. Nicholas I and Official Nationality in Russia. Univ. of Calofornia Press. 1969. P. 270.
Мы, собственно, и начали главу с описания этого режима. Однако понятия государственного патриотизма (Официальной Народности) и национального эгоизма требовали, согласитесь, объяснения. И еще больше нуждался в нем центральный парадокс этой книги: каким образом национал-либеральное славянофильство, начавшее с откровенного презрения к коварному уваровскому изобретению, кончило тем, что превратилось в этот самый государственный патриотизм, обрушивший страну в пожаре 1917 года. Но сейчас, когда читатель, надеюсь, получил обо всем этом некоторое представление, продолжим то, с чего начинали, - в надежде, что удастся нам понять секрет долголетия николаевского режима.
Глава вторая У истоков «государственного патриотизма»
Возвращение Московии
Со времен Герцена, как мы уже говорили, принято в литературе отзываться об Официальной Народности пренебрежительно, иронически. Подчеркивались ее примитивность, чиновная тупость, казенный энтузиазм. Вот авторитетный образец: «Для того, чтобы отрезаться от Европы, от просвещения, от революции, пугавшей его с 14 декабря, Николай поднял хоругвь Православия, Самодержавия и Народности, отделанную на манер прусского штандарта и поддерживаемую чем ни попало - дикими романами Загоскина, дйкой иконописью, дикой архитектурой, Уваровым и «рукой всевышнего»... Патриотизм выродился, с одной стороны, в подлую циническую лесть «Северной пчелы», а с другой - в пошлый загоскинский «патриотизм», называющий Шую Манчестером, Шебуева - Рафаэлем, хвастающий штыками и пространством от льдов Торнео до гор Тавриды»35.
У читателя этого иронического и элегантного пассажа невольно создавалось впечатление, будто одни лишь «подлые льстецы» и «пошляки», одни Булгарины да Загоскины поддерживали казенную Русскую идею. На поверку, однако, все оказывается куда сложнее. И
35 Герцен А. И. Былое и думы. С. 286.
коварнее. Исследователь Официальной Народности и один из самых жестоких ее критиков Александр Николаевич Пыпин был прямо противоположного мнения о ее могуществе - и опасности. «Даже сильные умы и таланты, - говорил он, как мы помним, - сживались с нею и усваивали ее теорию. Настоящее казалось разрешением исторической задачи, народность считалась отысканною, а с нею указывался и предел стремлений»36.
И ничего в этом не было удивительного, - добавлял Пыпин, - «ибо такого рода действие оказывала даже на первостепенные умы и таланты общественная среда ... на понятиях которой утверждалась система официальной народности»37. Да ведь одна уже дружная общественная, если угодно, травля Чаадаева за его «философическое письмо» свидетельствовала, кто прав в этом заочном споре. Даже и сам Петр Яковлевич признавал, что «почин [травли] всецело принадлежал стране»38, тогда как «правительство в сущности только исполнило свой долг... Совсем другое дело вопли общества»39.
А «вопли» и впрямь были оглушительные: «люди всех слоев и категорий общества, - рассказывает тот же Пыпин, - соединились в одном общем вопле проклятия человеку, дерзнувшему оскорбить Россию... студенты Московского университета изъявили, как говорят, желание с оружием в руках мстить за оскорбление нации».40 Это была вторая в русской истории (после спонтанных демонстраций против гегемонии Наполеона в 1800-е) патриотическая истерия, если можно так выразиться. Во всяком случае Пыпин это подтверждает, говоря о «таком взрыве в массе общества, который не имеет ничего подобного в истории нашей литературы»41.
На его стороне в этом споре выступает и другой литературовед Е.В. Аничков, замечая, что «Николай I сумел вызвать реакцию одно-
Пыпин АН. Цит. соч. С. 192.
Там же.
Чаадаев П.Я. Цит. соч. С. 87.
Там же. С. 8о.
4° Пыпин А. Н. Цит. соч. С. 188.
41 Там же. С. 1В2.
временно и сверху и снизу». И связывая это с настроением общества, которому «вдруг захотелось чего-то чисто русского, такого, что может быть вычитано только в летописи былых времен или подслушано в народной поэзии»42.
И действительно именно Официальная Народность, словно почувствовав эту потребность пробужденного войной 1812 года и декабризмом национального сознания, первая поставила вопрос о самобытности России, о ее цивилизационной идентичности, о цели и смысле ее исторического путешествия в мире. И объявила, что ответ найден: Россия - не Европа. Ибо в отличие от мятежного континента «народность наша состоит, - как указано было в созданном по высочайшей воле предписании министра народного просвещения, - в беспредельной преданности и повиновении самодержавию»43.
И сточки зрения власти, это было вполне логично. Ибо если даже спонтанный, самодеятельный и вообще незаконный патриотизм оказался способен вывести 14 декабря на площадь столько преданных отечеству людей, то на что же способен патриотизм управляемый, так сказать, организованный самой властью? Тем более, если мобилизовать его под знаменем защиты оскорбленной чести отечества и дать ему в руки хоругвь?
Правда, это был уже совсем другой, государственный патриотизм. Но в том ли суть? Главное, что власть усвоила урок декабристов и оценила мобилизационный потенциал патриотизма. Она вознамерилась не только присвоить себе монополию на него, но и употребить его как инструмент своих амбициозных геополитических планов. Для того, собственно, и провозгласила она себя мыслью народа, его духовным пастырем, его совестью. Власть уверила общество, что всё ведает, всё видит, всех любит, всё может. Государство и есть отечество - декретировала она.
И вот уже, как мы помним, начальник Третьего отделения собственной Его Величества канцелярии объясняет Антону Дельвигу как нечто само собою разумеющееся, что «законы пишутся для подчи-
HR Вып. 6. M.t 1907. НикитенкоА.В. Цит. соч. С. 306.
ненных, а не для начальства»44. А один из руководителей правительства Яков Ростовцев провозглашает, ничуть не смущаясь, что «совесть нужна человеку в частном домашнем быту, а на службе и в гражданских отношениях ее заменяет высшее начальство».45 И негодующе восклицают славянофилы: «название государя Земной бог, хотя и не вошло в титул, однако, допускается как толкование власти царской»46.
Перед нами не только обожествление власти, цезарепапизм, как думал Соловьев, и не только дикая полицейская попытка «отрезаться от Европы», как полагал Герцен. Перед нами первая в истории России секулярная религия, грандиозная в своем роде попытка создать принципиально антизападную, новомосковитскую, если хотите, цивилизацию, в центре которой стоит всеведущий и всемогущий Земной бог, Автократор, совершенно открыто объявляющий себя деспотом. Никакими ведь на самом деле вольнодумцами не были славянофилы, когда называли эту новую секулярную религию деспотизмом, если и самому Николаю Павловичу даже в голову, как мы помним, не приходило это скрывать. Да, с трогательной прямотой признавался он, «деспотизм еще существует в России, ибо он составляет сущность моего правления, но он согласен с гением нации»47.
Вот эта мысль о согласии «гения нации» с деспотизмом, о врожденном, следовательно, рабстве русского народа, и составляла ядро государственного патриотизма. Не случайно же говорил Уваров, что «вопрос о крепостном праве тесно связан с вопросами о самодержавии и даже единодержавии - это две параллельные силы, которые развивались вместе. У того и другого одно историческое начало, законность их одинакова... Это дерево пустило далеко корень: оно осеняет и церковь и престол»48.
В этой манипуляции патриотизмом правительство неожиданно для самого себя обнаружило принципиально новый - и практически
Русские мемуары. 1826-1856. М., 1990. С. 135.
45 Лемке М. Николаевские жандармы и литература 1826-1855 гг. Спб., 1908. С. 598. Теория государства у славянофилов, Спб.,1898. С. 40. Лемке М. Цит. соч. С. 42.
история русской литературы в XIX веке. М., 1910. Т. 2. С. 81.
неисчерпаемый - ресурс властвования. Оказалось, как видим, что патриотизмом можно оправдать не только самодержавие, но и крепостное право. Что можно в России не только объявить «высшее начальство» совестью нации, но и её империю - особой, отдельной от Европы цивилизацией.
Я не знаю, подозреваютли авторы многочисленных современных сочинений о «русской цивилизации», откуда именно заимствовали они свое вдохновение. А также о том, что в первоначальной её версии сутью этой цивилизации объявлено было, между прочим, увековечение крестьянского рабства, поскольку «осеняло оно», как мы только что слышали, «и церковь и престол». Причем, в отличие от современной ей Америки, где привезенные из Африки рабы принадлежали, по крайней мере, к другой расе, уваровская формула освящала порабощение миллионов соотечественников, не отличавшихся от господ ни цветом кожи, ни языком, ни верованиями.
Между тем историк национал-патриотической («правой», по его терминологии) мысли С.В. Лебедев не только этой формулы не стыдится, но, как мы сейчас увидим, гордится ею необыкновенно - в 2007 году! Вот как он это объясняет: «Уваров точно уловил необходимость единства духовного, политического и национального. Не случайно эта условная триада и в наши дни является одним из самых распространенных девизов русских правых. Мало какой из политических формул во всемирной истории была суждена такая долгая жизнь... Для современных патриотов характерно стремление вообще всю русскую духовную культуру свести к этим трем словам. Так, по словам известного скульптора В. Клыкова: Русская идея - это Православие, Самодержавие, Народность».49
Хороша, право, русская идея, благословлявшая деспотизм, «нравственную пустыню» и порабощение соотечественников. Но вот ведь, как видим, находятся современники, которые даже таким страшным наследством восхищены. Мало того, если верить Александру Севастьянову, оно, это наследство, «и представляет сего- ' дня мейнстрим русской культурной жизни».50 Верить ли?
Лебедев С.В. Цит соч. С. 45.
APN.ru. 29 марта 2008.
Но вернемся к николаевскому режиму. И по другой еще причине надлежало ему объявить Россию отдельной от Европы цивилизацией. А именно потому, что «Европа гнила». И общаясь с нею, «мы и не примечаем, что имеем дело будто с человеком, несущим в себе злой заразительный недуг... не чуем в потехе пира будущего трупа, которым он уже пахнет»51. Это уже другой столп государственного патриотизма профессор Степан Шевырёв. И сказано это было в 1841 году (кстати, и ноября 2001 года в том же духе высказался, изумив телезрителей, в программе «Итоги» и Алексей Митрофанов, бывший «производитель смыслов» Жириновского. Даже не подозревал ведь, бедняга, что озвучивает антизападную архаику полуто- растолетней давности).Но если в наши дни логика Митрофанова публику ошеломила, то ход рассуждений его «национально ориентированного» пращура вызвал лишь, как помним мы из второй книги трилогии, в николаевском Санкт-Петербурге восторг. Гоже ли в самом деле России, чья история была осуществлением провиденциального плана, сделавшего ее подданных «счастливейшим из народов», числиться в одной и той же цивилизации с «пахнущей трупом» Европой? По всем этим причинам патриотизм в новоявленной «русской цивилизации» и превращался из интимного чувства в идеологию, а идеология впервые становилась функцией власти.
Язвительный современник описывал практику этой цивилизации со щедринским, как, надеюсь, помнит читатель, сарказмом: «Обыватель ходил по улице и спал после обеда в силу начальнического позволения. Приказный пил водку, женился, плодил детей, брал взятки по милости начальнического снисхождения. Воздухом дышали потому, что начальство, снисходя к слабости нашей, отпускало в атмосферу достаточное количество кислорода». И тот же А.В. Никитенко меланхолически записывал 26 июля 1838 года: «В Могилеве тоже хорошо. Генерал-губернатор сумасшедший, председатель гражданской палаты вор, обокравший богатую помещицу, председатель уголовной палаты убил человека, за что и находится
История русской литературы в XIX веке. С. 82.
под следствием»52. А десятилетием позже еще одна запись, более общего характера, но не менее зловещая: «Ужас овладел всеми мыслящими и пишущими. Стали опасаться за каждый день свой, думая, что он может оказаться последним в кругу друзей и родных»53. Знакомо? А ведь даже и дед Сталина в ту пору еще не родился...
Вот почему, вопреки Герцену, языческое обожествление власти, отождествленное с патриотизмом (культ личности, говоря современным языком) было ничуть не менее опасно для русской культуры в 1830-е, нежели двести лет назад, в Московии, и сто лет спустя в сталинском СССР Оно грозило ей деградацией.
наша
Глава вторая У истоков «государственного патриотизма»
свобода»
Есть достаточно фактов, подтверждающих эту бес-
прецедентную опасность. Лучшие из лучших русских умов того времени - Пушкин, Гоголь, Тютчев, Белинский, Вяземский, Жуковский, Надеждин - оказались в большей или меньшей степени пленниками этой соблазнительной идеологии. Одни на время, другие, как Гоголь или Тютчев, и до конца дней своих. Это под ее влиянием Пушкин написал «Клеветникам России» и «Бородинскую годовщину». Это тогда сказал о нем его друг и поклонник Адам Мицкевич: «Он бьету царских ног поклоны, как холоп».54 Это тогда писал Белинский, что «в царе наша свобода, потому что от него наша цивилизация, наше просвещение, так же, как от него наша жизнь... Безусловное повиновение царской власти есть не одна польза и необходимость наша, но и высшая поэзия нашей жизни, наша народность»55. Многим ли, кроме стиля, отличается эта тирада от канцелярской прозы Уварова?
НикитенкоАВ. Цит. соч. С. 212. Там же. С. 312. HRBbin. 6. С. 420.
Цит. по: Янов А. Загадка славянофильской критики// Вопросы литературы. 1969. № 5. С-115 (выделено мною - А.Я.).
4 Янов
А вот вам Николай Надеждин, один из самых просвещенных редакторов своего времени, в Телескопе которого напечатаны были и «Литературные мечтания» Белинского, и письмо Чаадаева: «У нас одна вечная неизменная стихия - царь! Одно начало всей народной жизни - святая любовь к царю! Наша история была доселе великою поэмою, в которой один герой, одно действующее лицо. Вот отличительный самобытный характер нашего прошедшего. Он показывает нам и наше будущее великое назначение»56. Сам даже Уваров, не говоря уже о Булгарине, не сформулировал бы суть государственного патриотизма ярче этого интеллигентного литератора.
И, наконец, еще один всемирно известный автор, воспевший крепостное право, которое одно, по его мнению, «сообразуется с волей Божиею, а не с какими-нибудь европейскими затеями». Большетого, именно в этом «истинно-русском отношении помещиков к крестьянам» усматривал он и решение всех социальных проблем, в которых безнадежно запуталась, загнила европейская цивилизация. Ибо лишь помещики могли «воспитать вверенных им крестьян таким образом, чтобы они стали образцом этого сословия для всей Европы». И потому был совершенно уверен (в 1840-м!), что не пройдет и десятилетия, как «Европа приедет к нам не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которой не продают больше на европейских рынках»57. Увы, это опять-таки не Уваров. Это великий Гоголь.
Теперь, я думаю, читателю легче судить, кто прав в этом давнем споре по поводу новомосковитской идеологической революции - Чаадаев с Пыпиным или Герцен. Как видим, идейный переворот этот и впрямь был столь радикальным и всепроникающим, что оказался способен затуманить самые светлые головы, если хотя бы на время сумел убедить Белинского, что «в царе наша свобода», а Гоголя уверовать, что крестьянское рабство спасет Европу.
Большетого, обманул ведь он, как мы видели, не только своих современников, но и наших. Конечно, недавно скончавшийся А.А. Гулыга не Белинский и даже не Надеждин, но я все-таки привык
Лемке М. Цит. соч. С. 598.
ИР. Вып. 6. С. 451,452.
еще с советских своих времен считать его серьезным ученым, знатоком мировой философии. Даже рецензию в своё время опубликовал в Новом мире на его книгу о Гегеле - весьма притом похвальную. И каково же было мне читать его заявление в 1995 году, что «уваров- ская триада и есть формула русской культуры»58.
Роковое наследство
Не менее важно, однако, что ошибка
Герцена не позволила ему - и поверившим его оценке современным исследователям Официальной Народности - заметить в ней главное: её внешнюю политику, её геополитическое, как сказали бы сейчас, измерение. То очевидное, казалось бы, обстоятельство, что попытка создать альтернативную европейской архаическую цивилизацию в России не могла не сопровождаться попыткой навязать её остальному миру.
Ибо вместе с императором обожествлена ведь была и империя. Подобно самодержавию, оказалась она сакральным телом. И с этого момента любое покушение на нее восприниматься должно было в России не только как преступление, но и как кощунство. Ибо столь изобретательно и коварно задуман был идеологический механизм Официальной Народности, что не только деспотизм был, как мы видели, намертво переплетён в нем с гордостью за единодержавие, а «русская цивилизация» с крестьянским рабством, но и нерушимость империи оказалась неотделимой от патриотизма. И поэтому каждый, кто восставал против самодержавия, бросал вызов национальному самосознанию. Отвергая крепостное право, он посягал на патриотизм, а поднимая руку на империю, оказывался врагом народа или, как сказал бы в наши дни Игорь Шафаревич, русофобом.То, что казалось уже неосуществимым в Европе главному вдохновителю европейской клерикальной реакции графу Жозефу де Местру (который, умирая в 1821 году, воскликнул, что умирает вместе
со
Глава вторая У истоков «государственного патриотизма»
ГулыгаА.в. Русская идея и её творцы. М., 1995. С. 43.
с Европой), оказалось в николаевской России возможно. Вот как описывал свой идеал де Местр: «Монархия есть ни что иное, как видимая и осязаемая форма патриотического чувства... Такое чувство сильно потому, что чуждо всякого расчета, глубоко потому, что свободно от всякого анализа, и неколебимо потому, что иррационально... Монархия - это воплощение отечества в одном человеке, излюбленном и священном в качестве носителя и представителя его идеи»59.
Де Местр, как известно, прожил в России полтора десятилетия, был одной из самых популярных фигур в петербургском дипломатическом корпусе, и главные его работы написаны тоже здесь. Едва ли можно сомневаться, что именно он и был истинной музой николаевских патриотов-государственников. По крайней мере, они оказались единственными в Европе политиками, попытавшимися воплотить в жизнь его идеи.
Многое им не удалось. Они не сумели, как мы знаем, надолго обуздать ни Пушкина, ни Белинского. Они не смогли растлить русскую культуру, оказались бессильны подавить её либеральное европейское ядро. Но одного у них не отнимешь.
Отождествить Россию с империей и заразить ее культурную элиту пафосом сверхдержавности, они сумели. И подменить патриотическое чувство идеологией национализма удалось им тоже60.
В этом, собственно, и заключается то роковое наследство, которое оставила по себе Официальная Народность. И через многие десятилетия после смерти Земного бога все еще суждено, как видим, этому наследству отзываться в русской культуре тяжелейшими реци-
Цит. по: Русский вестник. 1889. С. 79-80.
Влияние идей де Местра прослеживается, однако, не только у его петербургских современников. На самом деле оно настолько преобразовало весь стиль мышления постниколаевской эпохи, что следы его легко можно обнаружить и у многих «нацио-дивами государственного патриотизма. Отчасти потому, что никогда не было николаевское царствование осмыслено экспертами как гигантский водораздел в постекатерининской истории России, как разрушение дела Петра и вторая великая самодержавная революция, отличавшаяся от первой из них (опричнины Ивана Грозного), тем, что роль тотального террора XVI века впервые сыграла тотальная идеология.
Мало того, однако, что не осмыслена до сих пор эта судьбоносная, можно сказать, идеологическая революция. Сегодняшние отечественные национал-либералы еще и отчаянно сопротивляются
такому осмыслению, пытаются реабилитировать как самого Николая, так и творца его Официальной Народности. Вот лишь два примера (первый из них читатель трилогии, надеюсь, помнит).
Один из колеровских «производителей смыслов» так рассуждал о Николае и его царствовании: «Если выбирать исторические параллели, то путинский образ ближе всего к образу Николая I, столь нелюбимого интеллигентами и репутационно замаранного, но при этом - абсолютно вменяемого... В отличие от своего братца Александра, Николай - вменяемый, искренне национальный, честный, но политически неглубокий, немасштабный».61 Другой эксперт пытается спасти репутацию Уварова. Если избавиться, пишет он, от «фильтров и штампов историографии XIX и XX веков», мы тотчас увидим, что «Уваров настаивает на том, что Россия должна искать не путь, отдельный от Европы, а путь самостоятельного творчества в Европе».62
нал ьно ориентированных» русских мыслителей XX века. Например, у Льва Тихомирова в его «Критике демократии» (М., 1997); у Ивана Ильина (см. его: «О грядущей России». М.: Воениздат, 1993); у Михаила Назарова («Тайна России». М.: Русская идея, 1999) и у Ивана Солоневича (см.: «Наша страна: XX век». М.. 2001).
Архангельский А.Н. См.: Колеров М. Новый режим. М.. 2001. С.37-3В
Неприкосновенный запас. № 51, Интервью с А.И. Миллером
Герцену в известном смысле простительно было пройти мимо идеологической революции Николая, его чудовищной Официальной Народности и порожденной ею идеи «русской цивилизации». В его время было это еще слишком ново, феномен тоталитарной идеологии только-только зарождался. Но как, спрашивается, могли не заметить всё это люди, полжизни прожившие именно в такой насквозь идеологизированной стране? Как могли они не увидеть, что если и Екатерина и её царствовавший до 1825 года внук, точно так же, как декабристы, чувствовали себя в Европе дома, то головокружительный поворот к альтернативной «цивилизации», который пытался я здесь продемонстрировать, не мог быть ничем иным, кроме революции?
Должны бы, казалось, современные эксперты заметить хоть грозный след этой второй самодержавной революции, так глубоко отпечатавшийся в ментальности пришедшей после неё русской культурной элиты, да и в их собственной, если на то пошло, ментальности. Ведь след этот буквально бьёт в глаза.
Сергею Муравьеву-Апостолу, допустим, представителю доникола- евского поколения, пошедшему на виселицу ради российской свободы, даже ведь и спорить было бы не о чем, скажем, с Константином Леонтьевым, не менее ярким представителем поколения постниколаевского, провозгласившим, что «русская нация специально не создана для свободы». Не было у этих людей общего языка, словно бы пришли они из разных стран, из разных эпох, даже из разных культур. Вот же какой на самом деле был результат уваровского «самостоятельного творчества в Европе».
Так могла ли столь неизмеримой глубины пропасть между поколениями возникнуть сама собою - без идеологической революции «искренне национального» Николая? Тем более, что никуда ведь не делась эта пропасть и в наши дни. Достаточно, кажется, нам заглянуть в самих себя...
Глава вторая У истоков «государственного патриотизма»
пройденного?
Почему бы, впрочем, и впрямь не заглянуть? Тем более, что есть такая возможность. Как мы уже во вводной главе говорили, М.А. Колеров взял на себя труд опросить в пространных интервью 13 сравнительно молодых людей своего поколения (1950-1960-х г.р.) на предмет того, что думают они о прошлом и будущем России. Опрошенные были людьми самых разных убеждений, но все - либеральные интеллигенты, которых Колеров счел «производителями смыслов» для нашего времени, т.е. писателями, которые вырабатывают «язык общественного самоописания, самовыражения и риторики»63. Результаты опроса были изданы отдельной книжкой под названием «Новый режим», пусть крохотным тиражом, но ценности, мне кажется, необыкновенной.
А.Н. Архангельский был лишь одним из собеседников Колерова. Но то обстоятельство, что он не заметил роковой роли государственного патриотизма в российской катастрофе 1917-го, в высшей степени характерно для всего сборника. Не заметил он, разумеется, и того, что обязана Россия возникновением этого феномена именно режиму Николая I и его идеологии Официальной Народности, которая, собственно и была первой исторической формой государственного патриотизма в России (второй был панславизм). Впрочем, не заметил этого ни один из респондентов Колерова.
Что никто из них не знает удивительного заключения, к которому пришел Н.В. Рязановский, в порядке вещей: историков среди них было немного. Встревожило меня другое. А именно, что ничего не знают они и о драме патриотизма в России, той самой, которую объяснил нам Владимир Сергеевич Соловьев. Не знают, словно бы и не . сбылось его грозное пророчество и не «самоуничтожилась», как он предсказывал, в результате этой драмы в 1917 Россия. Словно и не «выпала» она по причине этой Катастрофы из Европы - на три поко-
63
Повторение
Леонтьев К.Н. Письма к Фуделю//Русское обозрение. 1885. №1.0.36.
ления. И словно бы, наконец, не определило это «выпадение» нашу сегодняшнюю «интеллектуальную повестку дня», говоря языком Колерова.
Читатель, конечно, уже догадался, почему меня это встревожило. Просто, как никогда, актуальна сегодня, на очередном историческом распутье России, заповедь американского философа Джорджа Сантаяны. Потому что, говоря его словами, забыв прошлое, мы и впрямь рискуем повторить его снова. И слишком уж похож флирте национал-либерализмом, пронизывающий «Новый режим», на повторение пройденного. На то, как больше полутора столетий назад начиналась идейная драма, закончившаяся «самоуничтожением» России.
Во всяком случае в старинном русском споре между Муравьевым-Апостолом и Леонтьевым, который мы только что упоминали, многие из собеседников Колерова пусть еще и не готовы стать на сторону Леонтьева, но не согласны уже и с Муравьевым. Не случайно же заметил один из них Андрей Зорин, что «среди самых существенных и горьких для меня утрат - нарастающее разочарование в идее личной свободы»64.
Для историка, знакомого с центральным парадоксом славянофильства, так же очевидно, как было это для Герцена в 1850-е, что первый шаг в направлении государственного патриотизма, как следует из сборника Колерова, уже сделан: постулат «Россия не Европа» большинством его собеседников принят. Причем, принят именно как постулат, т.е. как нечто само собою разумеющееся. Впрочем, и там, в Европе, конечно, есть наши, например, сербы, да и то лишь времен Милошевича, когда они еще полны были энтузиазма противостоять Европе и готовы отстаивать суверенитет (слово, стремительно вытесняющее из общепринятого дискурса свободу) своей мини-империи - пусть хоть ценою геноцида, как в 1995 году в Боснии. Или этнической чистки, как в 1999-м в Косово.
Так или иначе, налицо все признаки окончательного раскола и поляризации в лагере российской либеральной интеллигенции - полюса уже обозначены и даже лидеры названы: «Максим
64 Колеров М. Цит. соч. С. 37*38.
Соколов - либеральный националист... Андрей Зорин - либеральный космополит» (под космополитами, надо полагать, имеются в виду те, в чьем списке приоритетов критерий Муравьева всё еще стоит выше суверенитета65.
То же самое, между прочим, ставится в вину и B.C. Соловьеву - за «черты политического либерализма, космополитизма» (и, по-видимо- му, за презрение к национальному эгоизму, подозрительно напоминающему сегодняшнее преклонение перед суверенитетом66.
Вопрос теперь лишь в том, готовы ли новейшие национал-либералы к открытой конфронтации с Европой, собственно, и послужившей в XIX веке настоящей завязкой драмы патриотизма в России. Если верить историческому опыту, требуется для этого событие, эквивалентное Крымской войне, действительно способное сделать вырождение национал-либерализма необратимым. (В 2001 году, однако, момент такой еще не наступил). Во всяком случае их попытка использовать в этом качестве патриотическую истерию, вызванную косовским конфликтом 1999-го, наткнулась, как мы скоро увидим, на идейное сопротивление в их собственном лагере и завершилась ничем - несмотря на то, что некоторые собеседники Колерова (и прежде всего он сам) пробовали поднять её на щит.
Естественно, первым, кто заметил эту угрозу, был лидер «либеральных космополитов» Андрей Зорин. «Мне кажется, - говорит он, - что решающей точкой, когда этот невроз стал определять национальное самосознание, были косовские события»67. Вот как развивает это признание Колеров: «Весна 1999-го надавала по щекам... интернационалистам... Общественное мнение ждало этой последней точки, когда сам Запад надаёт по щекам своей пятой колонне»68.
Значит, предчувствовало, подозревало это «общественное мнение», что Зорин и его единомышленники представляют в России пятую колонну Запада. «Толпы молодых людей, в том числе получив-
6s Там же. с. 8.
66
Там же. С. 30.
т
Гам же. С. 152.
т
Там же. С. 22.
ших западное образование, работавших за границей, белые ворот- нички, уже настроены были вполне националистически»69. Они-то, надо полагать, и подозревали. И вот Запад предоставил им, наконец, в Косово неопровержимую улику.
Очень, согласитесь, напоминает это всё времена Чаадаева. Помните, «явилась новая школа, не хотят больше Запада, хотят обратно в пустыню»? Разумеется, впереди желающих «обратно в пустыню» лидер либеральных националистов Максим Соколов. Он уверен, что «Косово шокировало либеральных деятелей потому, что они так верили товарищу Клинтону, как, может быть, не верили себе». И так отчаянно подвел их упомянутый товарищ, что «когда получилась незадача, почва ушла у них из-под ног»70.
Глава вторая
II ~ У истоков «государственного
незадача : патриотизма»
Читатель вправе упрекнуть меня, что исследование драмы патриотизма в России разворачивается здесь, словно бросая вызов хронологии, сразу в двух временных измерениях - историческом и современном. Грешен, не отрицаю. Согласитесь однако, что, глядя на русскую историю как на единое целое, трудно, почти невозможно избавиться от ощущения: она · повторяется. И самое драматическое в этих повторениях то, что действующие лица в них неповинны. Они-то совершенно уверены, что действуют по собственной воле и разумению, а между тем почти буквально повторяют реакции предшественников, живших в совсем иных исторических обстоятельствах. Соколов, допустим, копирует реакцию Тютчева на Крымскую войну, ни на минуту об этом не подозревая. Боюсь, невозможно передать читателю эту удивительную особенность драмы патриотизма в России, не разворачивая её сразу в двух временных измерениях. Пусть, впрочем, читатель судит сам.
Какая же такая незадача случилась той весной, по мнению Соколова, у «пятой колонны» Запада в России? Речь, как понятно из
69 там же. С. 43. 7° Там же. С. 53.
контекста, об этнической чистке, которую затеял той страшной зимою в Косово покойный сербский диктатор Слободан Милошевич, «очищая» эту провинцию от подавляющего большинства её населения. Так во всяком случае видели происходившее тогда в Косово на экранах своих телевизоров миллионы потрясенных зрителей в остальном (т.е. не российском) мире. Зрелище и впрямь было не для слабонервных. По всем косовским дорогам тянулись нескончаемые живые ленты детей, женщин и стариков, изгнанных в чем были из своих домов сербскими штыками (мужчины, которых не успели расстрелять, ушли в партизаны).
Есть у меня об этих событиях и личные впечатления, пусть и косвенные. Впрочем, такие же, как и у российских национал- либералов - только с другого, так сказать, берега. В 1990-е жил я в Нью-Йорке, преподавал в аспирантуре городского университета. Читатель, может быть, не знает, что Нью-йоркский городской университет- самый большой в мире, в его состав входит дюжина колледжей ( почти каждый величиной, скажем, с РГГУ), но аспирантура одна. И оказывались в ней поэтому студенты практически всех национальностей и самых разных убеждений - от твёрдых сторонников Рейгана до пламенных поклонников Че Гевары. И спорили они отчаянно - как между собою, так и со мной. Консенсуса в моих классах практически не бывало - ни по какому вопросу. За исключением одного - о Милошевиче.
Никто наоспаривал, что он монстр. Никто не называл его иначе, чем «балканский мясник». Я честно пытался затеять хоть сколько- нибудь приличную дискуссию. С большим трудом отыскал профессо- ра-серба, который придерживался другого взгляда на Милошевича (он, мол, предотвратил в Югославии несчастную судьбу России, которая добровольно сдалась на милость американских империалистов. Дескать, русские капитулировали без выстрела, тогда как Сербия высоко несет знамя Сопротивления). Я пригласил его прочитать в моем классе лекцию. Так ведь затопали, заклевали его студенты, а мне пришлось потом долго и публично извиняться перед профессором-диссидентом.
Но вердикт студентов остался прежним, брезгливым: партаппаратчик, который ради дикой имперской фантазии развязал в одном десятилетии четыре войны, загубив сотни тысяч молодых жизней. Одним словом, червяк. Чем раньше его раздавят, тем лучше.
Вернемся, однако, к живым лентам бездомных, мучительно медленно тянувшихся той зимою 24 часа в сутки по всем телеэкранам мира, вызывая ужас и возмущение миллионов потрясенных зрителей, спрашивавших друг у друга, как может такое зверство происходить безнаказанно на глазах у всей Европы - в конце второго христианского тысячелетия. Возмущены, впрочем, были не одни телезрители. Непосредственным свидетелям было, конечно, еще хуже. Вот, например, недавнее признание бывшего корреспондента лондонской Times в Югославии Адама ЛеБора: «Как и мои коллеги, я был потрясен неспособностью мира остановить этот ужас»71. Почему, - спрашивали все, - терпят это злодейство европейские правительства? Почему молчит Америка?
Зрители были неправы. Ни Европа, ни Америка не молчали. Они увещевали Милошевича, они угрожали ему, даже ультиматумы предъявляли. Но диктатор стоял, как скала, уверенный, что не посмеют все эти слабонервные западные «гуманисты» посягнуть на его право делать со своим народом все, что ему заблагорассудится. В конце концов Сербия - суверенное государство. И покуда на стра- же её суверенитета стояла братская Россия, Милошевич чувствовал себя как за каменной стеной. ^
Ничего, кроме презрения, не вызывали у него ни мольбы международных неправительственных организаций, озабоченных судьбой ставших вдруг бездомными мерзнущих и голодных детей, ни уговоры дипломатов, ни угрозы НАТО. Но почему молчала Россия? Почему, в отличие от европейцев, не возмутилась таким очевидным злодейством московская интеллигенция? Почему её не взволновала судьба замерзающих детей? Ведь ясно же было, достаточно России объяснить Милошевичу, что она не потерпит возрождения сталинистских зверств в конце XX века - и страданиям сотен тысяч бездомных будет тотчас положен конец (так ведь впоследствии и случилось).
The New York Times. 2006. March 15.
Не спрашивайте об этом российских национал-либералов: они были слишком заняты срыванием масок с империалистов НАТО, посмевших угрожать суверенитету братской Сербии, чтобы заметить страдания чужих детей. По-настоящему заволновались они, лишь когда под мощным давлением своего общественного мнения и убедившись, что протестами бездомных детей не спасти, правительства Северо-Атлантического альянса решились, наконец, применить силу. Начались бомбардировки стратегических объектов Сербии. Вот тогда и развернул над океаном свой самолет Примаков и Россия «вспряла ото сна». По словам одного из собеседников Колерова, «именно в результате этого события [произошло в России] не ложное, но настоящее пробуждение национального самосознания»72.
72
Читатель, уже знакомый с аналогичным «пробуждением» московской публики по поводу «Философического письма» Чаадаева, когда, как мы помним, даже «студенты Московского университета готовы были с оружием в руках защищать честь нации», не удивится, что и косовские переживания вылились в очередную патриотическую истерию. Понятно теперь, какая случилась у российской пятой колонны «незадача»? И каким образом «надавал ей по щекам» Запад? Так и ждешь после этого иеремиаду по поводу богомерзких народов, что «со дна воздвиглись царства тьмы».
Глава вторая
г^ У истоков «государственного
всем сестрам патриотизма»
по серьгам?
Как это всё объяснить, спрашивал я у знакомых. Их ответы разошлись кардинально - в зависимости оттого, с какой стороны наблюдали они косовскую трагедию. Вот что сказал питерский литератор, видевший её с российской стороны: «Мне кажется, что с Косово всё много сложнее этого деления на зверей-сербов и агнцев-албанцев. И колонны беженцев - это ведь бежали не от зверств сербской полиции, а из опасений таких зверств в ответ на вооруженную борьбу албанских партизан-сепаратистов, начавших
Колеров М. Цит. соч. С. 149.
стрелять первыми... Если судить по результатам, то имела место этническая чистка, в которой жертвами стали сербы». И в завершение заметил: «Я считаю, что роль европейских держав (включая Россию) в балканских событиях 90-х - это позор в истории человечества».
С точки зрения фактической тут несколько ошибок сразу. Действительно, первые колонны беженцев появились на косовских дорогах после наступления югославской армии в октябре 1998 года. Тогда 250 тысяч косоваров-католиков ушли вслед за своим архиепископом в изгнание в Македонию. Именно это и заставило Европу зашевелиться и созвать в феврале 1999-го международную конференцию в Рамбуйе. Там Милошевичу и был предъявлен ультиматум - либо он восстановит в Косово автономию, которую произвольно отменил в 1989-м, либо в Косово будут введены войска НАТО.
Но вопрос-то мой был о другом. О том, что в ответ на февральский ультиматум югославская армия посреди зимы приступила к изгнанию из Косово почти полутора миллионов (!) косоваров. Это правда, большую их часть увезли в Албанию по железной дороге в таких же вагонах для скота, в каких при Сталине вывозили народы Северного Кавказа и Крыма. Только на полтора миллиона человек вагонов не хватило. Вот тех, кто остался, и гнали по косовским дорогам в Албанию, где никто их не ждал и не собирался принимать. И бездомными оказались эти люди вовсе не «из опасений», как в октябре 1998-го, но потому, что армия, исполняя приказ своего главнокомандующего, дома их сожглс^
Замысел Милошевича после Рамбуйе был совершенно прозрачен: полностью очистить провинцию от косоваров (хотя численность их по отношению к сербам равнялась 10:1 уже в 1968 году, когда Тито дал Косово статус автономии). Вот этой страшной операции и предназначены были положить конец бомбардировки стратегических объектов Сербии. А как еще можно было её остановить? Или вообще не было нужды её останавливать? Пусть гибнут чужие дети? Примечательно, что критик этого «позора в истории человечества», как и все российские критики, не предложил никакой альтернативы воздушной кампании НАТО.
А партизаны Армии освобождения Косово, между прочим, никак
не могли «начать стрелять первыми». По простой причине: их и в помине не было прежде, чем Милошевич, намеренно провоцируя вооруженное сопротивление, отменил автономию и ввел в Косово прямое президентское правление. Я не говорю уже о том, что на первых порах самой влиятельной политической силой была в Приштине Лига демократического Косово под руководством последователя Ганди и пацифиста Ибрагима Руговы. И добивалась она вовсе не независимости, а всего лишь восстановления автономии. Её-то авторитет и подорвал своими зверствами Милошевич. В журнале «Форин афферс» один из руководителей партизанской армии так объяснил её появление американскому корреспонденту: «Хватит с нас всех этих албанских интеллектуалов, журналистов и дипломатов из Приштины. Они не спасли наших детей и женщин. Пришла наша очередь»73.
Теперь о главном. Я отнюдь не оправдываю поведение европейских держав в косовской трагедии. Речь может идти лишь о том, какие из них виноваты в ней больше, какие меньше. Прибегнем к простой метафоре. Допустим, горит в деревне чей-то запертый на замок дом. В доме задыхаются дети, а вокруг бестолково мечутся соседи и спорят между собою, как их лучше спасать. Спор кончается тем, что решают, наконец, дверь взломать. А потом вдруг обнаруживается, что у одного из соседей всё это время был в кармане ключ от дома - и детей можно было спасти.
Проще простого обвинить в трагедии сразу всех соседей, как и делает мой собеседник: все, мол, одним мирром мазаны. Но не означает ли это попытку освободить от моральной ответственности именно того, кто мог предотвратить трагедию?
Глава вторая У истоков «государственного патриотизма»
«с того берега»
Другой мой собеседник объяснил разницу в восприятии косовской контроверзы в России и в осталь-
Otrpt
73 Foreign Affairs. 1999. May-June. P. 32.
ном мире «информационным железным занавесом». Вот его позиция: «Моё мнение о косовском конфликте сложилось во время работы в США на основе постоянных си-эн-эновских картинок - о страданиях беженцев, о зверствах сербской полиции, изгонявшей их из домов, о маленьких детях, замерзавших при переходе через горы. Оно подкреплялось многочисленными интервью с пострадавшими, рассказами корреспондентов и моих же коллег, участвовавших в гуманитарных миссиях. Я, конечно же, не был в плену мифов о том, что Америка выкрутила руки европейцам, заставив их присоединиться к военным действиям. Ведь со мной работали коллеги буквально из всех европейских государств, и я отлично представлял себе настроения в их странах. Дядя моей коллеги-шотландки пытался даже записаться добровольцем в британский контингент. И он был не один.
Но в России-то видели совсем другие картинки: как американские самолеты ни с того ни с сего стали бомбить сербов. Просто чтобы показать - кто в доме хозяин. Бесчисленные кадры разрушенных домов и больниц, тысячи интервью с очевидцами с той стороны. И никаких кадров о массовом изгнании косоваров, о муках детей, конечно же, не показывали. То есть это проскальзывало в пропорции 1:1000 и, естественно, терялось с точки зрения информационного воздействия. Неудивительно, что даже у интеллигенции сформировалось на чисто эмоциональном уровне совсем иное отношение к косовской проблеме, чем на Западе. А это самое важное. Это - в подкорке. Если люди убеждены, что одна сторона - «плохие парни», а другая - «хорошие», переубедить их рациональными аргументами задача неблагодарная. Это как в футболе - убедить кого-то стать болельщиком другой команды».
Сильная точка зрения, верно? Так оно, по-видимому, и было. Единственное, чего здесь не хватает - ответа на вопрос: откуда взялся этот «информационный железный занавес» в 1999 году? Ведь политически рухнул он еще десятилетием раньше. И тотального контроля над федеральным телевидением, как в 2000-е, тоже еще не было. Не сговорились же, в самом деле, руководители всех федеральных каналов не показывать страдания детей на косовских доро-
гах! Но ведь не показывали. То, от чего с ума сходил остальной мир, оставило их почему-то равнодушными. Почему?
Неужели для усиления драматического эффекта, чтобы, когда начались бомбежки, выглядели они, как говорит мой собеседник, «ни с того ни с сего»? Или прав Колеров и «общественное мнение действительно ждало этой последней точки, когда сам Запад надает по щекам своей пятой колонне»?
Глава вторая У истоков «государственного патриотизма»
пороховницы
Как бы то ни было, на Крымскую войну это «пробуждение» московской публики в 1999 Г°ДУ> слава богу, не тянуло - по многим причинам, обсуждать которые здесь нет смысла. Не последнюю роль, впрочем, сыграло в этом одно непредвиденное организаторами патриотической истерии обстоятельство: оказалось, что не все, причисляющие себя к национал-либералам, ведут свою родословную от Уварова. Вотлишь один пример.
Дмитрий Шушарин характеризует себя как «националиста, либерала, человека правых взглядов»74. Колеров, естественно, ловит его на противоречии: «Ты назвал себя националистом. При этом многие говорят о наблюдаемом сейчас националистическом возрождении, которое связывают с переживанием косовского кризиса. Но я помню, что в дни косовского кризиса ты менее всего выступал с осуждением американской политики в отношении Косово, а больше фокусировался на проблемах югославского режима, который привел страну к этому кризису. То есть в тот майский день русского национализма ты оказался не со своим народом»75.
Шушарин ответил на удивление по-чаадаевски: «Сербы - не мой народ... я считаю нормальным фокусироваться не на том, что делает Америка, а на том, что делает Россия. А её действия... оказались в стороне от всего происходящего»76. Он даже сравнил режим
КолеровМ. Цит. соч. С.72.
Там же. С. 71 (выделено мною - АЛ.)
Чаадаевские
Там же.
Милошевича с гитлеровским. Но оскорбленный в лучших чувствах Колеров не примирился, конечно, с таким очевидным поруганием своей святыни. Тем более, что в запасе у него был еще всепобеждающий, по его мнению, аргумент: «Россия, наверное, все-таки поддерживала не Милошевича, а свою идентичность, потому что, на мой взгляд, с полным основанием понимала, что для Запада нет разницы - Югославия или Россия, просто Югославия доступна для изнасилования, а Россия пока нет»77.
«Никогда не была и не будет, - стоял на своем отступник. - Подобного рода национальная логика самоидентификации свидетельствует о самоуничижении... В случае с Косово мы совершенно напрасно идентифицировали себя с сербами. Почему, собственно, мы должны считать, что у нас больше общего с ними, нежели с немцами, французами или американцами?.. Такая политика не рациональная и в конечном счете не национальная»78.
Очень тактично, как видим, обращает внимание Шушарин на языковое неряшество своего оппонента, особенно удручающее у Колерова, считающего себя пуристом «идеологического языка»79. Странным образом спутал он национализм с национальностью. Между тем Соловьев объяснил нам разницу между этими понятиями еще век с четвертью назад. Да, - писал он, - национализм связан с национальностью, но лишь «на манер чумы или сифилиса»80. Ведь и вправду, при чем здесь «идентичность России»?
Языковая неряшливость Колерова выдаёт, однако, полную неспособность «произвести» какой бы то ни было «смысл» в том, что он пытался, но не посмел выразить. Ну, как в самом деле представляли себе национал-либералы идеальную позицию России в косовском конфликте? Что следовало ей сделать, чтобы «поддержать свою идентичность»? Противопоставить себя всему волнующемуся миру и заявить во всеуслышание: либо вы позволяете Милошевичу довести до конца чудовищную этническую чистку, либо вы меня не уважаете? Какой, еще,
Там же. С. 72.
Там же.
Там же. с. 6.
Соловьев B.C. Письма. Спб., 1909.1л. С. 46.
спрашивается, смысл могло бы иметь это заявление, если не добровольную идентификацию с преступлением против человечества? Или, если хотите, кроме национального позора? Да и вообще разумно ли пытаться строить международные отношения на логике пивного ларька?
Так или иначе, Шушарин в принципе отверг эту непристойную логику, спасая тем самым, если угодно, честь русской интеллигенции. Оказалось, к счастью, что есть еще порох в чаадаевских пороховницах.Почему после этого считает он себя националистом, отнесем на счет терминологического хаоса, царящего сегодня в России. Я во всяком случае этого не понял. Колеров, кажется, тоже. Надо полагать, мода такая. Происходит она, по-видимому, из того, что в принципе не любят российские интеллектуалы сверхдержавных гегемонов (в случае, конечно, когда не Россия эту должность исправляет). Ведь точно такую же позицию, как сейчас в отношении Америки, занимали они в начале XX века в отношении вильгельмовской Германии и, что еще интереснее, даже в отношении наполеоновской Франции в начале XIX столетия.
Почему не понял этой аналогии Андрей Зорин, именно о тех наполеоновских временах написавший книгу, ума не приложу. Видит же, что, как и тогда, «сегодня социальный заказ на державничество с человеческим лицом, почвенничество, приправленное... тяжелым традиционалистским пафосом» (разве что исполнял в 2001 году роль Наполеона «товарищ Клинтон»81. Знает и то, что именно косовский конфликт, обличивший иррациональность и даже «ненациональность», по выражению Шушарина, политики московских национал-либералов, оказался «майским днем нового русского национализма». Знает - и все же, в отличие от Шушарина, не находит в себе силы от неё отречься. И тоже винит во всем Америку: «Клинтон едва ли вполне понимал, что он делает и каковы будут последствия»82.
Колеров М. Цит. соч. С. ю-и.
Там же. С. 22.
По второму
1/п\/г\/?
кругу:
Глава вторая У истоков «государственного патриотизма»
Каковы, однако, последствия? «Сербы
с Милошевичем разобрались, - словно бы отвечает на этот вопрос Шушарин, - в Москве полагали, что народная любовь к Слободану безгранична - и просчитались»83. Сербский народ, короче говоря, изгнал своего диктатора. Этнической чистке, как и вообще балканским войнам, положен был предел, диктатор предстал перед Гаагским трибуналом, обвиненный в преступлениях перед человечеством. Правильные, одним словом, последствия. Надо ли за них извиняться?
Это правда, что косовские черносотенцы могли бы попытаться теперь отомстить оставшимся в Косово сербам за жестокие страдания, которые причинил их детям в 1999-м покойный сербский диктатор. Только не позволит ведь этого им Европа. Да, она согласилась, что после грандиозной, потрясшей мир этнической чистки Косово не может больше оставаться в составе Сербии. Но согласилась лишь на условии, что косовары будут уважать права сербского меньшинства, сколь бы ни было оно незначительно.
Разумеется, независимость Косово и сегодня приводит в ярость российских национал-либералов (это, правда, нисколько не мешает им уверять честной народ, что Абхазия не может оставаться в составе Грузии, хотя никаких этнических чисток грузины там не устраивали). Впрочем, после того, как единомышленники Колерова умудрились «не заметить» в 1999-м замерзавших детей на косовских дорогах, одни лишь бомбежки сербских объектов, не причинившие детям Сербии и тысячной доли этих страданий, мир едва ли удивится их двойным стандартам. История запомнит лишь U-turn Примакова, логику пивного ларька и «тяжелый традиционалистский пафос» в ответ на художества Милошевича.
В любом случае разве не было обязанностью «русского европейца» отречься не только от этого пафоса, как Зорин, но и от породившей его логики, как сделал Шушарин?
83 Там же. С. 73.
При всем том главное упомянул Шушарин лишь вскользь. Я имею в виду, что политика России в разгар косовской контроверзы действительно «оказалась в стороне от всего происходящего». Отсюда между тем и возникает второй, совершенно уже актуальный вопрос: ближе ли была «ко всему происходящему» политика России девять лет спустя?
В 1999-м заключалась она в том, что этническая чистка в Косово трактовалась как внутреннее дело Югославии, вмешиваться в которое не вправе никто без разрешения Совбеза ООН (которое, как мы помним, было надежно заблокировано российским вето). Договаривайтесь с Милошевичем - таково было её мотто. Не можете договориться? Тем хуже для вас. Другими словами, была тогда политика России бесплодна, как библейская смоковница. Или, говоря на современном жаргоне, это была политика спойлера, неспособного предложить решение конфликта, но твердо намеренного помешать другим.
Никаких ведь бомбежек Сербии не было бы, сделай Россия до них то, что сделала после них!
Удивительно ли, что подавляющее большинство европейских политиков не простило этого России? Потому и поддержало стремление Приштины к независимости, даже понимая его несвоевременность.
Впрочем, их-то логику понять можно. Ибо когда стала бы независимость Косово своевременной? За пять лет до 2008-Г0? Через десять лет после него? Армяне и до сих пор не простили туркам аналогичную этническую чистку 1915-го! Согласились бы они после этого оставаться в составе турецкого государства пусть и столетие спустя - при какой угодно автономии?
Добавьте к этому, что и по сей день не признает большая часть сербов, что их бывший президент - при поддержке своего общества - совершил в Косово эпохальное преступление, какого ни один уважающий себя народ никогда обидчикам не прощает. В особенности, если они не только не покаялись, но и честят его на всех перекрестках наркомафией и недочеловеками. Так не резонно ли спросить, зачем так упорно - и страстно - пытаются сербы удержать этих недочеловеков в составе своего государства?
Что до России, то она ведь и в 2008 году занимала ту же позицию, что и девять лет назад. Договаривайтесь с Сербией, рекомендовала она Европе (и косоварам). Не можете договориться, тем хуже для вас. Но нарушать суверенитет Сербии, да еще без разрешения Совбеза ООН (которое она по-прежнему надежно блокирует своим вето), не позволим. Международное, видите ли, право...
Самое, однако, интересное в том, что те же национал-либералы, которые клянутся международным правом, тут же, не переводя дыхания, требуют, как мы уже говорили, расчленить Грузию (несмотря даже на то, что ситуация сложилась в Абхазии прямо противоположно Косово: не грузины «вычищали» абхазов, а, напротив, абхазы «вычистили» грузин). Замечательная, согласитесь, логика. Поистине национал-либеральная...
Глава вторая У истоков «государственного патриотизма»
самоуничтожения
У меня нет сомнения, что, создавая полтора столетия назад национал-либеральную картину про-
шлого своей страны, Константин Аксаков ужаснулся бы, будь он жив в 1917-м, тому, с какой неумолимой логикой привела она к «национальному самоуничтожению» России. Я говорю о соловьевском законе деградации патриотизма, с такой жестокой очевидностью подтвержденном историей. Вот почему пугает меня стремление новейшего национал-либерализма подменить грозную логику соловьевского пророчества, логикой пивного ларька, опять именуя её патриотизмом. Больше того, пытаясь раскассировать это пророчество, высмеять его, приписав Соловьеву расплывчатые, утопические мудрствования о «национальном самоотречении [и] вселенской гармонии а ля Достоевский»84.
Я не знаю, как назвать эту намеренную глухоту серьезных, эрудированных интеллигентных соотечественников иначе, нежели зовом
8/» Там же. С. 152.
самоуничтожения. Ведь предсказание Соловьева как раз и было ответом на аналогичную сегодняшней «резкую смену риторики с космополитической на патриотическую»85, как именуют это единомышленники Колерова. Совершенно ведь недвусмысленно объяснил это нам Владимир Сергеевич, и история его объяснение, как мы знаем, подтвердила исчерпывающе.
В этом смысле можно сказать, что самоуничтожение уже сегодня говорит с нами, будь то в набирающем силу самоубийственном крике «Россия для русских!». Или в полубезумном нигилистическом лозунге А.Г. Дугина «Россия всё - остальные ничто!». Или в той же дерзкой попытке покойного В.В. Кожинова отстоять от либеральных космополитов патриотическое достоинство русских черносотенцев начала XX века.86 Или «в тупом антиамериканизме как государственной идеологии», по выражению того же Шушарина87. Или в пронизанных ненавистью иеремиадах А.А. Проханова. Напомнить? «Америка смешна, Америка отвратительна... Она лопнет, как переполненный нечистотами бычий пузырь... Её солдаты - трусы. Её политики - развратники и хулиганы... Её актеры - содомиты. Тексты её литераторов дышат СПИДом»...
Право, нужно быть глухим, чтобы не услышать за всем этим грозное приближение последней ступени «лестницы Соловьева».
Глава вторая
П У истоков «государственного
Д е вять л ет с пу стя патриотизма,
v Мы можем с уверенностью сказать, что, объявив косов-
*
ский кризис «майским днем нового русского национализма», Колеров был и прав и неправ. Прав в том смысле, что кризис этот и впрямь вызвал раскол в либеральной интеллигенции. Необратим ли этот раскол, однако?
Каждый, кто внимательно читал исследователей аналогичных идейных конфликтов в XIX веке, тех же Чаадаева, Герцена, Пыпина
Там же. С. 164.
Кожинов В.В. Черносотенцы и революция. М., 1998. Колеров М. Цит. соч. С. 67.
или Соловьева, знает, что от возникновения национал-либерализма до трансформации его в национал-патриотизм, а тем более в идею- гегемона национальной мысли (по Грамши) - дистанция огромного размера. Да, первый шаг и вправду сделан. В XIX веке таким шагом было, если помнит читатель, представление о реформах Петра как о беззаконном вторжении Запада в русскую жизнь. В XXI веке стало им признание государственного суверенитета высшей ценностью (вместо общеевропейских гарантий от произвола власти) и объявление оппонентов «пятой колонной Запада».
Второму шагу, логически из этого вытекающему, следовало быть позитивным, проектом, так сказать, будущего. Славянофилы, скажем, провозгласили, что обнаружили образец разрушенной Петром истинно русской жизни в архаической Московии с её православным фундаментализмом. Но что предлагают в качестве такого второго шага, т.е. своей версии будущего, постсоветские национал-либералы? Границы России по Нилу и Евфрату в сочетании с «православным папой в Риме», пригрезившиеся при Николае Тютчеву? «Универсальную империю» по лекалам Карла V и Наполеона, как предлагал тогда Михаил Погодин? Панславизм, которым бредили поздние славянофилы? «Православие или смерть» вслед за дьяконом Андреем Кураевым? «Империю или смерть» вслед за Александром Дугиным? Или что?
Геннадий Зюганов живет идеей возвращения в СССР, Александр Проханов, напротив, желает вернуться в православную евразийскую империю. Но ведь все это уже в русской истории было. И православной была империя, и евразийской, и советской. И всё неизменно заканчивалось одним и тем же - тяжелейшей социальной и политической травмой. Потому, наверное, и противопоставили официальные круги всему этому тоскливому эпигонству семантические игры, переименовав, например, то, что всегда обидно называлось сырьевым придатком развитого мира, в «энергетическую сверхдержав- ность». Но ведь даже помимо легендарной неустойчивости сырьевого рынка, угробившей не так давно СССР, Россия уже в 2017 году сама станет, по расчетам ученых, импортером нефти. А импортером газа
еще раньше - в 2012-0М88. И что тогда станется с «энергетической сверхдержавностью»?
Право, хорошо в этом мире живется лишь какому-нибудь Егору Холмогорову с его «Азбукой националиста». Он, можно сказать, эпигон-многостаночник, уверенный, что если собрать вместе всех отцов-основателей русского национализма да почистить им перышки, да приставить к носу Константина Сергеевича лоб Федора Ивановича, а к подбородку Федора Михайловича губы Константина Николаевича, так тотчас и получим мы образцового спасителя России. Беда лишь в том, что все холмогоровские кумиры не только отчаянно друг другу противоречили, но и напрочь, как мы еще увидим, идеи друг друга отрицали, а это уже само по себе делает всю затею непригодной к употреблению в качестве проекта будущего.
Слава богу, у постсоветских национал-либералов более чем достаточно здоровой европейской иронии и политического воображения, чтобы видеть эфемерность всех этих «заменителей будущего», предлагаемых эпигонами. Да, не хотят они больше Запада, говоря словами Чаадаева, но и обратно в пустыню не тянет их тоже.
Где, однако, их собственная альтернатива тому, что Чаадаев, как мы помним, именовал «присоединением к человечеству»? Где их «второй шаг»? Без него ведь немыслимо ни вызвать в стране затяжную патриотическую истерию, как умудрились сделать национал- патриоты в 1908-1914 годах, ни «заразить» своей альтернативой оппонентов, ни тем более превратить их из «пятой колонны Запада»
! в исполнителей своей воли, как удалось это в постниколаевской России славянофилам. Короче, без собственного проекта будущего невозможно, если верить Грамши, сконструировать идею-гегемона в общественной мысли страны. А без нее происходит лишь то, что случилось в ходе косовского кризиса, т.е. мимолетная патриотическая истерия - пришла, ушла и канула в Лету. Потому и канула, что опиралась на заёмный идеал, на чужой, панславистский проект, заимствованный утех же поздних славянофилов.
Akerib Michael. Russian Energy: What Dominant Logic? A6EFI. Luxemburg. Febryary 2006.
Но помимо этой идейной, если можно так выразиться, недостаточности, выяснилось за протекшие с тех пор годы нечто куда более опасное. Выяснилось, что вместо русских европейцев «заразили» постсоветские национал-либералы совсем других людей, а именно героев Кожинова. Причем, те всего лишь довели до логического конца их собственные, национал-либеральные идеи. Например, идею национального суверенитета как высшей ценности (взамен свободы) или представление о русских европейцах («космополитах») как о пятой колонне Запада. Оказалось, что черносотенцы вполне готовы до последней капли крови бороться за суверенность «имперскообразующего» народа, а также против пятой колонны, которую они тоже трактуют как космополитов, инородцев и нерусь.
Больше того, черносотенцы подошли к национал-либеральной концепции творчески. Логически её развили. Они совершенно уверены, что нерусь захватила, оккупировала отечество, напрочь лишив имперскообразующий народ суверенитета. И Путин, для них, следовательно, не более, чем какой-нибудь русский Квислинг, которого дергают за ниточки «богомерзкие народы», не говоря уже о «богохульных умах». И это еще не всё. В отличие от «гнилых» интеллигентов, хотя и придумавших для них всю эту идейную конструкцию, но неспособных ни на что, кроме разглагольствований, они, черносотенцы, готовы защищать суверенитет своего народа с оружием в руках. Они готовы на гражданскую войну, т.е. на полный развал отечества ради сохранения его суверенности. Перефразируя древнюю римскую пословицу, «пусть погибнет Россия, но торжествует суверенитет».
Символом этого черносотенного ренессанса вполне могла бы служить, например, фигура уже упомянутого полковника ГРУ В.В. Квачкова, недавно оправданного судом присяжных. Достаточно его послушать, чтобы не осталось сомнений в том, какого опасного джинна выпустила из бутылки «резкая смена риторики с космополитической на патриотическую». Послушаем?
«Момент истины, - говорит Квачков, - заключается в признании или непризнании нынешней власти в России оккупационной. Для меня оккупация России инородческой властью очевидна. Поэтому
[покушение на Чубайса лишь] первая вооруженная акция национально-освободительной войны... Уничтожение оккупантов и их пособников есть долг каждого защитника Отечества, верного военной присяге... священная обязанность любого воина, независимо от того, воюет ли он в открытой вооруженной борьбе на фронте или действует на оккупированной территории своей страны»89.
Не знаю, случайно ли один из самых страстных патриотических митингов 23 февраля в честь Дня защитника отечества неожиданно превратился в восславление идей, высказанных Квачковым в процитированном здесь интервью, которое дал он, естественно, А.А. Проханову. Нашелся даже среди выступавших еще один полковник, на этот раз военно-воздушных войск, во всеуслышание провозгласивший, что он и его подчиненные не могут дождаться дня, когда начнётся, наконец, гражданская война, по сути, уже объявленная Квачковым.
Нет сомнения, что эти идеи пришли в голову воинствующим полковникам из вторых рук, во всяком случае, конечно, не из текстов Максима Соколова или Модеста Колерова. Квачков и сам эти «вторые руки» обозначает, говоря о том, что воспитал его «Военно-державный союз, возглавляемый генерал-полковником Л.Г. Ивашовым, в работе которого я принимал участие».90 Едва ли также может быть сомнение, что, читая интервью Квачкова, национал-либералы вспоминали не столько римскую мудрость, сколько старинную русскую поговорку: заставь дурака богу молиться, он лоб расшибёт. Однако никуда ведь не денешься от рокового вопроса, кто предложил России идеи, которые в аранжировке генерала Ивашова чреваты гибелью страны.
Короче, вот что выяснилось за последние девять лет. Во-первых, оказалось, что у постсоветских национал-либералов нет «второго шага», т.е. идейной альтернативы всем суррогатам достойного будущего страны, обсуждаемым сегодня в националистических и официальных кругах. Во-вторых, действительная опасность новой Смуты в России исходит вовсе не от Запада и уж тем более не от Андрея
Завтра. 2005, 21 окт.
Зорина, объявленного лидером пятой колонны, но от вполне отечественного Военно-державного союза, от воспитанников Леонида Ивашова, готовых к реальному террору, который они искренне полагают «национально-освободительной войной».
По всем этим причинам я и думаю, что Колеров неправ и национал-либералов, в свою очередь, ждет раскол. Одни будут продолжать спускаться по «лестнице Соловьева» - к национал-патриотизму и ниже, к идеям, скажем, Ивашова. А другие вернутся в либеральные ряды, как вернулся уже, к его чести, Александр Архангельский, и станут честно искать выход из очередного исторического тупика, не страшась традиционных обвинений в том, что они «не со своим народом». Кто был со своим народом в николаевские времена - Уваров или Чаадаев? Кто был с ним в постниколаевской России - Данилевский или Соловьев? Кто был с ним в советской резервации - Суслов или Сахаров?
глава первая ВВОДНЭЯ
ТРЕТЬЯ
ГЛАВА
глава вторая У истоков «государственного патриотизма»
Упущенная
Европа
Ошибка Герцена Ретроспективная утопия Торжество национального эгоизма Три пророчества На финишной прямой Как губили петровскую Россию Агония бешеного национализма
глава четвертая
глава пятая
глава шестая
глава седьмая
глава восьмая
глава девятая
глава десятая глава
одиннадцатая
Последний спор
*
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Упущенная Европа
... Скоро мы душой и телом будем вовлечены в мировой поток... и, наверное, нам нельзя будет долго оставаться в нашем одиночестве. Это ставит всю нашу будущую судьбу в зависимость от судеб европейского общества. Поэтому, чем больше мы будем стараться слиться с ним, тем лучше это будет для нас.
П.Я. Чаадаев
Неимоверна цена, которую пришлось - и приходится - платить России за упущенный, как мы видели, при Николае I шанс стать «органической, по словам Владимира Вейдле, частью христианской Европы»1. Здесь и Крымская война, и Балканская, и революция семнадцатого, и «горячая» гражданская война, непосредственно за этой революцией последовавшая, и три поколения холодной войны как внутри страны, так и вовне - какой, по сути, была автаркическая советская эпоха, отрезавшая Россию от мира, - всего не перечислишь.
Нет слов, Европа не раз оступалась и впадала в пароксизмы братоубийственной ярости - и тоже дорого за это платила. В ретроспективе, однако, очевидно, что вектор её исторического развития удивительным образом никогда в принципе не менялся. Сегодня во всяком случае ни у кого, я думаю, не осталось сомнений в том, куда вёл её этот вектор. Во внутренней политике вёл он к гарантиям от произвола власти, во внешней - к упразднению международной анархии.
И всё это упустила Россия, когда вторично, уже после гигантской корректировки Петра, «выпала» из Европы в начале второй четверти XIX века.
1 Вейдле В. Задача России. Нью-Йорк, 1956. С. 12.
Мы видели во второй книге трилогии, как и почему это произошло. Нет сомнения, та часть российской культурной элиты, что поверила соблазнительным уваровским посулам особого пути России в человечестве, та, про которую говорил, как мы помним, Чаадаев, «не хотят больше Запада, хотят обратно в пустыню», была вполне искренне убеждена в преимуществах отдельного от Европы существования. История, однако, продемонстрировала, что в конечном счете прав был все-таки Чаадаев: отказавшись от екатерининской максимы «Россия держава европейская», страна и впрямь оказалась в пустыне - в плену произвола власти и международной анархии.
Лишь полтора столетия спустя начинаем мы понимать, что есть на самом деле Европа. Да, это сообщество народов, очень разных и непохожих друг на друга, но объединенных, как выяснилось, драгоценной способностью к самопроизвольной политической модернизации. Это правда, наделены они этой способностью в очень разной степени (и время их присоединения к Европейскому союзу очень точно определило эти различия). Россия, однако, как, впрочем, и Германия, способности этой - из-за двойственности своей политической культуры - и вовсе, как оказалось, лишена.
Могла ли Россия обрести её, последуй она завещанию Чаадаева, вынесенному в эпиграф этой главы? Возможно. Даже вероятно, имея в виду опыт Германии, которая, пусть и после эпохального поражения в развязанной ею мировой войне, сумела таки сделать именно то, что завещал России Чаадаев. Другими словами, «слиться с Европой», не утратив при этом статуса великой державы.
Судьба, увы, судила иначе. Не удался подвиг - ни Екатерине, ни Сперанскому, ни декабристам, ни Александру II, ни Горбачеву, ни Ельцину. Не получилось и у Путина в тот короткий период, когда он (судя во всяком случае по его интервью «Газете выборчей» от 15 января 2002 года, подробно рассмотренному во второй книге трилогии) об этом задумывался. Позже, однако, чаадаевский завет был и вовсе, похоже, снят с повестки дня. Всё, что слышали мы об этом предмете от колеровских «производителей смыслов» и в первую очередь их суждение о русских европейцах как о пятой колонне
Запада, не оставляет сомнения, что в обозримом будущем исполнение завета Чаадаева России не светит. Куда уж дальше, если даже Д.В. Шушарин рекомендовал себя, пусть и по недоразумению,русским националистом? И даже А.Н. Архангельский радовался, что «от 1996 года... до 1998-го был момент вызревания нового русского национализма»2.
Все интеллигентые люди в России читали Чаадаева. Многие читали Соловьева. Знают, следовательно, с каким брезгливым презрением отвергали наставники этот тщеславный уваровский провинциализм с его «учеными галлюцинациями», с его потугами «водворить на русской почве особый моральный строй», отрезающий страну от Европы. Знают, помнят - и все-таки радуются «новому русскому национализму»? И все-таки не чувствуют того, что почувствовали даже сами прародители романтического национализма, немцы? Не чувствуют, имею я в виду, что «Европа нам мать, - говоря словами Достоевского, - вторая мать наша», а вовсе не сухой анонимный «Запад» - с «космополитизмом», «пятой колонной» и всей прочей атрибутикой извечного врага.
Так или иначе, очевидно, что внутриполитическая динамика сегодняшней - и, боюсь, завтрашней - России к следованию чаада- евскому завету, мягко говоря, не располагает. Но что по поводу динамики внешнеполитической? Я имею в виду логику общеевропейского развития за последние полтора столетия. Не можетли она подтолкнуть Россию - и Европу, - несмотря на глубоко укоренившиеся предрассудки на обоих полюсах этой дихотомии, в сторону реального сближения?*
Мне во всяком случае кажется, что эта тема заслуживает более подробного рассмотрения. Причем, именно в контексте всё углубляющейся в последние годы драмы патриотизма в России. Начать, однако, придётся издалека.
2 Цит. по: Колеров М.А. Новый режим. M., 2001. С. 32.
^ w f I Глава третья
Священный СОЮЗ I Упущенная Европа
В 1840-1850-е ситуация национал-либералов, только начинавших еще тогда свой исторический путь, была, конечно, совсем не похожа на сегодняшнюю. Прежде всего они твердо, как мы уже знаем, верили в то, что будущее России следует искать в её архаическом прошлом. Во-вторых, в условиях николаевской диктатуры ни о какой политической самодеятельности и речи быть не могло. И самое главное, у тогдашних национал-либералов не было ни малейших оснований сомневаться, что живут они в самой могущественной державе мира. В державе, железной рукой управлявшей континентом - с помощью Священного Союза европейских монархий, в котором Россия традиционно играла первую скрипку, начиная с Венского конгресса 1815 года.
Потому и восприняли славянофилы исход Крымской войны как гром с ясного неба: Россия, вчерашняя европейская сверхдержава, не только оказалась тогда в безнадежно глухой изоляции, но и была поставлена на колени. Неудивительно, что перевернула эта война вверх дном все их представления - как о европейской политике, так и о будущем в ней России, заставив их радикально сменить идейные ориентиры. Об этом, впрочем, в следующих главах. Сейчас лишь о том, что в неожиданном крушении российской сверхдержавности и в особенности в том, как резко и единодушно повернулся против России Священный Союз, где она и впрямь на протяжении десятилетий первенствовала, действительно есть загадка. И едва ли помогут нам разгадать её одни лишь соображения о неуклюжести николаевской дипломатии или о неизвестно откуда взявшемся заговоре против России. Проблема, похоже, к^а глубже.
Пытаясь объяснить её, я предложил во второй книге трилогии гипотезу, согласно которой не только никогда не являлся Священный Союз инструментом русского контроля над европейской политикой, но с самого начала направлен был против России. Однако старался я там доказать эту гипотезу проверенным, конвенциональным, если хотите, способом - просто сравнил миф о Священном Союзе как об инструменте российской политики с множеством исторических фактов, откровенно ему противоречащих. Есть, однако, в нашем распоряжении и другой, намного более интересный и соблазнительный способ верификации этой гипотезы.
Состоит он в том, чтобы попробовать разобраться в самой идее Священного Союза, в его историческом смысле и назначении. Интереснее этот подход в сравнении с конвенциональным потому, что помогает нам не только опровергнуть миф, но и обнаружить живую и актуальную связь событий полуторастолетней давности с сегодняшними реалиями мировой политики. И потому еще это важно, что снова доказывает: в таком сюжете, как драма патриотизма в России, невозможно не размышлять в двух временных измерениях сразу.
Разумеется, подход этот несопоставимо сложнее. Зато он даст нам возможность одним выстрелом убить двух зайцев. То есть, с одной стороны, показать, почему ошибались николаевские национал-либералы, не говоря уже об идеологах государственного патриотизма, уверенных, как, допустим, М.П. Погодин, что «Русский государь теперь ближе Карла V и Наполеона к их мечте об универсальной империи»3. С другой стороны, подход этот позволяет нам показать, до какой степени бесперспективны попытки сегодняшних, а быть может и завтрашних, идеологов государственного патриотизма снова втянуть страну в соревнование за статус мировой державы.
А я Iлава третья
Международная анархия
Несмотря на свою одиозную репутацию (он вошел в учебники как воплощение феодальной реакции и «союз государей против народов»), Священный Союз представлял собою организацию в своем роде замечательную. Прежде всего потому, что был первой, сколько я знаю, коллективной попыткой положить предел международной анархии, пронизывающей мировую политику на протяжении тысячелетий, от самого её начала. Одно уже это обстоя-
3 Погодин М.П. Сочинения. Т. IV. Б.д. С. 2-4.
тельство должно, я думаю, обеспечить ему серьезное внимание потомков.
Ведь на самом деле эта неистребимая анархия - скандал. Перманентный многовековой скандал, к которому эксперты, живущие во вполне благоустроенных странах, где подавление анархии считается первым условием цивилизации, настолько уже притерпелись, что давно перестали его замечать и спорят между собою исключительно по поводу того, как бы поточнее эту анархию определить.
Ну вот пример. Крупнейший специалист в этой области Кеннет Волтз называет ее «беззаконной анархией»4. А другой уважаемый эксперт Роджер Мастере, работа которого, между прочим, так и называется «Мировая политика как первобытная политическая система», Волтза поправляет: «Если уж мы говорим о международной анархии, хорошо бы не забывать, что имеем мы все-таки дело с анархией упорядоченной»5.
На этой почве выросла на протяжении столетий - от Фукидида до Макиавелли и Киссинджера - школа так называемой «реальной политики» (Realpolitik), самый влиятельный современный гуру которой Ганс Моргентау так формулировал в книге «Политика наций» смысл международных отношений: «Государственные деятели мыслят и действуют в терминах интереса, определяемого как сила. [И постольку] мировая политика есть политика силы»6. Современный циник сказал бы: у кого больше железа, тот и прав. В африканском племени Нуэр, сохранившем, благодаря изоляции, первобытные нравы, говорят проще и ярче: правда - на кончике копья.
Но как бы ни называли мы международную анархию - «беззаконной» ли, как Волтз, «относительной» ли, как Мирослав Нинчич7, «гоб-
Waltz Kenneth. Political Philosophy and the Study of International Relations in Theoretical Aspects of International Relation. William T.R. Fox, ed., Notre Dame, 1959. P. 51.
Handrieder\n Wolfram . Comparative Foreign Policy, Theoretical Essays. N.Y., 1971, p. 230. Между прочим, Мастерс говорит здесь без околичностей, что «мировая политическая система во многих отношениях напоминает первобытную». Р. 229.
Morgenthau Hans. Politics Among Nations. 6th edition. N.Y., 1985. P. 37.
Nincic Miroslav. Anatomy of Hostility. N.Y., 1989. C. 24.
бсовской» ли, как один из главных идеологов неоконсерватизма в Америке Роберт Кейган8, или «упорядоченной», как Мастерс, никуда нам не деться от факта, замечательно точно подчеркнутого в названии работы самого Мастерса: никакого существенного прогресса в обустройстве мировой политики с первобытных времен не произошло. По-прежнему мало чем отличается она от политики дикарей.
Нужны примеры? Каждому, кто знает европейскую историю хотя бы в объеме школьного учебника, известно, что после сокрушения континентальной диктатуры Наполеона «многополярный» мир, воцарившийся на обломках свергнутой гегемонии, привёл вовсе не к торжеству международного права. Напротив, привел он к возникновению нового континентального гегемона, которого четыре десятилетия спустя опять пришлось силой свергать со сверхдержавного Олимпа. Снова правда оказалась на кончике копья. И так с тех пор было на протяжении двух столетий.
Во всех без исключения случаях свержение «однополярного» гегемона, столь милое сердцу российской (и китайской) пропаганды, вело вовсе не к мирному сосуществованию независимых «центров силы» и тем более не к торжеству международного права, но либо к возникновению нового гегемона, либо, если следующий гегемон оказывался слаб, к международной анархии. Так произошло, допустим, в третьей четверти XIX века, когда гегемон, сменивший после Крымской войны Россию на сверхдержавном Олимпе (Франция Наполеона III), не сумел справиться с международной анархией и был, в свою очередь, свернут новым гегемоном, на этот раз Германией Бисмарка.
В XX веке всё повторилось. Международная анархия, воцарившаяся в мировой политике в результате крушения милитаристской Германии, опять оказалась лишь прологом к возникновению нового континентального гегемона (на этот раз Германии гитлеровской). И если бы не вмешательство американцев, в ситуации новой международной анархии, возникшей на обломках вновь поверженного гегемона, место его непременно занял бы сталинский СССР. В реальности, однако, ему пришлось удовлетвориться проглоченной
8 Kagan Robert. Of Paradise and Power. NY., 2003. P. 3
Восточной Европой и вступить в затянувшуюся на десятилетия конкуренцию с еще одним претендентом на мировую гегемонию. С распадом советской империи конкурент, естественно, занял освободившееся место.
Короче, просто никогда не существовало никакой «каменной стены международного права», к которой взывают политики, не сведущие во всей этой беспрерывной смене «многополярной» анархии и «однополярной» гегемонии, длящейся столетиями. Роджер Мастерс прав, мировая политика остаётся «первобытной политической системой» и мало чем отличается от политики дикарей: во всяком случае правда по-прежнему на кончике копья. И покуда не упразднена международная анархия, так оно и будет: всякий, кто ратует против «однополярной» гегемонии, неукоснительно оказывается на деле борцом за «многополярную» анархию.
В результате живет сегодня человечество как бы в двух временных измерениях - цивилизованном и первобытном. В одном из них, внутригосударственном, господствуют закон и порядок (и игра без правил карается как преступление), в другом, межгосударственном, - царят сила и анархия (и общие для всех правила игры даже теоретически считаются невозможными). Вот эта неестественная раздвоенность и постулируется в Realpolitik как нечто нормальное, непреодолимое, подобное закону природы, которому нет и не может быть альтернативы. Но ведь в действительности-то она есть. Коллегия великих держав Европы, известная под именем Священного Союза, как раз и была первой в истории попыткой преодолеть международную анархию.
Глава третья Упущенная Европа
Головоломка
Если мы на минуту забудем специфические проблемы, связанные с этой попыткой (в конце концов вполне можно представить себе ситуацию, при которой стремление положить конец международной анархии связано вовсе не с насильственным подавлением либеральных стремлений общества,
а, напротив, с их защитой), мы тотчас увидим, с чем столкнулись в 1815 году европейские державы. С одной стороны, на собственном горьком опыте убедились они, что «многополярная» анархия, при которой каждое государство (или, если хотите, каждый «центр силы») преследует исключительно собственные национальные (или блоковые) интересы, раньше или позже, но неизбежно порождает чудовищ (вроде того же Наполеона). Но, с другой, «однополярный» мир, доминируемый единственной сверхдержавой, оказался ведь еще более чудовищным. И тут становится совершенно ясно, в чем актуальность дилеммы, перед которой оказались создатели Священного Союза. Ведь стоит она перед нами и сегодня. И так же, как во времена Меттерниха и Александра I, представляется нашим теоретикам неразрешимой.
Вспомним, однако, что на исходе средневековья точно с такой же головоломкой столкнулись во внутригосударственном строительстве практически все европейские страны. И каким-то образом им все-таки удалось найти её решение. Больше того, не найди они его тогда, теоретикам Realpolitik пришлось бы, боюсь, писать сейчас трактаты под названием «внутригосударственная политика как первобытная политическая система».
Конечно, ошибок, чреватых будущими катастрофами, наделано было тогда предостаточно. В России и во Франции, например, восторжествовала сверхцентрализованная «однополярная» диктатура (Самодержавие, «Государство это я»). В Германии, напротив, победила «многополярная» анархия. В результате страну растащили на лоскутья «жалкие, провинциальные, карликовые, по выражению Освальда Шпенглера, государства без намека на величие, без идей, без целей»9. А в Польше и вовсе воцарился политический анекдот: в ее средневековом Сейме каждый шляхтич посредством знаменитого «Не позволям!» мог парализовать любую общегосударственную акцию.
Разумеется, впоследствии все эти односторонние решения нашей головоломки за себя отомстили. И расплачиваться за них пришлось не только тем странам, которые ошиблись в выборе пути, но и
9 Цит. по: Пленкав О.Ю. Мифы нации против мифов демократии. Спб., 1997. С. 51.
Европе, и миру. Во Франции вылилась «однополярная» традиция в грандиозную - и кровавую - наполеоновскую попытку воссоздать «универсальную империю», нечто подобное древнему Риму. В Германии «многополярность» кончилась Гитлером и еще более кровавой попыткой подчинить Европу. В России самодержавная революция Грозного привела к многовековой мутации государственности и, в конце концов, к сталинской диктатуре, по сути, разрубившей мир надвое - в «биполярной» структуре перманентной войны (пусть холодной, но затянувшейся на полвека). А Польша так и вовсе на полтора столетия утратила национальную государственность.
Глава третья Упущенная Европа
И тем не менее, как свидетельствует история, решение у нашей головоломки всё-таки было. В Англии нашли его еще в 1215 году и состояло оно, как оказалось, в преодолении всей этой «однополяр- но-многополярной» контроверзы посредством компромисса, «снявшего», говоря языком Гегеля, неразрешимое, как полагают сегодняшние теоретики, противоречие между анархией и диктатурой. Компромисс назывался Хартией Вольностей.
Преодоление анархии
Надо полагать, что средневековые английские бароны ничуть не меньше континентальных коллег ценили свой суверенитет, иначе говоря, анархическую «многополярность». И «однополярная» диктатура короля им вовсе не улыбалась. Но все- таки, в отличие от баронов, допустим, германских, сумели они договориться с королем, который, тоже в отличие от своих континентальных коллег, оказался вынужден подписать Хартию.
Документ длинный. Значение для будущего имели в нём, впрочем, лишь два параграфа. Первый гласил, что свободный человек не может быть арестован, заключен в тюрьму, лишен имущества или изгнан иначе как по приговору пэров (равных) и по закону страны. Так с самого начала обозначился исторический вектор Европы - произволу власти полагался предел. Второй параграф создавалпостоянный комитет из 25 баронов (полвека спустя он превратился в парламент), обязанный следить за тем, чтобы обещания короля исполнялись. Бароны со своей стороны обязывались забыть о многополярности и не создавать никаких местных «центров силы», подрывающих королевскую власть.
И хотя король Джон тут же передумал и отозвал свою подпись под Хартией едва, последний барон покинул Лондон, его почти немедленная смерть предотвратила гражданскую войну. Но преемники Джона - от Генриха III до Генриха VII - Хартию торжественно подтверждали. Суть в двух словах заключалась в том, что элита страны добилась легитимной политической роли в управлении государством.
Выяснилось, короче говоря, что внутригосударственная анархия вовсе не закон природы, какой изображали её идеологи средневековой Realpolitik. И что как «однополярной» диктатуре короля, так и анархической «многополярности» может быть положен конец. Заменившая их коллегиальная, если можно так выразиться, модель государственности упразднила анархию. Во всяком случае во внутригосударственной политике.
Хитрость была в том, что никто из членов Коллегии, включая председателя, не имел права предпринять какую бы то ни было политическую акцию без ее одобрения. Любая попытка короля нарушить установленные Хартией Вольностей правила игры наказывалась его изоляцией и восстанием всех против одного.
Преследовал этот средневековый компромисс, посрамивший современныхтеоретиков, двоякую, как мы сейчас понимаем, цель: прекратит^ «многополярную» анархию (в чем заинтересован был король или, если хотите, председатель Коллегии) и связать королю руки (в чем заинтересованы были бароны). Так или иначе, первая историческая модель выхода из тысячелетней ловушки, по крайней мере во внутригосударственной политике, была создана. То, что требовалось доказать, было доказано: «многополярная» анархия, пусть хоть теоретически, но вовсе не является единственной альтернативой «однополярной» гегемонии.
Конечно, эта новая модель не предотвратила в Англии ни кровавую войну Роз, ни тиранию Генриха VIII, ни диктатуру Кромвеля.
Важно, однако, что, создав прецедент и тем самым принципиально новую традицию, восторжествовала в конечном счете именно эта, коллегиальная модель. И ее решающее превосходство над конкурентами история продемонстрировала вполне недвусмысленно. В отличие от Франции, России или Германии, Англия никогда не поддалась сверхдержавному соблазну стать единоличной хозяйкой Европы. И потому не было там ни Наполеона, ни Сталина, ни Гитлера. И судьба Польши тоже никогда ей не угрожала.
Глава третья Упущенная Европа
модель
Важно и то, что, когда боо лет спустя после Хартии Вольностей великие державы Европы оказались перед необходимостью строить постнаполеоновский мировой порядок, в основу его положили они именно британскую коллегиальную модель. Роль английских баронов исполняли в этом случае европейские государства, а на месте короля, первого среди равных, оказалась, естественно, тогдашняя континентальная сверхдержава Россия. И преследовал этот европейский протопарламент, Священный Союз, ту же двоякую цель, что и его средневековый предшественник: прекратить международную анархию и связать руки королю (сверхдержаве).
Так создана была первая историческая модель преодоления анархии - на этот раз международной. И суть ее, как и в Англии 1215 года, заключалась втом, что никто в Европе и пальцем не смел шевельнуть в международной политике без одобрения Коллегии.
Коллегиальная
Да, они готовы были признать императора России хотя бы и «Агамемноном Европы». Но лишь при условии, что руки у него будут связаны. При условии, другими словами, что он забудет об «универсальной империи», которую пропагандировали московские идеологи государственного патриотизма. Любая его попытка нарушить правила игры, выйдя за пределы председательских полномочий, должна была наказываться точно так же, как наказывалась она за шесть столетий до того: изоляцией и восстанием против него всех членов Коллегии.
При «братце Александре» Россия соблюдала правила игры. Несмотря даже на то, что греческое восстание 1820-х практически парализовало её дипломатию. С одной стороны, общественное мнение требовало поддержать борцов на независимость православной Греции от мусульманского владыки. С другой, обязательства перед Коллегией вынуждали Россию помочь легитимному султану Оттоманской империи в борьбе против греческих «террористов». Результатом, естественно, стал политический конфуз. Но даже он не заставил Александра нарушить коллегиальную дисциплину.
Едва, однако, на петербургском престоле оказался «искренне национальный и вменяемый» Николай, ситуация изменилась радикально. Отныне на повестке дня стояла тотальная контрреволюция - независимо оттого, какого «цвета» были революционеры, восставшие против статус-кво, будь они единоверцами, как греки, или единоплеменниками, как сербы.
До 1848 года смысл внешней политики России состоял, как мы уже знаем, в грандиозном политическом шантаже других членов Коллегии: только Россия с её миллионной армией в силах защитить вас от «красной» революции. Так что извольте подчиниться её диктату. И всё было бы хорошо, когда б уже через пять лет после восшествия на престол Николая, во время французской революции 1830 года, не обнаружилась в этом сценарии трещина: «бароны» не пожелали подчиниться диктату председателя Коллегии.
Будь Николай и впрямь вменяемым, он уже тогда догадался бы, что план игры, основанный на шантаже европейских правительств, не работает. И что Коллегия, известная под именем Священного Союза, создана не столько против революции, сколько против российской гегемонии.
Глава третья Упущенная Европа
и наказание
Поставив себя на минуту в положение европейских партнеров России, мы тотчас поймем почему. Они только что с неимоверным напряжением сил сокрушили, наконец, французский проект «универсальной империи» и сполна испили чашу унижения, связанного с военной диктатурой всеевропейского деспота. Могли ли они после этого не опасаться повторения страшного опыта, позволив новой сверхдержаве единолично командовать на континенте?
Тем более, что совсем еще недавно, в эпоху Тильзита, Россия была союзницей Наполеона и нисколько, как известно, не возражала против раздела Европы между двумя империями (при условии, конечно, что Бонапарт уступит ей Константинополь). Не забудем также, что и после разгрома Наполеона она не только выторговала себе Польшу (не говоря уже о Финляндии), но и публично заявила: «Польское царство послужит нам авангардом во всех [будущих] войнах»10.
Как же, спрашивается, могли европейские политики нейтрализовать гегемонистские вожделения России в условиях, когда конфронтация с ней была для них заведомо немыслимой? Только одним способом, тем же, каким английские бароны нейтрализовали в XIII веке власть короля, - кооптировав его. В XIX веке это означало шантажировать его той самой «красной» революцией, которой он, король, пытался шантажировать их. Иначе говоря, втянуть его в контрреволюционный союз, тем самым связав ему руки.
Подразумевалось, как и в 1215-м, что в случае нарушения королем условий договора, «бароны» выступят против него единым фронтом - и совместными усилиями сокрушат его. Короче говоря, тот же страх перед «красной» революцией, в котором петербургские идеологи государственного патриотизма видели инструмент будущей русской «универсальной империи», в руках главного архитектора Священного Союза австрийского канцлера Меттерниха оказался
Преступление
10 ИР Вып. 8. С. 576.
инструментом нейтрализации России. В этом смысле можно сказать, что Меттерних был настоящим изобретателем популярной впоследствии «политики сдерживания». Вот почему все расчеты петербургских стратегов оказались построенными на песке.
Французская революция 1830 года была первым серьезным предупреждением Николаю, что «бароны» не потерпят королевского своеволия. А когда добавилось к его демонстративному отказу признать новое французское правительство еще и зверское подавление в 1831-м польского восстания, Европа буквально возненавидела своего формального «короля» (впрочем, кто и когда любил гегемона?).
Вот доказательство: вернувшись из-за границы, первая группа молодых профессоров, командированных туда, как сказали бы теперь, для повышения квалификации, рассказывала о своей поездке с ужасом. «По их словам, - записывал 15 июня 1836 года А.В. Никитенко, - ненависть к русским за границею повсеместная и вопиющая. Часто им приходилось скрывать, что они русские... Нас считают чужаками, грозящими Европе новым варварством»[24].
Увы, ничего этого Николай не понял, тупо продолжая прежнюю политику шантажа. А потом грянул 1848-й. И вдруг обнаружилось, что для подавления своих «красных» революций Европа вовсе не нуждается в России. Не говоря уже о том, что Николай перепугался этих революций еще больше Европы и, не посмев схватиться с ними лицом к лицу, полтора самых опасных года ремонтировал свои пограничные крепости.
Тут-то^и последнему прапорщику должно было стать понятно, что неформальный председатель европейской Коллегии никогда, в отличие от «братца Александра», не понимал принятых в ней правил игры. Покуда «бароны» и «король» пугали друг друга революцией, это было не очень заметно. Все изменилось после 1848-го, когда европейская революция была побеждена, и Николай, уступив «королевскому» соблазну, вдруг резко переменил фронт и с обычной для него солдатской прямотой взялся за раздел Оттоманской империи. До тех пор, как мы знаем, он беззаветно защищал её неприкосновенность - во имя контрреволюции. Именно поэтому грубое нарушение правил игры Священного Союза стало совершенно очевидным. И наказание не заставило себя ждать.
Оно было жестоким и унизительным. В середине XIX века «бароны» восстали против нарушившего договор «короля» точно так же, как делали они это в середине XIII, низложили его и поставили на колени. Шесть столетий спустя после подписания Хартии Вольностей коллегиальная модель международной политики сработала столь же четко, как тогда в политике внутригосударственной.
% аГлава третья
УРОК I Упущенная Европа
Я подчеркиваю это об-
стоятельство потому, что здесь содержится урок необычайной исторической важности. И вовсе не только для сегодняшних идеологов государственного патриотизма в Москве, мечтающих, подобно Александру Дугину или Дмитрию Рогозину, о реставрации российской сверхдержавности. Урок для каждого, размышляющего о преодолении международной анархии в современном мире. И для сегодняшних «баронов» (по крайней мере, тех из них, кто снова как ни в чем не бывало провозглашает «многополярную» анархию единственной альтернативой «однополярной» диктатуре). И для сегодняшнего «короля».
Ведь если когда-нибудь и было время вспомнить об опыте Священного Союза, то пришло оно именно в начале третьего христианского тысячелетия, когда опять, как после наполеоновских войн, встала перед современными государственными людьми задача формирования нового мирового порядка. Тем более, что сейчас, после окончания полувековой холодной войны, в Европе, например, и впрямь существует нечто вроде той самой Коллегии, к которой с великими муками пришли в 1215-м английские бароны и в 1815-м европейские державы. И, по крайней мере в теории, наделена эта Коллегия функциями, как две капли воды напоминающими функции Священного Союза. Более того, она-то как раз и ответственна - опять-таки в теории - за безопасность континента. Так она, собственно, и называется - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Казалось бы, вот он - инструмент, с помощью которого Европа могла бы окончательно преодолеть и дряхлую «однополяр- но-многополярную» контроверзу и международную анархию, уже приведшую в первой половине XX века кдвум мировым войнам.
Вплоть до 1991 года ничего подобного создать в Европе было, понятно, невозможно: Россия в очередной раз «выпала» из Европы, прихватив с собою всю восточную ее часть. Образовались поэтому два «королевства», вовлеченных в перманентный конфликт и самостоятельно наводивших порядок на подведомственных им территориях. Россия навела его в Венгрии и Чехословакии и попыталась навести в Афганистане, лишь разбудив в результате дремавший столетиями вулкан глобального мусульманского сопротивления. Америка навела порядок в Корее и в Чили и попыталась навести его во Вьетнаме.
Мир, расколотый надвое (биполярный на геополитическом жаргоне) обнаружил, однако, свою нежизнеспособность, рухнув в 1991 году. Что теперь? «Однополярная» диктатура или еще одна попытка воссоздать раскол на два «королевства» - под видом «многополярного» мятежа? Похоже, что в последние годы Китай делает заявку на создание альтернативного «королевства», пытаясь привлечь к делу в качестве младших партнеров исламский Иран, демократическую Индию и неопределившуюся Россию.
Попытка, впрочем, выглядит заранее обреченной. По двум, по крайней мере, причинам. Во-первых, потому, что и сам кандидат в альтернативные «короли» находится, по сути, в вассальной экономической зависимости от американского рынка. А во вторых, - и это главное - сомнительно, чтобы Иран, Индия и Россия добровольно пошли в вассальную зависимость к новому «королю».
Я не говорю уже, что у России, в отличие от Ирана и Индии, есть уникальная возможность не становиться ничьим вассалом, найти, наконец, спокойную гавань в новой Европе, избавившись от преследовавшего ее столетиями кошмара геополитического окружения Располагает она этой уникальной возможностью просто по праву
рождения в европейской семье народов. Я имею в виду возможность последовать, пусть с опозданием на полтора столетия, завету Чаадаева и стать одной из великих держав Европы, единственного в сегодняшнем мире региона, упразднившего как архаическую власть «королей», так и международную анархию.И живущего вдобавок по законам современного гражданского общества.
Казалось бы, первыми должны были ухватиться за такую возможность национал-либералы с их обостренным переживанием зависимости от ненавистного нынешнего «короля» и мечтой о реставрации попранного величия России. Вот ведь они, независимость и величие, сами, казалось бы, просятся в руки. Но нет. Негоже, оказывается, России, по мнению национал-либералов, добиваться вступления в Европейский союз наряду со всякой, пусть и «братской», славянской, но все-таки мелкотой, вроде Польши или Чехии. Не к лицу. Россия сама себе король (несмотря на свои ничтожные в решающей экономической сфере два процента мирового ВВП). Суверенитет - это наше всё. На худой конец прислонимся к китайцам в ШАС. Всё лучше, чем идти в «социалистическую Европу», как презрительно именует её М.А. Колеров12. Не узнали? Перед нами ведь сегодняшний эквивалент той старинной, 1841 года, шевыревской «Европы, от которой уже пахнет трупом», что привела в восторг николаевский чиновный Санкт-Петербург...
Беда, однако, не только в близорукости российского руководства, пытающегося усидеть на двух стульях, и не только в яростном саботаже политической модернизации русскими националистами. Беда еще и в том, что ОБСЕ, которая и впрямь могла бы стать инструментом России для вступления в Европейский союз, организована почему-то вовсе не по принципам современной демократии, даже не по модели Священного Союза, но по образцу средневекового польского сейма. 56 «не позволям!» превратили ОБСЕ в такую же бесплодную говорильню, какая стоила Польше ее государственности. Другими словами, исполнять свою коллегиальную функцию она, в отличие от Священного Союза, попросту неспособна. Деятельность единственной в XXI веке паневропейской организации оказалась
12 Колеров МЛ Цит. соч. С. 73.
в результате сведена к роли монитора за свободой выборов и состоянием прав человека. Иначе говоря, к функции сугубо гуманитарной.
Стоит ли удивляться после этого, что еще в апреле 1997 года президент Ельцин подписал в Москве с тогдашним китайским председателем Цзян Цземинем торжественную совместную декларацию, провозглашавшую, что бы вы думали? Конечно же, необходимость борьбы за восстановление «многополярного» мира. Другими словами, за международную анархию. И что стала с тех пор эта борьба за восстановление анархии официальной политикой России, неукоснительно подтверждаемой на всех международных форумах?
Удивительно ли далее, что военно-политическая организация НАТО, нарушая свой собственный устав, категорически требующий от всех государств-членов подчинения военных органов гражданским, гуляет по Европе, как кошка, сама по себе - отказываясь подчиняться средневековой гражданской говорильне ОБСЕ?Удивительно ли, наконец, что бывший «король» не видел ничего предосудительного в том, чтобы не спросясь «баронов», по собственной воле определять, какие страны относятся к «оси зла», а какие нет?
Глава третья Упущенная Европа
Всё это, понятно, может происходить лишь по той причине, что никому не приходит в голову вспомнить историю. Право, кажется, что имеем мы здесь дело с неким экстраординарным выпадением памяти у современных политиков (и теоретиков).
Выпадение памяти?
Нигде ведь в самом деле не написано, что ОБСЕ,т.е. уже существующий форум паневропейской безопасности, непременно должен быть устроен по образцу старинного польского анекдота. И ничего, кроме провинциальных предрассудков, не мешает адаптировать его к современному миру. Почему в Европейском союзе можно решать спорные вопросы большинством голосов, а в ОБСЕ нельзя?
Привычная отговорка, что в этом случае 140-миллионная Россия выглядела бы слоном рядом, скажем, с ю-миллионной Венгрией, тут не работает. Ведь и в ЕС 8о-миллионная Германия выглядит «слоном» рядом с Люксембургом, не говоря уже о Мальте, всё население которых свободно разместилось бы, скажем, в Мюнхене. И тем не менее там давно научились преодолевать эту разницу посредством так называемых «взвешенных голосов» - в зависимости от численности населения той или иной страны. Допустим, Германия имеет там 29 голосов, Люксембург 4» а Мальта и вовсе 3. Однако парламентская коалиция тех же, допустим, стран Бенилюкса (Нидерланды 13 голосов, Бельгия 12 и Люксембург 4) запросто уравновешивает «слона». А в компании стой же Мальтой и перевешивает его. В случае с Россией дело решалось бы и того проще. Скажем, коалиция Германии и Франции запросто уравновесила бы её численное превосходство.
Важно, согласитесь, другое. Любой остроты конфликты решались бы на этом паневропейском форуме голосованием, а не патриотическими истериями и не перенацеливаниями ракет - и уж заведомо не на поле брани. Еще важнее, что демократическая реформа ОБСЕ позволила бы России стать полноправным гражданином Европы, обойдя многолетнее ожидание в предбаннике ЕС, волей-неволей осваивая в то же время стандарты политической модернизации. Во всяком случае вектор политического движения России был бы точно определен. И не было бы унизительной надобности сидеть на двух стульях. Во всяком случае именно к такому решению подталкивает логика общеевропейского развития, начиная с Хартии Вольностей.
Ясное дело, однако, что для того чтобы Россия начала борьбу за реформу ОБСЕ, требуется еще более драматический шаг, нежели звонок Путина Бушу после и сентября. Я говорю о принципиальном решении сменить культурно-политическую ориентацию страны, т.е. сделать то же самое, что три столетия назад совершил Петр и о чем, развивая петровский опыт, напомнил нам Чаадаев. Способен ли будет на такой шаг преемник Путина, другой вопрос. Зависит ответ от калибра преемника, а также, боюсь, оттого, возникнет ли в ближайшее десятилетие ситуация, аналогичная и сентября. Я имею в виду
ситуацию, способную еще раз поставить Россию перед решающим выбором.
Но даже если она повторит петровский выбор, проблема европейской - и её собственной - безопасности и судьбы не будет решена окончательно. Конечно, предложи в 1997 году Россия не совместную декларацию о восстановлении международной анархии Китаю, а демократическую реформу ОБСЕ (как образец будущего мироустройства), вполне возможно, что Европе удалось бы избежать трагедии Косово.
Но большего ожидать от неё было бы наивно. Большего - поистине революционного - результата ожидать можно лишь от Европейского союза, который за вторую половину XX века сумел создать принципиально новую, альтернативную Вестфальской (1648 года!), модель устройства политической вселенной. И тем самым вырваться далеко за пределы не только средневекового протопарла- мента, взятого за образец Священным Союзом, но и самой Вестфальской системы с её «королями», «баронами» - и с международной анархией.
Ничто, кроме выпадения памяти, не мешает превратить панев- ропейский гражданский форум в нормальную демократическую организацию, способную не хуже Хартии Вольностей исполнять свою естественную коллегиальную функцию. И тем не менее никто такую реформу не предлагает.
А ведь всё, что для этого требуется - капелька политического воображения и хотя бы школьное знание истории...
л w I Глава третья
UTKpblTbl И I Упущенная Европа
мир Европы
Я знаю, по крайней мере, одного блестящего европейского интеллектуала, англичанина Роберта Купера, который согласен, что даже самый термин «Запад», так отчаянно будоражащий московских национал-либералов еще со времен
Уварова и Погодина, канул в Лету вместе с холодной войной13. И - что даже более важно - вместе с порожденным этой войной привычным для нашего уха делением геополитической вселенной на Первый (Евро-Атлантический), Второй (Советский) и Третий миры. В действительности скрываются теперь за термином «Запад» два совсем непохожих друг на друга мира, живущих, по сути, в разных исторических измерениях.
Сегодняшний Второй мир - я предпочел бы именовать его Вестфальским - по-прежнему живет в эпоху международной анархии. «Национальные интересы» по-прежнему представляют в нем верховную ценность и главной гарантией этих интересов по-прежнему остается, как с начала времен, военная сила. А где решает сила, там, говоря словами туземцев племени Нуэр, правда на кончике копья. Там - анархия.
Это тот самый, хорошо нам знакомый мир Realpolitik, мир Киссинджера и Громыко, другими словами, та самая «первобытная политическая система», которая дважды в прошлом столетии едва не погубила Европу в братоубийственных гражданских войнах и в которую московские национал-патриоты во главе с Дугиным (он уже и не говорит о себе иначе, как «я возглавляю геополитическую школу в России»14) желают непременно втянуть и свою страну. Принадлежат к этому Второму миру одинаково и «восточный» Китай, и «западная» Америка.
Проблема лишь в том, что как раз старушка Европа, которую пращуры Дугина еще полтора столетия назад объявили «пахнущей трупом», а сегодняшние национал-либералы «социалистической», она- то к этому Вестфальскому миру больше не принадлежит. Она уже шагнула в будущее, открыв в мировой политике принципиально новую эру и оказавшись поэтому сегодняшним Первым миром.
Все три главные подпорки, на которых столетиями держалась международная анархия, неожиданно утратили свое традиционное господство в этом новом, нетрадиционном, открытом мире. Взглянем на то, от чего отказалась Европа.
»
Cooper Robert. The Post-Modern State and the World Order. London, 1996. P. 39.
Московские новости. 2001. № 41.
Первой из этих подпорок всегда считалось абсолютное верховенство национальных интересов. Со времен Вестфальского мира поколения политиков и дипломатов повторяли - и повторяют - это выражение, как молитву. И так уже въелось оно в наше сознание, что мало кому приходит в голову увидеть в нем нечто в общем-то не очень и приличное. А именно то, что Владимир Сергеевич Соловьев звал, как мы помним, «обыкновенным национальным эгоизмом».
Ну как в самом деле отнеслись бы вы, читатель, к человеку, провозглашающему на каждом шагу, что его личные своекорыстные интересы превыше всего? Не разглядели бы вы за этим опасную двусмысленность и готовность пренебречь интересами всех, кроме собственных? Не случайно ведь никому в здравом уме, не считая разве что Жириновского, и в голову не приходит так говорить (в приличном по крайней мере обществе). А вот в отношениях между государствами произносят это с гордостью даже в самых респектабельных кругах, хотя и не совсем понятно, чем, собственно, отличается национальный эгоизм от личного.
Та же ведь в нем опасная двусмысленность. И та же готовность пренебречь интересами других. А порою, как мы знаем, и сверхдержавный соблазн. Короче говоря, не отказавшись от господства этой вездесущей формулы, нечего и думать о преодолении международной анархии. Так вот: ЕС от неё отказался, подчинив национальные интересы интересам Сообщества.
С этим, естественно, связано и понятие национального суверенитета, который Вестфальская система предписывает охранять как зеницу о^. Разумеется, для стран Второго мира, включая США и Китай (не говоря уже о России), понятие это и сегодня столь же сакрально, как и в XVII веке. Но вот ЕС нашел, что интересы безопасности Сообщества выше национального суверенитета отдельных стран.
Вторая подпорка, на которой всегда держалась анархия, - Realpolitik. Смысл её, как слышали мы от Ганса Моргентау, в том, что гарантией национальной безопасности является единственно и исключительно военная сила. От этой подпорки анархии ЕС избавился, объявив гарантией безопасности не силу, а взаимное доверие
между членами Сообщества, доверие, основанное на общих моральных и политических ценностях.
В самом деле мыслимо ли представить себе, чтобы Германия, скажем, угрожала Люксембургу, Англия Ирландии или Греция обещала перенацелить ракеты на Кипр? В поствестфальском мире взаимные угрозы за пределами воображения.
Третья подпорка Вестфальского мира - национальные границы, закрытые «на замок». Её ЕС попросту отменил, сделав границы между членами Сообщества прозрачными.
Так, выбив все подпорки из-под международной анархии, ЕС впервые в истории её, по сути, упразднил. Для мировой политики это, если хотите, революция, равнозначная той, которую в 1215 году, сами того не подозревая, совершили английские бароны в политике внутригосударственной. Конечно, этот новый, на наших глазах рождающийся мир, совершенно еще нам непривычен. Даже те в России, кто заметил его рождение, не восприняли его как революцию.
Напротив, начиная с николаевских времен, отчаянно, как мы видели, пытаются русские националисты похоронить Европу. И трупом уже от неё пахло (по Шевыреву); и буржуазное декадентство обрекало её на гибель, (по Суслову); и нету неё будущего из-за декадентства «социалистического» (по Колерову); и снова и снова приговаривает её к смерти на всех телевизионных экранах Михаил Леонтьев. Короче, больше полутора столетий поют русские националисты отходную Европе. А она все живет. И живет притом, далеко опередив Россию не только в материальном благосостоянии, но и в политической модернизации. Живет без взаимных угроз - и без произвола власти.
гъ w тиьи третья
ЬТО рая Ла РТИ Я | Упущенная Европа
Вольностей
Любопытнее всего, однако, что и сама Европа долгое время толком себя сегодняшнюю не понимала, лепеча что-то на привычном экономическом языке о евровалюте и евробанке, не сознавая, что на самом деле впервые в истории преодолела звуковой барьер средневековья, если можно так выразиться, прорвалась в принципиально новое измерение мировой политики. Только в марте 2002 года европейский Конвент, собравшийся для выработки Конституции ЕС, шагнул, похоже, к осознанию этой революции.
Это правда, что первый блин оказался, как всегда, комом. На референдумах в июне 2005 года граждане Франции и Нидерландов провалили первоначальный проект Конституции Европы (а в июле 2008-Г0 крохотная Ирладия провалила и вторую попытку). И политики Вестфальского мира, воспитанные на вековых правилах Realpolitik, естественно, возликовали. Особенно в России, где любой сколько-нибудь компетентный политтехнолог убедительно разъяснит вам, какие ужасные неприятности переживает сейчас Европейский союз. И всё оттого, добавит он, что, словно бы позаимствовав у бывшей советской империи экспансионистские вожделения, «подавился» Восточной Европой.
Да, десятка новых восточно-европейских членов ЕС экономически расцвела. По темпам развития она превзошла Запад. Однако политическая ситуация в упомянутой десятке и впрямь порою скандальна. В Литве и в Чехии бывали у власти правительства парламентского меньшинства. Венгерское правительство держалось на ниточке, а словацкое, по выражению британского журнала Экономист, и вовсе бывало «составлено из представителей самых отталкивающих и мерзких партий в стране»15.
Разумеемся, ЕС, в отличие от СССР, не станет вводить в восточноевропейские страны танки. Но разве, заключит негодующий политтехнолог, вся эта политическая вакханалия не пятно на его репутации? Как историк, я соглашусь, что пятно. Только замечу, что тирания Генриха VIII или «огораживания» при Елизавете I, когда «овцы съедали людей», были куда большими (и притом, в отличие от сегодняшних скандалов, кровавыми) пятнами на репутации Великой Хартии 1215 года. Но ведь не помешали эти пятна тому, что возвестила она конец внутригосударственной анархии.
15 The Economist. 2006. October 14.
Так ведь то же самое и с сегодняшней Европейской Хартией. Разве важно на самом деле, как разрешатся политические скандалы восточноевропейских неофитов? Важно, что новая модель государственности, способная покончить с международной анархией, найдена. Важно, что новая Хартия действительно возвестила конец вековой «однополярно-многополярной» контроверзы в мировой политике. Важно, наконец, что во второй раз в истории звуковой барьер средневековья прёодолён.
Нет слов, за барьером оказалось не очень-то уютно. Хотя бы потому, что хрупкий и уязвимый ЕС не способен покуда даже самостоятельно себя защитить (несмотря на все разговоры об оборонной идентичности Европы и робкие попытки создать независимую от НАТО военную структуру). И потому нуждается в защите вполне традиционного военного колосса, Америки. И все-таки самим своим существованием ЕС доказал уже, что мир без верховенства «национальных интересов», то бишь национального эгоизма и сопровождающей его международной анархии, в принципе возможен.
Об этом мечтали поколения великих европейских мыслителей, начиная от Иммануила Канта и кончая Владимиром Соловьевым, но впервые мечта их воплотилась в реальность. Пусть в одном покуда секторе политической вселенной, пусть на небольшой еще территории с населением меньше 500 миллионов. Но ведь и мечта о преодолении внутригосударственной анархии тоже в своё время воплотилась поначалу в одной лишь маленькой захолустной Англии.
...Какая, согласитесь, всё-таки жалость, что из-за провальной николаевской диктатуры, из-за ее соблазнительного для национального самолюбия, но самоубийственного для будущего страны идейного наследства упустила Россия шанс оказаться частью этой новой Великой Хартии. И вынуждена по сию пору барахтаться в «однопо- лярно-многополярной» трясине, сволочиться с соседями, перенацеливать ракеты, оставаясь частью открытого всем ветрам Вестфальского мира.
Глава третья Упущенная Европа
Взаимоотношения нетрадиционного ЕС с вполне традиционной сегодняшней ОБСЕ, представляющей «остальную Европу», сложны и неясны. Обе Коллегии сосуществуют пока что как два параллельных мира, и никто не знает, где и как они в конечном счете пересекутся. Ясно лишь, что если ЕС не захочет оставаться изолированным островком нетрадиционного мира в бушующем океане международной анархии, если, другими словами, суждено ему будущее, то где-то два этих мира должны пересечься.
Просто не станет ЕС самостоятельным актером на мировой сцене, покуда не укоренится в «остальной Европе» и в первую очередь в гигантской России. Именно потому замечает, наверное, тот же Роберт Купер, что «ключевой вопрос европейской безопасности в том, как повернется дело в России. Включить ее в [нетрадиционную] европейскую систему должно быть нашим главным приоритетом»16.
Перспектива
Конечно, быстро произойти это не может. Но если говорить о направлении развития, о том, где и как могли бы пересечься оба сегодняшних европейских мира, то первым шагом к такому пересечению и должна бы, я думаю, стать та самая реформа ОБСЕ, о которой мы толковали. Ибо только она способна трансформировать эту средневековую, по сути, Коллегию в современный демократический форум наций, ответственный за европейскую безопасность. Реформа ОБСЕ могла бы стать для России начальной школой политической модернизации. И таким образом её настоящей «дорожной картой» в Европейский союз.
Так или иначе, для Европы в целом реформа ОБСЕ послужила бы индикатором, что оба мира действительно движутся к точке пересечения. Для стран, представленных в ЕС, могла бы она стать действительным началом политического самоосознания. То есть выхода за пределы провинциальной экономической интеграции и осознания себя не просто еще одним блоком Вестфальской геополитической вселенной, а именно новым нетрадиционным миром.
16 Cooper Robert. Ibid.
· . Глава третья
ЧТО В ЭТОМ I Упущенная Европа
для России?
Естественно, что точка пересечения обеих европейских Коллегий, ответственных как за хозяйственную и политическую жизнь, так и за безопасность открытого мира автоматически включала бы и Россию - полноправного члена ОБСЕ. Вот здесь-то, я думаю, и заключена та самая альтернатива националистическому мифу, которую так отчаянно искал - и не нашел - в свое время Соловьев.
Смысл её в том, чтобы политическая «мутация», в которую погрузила Россию самодержавная революция Грозного, оказалась исчерпанной и, пусть дав грандиозного исторического «кругаля», страна вернулась в Европу. Вернулась, причем, не милитаристской державой, как при Петре. И тем более не зараженная самоубийственным сверхдержавным соблазном, как при Николае. И не руководимая горчаковской доктриной «сосредоточения для реванша», как постниколаевская Россия перед Первой мировой войной.
Но самое главное, совсем не в ту Европу, в которую в очередной раз возвращалась она при Александре II, не в разделенную на враждебные кланы и кипящую ненавистью в предчувствии Великой Конфронтации, но в открытый, нетрадиционный мир, в спокойную, как мы уже говорили, гавань, надежно защищенную от сверхдержавных соблазнов и новых исторических катастроф. И что особенно важно, наверное, для сегодняшних национал-либералов, вернулась не как младший партнер какого бы то ни было «короля», будь то США или Китая, а как равноправный гражданин открытого
мира, чьи, допустим, 40 «взвешенных голосов» игнорировать было бы в европейском синклите непросто. Вернулась как одна из великих держав Европы, чтобы вместе с аборигенами прокладывать новые пути в человечестве.
Еще важнее.однако то, что больше ей просто податься некуда. Не может же она на самом деле со своими 2% мирового ВВП претендовать на статус самостоятельного «центра силы».Ну, подумайте, подсчитано что в ближайшие двадцать лет американский ВВП, несмотря на все свои сегодняшние заморочки, удвоится и составит 28 трлн долл., а китайский - учетверится, достигнув 16 трлн. Найдется ли в мире безумный экономист, который отважится предположить, что российский ВВП вырастет за те же два десятилетия в 16 раз, не говоря уже о 28?
Напротив, даже такой оптимист, как Джим О'Нил, главный экономист Goldman Sachs, причисливший Россию к «блоку стран будущего» BRIC (Бразилия, Россия, Индия, Китай), предсказал ей рост до 4% мирового ВВП, что не идет ни в какое сравнение с такими гигантами, как ЕС, США и Китай. Что по сравнению с зтими неумолимыми цифрами все гротескные филиппики какого-нибудь Леонтьева или имперское фанфаронство Проханова? Хочешь не хочешь, а придется признать, пусть с полуторавековым запозданием, что прав был Чаадаев.
| С.С.Уваров
Есть, впрочем, нечто еще более важное, во всяком случае для нашей темы. Читатель, может быть, не забыл довольно-таки каверзный вопрос, поставленный в начале этой книги: а существует ли вообще в сопоставимых с Россией великих державах жизнеспособная идейная альтернатива сверхдержавному реваншу? Открытый мир Европы впервые на него ответил. И Франция, и Германия, которые на протяже-
нии двух последних столетий по два раза, как и Россия, побывали на сверхдержавном Олимпе, сегодня этой страшной болезнью не страдают. И сам факт их излечения свидетельствует, что альтернатива существует. Он пролагает России путь к выздоровлению.
■-I I Главо третья
ИаТрИОТИЧеСКаЯ | Упущенная Европа
истерия историков?
Последнее, что остается мне здесь, дабы выполнить обещание, данное читателю во второй книге трилогии, это рассказать о цене, которую заплатила в середине 1850-х Россия за сверхдержавные амбиции николаевских идеологов государственного патриотизма. Напомню, что сегодняшний националистический стереотип предподносит нам Крымскую войну вовсе не как следствие агрессивного николаевского вызова Европе, а совсем даже наоборот, как «войну империалистической Европы против России», её «последний колониальный поход на Россию»17. Так думает проф. В.В. Ильин. Покойный В.В. Кожинов с сочувствием цитировал известные слова Тютчева о заговоре против России всех «богомерзких народов» и «богохульных умов»18. И негодует В.Н. Виноградов: «Подлинной причиной войны была отнюдь не мнимая агрессия России против Османской империи». А что? Да все тот же богомерзкий заговор с целью «загнать русских вглубь лесов и болот»19.
Но позвольте, господа, как в этом случае быть с известным приказом царя о десанте «прямо в Босфор и Царьград», отданном адмиралу Корнилову весною 1853 года, т.е. еще за год до предполагаемого «колониального похода»? Разве не писал тогда Николай, что «ежели флот в состоянии поднять в один раз 16 ооо человек с 32 полевыми орудиями, при двух сотнях казаков, то сего достаточно, чтобы при неожиданном появлении не только овладеть Босфором, но и самим Царьградом»?20 Похоже это на «мнимую
Ильин В.В. Реформы и контрреформы в России. M., 1996. С. 44. Кожинов В.В. Тютчев. Мм 1988. С. 336. Цит. по: Кожинов В.В. Тютчев. С. 333.334- агрессию»? И как быть с призывом того же Тютчева
Вставай же, Русь! Уж близок час! Вставай Христовой службы ради! Уж не пора ль, перекрестясь, Ударить в колокол в Царьграде?
По свидетельству Б.Н. Чичерина для славянофилов, как Иван Аксаков или Юрий Самарин, «это была священная война за православие и славянство, окончательное столкновение между Востоком и Западом, которое должно было привести к победе нового молодого народа над старым одряхлевшим миром»21. Нужно ли напоминать читателю, что под «одряхлевшим миром» имелась в виду (уже в 1850-е!) всё та же Европа? А насчет того, как должны были выглядеть границы России после этой «священной войны», разъяснил, как мы помним, опять же Тютчев. Повторить?
Семь внутренних морей и семь великих рек, От Нила до Невы, от Эльбы до Китая, От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная Вот царство русское...
И что делать с «крестовым походом», которым объявил Крымскую войну Степан Шевырев?22 Что делать, наконец, с откровенным признанием близкого к императору Александра Меншико- ва, что «с венгерской кампании покойный государь был [словно] пьян, никаких резонов не принимал, был убежден в своем всемогуществе»?2^
Так не следовало ли бы прежде, чем винить во всем заговор «одряхлевшего мира» против России, по меньшей мере доказать, что ничего этого не было? Что не строили совсем еще недавно николаев-
HR Вып. 9, с. 17.
Русские мемуары. М., 1990. С. 297.
HR Вып. 8. С. 591
Зайанчковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX веке. М., 1978. С. 181.
ские идеологи планов универсальной империи, превосходящей империю Карла V? Не мечтали о «православном Папе в Риме» и не хвастали, что Николай ближе к мировому господству, чем Наполеон? Что всего лишь за каких-нибудь пять лет до Крымского позора не провозглашала на весь мир Россия: «Разумейте языци и покоряйтесь!»?
Мало того, что вовсе не опровергают современные «национально ориентированные» академики все эти художества, с мясом вырывая тем самым Крымскую войну из исторического контекста, они ведь еще и оправдывают таким образом сверхдержавный соблазн, который сделал эту катастрофическую для России войну неминуемой. Ведь даже вполне невинный в большой политике Никитенко, сам тяжело переживавший эту трагедию, понимал смысл происходившего куда яснее сегодняшних ученых историков. Вот что записал он в дневнике 30 августа 1855 года: «Мы не два года вели войну - мы вели её тридцать лет, содержа миллион войска и беспрестанно грозя Европе»24. И снова 16 января 1856-го: «Николай не понимал сам, что делает. Он не взвесил всех последствий своих враждебных Европе видов - и заплатил жизнью, когда, наконец, последствия эти открылись ему во всём своём ужасе»25.Как видим, Александр Васильевич Никитенко, один из самых чутких наблюдателей петербургской жизни при Николае, ни на минуту не переживал Крымскую войну как «последний колониальный поход Европы против России». Во всяком случае говорит он нечто прямо противоположное: агрессором в Крымской войне была Россия. Причем, готовила она эту войну тридцать лет: «до сих пор мы изображали в Европе только один громадный кулак»26. Следует ли удивляться тому, что точно так же воспринимали ситуацию и европейцы? Лондонская газета Westminster Review нисколько ведь не сомневалась, что «Россия добивалась диктатуры над государствами Европы»27.
Так что же у нас получается? Современники, русские и иностранные, одинаково хорошо всё это понимали, а сегодняшние историки не понимают? Не знаю, как читателю, но мне становится, право, не
Никитенко АЯ. Цит. соч. С. 418.
Там же. С. 428.
по себе, когда я их читаю. Удручающая все-таки картина - патриотическая истерия в среде почтенных академиков.
Цена ошибки
Если согласиться с А.В. Никитенко
и признать главным недостатком николаевского царствования, что все оно оказалось ошибкой, то разумно поставить вопрос, во что обошлась России эта ошибка. Взвесим результаты царствования. На одной чаше у нас окажутся, если не считать отлучения от Европы, национального унижения, финансового банкротства и территориальных потерь, 128 тысяч молодых жизней, бессмысленно загубленных в Крыму убитыми и скончавшимися от ран. И 183 тысячи солдат, умерших от болезней по дороге к театру военных действий, так и не увидев неприятеля28.
На ту же чашу ложится и бессмысленная кража идей у бессмысленно разгромленного декабристского поколения. Результатом этой кражи было продлённое на полвека крестьянское рабство и затянувшееся на столетие средневековое самодержавие. И самое главное - сверхдержавный соблазн, зарождение русского национализма и его вырождение (которое, заметим в скобках, и поныне с нами). А вдобавок еще и глухая изоляция России, у которой «больше не было друзей», и «общее восстание» против нее, о чем говорил на особом совещании 3 января 1856 года главнокомандующий Крымской армией княз^Горчаков28. Непомерная, согласитесь, тяжесть.
А что у нас на другой чаше? Золотой век русской литературы? Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Белинский, Чаадаев, Грановский, Герцен? Но ведь все, что создали они великого и вечного, создано было вопреки, а не благодаря государственному патриотизму, которым жил и дышал Николай.
Так какова же на самом деле цена национал-патриотизма?
Там же. С. 423.
Глава третья Упущенная Европе
Gleasonjohn Howes. The Genesis of Russofobia in Great Britain. New York, 1972. P. 68. HR M., 1907. Вып. 9. C. 62.
Не нашлось перед судом истории у Николая ответа на этот роковой вопрос. И потому он умер. Но не было, как выяснилось, на него ответа и у постниколаевской России. Нет его, увы, и сегодня.
"""ЧЕТВЕРТАЯ
Оши
глава первая вводндя
глава вторая У истоков «государственного патриотизма» глава третья Упущенная Европа
бка
Герцена
Ретроспективная утопия Торжество национального эгоизма Три пророчества На финишной прямой Как губили петровскую Россию Агония бешеного национализма
глава пятая
глава шестая
глава седьмая
глава восьмая
глава девятая
глава десятая глава
одиннадцатая
Последний спор
глава четвертая
Ошибка Герцена
Если бы мы поверили славянофилам и их слово о русском народе приняли бы за слово его самосознания , то нам пришлось бы представить себе этот ..> народ в виде какого-то фарисея, превозносящего
во имя смирения свои добродетели, презирающих других во имя братской любви и готового стереть их с лица земли для полного торжетсва своей кроткой и миролюбивой натуры.
B.C. Соловьев
Храмина новомосковитской «цивилизации» рухнула, как видели мы во второй книге трилогии, так же внезапно, как 62 года спустя монархия. Собственно, даже и не рухнула. Так же, как в XX веке, своими руками разрушили ее собственные апостолы. Попытавшись после Петра вернуть страну в обскурантистскую Московию, противопоставив Россию человечеству с помощью «сфабрикованной народности» (как называл Чаадаев уваровскую триаду), они завели страну в исторический тупик. Что дальше так жить нельзя, понятно было всем. Как записывал 16 января 1856 года в дневнике Александр Никитенко, «нет возможности идти дальше этим путём и нести на своих плечах коалицию всей Европы»1. «Разве николаевский гнёт не был для образованного общества своего рода чумой?» - вторил ему Иван Тургенев2.
Но всеобщим было не только ощущение тупика, повсеместной была также и уверенность, что оказалась в нем страна именно в результате новомосковитского обскурантизма. «Начиная с Петра и до Николая, - свидетельствовал, как мы помним, С.М.Соловьев, - просвещение народа всегда было целью правительства. Век с четвертью толковали только о благодетельных плодах просвещения...
Никитенко А.В. Дневник: в трех томах. Т. l. М., 1955. С. 429.
Тургеневский сборник, Пг., 1921. С. 168.
По воцарении Николая просвещение перестало быть заслугою, стало преступлением в глазах правительства... Фрунтовики воссели на всех правительственных местах и с ними воцарились невежество, произвол, грабительство»3.
Впрочем, один, по крайней мере, положительный результат был все-таки достигнут: миф о Московии как о православной Атлантиде, кощунственно разрушенной Петром, был, казалось, навсегда похоронен. Иначе говоря, могло считаться доказанным, что возрождение православного фундаментализма в веберовском «расколдованном» мире практически невозможно. Конечно, мы уже знаем теперь, что все обстояло сложнее. И страшнее. И миф о Московии, как выяснилось полтора столетия спустя, похоронен был лишь наполовину (найдутся еще и в наши дни эпигоны, как Н. Нарочницкая, Е. Холмогоров или В. Найшуль, которые попытаются его воскресить).Да и не одни лишь «фрунтовики» проповедовали при Николае Официальную Народность. Ведь до Ширинского-Шихматова, высказывавшегося, как мы помним, в том духе, что «польза философии не доказана, а вред от неё возможен»4, просидел полтора десятилетия в кресле министра народного просвещения Сергей Семенович Уваров. А уж он-то был вовсе не «фрунтовиком», а, напротив, известным востоковедом и президентом Академии наук.И Николай Васильевич Гоголь тоже ведь ни малейшего отношения к «фрунту» не имел, а между тем уверял читателей, будто «народ наш не глуп, что бежит, как от черта, от всякой письменной бумаги... По-настоящему, ему и не следует знать есть ли какие-нибудь книги, кроме святых»5. Только Фамусов, пожалуй, выразился по этому поводу определённее. Да и по части философии не так уж далеко ушел Гоголь от Шихматова, настойчиво рекомендуя «не захламлять [ум свой] чужеземным навозом»6.
Дело, следовательно, было не столько в московитском мифе или во «фрунтовиках», сколько во всё том же могуществе государствен-
Соловьев С/И. Мои записки для моих детей. Спб., 1914. С. 118,120.Никитенко А.В. Цит. соч. С. 334Гоголь Н.В. Духовная проза. М., 1992. С. 165. '<·Там же. С. 192.
ного патриотизма, подчинившего себе, повторим Пыпина, «даже первостепенные умы и таланты». Ибо антипетровская революция Николая как раз и была, как мы уже говорили, идеологической. Конечно, в результате деградировало и всё остальное в государстве российском. И в этом смысле Тургенев, Соловьев и Никитенко правы. «Теперь только открывается, как ужасны были для России прошедшие 29 лет. Администрация в хаосе; нравственное чувство подавлено; умственное развитие остановлено; злоупотребления и воровство выросли до чудовищных размеров»7.
Но и Никитенко не мог ведь пройти мимо того, что в основе всей этой разрухи лежала именно антипетровская идеология российского Sonderweg. «Патриоты этого рода, - записывал он еще 20 декабря 1848 г., - не имеют понятия об истории... не знают, какой вонью пропахла православная Византия... Видно по всему, что дело Петра Великого имеет и теперь врагов не меньше, чем во времена раскольничьих и стрелецких бунтов. Только прежде они не смели выползать из своих темных нор. Теперь же выползли, услышав, что просвещение застывает, цепенеет, разлагается»8.
Как бы то ни было, после крымской катастрофы «фрунтовики» сошли со сцены, «болотные гады» вернулись в свои темные норы. Но униженная ими Россия осталась. Ей предстояло как-то выходить из исторического тупика. Ни у кого не было сомнений, что так или иначе она из него выйдет. Вопрос был лишь в том, какой страной выйдет она из него. Иными словами, в том, научила ли ее николаевская «чума» простой и теперь уже выстраданной истине, что предотвратить очередной исторический тупик можно лишь одним способом - раз и насегда покончив с государственным патриотизмом и став на чаадаевский путь «присоединения к человечеству». Иначе говоря, на путь политической модернизации.
Никитенко А.В. Цит. соч. С. 421. Там же. С. 317-318.
^ I Глава четвертая
UTT6 П 6 Л Ь I Ошибка Герцена
На первых порах после смерти Николая могло показаться, что научил. И хотя в манифесте о восшествии на престол Александр Николаевич обещал быть лишь «орудием видов и желаний Нашего незабвенного родителя», уже его рескрипт от 20 ноября 1857 года о предстоящей отмене крепостного права прозвучал чем-то вроде «подкрестной записи» Василия Шуйского за два столетия до этого или, чтобы совсем уже было знакомо, вроде речи Никиты Хрущева на XX съезде КПСС столетие спустя. Император Александр возвестил оттепель, можно сказать, официально. Да и не был его рескрипт, как и хрущевская речь, громом с ясного неба.
Уже 16 октября 1855 года Никитенко записывал: «В обществе начинает прорываться стремление к новому порядку вещей... Многие у нас даже начинают толковать о законности и гласности. Лишь бы это всё не испарилось в словах»9. С.М. Соловьев вторил: «С 1855 года пахнуло оттепелью; двери тюрьмы начали отворяться; свежий воздух производил головокружение у людей, к нему не привыкших»10.
Просто поначалу оттепель эта была какая-то неуверенная. Как писал в герценовском Колоколе анонимный корреспондент из России, «Весна не весна, а так, то погреет, то отпустит, то снова подморозит. Точь-в-точь петербургская весна»11. И настолько еще цепко сидел в сердцах страх, и так трудно было поверить в необратимость этой робкой оттепели, что некоторые, как тот же С.М. Соловьев, ожидали от неё чего-то, быть может, еще худшего: «Конечно, я не был опечален смертью Николая, но в то же время чувствовалось не по себе, примешивалось какое-то беспокойство, опасение: а что если еще хуже будет? Человека вывели из тюрьмы, хорошо, легко дышать свежим воздухом; но куда ведут? - может быть, в другую, еще худ-
Там же. С. 422.
Соловьев С.М. Цит. соч. С. 172.
Колокол. Вып. 1. Факсимильное изд. (далее Колокол). М., 1962. С. 189.
шую тюрьму?»12
Моим современникам, пережившим 1953-й, это чувство хорошо знакомо. Самодержавие оно самодержавие и есть, и неважно кто там на вершине власти - царь, генсек или президент: смертному не дано знать, куда поведет его новый хозяин. Но в конце концов даже скептический читатель Колокола должен был всё-таки признать, что «распустилась наша обильная неисходимая грязь» и новое солнце «стало греть и живое и мертвое»13.
А после рескрипта 1857-го грянула гласность - и отпали сомнения. Страна и впрямь пыталась выбраться из тупика.
Глава четвертая
I I uiuou чсшосршил
Несостоявшееся геРЦена
Гласность делала свое дело. Как и столетие
спустя, после смерти другого тирана (и другого культа политического идолопоклонства), превращалась помаленьку эта робкая оттепель в неостановимую весну преобразований. Наступила пора Великой реформы. Откуда-то, словно из-под земли, хлынул поток новых идей, новых людей, неожиданных свежих голосов. Похороненная заживо интеллигенция вдруг ожила.
И оказалось, что, в отличие от идеологов государственного патриотизма, размышляла она вовсе не о «православном Папе в Риме», как Тютчев, и не об «универсальной империи», как Погодин, а, напротив,^ возобновлении марша в Европу, насильственно прерванного три десятилетия назад. Уцелевшие декабристы вместе с отпущенными по амнистии героями польского восстания 1831 года возвращались из сибирских рудников словно бы затем, чтобы передать новому поколению факел политической модернизации. Вот два моментальных снимка настроения эпохи.
Так, например, чувствовала ее Софья Ковалевская, знаменитый в будущем математик: «Такое счастливое время! Мы все были так глубоко убеждены, что современный строй не может дальше существо-
Соловьев С.М. Цит. соч. С. 152.1 Колокол. С.1B9.
вать, что мы уже видели рассвет новых времен - времен свободы и всеобщего просвещения!.. И мысль эта была нам так приятна, что это невозможно выразить словами»14.
Либеральный мыслитель Константин Кавелин очень политически точно объяснял, каким именно в представлениях влиятельных современников должен быть этот новый строй: «Конституция - вот что составляет теперь предмет тайных и явных мечтаний и горячих надежд. Это теперь самая ходячая и любимая мысль высшего сословия»15.
Ну мыслимо ли было такое до крымской катастрофы, если еще в 1853 году отмена крепостного права даже Герцену казалась лишь смутной мечтой и самые дерзкие его требования к царю не шли дальше чего-нибудь вроде: «пусть разрешит всем, кто хочет, составление обществ, товариществ для выкупа крестьян, для помощи освобождающимся»? Какая уж там, право, конституция!
Но стоит сравнить этот робкий пассаж (который, впрочем, при Николае выглядел необыкновенно смелым диссидентским замахом) с тем, что говорил тотже Герцен четыре года спустя, как бросится нам в глаза пропасть, разделяющая две эпохи. Другой человек перед нами! Не разрешения просит он теперь у царя, но настойчиво ему рекомендует: «Надобно государю так же откровенно отречься от петербургского периода, как Петр отрекся от московского. Имея власть в руках и опираясь с одной стороны на народ, с другой на всех мыслящих и образованных людей в России, нынешнее правительство могло бы сделать чудеса»16.
Да что Герцен, если даже бывший зубр государственного патриотизма Погодин и тот поддался общему одушевлению. До такой степени, что писал совершенно для себя невероятное: «...назначение [Крымской войны] в европейской истории - возбудить Россию, державшую свои таланты под спудом, к принятию деятельного участия в общем ходе потомства Иафетова на пути к совершенствованию, гражданскому и человеческому»17. Прислушайтесь: ведь говорит
Цит. по: история XIX века, М., 1938. T.6. С. 90.
ИР Ввып. ю, М., 1907. С. 84.
16 Колокол. С.14.
V ИР Вып. 9. С. 68.
теперь Погодин, пусть выспренним своим «нововизантийским» слогом, то же самое, за что четверть века назад Чаадаева объявили сумасшедшим. А именно, что сфабрикованная николаевскими политтехнологами «русская цивилизация» есть лишь одна из ветвей «потомства Иафетова» (сиречь христианской Европы) и раньше или позже предстоит ей поэтому вернуться в общее европейское лоно.
На миг могло показаться даже, что освобожденная от невыносимой казёнщины и «калмыцкой», по выражению Белинского, цензуры, а вскорости и от позора крепостного права, опять, как накануне 14 декабря, поднимается Россия навстречу пушкинской «звезде пленительного счастья». Становится, говоря прозой, европейской страной: с гласностью, с выборным местным самоуправлением и судом присяжных, с реформированной армией и свободным крестьянством - и без сверхдержавных притязаний на универсальную империю. «Ты победил, Галилеянин!» - приветствовал успех молодого императора из своего лондонского далека Герцен.
Но чуда не совершилось.
Уже в ходе подготовки к отмене крепостного права стало очевидно, что главный урок из крушения государственного патриотизма не извлечен. На смену опозоренной Официальной Народности неожи- даннно поднималось новое поколение государственных патриотов. И выяснилось вдруг, что тридцатилетний спор между Уваровым и Чаадаевым, между основополагающим николаевским постулатом (Россия не Европа) и екатерининским (Россия держава европейская) был опять, как после 1825 года, решен в пользу Уварова. Парадокс, как мы уже знаем, заключался в том, что место сошедших со сцены «фрунтовиков» и «болотных гадов» заняли просвещенные, интеллигентные национал-либералы. А это означало, что прорыва в Европу, завещанного Чаадаевым, не будет, что страна будет продолжать сопротивляться «духу времени».
Короче говоря, в основание новой государственной храмины, которая вошла в историю под именем постниколаевской России, оказались заложены своего рода мины, пусть замедленного действия, но громадной разрушительной силы. И в один трагический день суждено было им беспощадно взорвать её, камня на камне не оставив от всех надежд и мечтаний, которые мы только что слышали.
Потому-то не состоялось чудо. Потому и двигалась отпущенные ей историей полстолетия постниколаевская Россия вовсе не к выходу из исторического тупика, но к гибели. Или, лучше сказать, к новому тупику.
Глава четвертая
Ьще ОДНО роковое | ошибка Герцена
«почему»
Кощунственно было бы сбрасывать со счетов выдаю-
щиеся достижения Великой реформы, наступившей после оттепели 1850-х. Одно их перечисление впечатляет. Вопрос о свободе барских крестьян, от которого, как видели мы во второй книге трилогии, столь изобретательно отбивались на протяжении десятилетий все николаевские секретные комитеты, был раз и, казалось, навсегда решен «Положением о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» от 19 февраля 1861 года. И этим эпохальным решением, буквально менявшим лицо России, вовсе не исчерпывалась Реформа.
Не менее значительно, быть может, и «Положение о губернских и уездных учреждениях» от i января 1864 года. Оно отдавало в руки выборных и всесословных земств просвещение, здравоохранение, постройку дорог и мостов, социальное страхование и статистику на местах. Никогда еще со времен Великой реформы 1540-х не сдавало всемогущее государство так много своих позиций внезапно ожившему после николаевской «чумы» обществу.
А что сказать о судебной реформе того же 1864 года, положившей конец легендарной чиновничьей коррупции, заполонившей страну при Николае и воспетой, как мы помним, Б.Н. Мироновым? Достаточно сказать, что суды в России до этого были тайными и даже потерпевшие не принимали в них участия, не говоря уже о присяжных. Всё зависело от произвола судьи (точнее, от величины взятки, предложенной ему тяжущимися сторонами). И вдруг во мгновение ока возникло в этой средневековой «Московии» современное европейское правосудие, открытое и всесословное, т.е. равное для всех, с государственным обвинителем и адвокатом, защищавшим подсудимого. И вдобавок еще с судом присяжных, выносившим независимое суждение о его виновности. И словно из ниоткуда явилось блестящее адвокатское сословие. Контраст с николаевскими судами был поистине умопомрачительный.
Добавьте к этому университетский устав 1863 года, вернувший высшим учебным заведениям автономию, отнятую у них при Ширинском-Шихматове. Правительство больше не решало за профессоров, пользу или вред приносит подданным философия и стоит ли «захламлять [студенческие умы] иноземным навозом». Не забудем, наконец, и военную реформу 1864 года, заменившую николаевскую рекрутчину всеобщей воинской повинностью.
Как печально, как страшно, что этот необыкновенный прорыв в Европу был обречен. Что всем реформам суждено было пойти под нож - и крестьянской свободе, и земскому самоуправлению, и европейскому правосудию, и университетской автономии. И самому даже «духу времени». Но почему?
Глава четвертая Ошибка Герцена
Почему?
Политические страсти
Собственно, в попытке разгадать эту грандиозную загадку и состоит смысл заключительной книги трилогии. Генерал Лебедь сформулировал ее с солдатской прямотой, когда спросил, почему не перестаем мы наступать на те же грабли. Но самое, быть может, в этом прискорбное - за все протекшие с тех пор десятилетия российская (да и мировая) историография даже не задала себе этого вопроса, не говоря уже о том, чтобы на него ответить. Не увидело в нем загадку. Замечательный порыв историков-шестидесятников, сумевших даже в условиях советской цензуры объяснить монументальные загадки XVI века, те самые, что попытался я суммировать в первой книге трилогии, заглох на дальних подступах к истории пореформенной России.
Отчасти произошло это, конечно, потому, что время было такое. В отличие от эпохального крушения досамодержавной Россиив XVI веке, катастрофа России постниколаевской была слишком близка, опасно близка к 1917 году. И, соответственно, к амбициям и обидам, к страху и террору новой эры политического идолопоклонства. Страсти советской и антисоветской историографии исказили, измельчили, опошлили, если хотите, изучение постниколаевской России, по сути, сведя её более чем полустолетнюю историю к нескольким годам, предшествовавшим сакральной дате. И та и другая искусственно оторвали её конец от её начала, её крушение от её происхождения. И тем самым потеряли возможность представить её себе как целое. Общая картина постниколаевской России была безнадежно утрачена.
В результате, естественно, получались курьезы. Писали о последствиях, пренебрегая причинами. Говоря, например, о недееспособности Государственной думы в начале XX века, опускали полувековую историю того, как отчаянно сопротивлялось самодержавие её созыву всю вторую половину XIX. Прославляли столыпинскую реформу, освободившую крестьян от рабства общинам, не объясняя, каким же образом оказались они в этом рабстве полвека спустя после Великой реформы, величие которой в их освобождении, собственно, и заключалось. Одним словом, создавали упрощенные черно-белые сценарии, понятия не имея, что перед нами одна из самых грандиозных загадок в русской истории.
Ну какая, право, могла тут быть загадка для советской историографии, если все сводилось в ней к тому, что самодержавный строй в России все это время только и делал, что неукоснительно себя изживал? Потому и оказался, едва наступила эпоха социалистических революций, самым слабым звеном в цепи империализма. И все для того, чтобы смениться другим самодержавным строем? Но кому же позволено было тогда задавать такие вопросы, даже самим себе?
Не было, однако, в крушении пореформенной России загадки и для историографии антисоветской. В ней все сводилось к коварному стечению обстоятельств - в момент, когда в стране начался процесс замечательного подъема. Тут вам расскажут и о бессмысленных мечтаниях либеральных «образованцев», и о террористических заговорах «максималистов-революционеров», и о безмозглости аристократической камарильи, окружавшей безвольного царя, и об антирусских происках еврейского капитала, и о самом даже Антихристе, коварно конспирировавшем против «Империи света», как на том же, что и во времена Погодина, высокопарном нововизантийском жаргоне именует свою страну редактор газеты Завтра18. И о многих других роковых обстоятельствах вам расскажут, включая, конечно, мировую войну, козни большевистских путчистов и думских масонов, немецкие деньги и латышские штыки.
Глава четвертая Ошибка Герцена
И до сих пор не набила еще, как выясняется, оскомину эта примитивная «разгадка». Уже в 2006 году появилась в Москве книга Игоря Чубайса с интригующим фельетонным названием «Разгаданная Россия», где в который уже раз объяснялось, как хороша была царская империя и какие необъятные открывались перед нею перспективы, если бы только не пришли и не опошлили все большевики.19 Одним словом, нечто очень напоминающее плач Ярославны, затеянный Н.А. Нарочницкой по поводу несказанно прекрасной Московии, беспощадно разгромленной этим ужасным Петром. Неужто все эти плакальщики по чудесной самодержавной России просто переписывают свои плачи другудруга?
Репетиция контрреформы
Так и хочется всех их спросить, не слышали ли они хоть краем уха, что как реформам Петра, так и контрреформам большевиков предшествовала вековая история, которая вся, со времен знаменитого «поворота на Германы» Ивана Грозного, когда Россия впервые отвергла досамодержавное наследство Ивана III ради иосифлянской мечты о сверхдержавности, буквально соткана из несостоявшихся чудес и состоявшихся политических катастроф?
Не станем, однако, заглядывать здесь в прошлое так глубоко. Спросим себя лишь, откуда взялась пушкинская «звезда пленительного счастья», и тотчас увидим, что и 1818 год пронизан был точно
Завтра. 2001. № 24, 2001.
Чубайс И. Разгаданная Россия. М., 2006.
таким же ожиданием чуда, как и 1858-й. Причем никакими тогда большевистскими заговорщиками, не говоря уже о еврейских русофобах или латышских штыках, и не пахло. Но чуда-то не совершилось тоже. Вместо него на обломках прекрасных мечтаний воздвиглась мрачная и обскурантистская новомосковитская «цивилизация». Как будем объяснять это несостоявшееся чудо? «Незрелостью революционного пролетариата»? Или еще одним роковым стечением обстоятельств?
Глава четвертая Ошибка Герцена
Я не говорю уже о том, что спустя всего лишь два десятилетия после начала Великой реформы яростная контрреформа Александра III попыталась повернуть страну вспять к николаевской диктатуре, к полицейскому государству. А это ведь и была неудачная репетиция, если угодно, большевистской контрреформы 1917 года. И что же еще могло это означать, если не изначальную хрупкость, уязвимость, чтобы не сказать обреченность постниколаевской России, готовой завянуть, не успев расцвесть? Если не то, другими словами, что с самых его истоков заложены были в основание этого несостоявшегося чуда те национал-либеральные «мины замедленного действия», о которых мы говорили?
«Мина» № 1: Конституция
Первая из них была, конечно в категорическом отказе архитекторов пореформенной России оттого, чтобы, выражаясь тогдашним языком, «увенчать здание реформ конституцией». Самодержавие должно было, по твердому их убеждению, оставаться краеугольным камнем новой России. Так научил их Карамзин - и они послушно остановились на полдороге: согласившись с местным самоуправлением, но отступив перед самоуправлением общенациональным. Что удержало? Конечно же, не «фрунтовики», давно сошедшие со сцены, а николаевское идейное наследство, всётотже неумирающий российский Sonderweg, столь красноречиво сформулированный для них Карамзиным и славянофилами...
Есть ли нужда напоминать, к чему привело в этом случае сопротивление «непреодолимому духу времени»? Политические баталии, которым по общепринятым уже тогда в Европе правилам положено было разыгрываться на парламентских подмостках, разыгрались на улице. Вместо думских споров началась стрельба. Да такая интенсивная, что жертвой этой грозной волны террора оказался в конце концов и сам царь-освободитель. Иначе говоря, настаивая на сохранении самодержавия, он подписал себе смертный приговор.
Еще опаснее для будущего страны был, однако, другой результат сохранения самодержавия. Правительство лишало себя обратной связи с обществом, понятия не имея о том, что в нём на самом деле происходит. Ведь смысл регулярных выборов в общенациональное представительство, если они, конечно, не декоративные, как раз в том и состоит, что они более или менее адекватно отражают постоянно меняющийся баланс политических сил в обществе, сообщают хоть какую-то определенность неопределенному по природе будущему. Именно поэтому и Наполеон III и Бисмарк, современники Великой реформы, предпочли при всех своих авторитарных амбициях всё-таки созвать национальное представительство. А Россия, даже очнувшись от смертельного николаевского сна, отказалась следовать их примеру.
Третьим, наконец, результатом подавления самодержавно- исполнительной властью двух других ее ветвей было то, что оно провоцировало в стране политическую нестабильность. В отсутствие николаевской железной руки гарантом стабильности, как точно поняли nocj\e 1848 года не только Бисмарк в Германии и Бонапарт во Франции, но даже Франц-Иосиф в политически отсталой Австрии, мог служить только британский политический «треножник», т.е. разделение властей. Ибо в противном случае государству не оставалось ничего иного, кроме как балансировать на одной ноге, опираясь лишь на ненадежную полицейско-бюрократическую вертикаль. Позиция, согласитесь, не только неудобная, но и неустойчивая.
Тем более, что политическим центром системы становился в этом случае императорский двор (эквивалент современной администрации президента) со своими интригами и борьбой честолюбий, не
имеющей ровно никакого отношения к судьбе государства. Сбои в такой системе были неминуемы, политическая нестабильность неизбежна. Ибо проводить европейские реформы, не ограждая их европейскими политическими институтами, неминуемо означало включить в разрешение конфликтов улицу - и террор.
В случае крупных взрывов, угрожавших самому существованию системы, единственным средством спасения оказывалось либо экстремальное ужесточение полицейско-бюрократической вертикали, как при Александре III, либо половинчатая реформа, немедленно сопровождавшаяся попыткой подменить разделение властей разделением функций между чиновниками. Естественно, ни то ни другое спасти «одноногую» вертикаль не могло, уж слишком неестественна была её поза. В результате следующий серьезный кризис разносил её на куски.
Я не говорю уже, что придворная клика тотчас же и «съедала» реформаторов, едва проделали они для нее черную работу усмирения революции (как после 1905 года). Б.Н. Чичерин проницательно заметил по аналогичному поводу: «самодержавное правительство как будто хотело доказать, что ему нужны не люди, а орудия, а что людей оно призывает в трудные минуты и затем, высосав из них соки, выбрасывает за окно»20.
Но самое главное - созвать-то Думу, в конечном счете, всё-таки пришлось. Иначе говоря, после всех ужасов террора и пролитой крови сопротивление «духу времени» оказалось столь же бессмысленным в постниколаевской России, как и во времена государственного патриотизма. Другое дело, что уступили «духу времени» с опозданием на полвека. А история, как выяснилось, таких опозданий не прощает. Созванная наспех - в раскаленной атмосфере революции и всеобщей ненависти к самодержавию - Дума не только не успела пустить корни в толще массового сознания, первые два её созыва оказались попросту неспособны к сотрудничеству с правительством. В них верховодила непримиримая оппозиция.
И ничего лучшего для налаживания с ней сотрудничества, нежели драконовское изменение избирательного закона, правительство
20 Русские мемуары. 1826-1856 (далее Мемуары). М., 1990. С. 283-284.
не придумало. А избранная по новому закону Дума, по сути, лишившая представительства большинство населения, естественно, оказалась в его глазах нелегитимной. Отсюда популярность Советов и то самое двоевластие в феврале 1917 года, которым воспользовались большевики.
Одним словом, отказавшись в 1850-х поступиться самодержавием, Александр II подписал смертный приговор не только себе. Под обломками обреченного «духом времени» самодержавия похоронена оказалась и монархия. И постниколаевская Россия. «Мина» № i и впрямь камня на камне от нее не оставила. Бопс1еп^е§торжествовал, но Россия Петра погибла.
Глава четвертая Ошибка Герцена
Вопрос, который предстоит нам сейчас обсудить, а именно: была ли «мина» № i неизбежна - может показаться полтора столетия спустя чисто академическим. Однако смысл этой книги ведь не в том, чтобы просто констатировать «исторические факты», но в том, чтобы извлечь из прошедшего уроки, которые могут понадобиться нам сегодня - и нашим детям завтра. И с этой точки зрения обсудить, была ли в 1850-е у России альтернатива курсу, обрекшему ее на Катастрофу, представляется совсем не бессмысленным.
Альтернатива
Другое дело, если бы устойчивой альтернативы не существовало. Такое тожЈ в истории случается. Даже улыбнись 14 декабря фортуна декабристам, едва ли новый режим пережил бы 1820-е. Слишком уж не готова была тогда страна к такому резкому повороту. Впрочем, первым, кто показал эту неготовность страны, был, как всегда, Герцен. В открытом письме царю 20 сентября 1857 года он сначала обращает внимание на два решающих обстоятельства. Во-первых, говорит он, декабристы были, по сути, единомышленниками как его покойного дяди Александра Павловича, так и его самого: «Был ли этот заговор своевременен, - доказывает единство мнений Александра I, Ваше и их о невыносимо дурном управлении нашем».
Затем Герцен подчеркивает, что в заговоре «участвовали представители всего талантливого, образованного, знатного, благородного, блестящего в России». И, наконец, объясняет, что и такое великолепное созвездие русской элиты (и даже «Вы, Государь при всём Вашем самодержавии») обречено на поражение, если не опирается на общественное мнение страны: «заговорщикам 14 декабря хотелось больше, нежели замены одного лица другим, серальный переворот был для них противен, весьма может быть, что они потому-то и не бросились во дворец, и открыто построились на площади, как бы испытывая, с ними ли общественное мнение... Оно было не с ними, и судьба их была решена!»
С другой стороны, замечает Герцен, «попытка 14 декабря вовсе не была так безумна, как её представляют... Много ли сил надо было иметь Елизавете при воцарении, Екатерине II для того, чтобы свергнуть Петра III? Нет правительства, в котором бы легче сменялось лицо главы, как в военном деспотизме, запрещающем народу мешаться в общественные дела, запрещающем всякую гласность. Кто первым овладеет местом, тому и повинуется безмолвная машина с тою же силой и с тем же верноподданническим усердием»21.
Едва ли согласился бы царь, что его самодержавная власть есть не более, чем военный деспотизм. Но так или иначе три десятилетия спустя после неудачи декабристов, после жестокого опыта николаевской «однополярной» диктатуры общественное мнение действительно ведь встало на сторону конституции, именно эта мысль, как слышали мы от Кавелина, пленила тогда элиты страны. Следовательно, не было бы в 1850-е с этой стороны сопротивления Думе, окажись она, согласно древней (кстати, куда более древней, нежели самодержавие) русской традиции, всё-таки призванной царем.
Да и не в одном ведь согласии высшего сословия было дело. А разночинная молодежь, от имени которой говорила Софья Ковалевская, молодежь, которая, жертвуя собою, шла ради конституции на виселицы, разве не свидетельствовала она о силе «духа времени»? Уступи царь тогда общественному мнению, террора максималистов-революционеров в 1870-е просто не было бы. Ясно же, что
21 Герцен АИ. Собр. соч.: в 30 т. Т. 13. M., 1958. С. 43*44-
Думу проще было созвать тогда, т.е. не в обстановке революционного водоворота, как в 1906-м, но в ситуации общей эйфории, когда страна, едва очнувшаяся от тридцатилетнего оцепенения, и впрямь ожидала от молодого императора чуда. Именно таким чудом и выглядела бы тогда Дума, когда бы, как в старину, пригласил царь для совета и согласия «всенародных человек» (так называлось сословное представительство в Москве XVI века).
Тем более, что предстояло ей обсуждать судьбу русского крестьянства. Ведь была тогда еще Россия «мужицким царством» и без участия его представителей такое обсуждение выглядело откровенным кощунством.Так или иначе, созванная в такой момент Дума могла бы и впрямь прижиться в России. И царя не убили бы, и виселицы не понадобились бы, и монархия, способная на такой гражданский подвиг, сохранилась бы.
Другое дело, как следовало приступать к ограничению самодержавия в условиях, когда большая часть крестьянства была еще закрепощена и земств не существовало? Может быть, начать дело следовало с чего-нибудь подобного проекту Лорис-Меликова 1880 года о законосовещательной Общей комиссии, составленной из представителей городов, дворянских комитетов и крестьянских волостей (восстановленных графом Киселевым еще в 1840-е для свободных крестьян, что работали на казенных землях). Я говорю о том самом проекте, который, собственно, и был подписан царем утром рокового 1 марта 1881 года за несколько часов до смерти. И подписан, причем, с полным пониманием того, к чему проект этот должен был в конечном счете привести. Как заметил в дневнике Дмитрии Милютин, именно так и сказал тогда своим сыновьям царь: «Я дал согласие на это представление, хотя и не скрываю от себя, что мы идем по пути к конституции»22.
Какая жестокая ирония! Начни Александр Николаевич с того, чем он два десятилетия спустя закончил, история постниколаевской России могла бы сложиться совсем иначе. В частности, движение страны к конституции (даже вариант Лорис-Меликова, будь он подписан в 1850-е, вполне мог к 1880-м «увенчать здание») тотчас
22 Милютин ДА. Дневник. Т. 4. М., 1950. С. 62.
и выбило бы почву из-под ног любых террористов, даже найдись в ту пору «максималисты-революционеры». Ведь и люди, казнившие императора, четверть века спустя понимали это великолепно. Когда 2 июля того же 1881 года пуля террориста смертельно ранила американского президента Джеймса Гарфилда, исполком «Народной воли» протестовал, как мы помним, против покушения в таких словах: «В стране, где свобода личности дает возможность честной идейной борьбы ... политическое убийство есть проявление того же духа деспотизма, уничтожение которого мы ставим своей задачей. Насилие имеет оправдание только когда направляется против насилия»23.
Так или иначе, альтернатива самодержавию в 1850-е существовала. И историкам, винящим в Катастрофе 1917-го «бесов нигилизма», следовало бы об этом помнить..
w Глава четвертая
D ИДеИНОМ 0шибкаГерЦвна
плену
И нельзя сказать, что никто в тогдашней России этой альтернативы не видел. Алексей Унковский, губернский предводитель тверского дворянства и один из самых влиятельных тогда либералов, писал: «Крестьянская реформа останется пустым звуком, мертвою бумагою, наравне со всеми прочими томами наших законов, если освобождение крестьян не будет сопровождаться коренными преобразованиями всего русского государственного строя... Для охранения общественного порядка нужно прочное обеспечение строгого исполнения законов, а при нынешнем управлении где это обеспечение?» Унковский говорил даже о «строгом разделении властей»24.
Он, естественно, был разжалован и сослан в Вятку. И хотя, как комментирует русский историк, «представитель тверского меньшинства Кардо-Сысоев, владимирский депутат Безобразов, новгородский Косаговский, рязанские кн. Волконский и Офросимов, харьков-
Цит. по: Бурцев В. За сто лет (1800-1896). Лондон, 1897. С. 180. ИР Вып. ю. С. 118 (выделено мною - АЛ.).
ские Хрущов и Шретер говорили по поводу существующего порядка почти то же, чтоУнковский, и почти теми же словами»25, господствующее настроение в российском политическом истеблишменте и при дворе было против этой альтернативы. Оно пренебрежительно, с бюрократическим высокомерием сбросило ее со счетов.
И это заставляет нас предположить, что идеологическая пуповина, связывавшая новый реформаторский режим с николаевской Официальной Народностью, порвана на самом деле не была. Что так же, как столетие спустя аналогичный реформаторский и антисталинский режим Хрущева слишком многое унаследовал оттого самого сталинизма, могильщиком которого он хотел стать, Великая реформа при всем своем преобразовательном замахе оказалась в идейном плену у вроде бы похороненного ею государственного патриотизма. Вот и говорите после этого, что переоценили роль идей Чаадаев или Грамши. Или что неправ был Соловьев, когда писал, предваряя Джона Мейнарда Кейнза, об идеях, которые «повергают мир человеческий в состояние разлада».
Тут, кстати, ожидает нас еще одна загадка. Ибо если с Н.С. Хрущевым все ясно - его связывала со сталинской «Официальной Народностью» коммунистическая идеология, - то как объяснить идейную преемственность Великой реформы от полностью, казалось бы, скомпрометированного Николаем самодержавия? Ведь в том, что такая преемственность существовала, не может быть никакого сомнения.
Реформа действительно остановилась на полдороге, если император заявил в знаменитой речи перед Государственным советом 28 января 1861 года, что «крепостное право создано было самодержавной властью и только самодержавная власть может его уничтожить». Если для обсуждения крестьянского вопроса трусливо отказался он созвать не только «всенародных человек», но даже всероссийское дворянское собрание, которое сам же в 1858 году и обещал.
Так вправду ли работало здесь одно лишь тупое, самоубийственное упрямство и полное отсутствие не только политического предвидения, но даже предчувствия? Или было все это круто замешано еще
Там же. С. 119.
и на карамзинском постулате, поддерживавшем в архитекторах реформы твёрдое убеждение, что без самодержавия не будет и России? Что Россия, другими словами, действительно не Европа и держится поэтому исключительно той самой «властью неограниченной», которую активно - и, как мы еще увидим, вполне успешно - пропагандировали на всех углах идейные наследники николаевского постулата, славянофилы? На том, одним словом, что к власти в постниколаевской России пришли национал-либералы?
В качестве либералов они были всей душой за реформы, в качестве националистов, однако, они горой стояли за самодержавие и против конституции, короче говоря, против прорыва в Европу. Они безоговорочно приняли николаевский постулат, что Россия не Европа. Так не здесь ли действительная разгадка того феноменального долголетия николаевского режима, которое, как мы помним, так удивило профессора Рязановского? Во всяком случае здесь первая проблема, в которой придется нам разбираться. Но пока что на очереди у нас еще одна «мина».
Глава четвертая Ошибка Герцена
версия
Прежде, однако, справед-
ливость требует довести до сведения читателя, что есть и другая версия того, почему не могла в 1850-е утвердиться в России конституционная монархия. Принадлежит она уже известному нам по второй книге нашему современнику А.Н. Боханову. Он считает нелепым сводить «проблему противодействия либеральной, конституционно-правовой реконструкции России... лишь к локальным вопросам о «недальновидности» и «политической близорукости» венценосцев... оставляя в стороне национально-православную ментальность [русского народа] и сакральный смысл царской власти». Ибо царь «венчаясь на царство, вступал как бы в мистический брак со страной, а царские порфиры отражали «свет небес»26.
26 История человечества. Т. VIII: Россия. М., 2003. С. 475.
Боханов, заметьте, пишет это в 2003 году в академическом издании. И тем не менее его версия полностью совпадает с логикой тогдашних (т.е. 1850 годов) проповедников Sonderweg, славянофилов, и самого императора. Я не возьму на себя смелость судить о том, какой именно свет отражали царские порфиры и насколько крепок был «мистический брак» Александра II с Россией. Это, скорее, в компетенции теологов, а не историков. Важно лишь не упустить из виду, что, подобно своим 150-летней давности предшественникам, Боханов воспринимает «национально-православную ментальность» как величину постоянную, статичную. Уже по этой причине она не могла не находиться в остром противоречии с динамичным по природе «духом времени», другими словами, с историей.
Помимо всего прочего это означало, что венценосцам, равно как и прочим смертным, приходилось постоянно делать выбор между неизменной якобы «ментальностью» и стремительно меняющейся реальностью, отдавая предпочтение той или другой. И предпочтение это по определению было продиктовано идеологией. Гоголь, допустим, был, как мы уже знаем, совершенно уверен, что «национально- православная ментальность» категорически требует крепостного права, решительно предпочитая его «европейской затее» освобождения крестьян. А славянофилы, наоборот, были так же решительно уверены, что крепостное право противоречит этой «ментальности» и предпочитали крестьянскую свободу.
Что до венценосца, то и он, как известно, свои предпочтения менял. Будучи великим князем, он соглашался с Гоголем, а унаследовав престол^, согласился со славянофилами. То же самое происходило с его предпочтениями по поводу «либеральной, конституционно- правовой реконструкции России». В 1850-е он согласился со славно- филами, что «ментальность» категорически отвергает конституцию и требует самодержавия, а в 1881-м согласился уже с Лорис- Меликовым, что, как бы там ни обстояло дело со светом, отражаемым его царскими порфирами, без конституции России не обойтись.
Короче, если Боханов, как и его славянофильские предшественники, считает, что конституция при любых обстоятельствах противоречит «ментальности», а другие монархисты, как, допу-
стим, тот же Лорис-Меликов или Столыпин или - что еще важнее - сам венценосец сочли, что не противоречит, то единственным судьей в этом споре может быть только история. А она говорит, как мы знаем,что роковое промедление Александра II с признанием необходимости - и срочности -конституции погубило и его самого, и его империю.
Только пращуры Боханова знать этого не могли, а он не может не знать. И тем не менее продолжает внушать читателям - в 2003 году! - что именно его произвольное толкование «национально-православной ментальности» - единственно верное! Несмотря даже на то, что история камня на камне от этого толкования не оставила!
Важнее, однако, другое. Боханов невольно помог нам разгадать нашу загадку по поводу того, что связывало пореформенных славянофилов с дореформенными государственными патриотами, которых они при Николае презирали. Оказывается, то же самое, что связывало Хрущева со Сталиным, которого он ненавидел, - идеология. В случае с предшественниками Боханова эта идеология - Sonderweg. А в его случае что?
Так или иначе, дело николаевских государственных патриотов оказалось и после реформы в надежных руках. Знамя их было подхвачено национал-либералами. Две русских идеи, враждовавшие во времена Николая, слились в одну. Но об этом нам еще предстоит говорить подробно.
Глава четвертая
« М и н а » № 2: 0шибка Ге"цена крестьянский вопрос
Копья в прессе времен Великой реформы ломались главным образом из-за того, как освобождать крестьян - с выкупом или без выкупа, с существующим земельным наделом или с «нормальным», т. е. урезанным в пользу помещиков. Короче говоря, из-за того, превратится ли в результате освобождения большинство населения России из обездоленных крепостных в «обеспеченное сословие сельских обывателей», как обещало правительство, или, наоборот, из «белых негров в батраков с наделом», как утверждали его оппоненты.
И за громом этой полемики прошло как-то почти незамеченным, что по категорическому установлению правительства «власть над личностью крестьянина сосредоточивается в мире», т.е. в поземельной общине (той самой, заметим в скобках, от которой полвека спустя попытался освободить крестьян Столыпин). Иначе говоря, и освобожденный от помещика крестьянин оставался по-прежнему крепок земле и деревне и категорически чужд частной собственности. Разница была лишь в том, что, как объясняет историк, «веете госу- дарственно-полицейские функции, которые при крепостном праве выполнял даровой полицмейстер, помещик» 7, исполнять теперь должна была община.
Вот как мотивировал это в письме императору Яков Ростовцев, тот самый николаевский генерал, который, как помнит читатель, учил в свое время российского обывателя, что совесть ему заменяет высшее начальство, а теперь оказался во главе крестьянского освобождения: «Общинное устройство ... в настоящую минуту для России необходимо. Народу нужна еще сильная власть, которая заменила бы власть помещика»28. Совершенно же очевидно здесь, на какую именно роль предназначался крестьянский мир. И это в то самое время, когда и Наполеон III, и Бисмарк вводили в своих империях всеобщее избирательное право.
В постниколаевской России об этом и речи быть не могло. Не только отказано было большинству её населения в участии в делах государственных - в глазах закона крестьянин вообще оставался мертв. Он по-прежнему не был субъектом права или собственности, индивидом, человеком, если угодно. Субъектом был «коллектив», назовите его хоть миром, хоть общиной, хоть колхозом. Просто из- под полицейской опеки помещика его передали под опеку средневекового «коллектива». И пороть его тоже можно было по-прежнему, разве что теперь не по воле барина на господской конюшне, но на той же конюшне - по постановлению мира, в котором, опять-таки как
ИР. Вып. ю. С. 141 (выделено мною - А. Я.).
в средние века, царствовала круговая порука.
«Сознавая многие неудобства круговой поруки, которая ставит крестьянина в слишком большую зависимость от мира, - объяснял царю тот же Ростовцев, - мы приняли её как неизбежное зло, так как при существующем общинном владении землею она составляет главный способ обеспечения повинностей»29. Таким образом, и сам «коллектив», в рабстве у которого оставался крестьянин, имел для государства значение чисто фискальное: «поземельной общине могут быть предоставлены лишь те хозяйственные меры, которые истекают из самого существа круговой поруки». Мудрено ли, что историк реформы так комментировал это коллективное рабство: «мир, как община Ивана Грозного, гораздо больше выражал идею «государева тягла», чем право крестьян на самоуправление»30?
Конечно, позади были поколения этого «государева тягла». Но последствия того, что Великая реформа не только не использовала постниколаевские десятилетия, чтобы начать разрушение этих «тягловых» пережитков в сознании крестьянства, но и принялась укоренять их, оказались поистине роковыми для будущего страны. Тем более, что преуспела она в этом укоренении катастрофически. До такой степени, что и в 1917 году эсеровская аграрная программа, присвоенная, как известно, большевиками, категорически требовала отказа от столыпинских реформ. Другими словами, от частной собственности на землю. Иначе говоря, крестьянство было так надежно отучено от самоуправления и ответственного хозяйствования, что само просилось в общинное рабство. Но и это еще не всё.
Там же.
Глава четвертая Ошибка Герцена
Странным образом
никто не обратил внимания властей и общества, что лишение крестьянина прав личности в тот самый момент, когда городское «образованное» общество эти права как раз и обретало, было не только нелепым парадоксом. Оно было чревато пугачевщиной. Ибо страшно углубляло пропасть между двумя одновременно существовавшими Россиями - современной и средневековой; той, что наделялась правами человека (включая право собственности), и той, что этих прав лишалась; «образованной» и той, что, по словам молодого Сперанского, «считало чтение грамоты между смертными грехами». Короче, увековечивало «власть тьмы» над подавляющим большинством русского народа.
Вопрос о воссоединении России, расколотой крепостным рабством, главный из всех, поставленных перед страной декабристами, был забыт напрочь. Бывшие национал-либералы, задававшие тон Великой реформе, не заметили, что бок о бок с ними жила другая полуязыческая Россия - с другими представлениями о справедливости, о собственности и даже о мироздании. Мало того, еще и прославляли эту другую, «темную», Россию как залог неевропейского будущего страны. Между тем главенствовала, как выяснилось чуть позже, в представлениях этой другой России именно идея «отнять и разделить помещичьи земли» вкупе с мечтой, что придет день мести и расплаты за ужасы крепостного права. И день этот будет страшен.
Гетто
Наследник декабристов Герцен хорошо понимал это, когда писал, что «в передних и в девичьих, в селах и полицейских застенках схоронены целые мартирологи страшных злодейств; воспоминание о них бродит в душе и поколениями назревает в кровавую и беспощадную месть, которую остановить вряд ли возможно будет»31. Ни о чем таком ни на минуту не задумались архитекторы Реформы, национал-либералы. Ради немедленных фискальных выгод они углубляли пропасть, которой так страшились в свое время декабристы, сжигая таким образом мосты между двумя Россиями - петровской и московигской. И чревато это было большой кровью, гражданской войной и новым «выпадением» из Европы.
Хотя бы потому, что в момент, когда пробьёт час самодержавия и «национально-православная ментальность» русского народа окажется вдруг на поверку «национально-атеистической», неминуемо ведь должны будут схватиться между собою два диаметрально противоположных представления о частной собственности. И поскольку крестьянская московитская Россия неизбежно подавит самой своей чудовищной массой городскую частнособственническую, какая новая государственность, спрашивается, должна будет в стране воцариться? Не московитская ли, отрицающая права человека? Или, проще говоря, не большевистскую ли Россию готовили пореформенные славянофилы, отчаянно отстаивавшие сельскую передельную общину, не знавшую ни прав человека, ни частной собственности?
Не чужд этой мысли, похоже, и современный политолог В.В. Лапкин, когда говорит, что «не решаясь на глубокую и последовательную революцию сверху, [пореформенная] власть спровоцировала радикальную революцию снизу... И основу мобилизационного ресурса этой антирыночной и разрушающей отношения частной собственности революции готовили протестные настроения крестьянства, сориентированные на уничтожение института частной собственности»32.
Ну, допустим, о будущем не думали. Но ведь и в самом непосредственном настоящем что могло из этого получиться, кроме гигантского гетто для крестьян, где, в отличие от стремительно европеизирующегося городского общества, преспокойно продолжали функционировать средневековые установления? Где не только отсутствовала частная собственность, но и самого крестьянина как частного лица вроде бы и не существовало - во всяком случае в глазах закона? Где накапливался такой заряд ненависти к образованному обществу, который обещал в один трагический день разнести его на куски?
. 2006. 15 апреля.
Орвеллианский мир постниколаевской России
Самое в этом парадоксе удивительное - за редчайшими исключениями современники его совершенно не замечали. Не только славянофилы, которые составляли большинство в редакционных комиссиях, готовивших крестьянскую реформу, и под чьим влиянием это коллективное рабство, собственно, и стало законом, но и их оппоненты. Когда Б.Н. Чичерин заметил, что «нынешняя наша сельская община вовсе не исконная принадлежность русского народа, а явилась произведением крепостного права и подушной подати», он, главный, пожалуй, в тогдашней России знаток истории отечественного права, тотчас и оказался изгоем. Что славянофилы заклеймили его русофобом, «оклеветавшим древнюю Русь», было в порядке вещей33. Но ведь и западники не защитили.
Глава четвертая Ошибка Герцена
Вот вам и вторая загадка постниколаевской России: как могли серьёзные, умные, ответственные люди допустить такую нелепую ошибку? В том-то и дело, однако, что ошибкой покажется это лишь тем, кто не знает, что крестьянская община была второй (после самодержавия) священной заповедью славянофильского символа веры. Удивительно ли, что стали они за нее грудью, едва падение николаевской диктатуры превратило их из гонимой диссидентской секты в одну из самых влиятельных фракций нового, пореформенного истеблишмента? А если учесть, что именно славянофилы задавали тон в редакционных комиссиях, готовивших реформу, они без особого труда навязали свою излюбленную идею не только правительству, но даже и западникам.
То был, пожалуй, первый в пореформенной России случай, когда национал-либералы навязали свои идеи оппонентам. Или, говоря ученым языком, первый случай рецепции славянофильства «русски-
33 Мемуары. С. 263. *
ми европейцами». Тут, впрочем, и стараться славянофилам особенно не пришлось.
Многие русские западники, наследники нестяжателей XVI века, сочувствоваших, как мы знаем, всем униженным и оскорбленным, очень тяжело переживали поражение европейской революции 1848 года. Они отчаянно искали свидетельства, что - несмотря на победившую в Европе реакцию - у справедливого дела все-таки есть будущее. И с помощью славянофилов они это свидетельство нашли. Разумеется, в России. И, разумеется, в крестьянской общине. Так неожиданно оказались здесь в одной лодке со славянофилами и либералы-западники, как Герцен, и радикалы-западники, как Чернышевский.
Вот что писал Герцен о крестьянской общине в том самом открытом письме Александру II, где он так горячо защищал декабристов: «На своей больничной койке Европа, как бы исповедуясь или завещая последнюю тайну, скорбно и поздно приобретенную, указывает как на единый путь спасения именно на те элементы, которые сильно и глубоко лежат в нашем народном характере, и притом не только петровской России, а всей русской России»34. Это - о массовом и трагическом возрождении средневековья.
Ну хорошо, славянофилы отрицали права человека в принципе - и в городе и в деревне. Крестьянская реформа была для них лишь началом всеобщей коллективизации России. Ибо это коллективистское, «хоровое» начало, в котором без остатка тонула человеческая личность, как раз и было, по их мнению, «высшим актом личной свободы и сознания». Коллективное начало «составляет, - как писал Алексей Хомяков, - основу, грунт всей русской истории, прошедшей, настоящей и будущей». Для крестьянина, полагали славянофилы, оно «есть как бы олицетворение его общественной совести, перед которой он выпрямляется духом, мир поддерживает в нем чувство свободы, сознание его нравственного достоинства и все высшие побуждения, от которых мы ожидаем его возрождения»35.
Герцен А.И. Былое и думы. Л., 1947. С. 253.
ИР Вып. 6. С. 465.
Ощущение такое, словно мы вдруг попали в орвеллианский мир. Во всяком случае рабство и впрямь каким-то образом провозглашалось в нем свободой. Но славянофилы, по крайней мере, были последовательны. Что сказать, однако, о русских западниках, которые с одинаковым воодушевлением поддерживали и права человека в городе, и отрицание их в деревне? У них-то это раздвоение и впрямь выглядит какой-то странной аберрацией, если не временным помешательством. Ибо на самом деле средневековое крестьянское гетто, которое из всего этого получилось, чревато было вовсе не «нравственным возрождением» крестьянина, но, как мы уже говорили, большой кровью, пугачевщиной.Слов нет, когда наступил час возмездия, усугубилось оно еще и демографическим взрывом, аграрным перенаселением, которые довели земельный голод ограбленного крестьянства до крайности. (Вообразите, что население России росло тогда такими же темпами, как сегодня в Африке.) А реформа Столыпина, освободившая, наконец, крестьянство от рабства общинам, явилась, как и Дума, все с тем же опозданием на полвека. И как водится, история опять не простила опоздавших.Между тем альтернативный, назовем его столыпинским, курс возможен был уже в 1850 годы, т. е. разрядить эту «мину» загодя было можно. Только ведь мы уже знаем, никому это во времена Великой реформы и в голову не приходило. Никто не подумал, иными словами, что для усмирения грядущей пугачевщины понадобится диктатура такой жестокости, перед которой даже николаевские железные рукавицы покажутся бархатными. Что, короче говоря, расплачиваться России придется за славянофильское орвеллианство - и социалистические грёзы западников - Лениным. Не говоря уже о Сталине, брутально - и окончательно - разрушившем «мужицкое царство».
«Мина» №3: империя
Имперские амбиции постниколаевская Россия тоже, конечно, унаследовала (вместе со сверхдержавным соблазном) от Официальной Народности. И ни малейшего желания отказаться от них не обнаружила. Для ее архитекторов Россия точно так же была тождественна экспансионистской военной империи, как и для Погодина или Тютчева. И точно так же спокойно уживались в уме Данилевского два взаимоисключающих постулата - нерушимость империи Российской с сознательным подрывом соседних континентальных империй.
С энтузиазмом подстрекали архитекторы Великой реформы, скажем, болгар к бунту против Стамбула или чехов - против Вены, принимая в то же время позу благородного негодования, едва заходила речь о совершенно аналогичном бунте поляков против Петербурга. Более того, пытались, как мы скоро увидим, попросту уничтожить польскую культуру, одновременно искренне возмущаясь по поводу любого покушения на культуру, допустим, сербскую. А между тем заряд ненависти, накапливавшийся на национальных окраинах империи, был ничуть не меньше, нежели в крестьянском гетто, что нисколько, впрочем, не удивительно в условиях насильственной русификации.
Если, теоретически говоря, есть два альтернативных способа организации многоэтнической государственности, империя и федерация, и если декабристы, судя, по крайней мере, по проекту конституции Сергея Трубецкого, на который мы ссылались во второй книге трилогии, твердо стояли на стороне федерации, то архитекторы Великой реформы столь же решительно были на стороне империи. Как и николаевские чиновники, руководились они при этом вполне московитским принципом: «русский значит православный».
Глава четвертая Ошибка Герцена
Англичане никогда не пытались обратить индусов в христианство, австрийцам не приходило в голову обращать сербов в католичество, даже турки не пробовали обратить болгар в мусульманство.
Короче, ни одной соседней империи не была свойственна такая степень религиозной нетерпимости.
И нисколько не разряжало эту «мину» губернское устройство страны, как модно стало думать в Москве после эскапад Жириновского в 1990 годы. Ибо Польша оставалась Польшей, назови её хоть Привисленским краем, а Литва Литвою хоть и под именем Виленской губернии. Так же, как позднее в советских республиках, формировались в окраинных губерниях этнические элиты, ждавшие своего часа, и так же зрела этническая пугачевщина. И предстояло этой, начиненной ненавистью «мине» № 3 взорвать раньше или позже русскую империю, как взорвала она все другие - в Европе и в мире. И, конечно же, как и в случае с крестьянской пугачевщиной, неминуемо понадобится для сохранения империи жесточайшая полицейская диктатура.
Короче говоря, не научил опыт николаевского «морового» тридцатилетия пореформенную Россию главному: и в политическом, и в социальном отношении она продолжала противопоставлять себя человечеству, сопротивляясь духу времени ничуть не менее упорно, нежели новомосковитская «цивилизация». Ну где еще в тогдашней Европе высокомерно провозглашало себя государство самодержавным, да еще и открыто «сосредоточивалось» для сверхдержавного реванша? Где еще создавало оно в самый разгар освободительных реформ крестьянское гетто? Где еще собственными руками рыла себе могилу монархия? Где еще готовило на свою голову образованное общество дикую крестьянскую пугачевщину? Где еще демонстрировало оно^ундаменталистскую нетерпимость?
Невольно заставляет нас эта серия парадоксов вспомнить странный, на первый взгляд, приговор С.М. Соловьева николаевскому режиму: «невежественное правительство испортило целое поколение»36. Мы еще услышим впоследствии аналогичные признания из уст кающихся «молодых реформаторов» 1850-х, которые, собственно, и были архитекторами Великой реформы. Еще скажет (в дневнике) Александр Головнин: «Мы пережили опыт последнего николаевского десятилетия, опыт, который нас психологически иска-
36 Соловьев С.М. Цит. соч. С. 123 (выделено мною - АЛ.).
лечил»37. Еще напишет Д.А. Милютину в 1882 (!) году Константин Кавелин: «Куда ни оглянитесь у нас, везде тупоумие и кретинизм, глупейшая рутина или растление и разврат, гражданский и всякий, вас поражают со всех сторон. Из этой гнили и падали ничего не построишь»38.
Право, лишь феноменальным историческим невежеством, лишь тем, что российская историография не исполнила своего долга перед обществом, можно объяснить популярность в перестроечные времена мифа о благословенной «России, которую мы потеряли». Или сегодняшние проповеди Нарочницкой и Холмогорова. Даже беглого взгляда на реальную историю достаточно, чтобы убедиться: «Россия, которую мы потеряли», была не только обречена. Она обусловила жестокость той диктатуры, которая за нею последовала.
^ S I Глава четвертая
иоъяснение | Ошибка Герцена
с читателем
Разумеется, эти краткие заметки нисколько не претендуют на решение загадки постниколаевской России. Предназначены они лишь для того, чтобы поставить эту проблему перед молодым поколением российских историков и вообще перед сегодняшними «производителями смыслов» именно как загадку. Иными словами, как нерешенную задачу. Подчеркнув, насколько важно ее решение не только для прояснения прошлого страны, до крайности замутненного сегодня политическими страстями, но и для её будущего.
Для меня же этот генезис пореформенной России важен лишь как исторический фон для рассказа о роковой ошибке Герцена. Дело втом, что задолго до «большого взрыва» 1917-го и словно предрекая его, еще в разгар Великой реформы, пришлось, как мы уже говорили, самому блестящему из русских либеральных мыслителей испытать силу одной из только что описанных «мин» на самом себе. И в
Quoted in Lincoln W. Bruce. In the Wanguardof Reform. Northern Illinois University Press.
1982. P. 85.
Вестник Европы. 1909. №1. С. 9.
этой его политической драме заложена была вся будущая трагедия постниколаевской России.
Оснований для ошибки Герцена было, мне кажется, три. Во-пер- вых, он, как помнит читатель, никогда не принимал всерьез Официальную Народность. Для него она всегда была лишь полицейским фарсом, лишь предсмертной агонией ненавистной ему военной империи. Короче, не заметил он, что николаевская диктатура не только на три десятилетия накрыла страну жандармской шинелью, но и на многие поколения вперёд «испортила» её религиозной нетерпимостью, противопоставлением Европе и сверхдержавным соблазном. О второй ошибке, касающейся самой природы этой болезни, которая так и осталась для Герцена непонятной, мы поговорим подробнее в заключение этой главы.
Сейчас скажу лишь, что из первой, естественно, вытекала и третья ошибка. Для Герцена (как сегодня для пана Пшебинды) Великая реформа была началом выздоровления России, а вовсе не увековечиванием болезни. Реформой, полагал он, страна хоронила николаевское идейное наследство, а не консервировала его. К несчастью, все на самом деле было, как мы сейчас увидим, наоборот.
Глава четвертая
два взгляда ошмбк* на империю
Так или иначе, единодушный вос-
торг, вызванный в российском обществе жестоким подавлением польского восстания 1831 года, счел Герцен вовсе не грозным симптомом укореняющейся сверхдержавной болезни, но, скорее, анекдотом. Он описал смехотворность этих казенных восторгов: «Я был на первом представлении «Ляпунова» и видел, как он засучивает рукава и говорит что-то вроде «Потешусь я в польской крови». Глухой стон отвращения вырвался из груди всего партера, даже жандармы не нашли сил аплодировать»39.
Герцен, однако, не упоминает, что дело к графоманским пьесам и связанным с ними анекдотам не сводилось. Хотя бы потому, что
39 Герцен AM. Цит. соч. С. 286.
новое покорение Варшавы воспел в прекрасных стихах сам Пушкин. И трактовал он его отнюдь не как торжество империи над свободой, но как «спор славян между собою, домашний старый спор, уж взвешенный судьбою». Иными словами, поляки, по мнению Пушкина, бросили вызов вовсе не империи, а самой судьбе. Атакже истории, давно уже, казалось ему, похоронившей их безумные претензии на независимость.
Для Герцена это был нонсенс. Он-то спрашивал с искренним недоумением: «Отчего бы нам с Польшей не жить, как вольный с вольными, как равный с равными? Отчего же всех мы должны забирать к себе в крепостное право? Чем мы лучше их?»40. Как видим, вопрос о свободе Польши был для него лишь оборотной стороной вопроса о свободе российской: «Мы с Польшей, потому что мы за Россию. Мы с поляками потому, что одна цепь сковывает нас обоих. Мы... твердо убеждены, что нелепость империи, идущей от Швеции до Тихого океана, от Белого моря до Китая, не может принести пользы народам, которых ведет на смычке Петербург»41.
Как видим, представления Герцена о патриотизме были унаследованы от декабристов. И потому государственный патриотизм представлялся ему противоречием в терминах. Он оставался свободным человеком. «Мы не рабы нашей любви к родине, как не рабы ни в чем, - писал он. - Свободный человек не может признать такой зависимости от своего края, которая заставила бы его участвовать в деле, противном его совести»42.
Но именно эта внутренняя свобода и помешала Герцену увидеть, как далеко разошелся он с культурной элитой России, выбравшейся из-под жандармской шинели Официальной Народности искалеченной и с совершенно другими представлениями о патриотизме. Он оставался на ступени национального самосознания, тогда как современники его давно соскользнули на ступень национального самодовольства. А оттуда, как объяснил нам Владимир Сергеевич Соловьев, было рукой подать и до патриотической истерии.
Цит. по: Янов А. Альтернатива//Молодой коммунист (далее MK)-1974- № 2- С. 71.
1 ИР Вып. 12. С. 330.
2 МК.С.72.
Беда государственного патриотизма в том и состоит, как мы уже знаем, что раз начавши роковой спуск по «лестнице Соловьева», люди, пораженные им, остановиться уже, как правило, не в силах. Недооценив идейную мощь николаевского детища, Герцен не заметил момента, когда разминулся со сверстниками. Даже с лучшими из них. Даже с Пушкиным, когда тот, пройдя школу казенной Русской идеи, оказался «певцом империи».
Ошибся он, таким образом, дважды. В первый раз, когда не заметил, что судьбою постниколаевской России уже управляет государственный патриотизм, во второй - когда не увидел, что его взгляд на империю прямо противоположен взгляду его российских читателей. Не понял, другими словами, драмы патриотизма в России.
Глава четвертая Ошибка Герцена
истерия
Аукнулась ему эта монументальная ошибка уже на третьем году Великой реформы, когда лондонский его Колокол добился почти правительственного статуса, чтобы не сказать власти, в России. Это может показаться преувеличением, но, судя по тому, что писали Герцену и о Герцене даже его недоброжелатели, не очень большим.
Патриотическая
«Вы сила, вы власть в русском государстве», - признавался в открытом письме его непримиримый оппонент Чичерин. А вот что писал уже по^ле смерти Александра Ивановича его младший современник славянофил К.Н. Цветков, возражая своему коллеге и единомышленнику, неосторожно назвавшему Герцена несчастным: «Герцен - несчастный! И это в то время, когда вся русская интеллигенция благоговела перед ним и поклонялась ему, когда служащие военного и гражданского ведомств, не исключая самых высших, трепетали и раболепствовали перед ним. Слышно было, что мнениями его руководствуются. Это создавало Герцену как бы официозное положение и обусловливало почти подобострастное отношение к нему в обществе. Нет, он не был несчастным: он был «в случае», был
времена Бирона; нас трактуют как бессмысленных скотов. Или наш народ в самом деле никогда ничего не делал, а всё за него делала власть? Неужели он всем обязан только тому, что всегда повиновался - этой гнусной способности рабов? Ужас, ужас, ужас!»[25].
Но вот против этой холопской традиции, возрожденной Николаем, против «гнусной способности рабов» восстали с оружием в руках поляки, захотели от нее отделиться. И словно подменили Никитенко. ю апреля 1863 года он записывает: «Если уж на то пошло, Россия нужнее для человечества, чем Польша. Одни только народы могут служить человечеству, которые еще не прожили всего капитала своих нравственных сил, а Польша уже, кажется, это сделала. У России же есть будущность»[26].
И умиляется 18 апреля массовой демонстрации патриотических чувств: «В Москве 17 [апреля] был невыразимый народный энтузиазм. Народ потребовал, чтобы молебен отслужен был на площади против окон тех комнат дворца, где родился государь. Народ пал на колени и молился за Россию и государя с глубоким чувством. Очевидцы говорят, что это было зрелище великолепное и трогательное»[27].
И та же поразительная метаморфоза происходит вдруг с отношением Никитенко к Европе. 3 сентября 1855 года, во время Крымской войны, он ужасался воинственности славянофилов: «Лет пять назад москвичи провозгласили, что Европа гниёт, что она уже сгнила... А воттеперь Европа доказывает нашему невежеству, нашей апатии, нашему высокомерному презрению её цивилизации, как она сгнила. О горе нам!»[28]. А восемь лет спустя он уже и сам непрочь показать Европе кузькину мать. А как же иначе? Ведь «Европа хочет отнять у России ... право великой державы - и Россия должна уступить»[29]?
В данном случае «право великой державы» заключалось, как видим, в том, что суверенная империя не должна позволять «посторонним» вмешиваться в то, что ей заблагорассудилось делать с оккупированной ею мятежной провинцией. Например, отменить само историческое имя Польши, переименовав ее в Привисленский край. Или депортировать 20 тысяч поляков в Сибирь (400 были расстреляны и 2500 приговорены к каторжным работам).
И все это происходило в разгар Великой реформы, при царе- освободителе! Даже в 1831 году, после подавления очередного польского восстания, расправа не была столь крутой. Да, Николай отнял тогда у Польши конституцию, лишил её всех квазигосударственных учреждений, введенных в ней по решению Венского конгресса Александром I. Да, Николай публично грозился стереть Варшаву с лица земли. Но ведь не стер же. И даже польские библиотеки не запретил. Нет, при Александре II происходило нечто совсем другое.
Достаточно вспомнить, что на этот раз в Польше запрещен был родной язык (разговоры по-польски в здании школы даже на переменках - в классах преподавание шло по-русски - были приравнены к уголовному преступлению). На этот раз была разгромлена национальная церковь, её имущество конфисковано, монастыри закрыты, епископы уволены.
Короче, если Николай истреблял институты и символы польской автономии, то царь-освободитель целился в самые основы культуры, в национальную идентичность Польши, в её язык и её веру. В полном согласии с предписаниями Каткова, поставившего, как мы помним, вопрос о взаимоотношениях с поляками в плоскость «жизни и смерти», происходило, прав был Герцен, «убиение целого народа» (это тоже, между прочим, не мешало бы вспомнить пану Пшебинде).
Европа, конечно, опять кипела негодованием. Так же, как накануне Крымской кампании (или уже в наши времена этнической чистки в Косово, заметим в скобках), пресса требовала от своих правительств действий. Истерзанную Польшу и не называли уже иначе, как «Христом среди наций». Европейские правительства, впрочем, как и десятилетие назад, реагировали неохотно. Дальше сердитых нот с требованием исполнять решения Венского конгресса дело не шло. Войной из-за Польши и не пахло.
Нас, однако, интересует позиция бывших «русских европейцев», как Никитенко, которые совершенно очевидно были во времена Крымской кампании против Николая, чтобы не сказать на стороне Европы. Но сейчас, когда речь зашла о «сохранении империи», позиция большинства из них изменилась резко, до неузнаваемости. Сейчас они настаивали на войне с Европой, попытавшейся, по их мнению, отнять у России «право великой державы». Нет уж, «всё показывает, - записывал Никитенко, - что государь решился на войну. Пора, пора...»55.
21 мая 1863 года: «Встретился с Тютчевым. - Война или мир? - Война без всякого сомнения. Встретил также A.M. Малеина, ныне управляющего делами в Министерстве иностранных дел. - Война или мир? - Война без всякого сомнения»56. И вообще «нет худа без добра, - это уже и июня. - Печальные наши обстоятельства послужили высказаться великой нашей национальной мысли, что союз народа с государем несокрушимо крепок»57. Ну чем, скажите, отличается всё это от аналогичных переживаний хоть того же Шевырева в канун Крымской войны?
Но не один, конечно, Никитенко оказался жертвой «порчи». В адрес императора посыпались бесчисленные послания в поддержку карательной экспедиции против поляков - от дворянских собраний и городских дум, от университетов, от крестьян и старообрядцев, от национал-либералов и консерваторов, от московского митрополита Филарета, благословившего от лица православной церкви то, что для Герцена было убиением целого народа.
Повсеместно заказывались молебны о торжестве русского оружия. Сотни студентов Московского и Харьковского университетов подписали верноподданнические послания. Короче, обнаружилось на поверку, что николаевской Официальной Народности удалось- таки стереть в умах россиян разницу между благородным патриотизмом декабристов и государственным патриотизмом их палачей. Десятилетиями сеяла она ядовитые семена национального самообо-
Там же. С. 339.
Там же. С. 333.
жания. И страшна оказалась жатва. Как признавался сам Герцен, «дворянство, либералы, литераторы, ученые и даже ученики повально заражены: в их соки и ткани всосался патриотический сифилис»58. Многим ли, право, отличается это его определение оттого, что я называю патриотической истерией?
Глава четвертая Ошибка Герцена
«Колокола»
Понятно, чем должно было закон-
читъся это неравное противостояние. Больше трех десятилетий назад, в самом разгаре брежневской реакции, не остывшей еще от карательной экспедиции в Прагу, умудрился я рассказать эту печальную повесть на страницах Молодого коммуниста59. Для тех, кто никогда ее не читал, вкратце повторю.
Только вчера еще, казалось, Колокол был на вершине могущества. Достаточно было письма в Лондон, чтобы рушились, как карточные домики, административные карьеры, трещали губернаторские кресла. И не одной лишь потерей репутации грозили сановным гангстерам разоблачения Герцена, порою и судом, даже каторгой. Правительство не могло прийти в себя от изумления, когда отчеты о самых секретных его заседаниях появлялись в Колоколе даже раньше, чем становились известны царю.
В статье «Императорский кабинет и Муравьев-Амурский», где разоблачалась гигантская афера на Нерчинских золотых рудниках, к которой оказались причастны самые высшие правительственные чины, фигурировали документы столь секретные, что в пересылке их Герцену подозревали самого генерал-губернатора. И заканчивалась
s8 МК. С. 75-
59 Тогдашний вождь комсомола Евгений Тяжельников , распекая редакцию после моего изгнания из страны, назвал эту статью «политическим завещанием янова». Суть статьи в двух словах в том, что если бы Герцен не эмигрировал из России, у нас не было бы Герцена (был бы еще один литератор вроде Григоровича, интересный сегодня разве что историкам литературы). Понятно, что в условиях 1974 года это воспринималось как гимн эмиграции, которая, напомню, рассматривалась тогда как государственная измена.
статья громовым предостережением: «...кабинет его императорского величества - бездарная и грабящая сволочь!»
Колокол, - писали друзья из России, - «заменяет для правительства совесть, которой ему по штату не полагается, и общественное мнение, которым оно пренебрегает. По твоим статьям поднимаются уголовные дела, давно преданные забвению, твоим Колоколом грозят властям. Что скажет Колокол? Как отзовется Колокол? Вот вопросы, которые задают себе все, и этого отзыва страшатся министры и чиновники всех классов»60. Нашелся, наконец, на всех российских городничих настоящий ревизор. Но...
Но уже через несколько месяцев после выступления Герцена в защиту польской свободы, тираж Колокола рухнул. Его влияние, как писал современник, «вдруг оборвалось и свелось почти к нулю». «Мы привыкли к опале, - писал Герцен, - мы всегда были в меньшинстве, иначе мы и не были бы в Лондоне, но до сих пор нас гнала власть, а теперь к ней присоединился хор. Союз против нас полицейских с доктринерами, филозападов со славянофилами».61 И скорбно резюмировал: «Колокол умер, как Клейнмихель, никем не оплакан»62.
Ни в какое сравнение, как выяснилось, не шла вся его ревизорская власть, вся его репутация прославленного борца со всероссийской коррупцией и грязью - с силою патриотической истерии. Как лесной пожар, охватили вдруг культурную элиту России другие заботы, едва под угрозой оказались нерушимость империи и «союз народа с государем». Публику больше не волновала забота о том, как «сделать Россию лучше». Её место заняли заботы более насущные, государственно-патриотические, о том, например, как поядовитее дать «отлуп» негодующей Европе и как пожестче наказать крамольных поляков. Пусть даже рискуя еще одной военной катастрофой...
HR ВЫП. 12. С. 321.
МК. с. 77-
Там же. С. 71.
«Россия глуха»?
Нет, не сдался, конечно, старый боец и в роковую для него минуту, когда остался он один против всех и мир рушился вокруг него. Когда в глазах вчерашних союзников и почитателей оказался он вдруг русофобом и изменником родины. «Если наш вызов не находит сочувствия, если в эту темную ночь ни один разумный луч не может проникнуть и ни одно отрезвляющее слово не может быть слышно за шумом патриотической оргии, мы остаёмся одни с нашим протестом, но не оставим его. Повторять будем мы его для того, чтобы было свидетельство, что во время общего опьянения узким патриотизмом были же люди, которые чувствовали в себе силу отречься от гниющей империи во имя будущей нарождающейся России, имели силу подвергнуться обвинению в измене во имя любви к народу русскому»63.
Это были гордые слова. Только повторять их, увы, не имело смысла: Россия больше не слышала Герцена. «Нам пора в отставку, - писал он Огареву, - жернов останавливается, мы толчем воду, окруженные смехом... Россия глуха»64. Став, как он и хотел, «голосом страдающих» в России, он потерял всё. И тогда он вынес себе самый жестокий из всех возможных для него приговоров: он приговорил себя к молчанию. Теперь оставалось ему «лишь скрыться где-нибудь в глуши, скорбя о том, что ошибся целой жизнью»65.
Сломленный, он и впрямь недолго после этого прожил. И умер в безвестности, на чужбине, полузабытый друзьями и оклеветанный врагами. Похороны Герцена, по свидетельству Петра Боборыкина, «прошли более чем скромно, не вызвали никакой сенсации, никакого чествования его памяти. Не помню, чтобы проститься с ним на квартиру или на кладбище явились крупные представители тогдашнего литературного и журналистского мира, чтобы произошло что- нибудь хоть и на одну десятую напоминающее прощальное торжество с телом Тургенева в Париже перед увозом его в Россию»66.
Там же. С. 77.
Там же. С. 78.
Глава четвертая Ошибка Герцена
6s Там же.
- , . ^ \ Глава четвертая
Жестокая судьба lo-rfwrw*.
Перед нами драма - одна из величайших в мартирологе русского либерализма. И касайся она одного лишь Герцена, оставалось бы нам лишь запоздало поклониться памяти славнейшего из рыцарей российской свободы, который, как никто в его время, имел право сказать: «Мы спасли честь имени русского».
Он был отвергнут своей страной в минуту, когда она нуждалась в нём больше всего. А потом кощунственно воскрешен - служить иконой новой сталинской «Официальной Народности». И опять быть отвергнутым, когда рухнула, в свою очередь, и она - и началась в 1991 году еще одна Великая реформа. Можно ли представить себе судьбу более жестокую?
Но ведь разговор наш не только о Герцене, он о судьбах российской свободы. И в контексте такого разговора уместно, наверное, попытаться вникнуть подробнее в природу его ошибки.
Мы видели, что государственный патриотизм вызывал у него лишь улыбку. О роковом влиянии статуса российской сверхдержавности на ментальность российской элиты он не подозревал. И никогда не вчитался в строки Пушкина, обращенные к таким, как он: «Вы черни бедственный набат, клеветники, враги России». Кто знает, как сложилась бы его судьба, преодолей он в молодости это свое здоровое отвращение к Официальной Народности? Если бы ужаснулся ей, а не только смеялся над нею? Уж во всяком случае не оказалась бы тогда для него патриотическая истерия 1863 года громом с ясного неба.
Конечно, ничего бы в его позиции не переменилось. Конечно, против подавления Польши восстал бы он все равно. И все-таки знай Герцен заранее, что читатели его не иммунны к «патриотическому сифилису», удар этот, быть может, не сбил бы его с ног, не заставил прийти к трагическому заключению, что Россия глуха и он ошибся целой жизнью.
Хотя бы потому, что увидел бы он в этом случае Россию не глухой, а больной - имперским и сверхдержавным соблазном. И понял бы, что покуда не излечится она от этой болезни, припадки патриотической истерии не только возможны здесь, но при определенных уело- виях и неизбежны. И не обижаться на нее за это надо, а пытаться помочьей преодолеть болезнь. Тем более, что нет в ней ничего специфически русского. Ведь бились же в аналогичных припадках коллективного безумия и Англия при Кромвеле, и Франция при Наполеоне. Я говорю сейчас лишь о случаях, которых он не мог не знать. А мы-то видели их куда больше - и в Германии при Гитлере, и в Японии при Того, и в Китае при Мао. Говорить ли о России при Сталине (и при Ельцине, и при Путине, как мы помним, тоже)?
Грешно, право, не рассказать в заключение этой подглавки совсем недавнюю, декабря 2007 года, историю, которую видел я лишь по телевизору в вестях из России. На митинге «Наших», протестовавших против независимости Косово (опять Косово, словно бы играющее роль современной Польши!). Так вот, интеллигентная миловидная девушка горячо объясняла собравшимся, что «Косово - земля православная и нечего поэтому на ней делать захватчикам, мусульманам-албанцам. Если нельзя обратить их в православие, то просто прогнать их нужно из нашей земли. И если не может это сделать Сербия, то есть ведь мы, великая православная Россия».
Словно бы и не прошло 144 года после подавления Польши, погубившего Колокол, слышим мы те же речи, что и в 1863 году. Где же были, спрашивается, всё это время наши историки?
Г\ -> илава четвертая
Откуда оолезньг Iw...
На первый взгляд кажется странным ставить в упрек мыслителю XIX века, что он не угадал природы феномена, который и сегодня еще, столетие спустя после его смерти, остается темным. Но речь-то у нас о человеке с феноменальной политической интуицией, об одном из светочей всемирной либеральной мысли. Вот ведь еще за столетие до Герцена мыслитель такого же, как он, калибра Эдмунд Бёрк угадал опасность сверхдержавного статуса для своей страны, опасность, которая и сейчас остается непонятной подавляющему большинству политиков и в России, и в Америке. Вот что говорил Бёрк о Британской империи в конце XVIII века: «больше
любого врага и больше чужих амбиций ужасают меня наше собственное могущество и наши собственные амбиции».
Конечно, происхождение и природа сверхдержавной болезни крайне сложны и требуют отдельного разговора. Как рабочую гипотезу, однако, можно, наверное, предложить следующее. Есть народы, начиная с библейских иудеев, одержимые мессианской идеей избранничества. И кромвелевская Англия в XVII веке, и пуританская Америка в XVIII были, как известно, уверены, что именно в них возродился «новый Израиль». Третьим Римом - и, конечно, тем же «новым Израилем» - полагала себя, как мы уже знаем, в XVII веке и фундаменталистская Московия. Центром всемирной цивилизации посреди бушующего моря варварства почитал себя средневековый Китай. Но по-настоящему серьезным становится этот первый симптом болезни, лишь когда «избранный» в национальном воображении народ обрастает вполне земной империей и его мессианская идея оказывается составной частью новой имперской ментальности.
Еще серьезнее становится дело, однако, когда оба эти симптома сверхдержавной болезни накладываются на третий - на статус реальной сверхдержавности, порождающий у народа иллюзию всемогущества. Того самого всемогущества, которое Погодин называл в свое время «мечтой об универсальной империи», а Проханов сегодня «империей Света». Теперь для окончательного завершения дела требуется лишь Sonderweg, мощный националистический миф об «особом пути в человечестве», способный как бы сфокусировать, собрать в одно целое и мессианский синдром, и имперскую менталь- ность, и иллюзию сверхдержавного всемогущества. Именно то, другими словами, что ужаснуло в Англии Бёрка и что привил России в пору ее сверхдержавности николаевский государственный патриотизм.
Именно с момента, когда культурная элита страны усваивает миф Sonderweg, начинается, как мы уже говорили, деградация патриотизма. И жестокие припадки патриотической истерии, жертвой одного из которых стал Герцен, оказываются в порядке вещей. Экстраординарная опасность этого вырождения в том, что в момент очередного припадка страна, страдающая сверхдержавной болезнью, способна не только топтать соседей и унижать друзей, но и противопоставить себя человечеству. А это, как свидетельствует история, неминуемо кончается национальной катастрофой. Крымская капитуляция была лишь первой из таких катастроф, ожидавших захворавшую Россию.
Вот этой самой глубокой и трагической причины своей ошибки, этой драмы патриотизма в России, так и не понял до конца дней своих Герцен67. Может быть потому, что приналежал к другому, еще здоровому, дониколаевскому поколению русской интеллигенции. Так или иначе, в результате болезнь осталась необъясненной. Просто потому, что если и был кто-нибудь в 1860-е, способный её диагностировать, так это Герцен. Почему он этого не сделал? Остается лишь предположить, что глубочайшая депрессия, охватившая его после крушения дела его жизни, в сочетании степлящейся в сердце верой в крестьянскую общину как в спасительницу России - и Европы, - помешала Александру Ивановичу ответить на роковые вопросы, перед которыми оказалась тогда Россия. Вот они.
Случайно ли, что именно в 1860-е, тотчас после того, как катастрофически окончилась для неё эра сверхдержавности, забилась страна в самом мощном до той поры припадке патриотической истерии?
Излечим ли этот «патриотический сифилис», оставленный ей в наследство её земным богом?
Если излечим, то при каких условиях?
Невозможно закончить разговор об ошибке Герцена, не попытавшись ответить на эти вопросы. Придётся нам на минуту вернуться к теме фантомного наполеоновского комплекса, столько раз уже затронутой нами в этой трилогии.
** Колокол. С. 189.
Чего не заметил Герцен
Читатель помнит, надеюсь, что захворала этой сверхдержавной болезнью Россия после того, как волею исторических судеб оказалась военной хозяйкой континента, наследницей свергнутой в 1815 году со сверхдержавного Олимпа наполеоновской Франции. До кончины Александра I, однако, покуда еще числила себя Россия идеологически в составе Европы, болезнь эта на практике никак себя не проявляла. Во всяком случае декабристская элита страны была от неё свободна совершенно. И империя, как мы помним, вовсе не была для неё священной коровой, и независимость Польши казалась ей делом вполне естественным.
Все это резко изменилось с разгромом декабризма и воцарением Николая, когда Россия устами Уварова объявила, что старый екатерининский постулат себя изжил и она больше не Европа, - неожиданно оказавшись таким образом военной хозяйкой чужого континента. Причем континента, уязвимого для «красной» революции, которая в представлении николаевских идеологов была воплощением анархии. Отсюда соблазн, с особой яркостью проявившийся в новомосковитской утопии Тютчева, подчинить себе Европу, раз и навсегда восстановив в ней под российским скипетром «великий принцип власти». На практике Европа, естественно, казалась николаевским геополитикам потенциальной добычей. Отсюда и обожествление империи, и «право великой державы», и полубезумная уверенность, что Европа «сгнила», т.е. к сопротивлению неспособна.
И продолжалась вся эта фантасмагория целое поколение, покуда Крымская война не обернулась николаевским Ватерлоо и Россия была, в свою очередь, свергнута со сверхдержавного Олимпа. Официальная Народность, благословившая идейный разрыв с Европой, закончила свой век вместе с неудавшимся российским Наполеоном.
Глава четвертая Ошибка Герцена
Но осталась, как мы знаем, вторая, неофициальная Русская идея славянофилов, которые на глазах становились элитой постниколаевской России. И былые жаркие споры о допетровской Московии, о которых рассказал нам Герцен и которые действительно одушевляли славянофилов, когда они были в безнадежной, казалось, оппозиции, неожиданно отошли на задний план перед суровой необходимостью выработать идеологию реформирующейся империи.
И тут вдруг обнаружилась поразительная вещь: важнейшие символы веры оппозиционной Русской идеи практически совпали с символами только что раскассированной официальной. Прежде всего речь шла об убеждении, что, поскольку царь состоит в мистическом браке со страной и его порфиры отражают свет небес, самодержавие несопоставимо выше любых других форм политической организации.
Возражение, что Европа уже отказалась от абсолютизма, отвергалось с тем же карамзинским высокомерием, что и при Николае: Россия не Европа. У нас другие традиции, другая культура и вообще - что немцу смерть, русскому здорово. И если уж на то пошло, то постниколаевская Россия в еще большей степени превосходит Европу, чем при Николае. Ибо теперь она выше её не в одном лишь политическом смысле (сохранив благословенное самодержавие), но и в самом что ни на есть социальном (предотвратив, благодаря сельской общине, пролетаризацию крестьянства). Гарантией этого превосходства является суверенность империи. Россия не должна позволить полякам и постоянно провоцирующей поляков на мятеж Европе подорвать этот сакральный суверенитет.
Иначерворя, символы веры бывшей неофициальной славянофильской Русской идеи становились официальной идеологией постниколаевской России. А для Герцена она все еще оставалась той прежней Россией его юности, где образованная молодежь стояла заодно против николаевского, «кнутового, полицейского патриотизма»68. И где славянофилы были nos enemis less amis, нашими врага- ми-друзьями. Да, он и тогда, конечно, уже понимал, что изобрели они «новый елей, помазывающий царя, новую цепь, налагаемую на мысль, новое подчинение совести раболепной византийской церк-
68 Герцен А. И. Цит. соч. С. 286.
ви»69. И все-таки, все-таки, хоть «мы были врагами, но очень странными. У нас была одна любовь... И мы, как Янус... смотрели в разные стороны, вто время как сердце билось одно»70.
Глава четвертая Ошибка Герцена
А на самом деле перед ним была совсем другая Россия, где вчерашние враги-друзья давно уже стали патриотами империи и переживали польский мятеж как смертельную угрозу, и готовы были растоптать его защитников, а он, Герцен, оказался всего лишь одним из этих европейских защитников, «клеветником, врагом России».
Мысленный
эксперимент
Не заметил Александр Иванович и того, что точно так же, как во Франции после Ватерлоо, сверхдержавный соблазн после Крымской войны естественно вступил в России в фазу фантомного наполеоновского комплекса, т.е. известной уже нам самоубийственной тоски по утраченной сверхдержав- ности. Отныне элита страны (во всяком случае её националистическое крыло) жила идеей реванша. А покорённой и униженной Польше отводилась, между прочим, в достижении реванша особая роль. Ведь, как слышали мы еще от Александра Павловича, предназначена она была «служить авангардом во всех наших будущих войнах в Европе».
Вот почему попытка поляков добиться независимости неожиданно уравнялась в сознании Никитенко (и всего «испорченного» Официальной Народностью поколения) со стремлением Европы отнять у нас «право великой державы». Как мы видели, они уже в 1863-м готовы были за это «право» воевать.
Иначе говоря, то был лишь первый сигнал, что новая элита пореформенной страны не постоит ни перед чем во имя реванша. Ибо с постниколаевской Россией происходило примерно то же, что с постнаполеоновской Францией: она жила в ожидании своего Наполеона III.
Там же. С. 284.
Допустим теперь - в порядке своего рода мысленного эксперимента - что история сыграла с тогдашними национал-либералами злую шутку. Также, как и их сегодняшние наследники, они разбудили своих Квачковых. И те обладали даром видеть будущее. И рассказали бы им, что ждет страну, заболевшую реваншем. Прежде всего, конечно, Квачковы сообщили бы им пренеприятнейшее известие: империя Романовых к реваншу не способна. И вы, говоруны, тоже. Для реванша нужна свежая кровь - и тотальная смена элиты. На ваше место должны прийти люди действия, которые умеют стрелять и способны согнуть несогласных в бараний рог. Другими словами - мы.
А дальше будет вот что. Будет гражданская война, будет новый Цезарь. Он уничтожит старую элиту (а заодно, если понадобится, и миллионы людей, не имеющих никакого отношения к делу), но добьется реванша. И никто больше не посмеет оспаривать у России «право великой державы». И вновь покоренная и униженная Польша (вместе с полудюжиной других раздавленных восточно-европейских карликов) будет покорно лежать у её ног. Согласны вы на это ради реванша?
У меня нет ни малейшего сомнения, что ответили бы на этот вопрос тогдашние национал-либералы отрицательно. Тем более, если наш мысленный эксперимент простерся бы еще на несколько десятилетий, когда снова «самоуничтожится», рассыплется впрах все это величие. И останется от всемогущей империи одно лишь страшное воспоминание. И свободная Польша вспомнит, что полтора столети^назад, в её смертельный час, нашлись среди русских «люди, которые чувствовали в себе силу отречься от гниющей империи во имя будущей России, имели силу подвергнуться обвинению в измене во имя любви к народу русскому».
Ни грана вымысла не было бы в этом рассказе. Одна горькая правда. Нет сомнения, что отшатнулись бы от такого будущего нацио- нал-либералы 1860-х. Но было бы поздно. Маховик великой трагедии уже был запущен. Ими самими...
Россия не исключение
Я вовсе не хочу сказать, что сверхдержавный соблазн был единственной причиной Катастрофы 1917 года. В основание пореформенной России заложены были, как мы помним, три «мины» замедленного действия, а не одна, и, конечно же, русские «бесы» вовсе не выскочили на сцену, как черт из коробочки, и не повернется у историка язык их оправдывать. Говорю я лишь, что сама её величество История словно бы поставила этот гигантский - и безжалостный - эксперимент, чтобы продемонстрировать великому народу, как неразумному дитяти, всё вероломство и ужас и бесплодие сверхдержавного соблазна, терзающего его десятилетиями.
Замечу лишь - и это, пожалуй, самое важное, - что во всех случаях, когда какая-либо страна заражалась этой страшной болезнью, кончалось всё для нее без вариантов - катастрофой. О судьбе наполеоновской Франции, николаевской России и вильгельмовской Германии, поочередно сменявших друг друга на сверхдержавном Олимпе в XIX веке, мы уже говорили.
Но ведь ровно ничего не изменило в этом правиле и XX столетие. В промежутке между мировыми войнами доминировал в Европе сверхдержавный кондоминиум Франции и Англии. Франция, как всегда, расплатилась за это очередной иностранной оккупацией, судьба Англии висела на волоске, и, даже избежав оккупации, она потеряла империю. А для сменившей кондоминиум гитлеровской Германии закончилось дело еще трагичней. Её города были превращены в руины, она была оккупирована и поделена между победителями.
В послевоенный период доминировал мир еще один сверхдержавный кондоминиум, на этот раз США и России. Чем завершилось это для России, напоминать не надо. Чем завершится для Америки, мир узнает в XXI веке.
Глава четвертая Ошибка Герцена
Как бы то ни было, теперь мы понимаем, почему судьба постниколаевской России не могла не быть трагической. Просто она не была исключением из общего правила.
гЛАВА первая вводнэя
глава вторая У истоков «государственного патриотизма»
глава третья Упущенная Европа
ПЯТАЯ
глава шестая
глава седьмая
глава восьмая
глава девятая
глава десятая глава
одиннадцатая
глава четвертая ошибкз герцвнз
Ретроспективная утопия
Торжество национального эгоизма Три пророчества На финишной прямой Как губили петровскую Россию Агония бешеного национализма
Последний спор
ГЛАВА ПЯТАЯ
Ретроспективная утопия
Невозможно представить себе ничего настолько абсурдного, чтобы не нашлись философы, которые взялись бы это доказать.
Рене Декарт
«Раньше нас гнала власть, а теперь к ней присоединился хор», - признавался, как мы помним, в минуту отчаяния Герцен. Иначе говоря, в настроении русского общества произошел вдруг резкий, ошеломивший его своей необъяснимостью переворот. С декабристских времен, на протяжении двух поколений, все казалось тут прозрачно ясным: власть и общество находились по разные стороны баррикады. Самодержавие со своими жандармами, со своими двенадцатью цензурами и казенной риторикой было чужим, было врагом.
Всякому мыслящему человеку в России казалось естественным, что государственный патриотизм, в основе которого лежал категорический запрет на инакомыслие, - это нечто дурное, зловещее, хамское. Мы проследили это по дневниковым записям Никитенко, по страстной риторике славянофилов, называвших царя не иначе, как деспотом, по язвительном замечаниям Чаадаева, по презрительной прозе Герцена. И вот во мгновение ока всё перевернулось вверх дном.
Из политики, тщательно оркестрованной правительством, гонение на свободное слово превратилось, как мы видели, в стихийную, «хоровую», так сказать, охоту. Существуй во времена подавления польского восстания 1863 года рейтинг, он наверняка зашкалил бы у императора за 8о. Общество вдруг оказалось на стороне самодержавия. Того самого, что лишь десятилетие назад принесло ему невыносимое национальное унижение. Того, чей вроде бы мертвый государственный патриотизм оно только что исторгло из сердца.
Мы знаем, что это случилось. Но как? Этого мы покуда не знаем. Вот первая загадка, которая ожидает нас в этой главе. За нею, однако, высится вторая, куда более драматичная, исторический резонанс которой не заглох и поныне.
^ I Глава пятая
«ЭЭ ВЯЗ КЗ [Ретроспективнаяутопия
славянофильской драмы
Состояла эта вторая загадка, как мы помним, втом, что казенная Русская идея, рожденная деспотом, перепуганным декабристским мятежом, и вылившаяся в бюрократическую утопию новомосковитской «цивилизации», оказалась вдруг очищена от казенной шелухи государственного патриотизма, рафинирована, так сказать, и представлена обществу как воплощение национальной - и цивилизационной - идентичности русского народа. Еще совсем недавно это бы и в голову никому не пришло (во всяком случае не пришло, как мы только что видели, Герцену, одному из самых проницательных людей эпохи). Просто не могло вроде бы старое косноязычное чудовище «сфабрикованной народности», пугавшее одних и вызывавшее язвительную иронию у других, само по себе превратиться вдруг в респектабельное и оснащенное новейшими философскими и культурологическими аксессуарами учение, в последнее, если угодно, слово науки.
Само по себе, конечно, не могло. На самом деле большая группа замечательно талантливых московских философов и литераторов (Константин Аксаков, Алексей Хомяков, Иван Киреевский, Юрий Самарин, Александр Кошелев, Николай Языков и др.) работала в 1840 годах над этой метаморфозой патриотизма в России. Оппоненты назвали их славянофилами (они, впрочем, против такого названия не возражали). На самом деле были они, конечно, обыкновенными национал-либералами. Эти люди и составили ядро диссидентской котерии постдекабристского поколения, которая обеспечила
бессмертие николаевскому постулату «Россия не Европа» - в качестве русской национальной идеи.
Как мы уже знаем, само представление о том, что идея может быть национальной, заимствовали они вместе с расистскими ее обертонами у немецких романтиков, ревизовавших европейскую традицию эпохи Просвещения (я не должен напоминать читателю, что в этой традиции идеи не имеют отечества и тем более расовой принадлежности). Конечно, и без Гегеля с его соблазнительной гипотезой, что нации поочередно сменяют друг друга во главе человечества, славянофильства никогда бы не было. Но и «гегемоном» их национальная идея тоже никогда бы в России не стала, не будь она так искусно, с таким талантом и блеском адаптирована к отечественным реалиям.
К примеру, не было ни у германских романтиков, ни тем более у Гегеля интеллектуального оправдания самодержавия или апологии архаической средневековой общины. И вообще уровень артикули- рованности идеи, как скоро сможет убедиться читатель, был у славянофилов несопоставимо более рафинирован и высок, нежели у любого другого современного им течения мысли.
Вместе с их диссидентской самоотверженностью и неслыханной до тех пор в России групповой солидарностью всё это обеспечивало превосходные стартовые позиции в борьбе за «гегемонию», которая предстояла трем славянофильским поколениям на протяжении XIX века (что, впрочем, не мешало славянофильству, как и германскому его прототипу, оставаться средневековой фантасмагорией, пронизанной национальным самодовольством, и время от времени обрекавшей страну на судороги патриотической истерии).
Посмотрим теперь, что отличало родоначальников славянофильства как от их предшественников, декабристов, так и от современных им идеологов Официальной Народности.
Коротко говоря, если декабристы чувствовали себя в Европе дома, а геополитики Официальной Народности стремились подчинить её России, то смысл рафинированной, «хоровой», повторим за Герценом, Русской идеи состоял поначалу лишь в том, чтобы от Европы отмежеваться.
Еще за столетие до Освальда Шпенглера славянофилы провозгласили закат Европы, и впрямь переживавшей тогда мучительный переходный период (очень, кстати, напоминающий то, что происходит сейчас в России). Подобно Шпенглеру, впрочем, приняли они муки этого переходного периода за агонию. Убежденные, что Европа гниёт заживо, идет ко дну, они, естественно, не желали, чтобы она потянула за собою Россию.
Потому и оказался в центре славянофильского учения тезис о неевропейском характере «русской цивилизации», придуманной николаевскими политтехнологами. Как уточнил, повторяя Погодина, сегодняшний «национально ориентированный» интеллигент, «Россия - это отдельный мир. Более точного определения нашей геополитической и геокультурной сути не существует»1. Здесь, собственно, и была та идейная цепь, что намертво приковала рафинированных интеллигентов к казенной риторике Официальной Народности. Выкована она была, оказывается, из того же немецкого Sonderweg, с которого, как мы уже знаем, и начинается деградация патриотизма.
Разумеется, это было лишь завязкой драмы неофициальной при Николае Русской идеи. Сама драма состояла в том, что последующие поколения славянофилов отказались признать первоначальную ошибку отцов-основателей своего учения. И потому ожидали славянофильство всё новые и новые метаморфозы - покуда оно, начавшись как искренний протест против отечественного деспотизма, не превратилось в его интеллектуальное оправдание и политическую опору. Как это случилось - вот где настоящая загадка, распутыванию которой и посвящена, собственно, эта заключительная книга трилогии.
Пока что, впрочем, мы лишь на дальних подступах к этой загадке. И предстоит нам сначала ответить на вопрос, который в трагическую минуту задал себе Герцен.
1 Фоменко А. Смысл русского дела в сохранении империи// НГ-сценарии. 1996, 21 ноября.
% ш л I w Глава пятая
Успех ОфИЦИаЛЫНОИ Ретроспективная утопия
Народности
Врядли возможно объяснить переворог в настроении русского общества, погубивший Колокол, не отдав должное крупнейшему достижению Официальной Народности. Ей удалось покончить с его декабристской целостностью, расколов «производителей смыслов» в России на западников и славянофилов. А превратив славянофилов - с помощью Sonderweg - в своих наследников и положив тем самым начало «хоровому» имперскому национализму, она себя, по сути, увековечила.
Конечно, менее всего было это результатом сознательной политики. Да и неспособно было на такой маневр самодержавие со своей чиновничьей неповоротливостью и близорукостью. Оно просто давило общество - покуда общество это не треснуло. Но когда со смертью Николая Павловича давление вдруг резко упало, перемены оказались необратимыми. Причем, общество было не только расколото, но и безнадежно идеологизировано.
Сначала пришло, как мы помним, всеобщее одушевление. «Кто не жил в 1856 году, тот не знает, что такое жизнь, - вспоминал Лев Толстой, - все писали, читали, говорили, и все россияне, как один человек, находились в неотложном восторге»[30]. Потом наступило неизбежное разочарование. Потом новое увлечение реформами. К 1863 году безнадежно уже расколотая культурная элита страны снова согласилась, по крайней мере, в одном: не мешать реформам.
Мотивы у западников и славянофилов были при этом совершенно разные, чтобы не сказать противоположные. Западников очаровала иллюзия, что дело движется к конституции. Что так же, как отреклось государство от трехсотлетнего крепостного права, отречется оно вскорости и от трехсотлетнего самодержавия. Что, иными словами, Россия становится, наконец, европейской страной. Славянофилы же, потратившие столько сил на очищение Русской идеи от казенщины, были под впечатлением иллюзии противоположной. Им казалось, что, найдя в себе силы отречься от крайностей секулярного
«петербургского периода», оттого, что они называли «душевредным деспотизмом» и «полицейским государством»3, самодержавие становится, наконец, истинно русской и истинно православной государственностью. Иначе говоря, готовится принять их магическую формулу «взаимного невмешательства между правительством и народом»4. А с нею страна вернется, наконец, «домой», в Святую Русь, в утраченный рай допетровской, т.е. в их представлении неевропейской цивилизации.
Польское восстание угрожало сорвать реформы, положив конец обеим иллюзиям. Поэтому славянофилы и западники дружно восстали против поляков - и Герцена, защищавшего их,- даже не заметив в судорогах патриотической истерии, что оказались вдруг в одном лагере с властью. И в плену имперского национализма. Как осмелились поляки мешать превращению России в Европу? - негодовали либеральные западники. А православные славянофилы сердились совсем по другому поводу: как смели поляки мешать отречению России от Европы?
Но не столько даже разность мотивов бросается тут в глаза, сколько высокомерие, с каким обе стороны третировали восставших. Ни те, ни другие оказались не в состоянии понять то, что для Герцена (или для декабристов) было естественным, как дыхание. Поляки восстали потому, что чувствовали себя подневольным народом. Потому, что не хотели зависеть от чужой империи.
Именно оттого, что тогдашнее русское общество утратило эту естественность восприятия действительности, не разглядело оно, ополчившись во имя реформы на Герцена, и другой - самой важной стороны дела. Беспощадно давя, вопреки бессильным протестам Европы, Польшу, самодержавие демонстрировало обществу свои приоритеты. Не во имя реформ - будь то европейских или православных - оно это делало, а во имя реванша за крымское унижение, во имя отмщения Европе. И в голову ему не приходило ни превращать Россию в Европу, как наивно надеялись либералы, ни создавать новую, неевропейскую цивилизацию, как столь же наивно мечтали славянофилы.
теория государства у славянофилов (далее Теория). Спб., 1878. С. 32,180.
Сегодня это может казаться очевидным. Больше того, это бросалось в глаза и тогда. Чтобы это понять, однако, требовался Герцен. А постниколаевское русское общество, лишившееся декабристской целостности, идеологизированное и «испорченное» сверхдержавным соблазном, в плену у двух одинаково фантасмагорических иллюзий, оказалось, как видим, попросту неспособно к рациональному анализу ситуации. Вот это и называю я решающим успехом Официальной Народности.
Глава пятая
Ретроспективная утопия
Либералы, впрочем, скоро поняли свою ошиб-
ку. Это не избавило их, конечно, от новых приступов патриотической истерии - и потому оказались они после николаевского тридцатилетия, как мы еще увидим, весьма сомнительными западниками, скорее, «националистами с оговорками». Но от слепого доверия к власти они, по крайней мере многие из них, освободились. Славянофилам, однако, предстояло, как мы помним хоть из формулы Соловьева, нечто гораздо худшее. Даже зная всё наперед, невозможно смотреть на их драму без боли. Ведь отцы-основатели учения и в самом деле были наследниками декабристов. Кардинально расходясь во взглядах с Герценом, они действительно оставались с ним друзьями. Его, как мы знаем, ощущение этой близости не покидало никогда.
Да и могло ли быть иначе, если росли они из одного корня и пароль у был один: свобода? Но так далеко разошлись их пути за несколько десятилетий, что наследники друзей Герцена приняли, как ^мы видели, самое активное участие в его, по сути, убийстве. Возможно ли и впрямь представить себе метаморфозу более драматическую?
Пожалуй, естественным отправным пунктом для каждого, кто попытается её объяснить, могло бы стать сравнение идей славянофильства с декабризмом, из которого оно произошло. Тем более что на первый взгляд политические страсти, вдохновлявшие славянофилов, вроде бы и не очень отличались от декабристских. В обоих случаях на первом плане стояло избавление России от двух главных язв, мучивших ее и унижавших, - от социального и политического рабства.
Не может быть ни малейшего сомнения, что славянофилы искренне ненавидели крепостное право и душевредный деспотизм. Множество их высказываний свидетельствуют об этом неопровержимо. Вот, например, что писал о крепостном праве Кошелев: «Стыдно и непонятно, как мы можем называть себя христианами и держать в рабстве своих братьев и сестер ... или Христово учение есть ложь, или все мы жестокие наглецы, называющие себя христианами»5. «Мерзостью рабства законного» называл крепостное право Хомяков. «Покуда Россия остается страной рабовладельцев, - вторил он Кошелеву, - у неё нет права на нравственное значение... Таким образом, мне кажется совершенно естественным враждебное чувство, питаемое к нам иноземцами»6.
Ни один декабрист не изменил бы в этих бичующих речах ни буквы. В этом смысле о славянофилах можно сказать то же самое, что Герцен говорил о самом замечательном из первого поколения их идеологов, Константине Аксакове: «Он за свою веру пошел бы на площадь, пошел бы на плаху, а когда это чувствуется за словами, они становятся страшно убедительны»7.
Поначалу не заметил бы декабрист и разночтений в славянофильском протесте против рабства политического. «Как дурная трава, - возмущался К. Аксаков, - выросла непомерная бессовестная лесть, обращающая почтение к царю в идолопоклонство... Откуда происходят внутренний разврат, взяточничество, грабительство и ложь, переполняющие Россию?.. Все зло от угнетательной системы нашего правительства, оттого, что правительство вмешалось в нравственную жизнь народа и перешло, таким образом, в душевредный деспотизм»[31].
Более того, деспотизм этот грозит России окончательной катастрофой, страстно пророчествовал Аксаков: «Чем долее будет про-
Великая реформа. Т. 3- М., 1911. С. 182.
А.С.Хомяков. Поли. собр. соч. Т. 3. С. 421.
А.И. Герцен. Собр. соч.: в 30 т. Т. 9. М., 1956. С. 163.
Теория. С. 49.
должаться петровская правительственная система, делающая из подданного раба, тем более будут входить в Россию чуждые ей начала, тем грознее будут революционные попытки, которые сокрушат, наконец, Россию, когда она перестанет быть Россией»9.
Только тут возникли бы, наверное, у декабриста некоторые сомнения.
Самодержавие или деспотизм?
Глава пятая Ретроспективная утопия
Прежде всего, что, собственно, называет Аксаков деспотизмом? Если неограниченную власть царей, диктатуру самодержавия -тогда разночтений, естественно, нет. Ибо именно ненависть к произволу этой неограниченной власти и была первой заповедью декабризма. Вот как объяснял ее своим солдатам Сергей Муравьев-Апостол (впоследствии повешенный на кронверке Петропавловской крепости) в написанном для них Катехизисе:
«Вопрос: Какое правление сходно с законом Божиим?
Ответ: Такое, где нет царей. Бог создал нас всех равными и, сошедши на землю, избрал апостолов из простого народа, а не из знатных и царей.
Вопрос: Стало быть Бог не любит царей?
Ответ: Нет! Они прокляты суть от него как притеснители народа»10.
Первая ^статья Конституции Никиты Муравьева звучала так: «Русский народ свободный и независимый не есть и не может быть принадлежностью никакого лица и никакого семейства».11
Тут нет, как видим, ни малейшей двусмысленности. Ясно, что будь у декабристов шанс победить, не состоялась бы не только нелепая попытка создать новомосковитскую цивилизацию, закончившаяся крымским позором, но и самая мощная из «мин», заложенных
Там же. С. 37-38.
HR Вып. 2. М., 1907. С. но.
в основание пореформенной России, была бы загодя устранена. Правда, что некоторые из декабристов были республиканцами, а другие стояли за конституционную монархию. Но противниками самодержавия они были все.
Никакой такой ясности нет у славянофилов. Яростно отрицая деспотизм, они парадоксальным образом оказывались в то же время самыми страстными поборниками самодержавия. Больше того, именно в самодержавии и видели они единственную возможность сохранить духовную свободу и нравственное здоровье народа. Ибо, по словам того же Аксакова, «только при неограниченной власти монархической народ может отделить от себя государство, предоставив себе жизнь нравственно-общественную, стремление к духовной свободе»12.
Поверхностному наблюдателю могло показаться даже, что опять сталкиваемся мы здесь с тем же орвеллианским «двойным сознанием», которое поразило нас, еще когда мы впервые познакомились со славянофильской проповедью неограниченной власти сельской общины над крестьянином: «рабство есть свобода».
рь w I Глава пятая
иТОрои Корень (Ретроспективнаяутопия
славянофильства
В действительности дело сложнее. Перед нами философское учение, переворачивающее все декабристские представления о взаимоотношениях общества и государства с ног на голову. Ибо «если народ не посягает на государство, то и государство не должно посягать на народ»13. Ибо, «признавая неограниченную государственную власть, он удерживает за собой совершенную независимость духа, совести, мысли»14. Обратите внимание, славянофилы возражают здесь на что-то, о существовании чего декабристы даже не подозревали. А именно на претензию государства стать не
Теория. С. 57. Там же. С. 30. Там же.
только политическим представителем общества, но и нравственным его руководителем.
В отличие от простодушного самодержавия александровской эпохи, с которым имели дело декабристы и которое в конце концов было не более чем продолжением сравнительно безобидного екатерининского авторитаризма, николаевская Официальная Народность претендовала, как мы видели, на то, чтобы быть пастырем общества, его моральным учителем, его совестью. Иначе она не могла. Она ведь, как впоследствии советский режим, строила новую, альтернативную всемирной цивилизацию. И в этой «цивилизации» обыватель должен был веровать в государство как в Бога. Короче, то, с чем столкнулись славянофилы, называется на современном языке тоталитаризмом.
Вот почему, продолжая свою негодующую тираду, говорит Аксаков вовсе не о самодержавии, но о «душевредном деспотизме, гнетущем духовный мир и человеческое достоинство народа и обозначившемся упадком нравственных сил в России с общественным развращением».15 Это развращение привело уже к тому, что «современное состояние России представляет внутренний разлад, прикрываемый бессовестной ложью ... все лгут друг другу, видят это, продолжают лгать и неизвестно до чего дойдут»16. Как видим, слегка архаичное, но вполне точное описание тоталитаризма. Современный «национально ориентированный» интеллигент добавил бы к этому разве что призыв жить не по лжи.
Совершенно же очевидно, что речь тут вовсе не о политическом разногласии с самодержавной властью, но о протесте против безнравственности тотального контроля над умами, который, собственно, и означал для Аксакова рабство. Иными словами, славянофильство росло не из одного лишь декабристского корня. На самом деле было оно ответом на первую в русской - и современной мировой - политической истории попытку тоталитарной диктатуры. А это значит, что без николаевской Официальной Народности не было бы и славянофильства.
Там же. C.32-33.
-г- w Глава пятая
I реТИ И ПуТЬ (Ретроспективнаяутопия
Совершенно ясно, однако, что именно из-за этого, говоря о политическом рабстве, говорили декабристы и славянофилы о совершенно разных вещах. Одни восстали против авторитарного произвола, другие - против тоталитарного душевре- дительства. Предмет ненависти декабристов должен был казаться славянофилам милосердным правлением. (Так глубоко врезалась, заметим в скобках, с тех пор эта путаница в политическую ментальность русского общества, что и в наше ведь время даже пламенные противники тоталитаризма коммунистического вполне могут оказаться, допустим, поклонниками пиночетовского авторитаризма.) Только самые дремучие вожди нынешней непримиримой оппозиции, вроде Зюганова, могут позволить себе роскошь открыто оправдывать режим Сталина. Но даже Алексей Подберезкин, и тот решительно декларирует: «Старое государство умерло и мечтать о его реставрации могут только люди, абсолютно лишенные чувства реальности». Что ничуть не помешало ему, впрочем, вдохновлять авторитарные амбиции генерала Стерлигова17.
Смутные переходные годы в тогдашней Европе тоже, как мы знаем, не располагали к декабристскому оптимизму. «Было время, - писал Герцен, - когда полусвободный Запад гордо смотрел на Россию, раздавленную императорским троном, и образованная Россия, вздыхая, смотрела на счастие старших братий. Это время прошло. Равенство рабства воцарилось ... даже страны, где остались еще свободные учреждения, и те напрашиваются на деспотизм»18.
Это говорилось, конечно, по поводу государственного переворота в Париже, когда Луи Бонапарт объявил себя в декабре 1851 года императором французов. Почему это произошло, мы уже подробно объяснили во второй книге трилогии. Здесь поэтому скажем кратко: из-за фантомного наполеоновского комплекса, обуревавшего тогдашнюю Францию. Недаром же сопровождалось возрождение империи введением всеобщего избирательного права. «Маленький
Подберезкин AM. Русский путь. М., 1996. С. 31.
ГерценА.И. Былое и Думы (далее БД). Л., 1947. С. 293-294.
Наполеон» мог не опасаться за свою власть: большинство французского народа полностью разделяло тогда его имперские амбиции и жажду реванша.
Только в отличие от Николая, земным богом он себя не воображал и новую цивилизацию не строил. И потому о «душевредном деспотизме» во второй наполеоновской империи и речи не было. То, что Герцен со своими декабристскими представлениями о политике принял за новое «рабство», оказалось на поверку лишь сравнительно либеральным авторитаризмом. Зато славянофилам в России сдал он нечаянно козырного туза.Ибо именно именно геценовское «равенство рабства» и стало для них неопровержимым на первый взгляд свидетельством, что ограничения власти, не сумевшие обезопасить от «рабства» Европу, не работают в принципе. Что, как выразился современный «национально ориентированный» московский интеллигент, «Россия не нуждается в избираемом парламенте - неэффективном вообще и особенно в России»19.Короче, если опыт декабристов убедил славянофилов в экстраординарной опасности революционной попытки свержения самодержавия, то «равенство рабства» сделало для них очевидной тщету западного парламентаризма. «Посмотрите на Запад, - восклицал Иван Аксаков, младший брат Константина и будущий лидер второго поколения славянофилов. - Народы увлеклись тщеславными побуждениями, поверили в возможность правительственного совершенства, наделали республик, настроили конституций - и обеднели душою, готовы рухнуть каждую минуту»20.
Потому и сделали славянофилы в этой, как им казалось, безвыходной ситуации то, что всегда в таких обстоятельствах делали немецкие и русские национал-либералы - они изобрели «третий путь». В русском варианте, однако, отрицал он как «вмешательство государства в нравственную жизнь народа» (душевредный деспотизм), так и «вмешательство народа в государственную власть» (парламента-
В. Найшуль. О нормах современной российской государственности //Сегодня. 1996, 23 мая.
ризм). «Первое отношение между правительством и народом, - провозгласил К. Аксаков, - есть отношение взаимного невмешательства»21.
Эта формула, ставшая первым в пореформенной России интеллектуальным оправданием самодержавия, и оказалась главной политической заповедью славянофильства. А заодно и главной «миной», заложенной в основание постниколаевской страны. Это был классический пример германского Sonderweg, изобретательно адаптированного к российской самодержавной реальности. И тут пути славянофилов и декабристов разошлись окончательно.
р^ UIUBU питии
I ючему РОССИЯ (Ретроспективнаяутопия
превосходит Запад?
Это было бы еще с полбеды, не попытайся славянофилы сделать из нужды добродетель, превратив свою формулу «третьего пути» не только в синоним русскости, но и в универсальный ключ к спасению человечества.
Ход их рассуждений был, видимо, такой: должны же, в самом деле, быть причины, почему именно в России додумались до этой спасительной формулы, тогда как Запад в лице даже самых великих своих мыслителей безнадежно тут спасовал. Так во всяком случае рассуждали в свое время тевтонофилы. Для основателя мифа об «особом пути» (Sonderweg) Германии Иогана Готлиба Фихте никакой загадки тут не было. Слабость Запада вытекала, по его мнению, из того, что Франция и Англия лишь очень поверхностно усвоили классическую античную традицию. Им просто не хватило глубины и фундаментальности германского духа. И поэтому их притязания на мировое первенство совершенно безосновательны. Чтобы это стало оче- . видным, - объяснял Фихте в своих знаменитых «Речах к германской нации» - следовало лишь противопоставить идеям французской революции национальную идею единственных настоящих наследни-
21 Там же. С. 32.
ков античности - германцев22.
Конечно, тевтонофилы объясняли, почему именно Германия превосходит декадентский Запад. Но это обстоятельство нисколько не обескуражило их русских интерпретаторов. Изящно подстроив Германию к ненавистному тевтонофилам Западу - в понятии «рома- но-германской цивилизации», - они противопоставили ей николаевскую идею «цивилизации русской». И, естественно, принялись искать причины превосходства над Западом именно их «цивилизации». Причин оказалось несколько, главные были, однако, исторические и культурные. Остановимся сперва на исторических.
«Все европейские государства основаны завоеванием. Вражда есть начало их». Отсюда глубокое, непреходящее недоверие между народом и властью. Отсюда постоянные революции против власти, которыми Запад хвалится, «принимая их за свободу». Отсюда, наконец, необходимость жестких юридических норм, создающих завоеванному народу иллюзию гарантии от завоевательной власти. «Чувствуя в себе недостаток внутренней правды», Запад создал систему внешней законности. В результате там «нет простоты жизни, нет свободы. Везде внешнее, условное, искусственное»23.
Россию, однако, полагали славянофилы, история пощадила. Она оказалась единственным исключением из этого рокового закона внутренней вражды, раздирающей европейские страны. У нас государство «было основано не завоеванием, а добровольным призванием власти. Власть явилась у нас желанною, не враждебною, но защитною, и утвердилась с согласия народного»24. Другими словами, те самые раряги, что завоевали Запад, к нам явились по приглашению. Из этой умозрительной посылки следовал ряд заключений поистине эпохальных.
Во-первых, общество («Земля», по терминологии славянофилов) и самодержавное государство, оказывается, связаны у нас отношениями «взаимной доверенности». Здесь жестокие конфликты, преследующие Запад, исключены. И поэтому нет необходимости в искусственных юридических ограничениях власти, в парламенте и
HR Вып. 6. С. 464.
Там же.
22 FichteJ. 6.. Reden on die deutschen Natsion. Shtuttgart, 1994. V.4. P. 95.
вообще в контроле общества над дружественным Земле государством. И слава Богу. Потому что иначе «юридические нормы залезут в мир внутренней жизни, закуют его свободу, источник животворения, всё омертвят и, разумеется, омертвеют сами»25.
К сожалению, Запад давно утратил способность понимать, до какой степени иллюзорны его хваленые юридические гарантии против произвола власти: «У нас часто толкуют о западноевропейском правовом порядке. Но если последний служит основанием гарантии, то чем же гарантируется самый правовой порядок, или иначе, чем же гарантируется гарантия?»26
Оттого-то и угасает Европа, доживая последние годы, как тело без души, и «мертвенным покровом покрылся Запад весь». Ибо на самом деле «гарантия есть ложь, гарантия есть зло ...Вся сила в идеале, вся сила в нравственном убеждении»27.
Глава пятая
· - j uiuuu тгшил
«bOUVerainete |Регроспекгивная утопия
du peuple»
Вторая историческая причина превосходства России, поистине делающая нас народом избранным, прямо вытекает из первой. У нас нет нужды в аристократии, сформировавшейся на Западе из потомков древних завоевателей. Действительный аристократ у нас крестьянин - хранитель отечественного предания. Тот самый народ, который некогда призвал царей и вручил им самодержавную власть. «Мы обращаемся к простому народу, - говорит по этому поводу Самарин, - по той же самой причине, по которой они сочувствуют аристократии, т. е. потому, что у нас народ хранит в себе дар самопожертвования, свободу нравственного вдохновения и уважение к преданию. В России единственный приют торизма, т.е. кон-
Аксаков И.С. Поли. собр. соч. М., 1886. т. и. С. 509. Там же. С. 510-511. ИР. Вып. 6. С. 465.
серватизма, - черная изба крестьянина»28.
Отсюда следует неожиданное - и ошеломляющее - заключение: верховный суверенитет народа существует у нас и только у нас. Как говорил в письме единомышленнику Хомяков по поводу статьи Тютчева, высмеивавшей народный суверенитет, «заодно попеняйте ему за нападение на souverainete du peuple. В нем действительно sou- verainete supreme. Иначе что же 1612 год? Я имею право это говорить потому именно, что я антиреспубликанец, антиконституционалист и пр. Самое повиновение народа есть un acte du souverainete»29.
В переводе на русский это должно означать, по-видимому, что не власть в России обратила свой народ в крепостное рабство, а закрепостил себя он сам, собственной волею - в качестве верховного суверена земли русской.
И хотя ощущение орвеллианского «рабство есть свобода» становится здесь почти непреодолимо, не следует забывать, что это тот же Хомяков, который в стихах необыкновенной силы и беспощадности обличил тоталитарную Россию:
В судах черна неправдой черной И игом рабства клеймена, Безбожной лести, лжи притворной, И лени мертвой и позорной, И всякой мерзости полна.
И силу этому яростному обличению давало именно представление о Святой Руси, где верховный суверенитет каким-то загадочным образом принадлежал народу. Другое дело, что это был миф, то самое «национальное самодовольство», об опасности которого предупреждал Соловьев.
Цит. по Соловьев Е. Очерки по истории русской литературы XIX века. Спб., 1907. С. 98
А.С. Хомяков. Цит. соч. Т. 8. С. 200. (Земский собор в 1612 году избрал на царство Михаила Романова).
Глава пятая
^ |-j Q (Ретроспективная утопия|
или справедливость?
Последняя, наконец, историческая причина превосходства России заключалась, по мнению славянофилов, втом, что происходит она из совсем другого, бесконечно более просвещенного мира, нежели варварская Европа первых веков христианства. Мы единственные наследники античной традиции Восточного Рима, - так повернули славянофилы аргумент Фихте - где вселенское предание никогда не уступило «формальному разуму» Рима Западного и не было поэтому заражено секулярными влияниями Ренессанса и Просвещения, Русь сохранила чистоту и цельность первоначального христианства, право - славие. Потому-то и звалась она святой, что не утратила свойственную Византии «симфонию» церкви и государства, гармонию веры и рассудка, мощь «цельного знания».
В результате вера и разум не встали у нас, как на Западе, друг против друга, словно два враждебных стана. Мы не позволили рационализму и науке убить в себе «те живые убеждения, которые лежат выше сферы рассудка и логики»30, - и «внутренняя справедливость брала в древнерусском праве перевес над внешнею формальностью»31. Ведь даже лингвистически слово «правда» означает по- русски не столько истину, сколько справедливость. Именно поэтому был уверен Аксаков, что история России «может читаться, как жития святых»32.
На Западе, к несчастью для него, все было наоборот. У них истина и справедливость понятия хоть и связанные, но все же отдельные. У них, как установил еще в XI веке благоверный митрополит Киевский Илларион, «закон» там, где у нас «благодать». У них логический вывод преобладает над святостью предания. И поэтому, как печально констатировал Киреевский, «в торжестве формального
ИР. Вып. 6. С. 464. Там же. С. 465. там же. С. 466.
разума над верою и преданием проницательный ум мог уже наперед предсказать всю сегодняшнюю судьбу Европы»33.
Нет, нисколько не желали родоначальники славянофильства зла Западу. Они сочувствовали ему, понимали истоки его хвори и немощи, хотели ему помочь, спасти его, наставить на путь истинный, православный. Они были даже, если угодно, ему благодарны. «Сколько б мы ни были врагами западного просвещения, западных обычаев и тому подобное, - писал Киреевский, - но можно ли без сумасшествия думать, что когда-нибудь, какою-нибудь силою истребится в России память всего того, что она получила от Европы в продолжение двухсот лет? Можем ли мы не знать того, что знаем, забыть всё, что умеем?»34
Глава пятая
Нация "ЛИЧНО СТЬ ретроспективная утопия
Как видит читатель, я очень стараюсь донести до
него идеи славянофилов во всей их целостности, не комментируя и по возможности не вмешиваясь в ход их рассуждений. Более того, я и сам пытаюсь рассуждать в терминах, которые они предложили. Не привожу даже очевидные контраргументы, естественные для православного христианина. Вот, скажем, Владимир Вейдле заметил в
Киреевский И В. Поли. собр. соч. Т. i. М., 1911. С. 112. Там же. С. но. HR Вып. 6. С. 463.
И вовсе не всё еще, думали они, потеряно даже и для Европы, если бы только оказалась она в силах вернуться к святоотческому преданию, полученному Россией от апостолов, отказаться от разделения справедливости и истины и принять вместо «внешней законности» греко-славянскую «благодать» вместе с souverainete du people. И главное - славянофильскую формулу взаимного невмешательства правительства и народа. «Чтобы достигнуть полного гармонического развития основных общечеловеческих стихий, Западу недоставало своего Петра, который привил бы ему свежие, могучие соки славянского Востока»35.
своей «Задаче России», что «неразличение истины от справедливости легко приводит к хаосу, в котором гибнут и истина и справедливость»36.
Или еще более серьезное соображение, что «если Восток и Запад Европы хотят считать себя совершенно разными культурами, им нужно окончательно отделить Грецию от Рима, одним взять Гомера, другом - Вергилия, одним присвоить себе философов, другим - юристов, а затем точно так же разделить христианство на две отдельные религии, т.е. раздвоить Христа»37.
Не вмешиваясь в ход рассуждений идеологов славянофильства, я хочу, чтобы читатель мог убедиться, сколько изобретательности и исторического воображения вложено было в «хоровую» Русскую идею при ее рождении, кактщательно и элегантно была она обоснована богословскими, культурологическими и цивилизационными изысканиями, которые сделали бы честь даже самому знаменитому из современных специалистов по конфликтам цивилизаций Сэмюэлу Хантингтону38.
Видит бог, за шесть поколений, истекших с тех пор, когда всё это говорилось, в мире не было недостатка в националистических учениях, обличавших Запад в губительном индивидуализме и моральной распущенности. И каждое из них было неизменно уверено, что Запад доживает последние годы и «готов рухнуть каждую минуту», и все великодушно предлагали «привить ему свежие, могучие соки» своей культуры, будь то тевтонской, арабской или конфуцианской.
Вот и в наши дни проповедуют нечто подобное из Сингапура и Куала-Лумпур так называемые «азиофилы». Эти тоже до недавних пор объясняли свои экономические успехи «азиатскими ценностями», т.е. врожденным коллективизмом азиатских народов и исторической привычкой принимать решения сообща, всем миром, собор- но (у них это, впрочем, называется почему-то по-английски «консенсус»), что выгодно отличается от западного парламентарного
ВейдлеВ. Задача России. Нью-Йорк, 1956. С. 104.
Там же. С. 29.
Hantington Samuel. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. N.Y., 1996.
декадентства. Незадолго до крушения азиатского «экономического чуда» в 1997 г. идейный лидер азиофилов Мохатхир Мохамед даже провозгласил: «Европейские ценности есть ценности Европы, азиатские ценности - универсальны»39.
Справедливость требует, однако, признать, что не только повторяли азиофилы зады славянофильства, даже об этом не подозревая, но и не снилась им та изощренность, с которой разработаны в нём их аргументы в защиту «национального самодовольства». Вот замечательный пример.
Конечно, славянофилы тоже видели в русских культурных ценностях, и прежде всего в коллективизме, еще одно преимущество России перед Западом. Как объяснял Киреевский, «весь частный и общественный быт Запада основывается на понятии об индивидуальности, отдельной независимости, предполагающей индивидуальную изолированность», тогда как в России перевес принадлежит «общенародному русскому элементу перед элементом индивидуальным»40. Развивая эту основополагающую идею, современный «национально ориентированный» интеллигент отказывает «индивидуальному элементу» даже в праве называться личностью. Ибо, полагает он, «индивид - это раздробление природы, самозамыкание в частности и ее абсолютизация, это воплощенное отрицание общей меры в человечестве»41.
Иными словами, покуда индивид не вольется в «общенародный русский элемент», он - сирота, безликий изгой, несуществующая величина. Чтобы обрести себя, почувствовать себя человеком, он должен выйти за пределы «индивидуальной изолированности» и раствориться в единственной «личности, которая не дробит единой природы, но содержит в себе всю ее полноту»42. Что за личность? Нет, не угадали. Не Иисус. Единственная личность, оказывается, - «нация
Цит. по: The Economist 1998. July 25-31. P. 23.
Полное собрание сочинений Ивана Васильевича Киреевского. Т. 1/ М., 1861. С. 192.
БорисовВ. Нация-личность// Из-под глыб. Париж, 1974. С. 210.
как целое»43, «нация-личность»44. Ибо «личность в своем первоначальном значении есть понятие религиозное»45.
Готов держать пари, что азиофилам сроду не додуматься до такого изощренного обоснования коллективизма.
Глава пятая
НЭЦИЯ-СбМЬЯ Ретроспективная утопия
Но даже и современный интерпретатор ела-
вянофильства в своем метафизическом задоре упускает из виду, что собственно теологические соображения играли в нем роль скорее служебную. Они были лишь столпами, призванными поддерживать грандиозную постройку их социально-политического видения России. Ключом к ней, её универсальной метафорой были понятия «семьи» и «собора». Мир, т. е. сельская община, представлялся славянофилам маленькой вселенной, живущей по своим собственным правилам. Он был своего рода локальным собором, перед которым все равны и в котором по природе его не могло быть никакого начальства. Souverainete du peuple, одним словом.
Это был хор без солистов, где все решения принимались единогласно, соборно, во имя общего блага. Как и семья, управлялся этот мир авторитетом нравственным, а не «внешней законностью». Потому и частной собственности делать в нем было нечего. Она, еще чего доброго, потребовала бы себе гарантий, а гарантии, как мы уже знаем, ложь, гарантии - зло.
Представители этих замкнутых сельских миров составляли следующие ступени: волостной, уездный и, наконец, губернский мир - провинциальный собор, если хотите, точно так же не признающий над собою никакого начальства. Увенчивал все это здание, естественно, Земский собор, общенациональное собрание, составленное из независимых представителей губернских миров. Свободно
Там же. С. 207.
ы там ж. С. 206.
и непосредственно, как и положено в семье, т.е. без всякого чиновничьего «средостения», должен был Земский собор общаться с начальником этой нации-семьи - с царем-батюшкой.
Да, созывался Земский собор лишь по воле царя, лишь когда понадобится ему «всенародный лад да совет». Но в промежутке между собраниями роль его должна была исполнять свободная пресса, своего рода заместитель всеземского представительства. Именно через неё и общается - и опять-таки непосредственно, т. е. игнорируя чиновную иерархию, - суверенный народ со своим самодержавным начальником. Отсюда и генеральная максима славянофилов: «правительству - сила власти, земле - сила мнения»46.
Такова была структура славянофильской нации-семьи, основанной на «простой доверенности между правительством и народом»47 и не нуждающейся ни в каких гарантиях, а тем более в парламентах. Где это видано, в самом деле, чтобы нормальная человеческая семья нуждалась в парламенте или в конституции?
^ Глава пятая
заметки на ПОЛЯХ Ретроспективнаяутопия
Как ни стараюсь я рассуждать в славянофильских терминах, мне трудно не заметить те очевидные логические прорехи и опасные противоречия, которыми буквально пронизана вся их доктрина. Ведь они, эти противоречия, собственно, и предвещали все те грозные дальнейшие метаморфозы славянофильства, которым суждено б^>1ло, как мы уже знаем, превратить его, в конце концов, в собственную противоположность. Поделюсь с читателем хотя бы некоторыми из этих сомнений.
Первое. Если даже допустить, что славянофилы были правы и справедливость действительно издревле преобладала на Руси над истиной, а «благодать» над законом, можно ли и впрямь считать это её преимуществом перед Западом? Вот как определяет смысл этой «благодати» еще один современный «национально ориентирован-
ИР.Вып. 6. С. 465.
Ранние славянофилы, б/д. С. 72.
ный» интеллигент и апологет черносотенства: «воля [которая] не имеет пределов и легко переходит в произвол»48.
Так не означают ли в таком случае славянофильские гимны мос- ковитской благодати всего лишь косвенное оправдание авторитарного произвола? Я и не говорю уже о том, что смешение истины со справедливостью тотчас и лишает нас какого бы то ни было критерия истины (справедливо ли, помилуйте, что земля вертится вокруг солнца или что Волга впадает в Каспийское море?).
Это правда, что произвол власти («благодать») может быть сравнительно мягким, как александровский (или, скажем, забегая вперед, брежневский), или жестким и «душевредным», как николаевская (или сталинская) Официальная Народность. Но ведь пока самодержавие остаётся самодержавием, т.е. властью неограниченной, пока страна пребывает в, так сказать, «душевредном», т.е. тоталитарном пространстве, в распоряжении Земли нет решительно никаких средств, чтобы остановить переход авторитарного правления в деспотизм.
Она оказывается полностью беззащитной перед лицом зверя, Левиафана, как еще в XVII веке назвал всевластное государство Томас Гоббс. Ведь властитель, назови его хоть царем или генсеком, или президентом, вправе и не собрать Земский собор или, собрав, смертельно его запугать, как Иван Грозный, или даже большинство его расстрелять,как Сталин. И что тогда?
Вот же почему, не удовлетворяясь рассуждениями о справедливости и «благодати», заговорили об ограничениях власти российские реформаторы еще в XVI веке, задолго то есть до Гоббса. Вот почему, памятуя душевредный деспотизм Грозного, пытались они
H.M. Муравьев]
48 Кожинов В. В. О главном в наследии славянофилов//Вопросы литературы. 1969. № ю. С. 117.
найти для защиты от него нечто более практичное, нежели абстрактная «благодать». Требовалось обуздать зверя, надеть на него намордник. Начиная с «подкрестной записи» царя Василия 17 мая 1606 года и до «свода законов» Михаила Салтыкова, провозгласившего Россию 4 февраля абю-го конституционной монархией, искали они единственное средство, способное защитить Землю от Государства, отстоять верховенство закона над «благодатью». Искали, иначе говоря, именно гарантий.
Они сделали это совершенно независимо от Запада и, повторяю, раньше Запада. Горький опыт научил их, что там, где «народ не вмешивается в государство», там государство неминуемо раньше или
|к.С. Аксаков »
позже вмешивается «в нравственную жизнь народа». Ибо, как магнитная стрелка к северу, всюду - на Востоке или на Западе - стремится оно к «душевредному деспотизму». И если не ограничить его гарантиями, неминуемо превращается в того самого зверя, о котором говорил Гоббс.
Западные мыслители Джон Локк и Шарль де Монтескье, у которых были свои основания опасаться Левиафана, создали стройную теорию разделения властей (или сдержек и противове-
сов). И именно этим, а вовсе не выдуманным славянофилами «завоевательным характером» европейских государств, объясняется то уважение к закону, то отделение истины от справедливости, которым пронизана западная культура. Просто в отличие от Василия Шуйского Локка там не упрятали в монастырь и в отличие от Салтыкова Монтескье не судили как изменника родины. К ним прислушивались, у них учились. Короче говоря, славянофильское оправдание произвола, пусть даже преподнесенное элегантно, как гимн справедливости и «благодати», ничего доброго их Русской
идее не предвещало.
А вот еще одна логическая накладка. Можно понять (и даже принять) славянофильские диатрибы против «индивидуальной изолированности». Но зачем останавливаться на полдороге? Если индивид - это «раздробление природы, самозамыкание в частности и ее абсолютизация», то ведь и нация тоже! Если коллектив (или семья) выше индивида, то ведь и человечество (как универсальный коллектив, или семья народов) выше нации. Даже Н.Я. Данилевский, как мы помним, не решился противопоставить человечеству нацию. Только племя («культурно-исторический тип»), полагал он, способно конкурировать с человечеством за лояльность индивида. Пахнет язычеством? Но ведь и «нация» в этом качестве пахнет не лучше. Во всяком случае для христианина.
Короче говоря, все аргументы, обращенные славянофилами против «отдельной независимости» оказываются в равной степени обращенными и против «нации-личности». Если уж искать «в противоположность индивиду личность, [которая] не дробит единой природы, но соединяет в себе всю её полноту», то личностью этой оказывается лишь человечество в целом. Иными словами, строго следуя логике славянофилов, приходим мы как раз к ненавистному им космополитизму.
Впрочем, всё это, конечно, схоластика. Но схоластика опасная. Ибо принижая индивида, изображая его несуществующей величиной, недостойной внимания философа (и законодателя), мы открываем тем самым дорогу всё тому же государственному произволу Официальной Народности, борьбе с которым посвятило себя первое поколение славянофилов, те самые nos enemis less amis Герцена. А на самом деле, как сказал, возражая азиофилам бывший губернатор Гонконга Крис Патен, «принимая концепцию азиатских ценностей, мы отрицаем универсальность прав человека. Но если вас ударили по голове полицейской дубинкой, шишка у вас выскочит одинаково - как на Востоке, так и на Западе»[32].
Да ведь и русские мыслители не хуже Патена понимали в своё время значение в мире индивида и его свободы. Вспомните гордый, хоть на камне высекай, возглас Николая Гавриловича Чернышевского: «Выше человеческой личности не принимаем на земном шаре ничего!»50 или замечание Герцена «Свобода лица - величайшее дело; на ней и только на ней может вырасти действительная воля народа. В себе самом человек должен уважать свою свободу и чтить её не менее, как в целом народе»51. Между тем в славянофильском кредо «свободы лица», как, впрочем, и самого этого «лица» просто не предусматривалось.
На другое противоречие, связанное со значением 1612 года - с избранием царя народом, на котором Хомяков основывал всю свою теорию о российском souverainete du peuple, - обратил внимание еще Соловьев. «Когда, - писал он, - среди междуусобий и смут погиб последний король из дома Валуа, французский народ не учредил ни республики, ни постоянного представительного правления, а передал полноту власти Генриху Бурбону. Неужели, однако, из этого можно выводить, что французы - народ негосударственный, чуждающийся политической жизни и желающий только свободы духа?»52 А вот еще одно словно бы бьющее в глаза противоречие у родоначальников славянофильства, странным образом не замеченное ни их последователями, ни их исследователями. Говоря о сельском «мире» (или о губернском «соборе»), они настаивали на том, что перед нами полностью самоуправляющаяся община, в которой не может быть никакого единоличного распорядителя. Возражая, например, против проекта сельского мира, представленного редакционными комиссиями по крестьянской реформе, в котором предусматривалось, что «первое место на сходах и охранение на них должного порядка принадлежит старосте», Константин Аксаков, по его собственным словам, «пришел в ужас».
Институт старосты, - он, «не более, - не менее, как совершенное нарушение всей сущности русского общинного начала, полное истязание мира, уничтожение самобытной общественной свободы русского народа. Когда мир собран, то первое лицо здесь одно - мир, а другого и быть не может. Хорош мир, в котором есть началь-
Чернышевский Н.Г. Избранные философские сочинения. М., 1950. т. 2. С. 582.
Герцен AM Собр. соч. М., 1955. Т. 6. С. 14.
Соловьев В. С. Соч.: в 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 452.
ник или, по крайней мере, распорядитель!»53
Но каким же тогда образом могли славянофилы одновременно превозносить верховного начальника всенародного «мира», самодержавного хозяина и распорядителя нации-семьи? Почему в одном случае оказывался такой начальник «истязанием мира», а в другом - его спасением? Впрочем, как мы уже слышали от Декарта, невозможно представить себе ничего настолько абсурдного, чтобы не нашлись философы, которые не взялись бы это доказать.Ни в какой степени не предназначены, однако, эти заметки на полях скомпрометировать родоначальников славянофильства. Да, те логические противоречия, пусть и граничащие с абсурдом, которые мы вкратце здесь обсудили, и те, которые нам еще предстоит обсудить, свидетельствуют, что они не умели свести концы с концами в своем видении России. Да, отказавшись от цельности декабристского патриотизма и соскользнув к «национальному самодовольству», они тем самым открыли ящик Пандоры, практически пригласив своих последователей скользить дальше вниз по роковой лестнице Соловьева - к «национальному самоуничтожению». Но все это не дает нам оснований отказать им в благородстве замыслов и чистоте намерений. В этом смысле Герцен был прав.
Можно ли забыть, что столкнувшись в отличие от декабристов с тоталитарным монстром новомосковитской «цивилизации», они дали ему бой - и выиграли его? Можно ли забыть, что исходным пунктом их политического поиска была свобода? Что, как заклинал духов деспотизма Константин Аксаков,
Ограды властям никогдаНе зижди на рабстве народа!Где рабство, там бунт и беда.
Защита от бунта - свобода!
Да и помимо всего этого оставили ведь нам отцы-основатели славянофильства в наследство еще одну грандиозную загадку, не только до сих пор не разрешенную, но, увы, и не замеченную. Они, как известно, в подавляющем большинстве были помещиками. Так вот,
53 HR Вып. 20. с. 140.
никто почему-то не спросил себя, как могло случиться, что во времена крестьянского рабства помещик, для которого все его Герасимы и Палашки были тем же, что негры для американского плантатора, который столетиями восклицал, подобно Чичикову, «какая, однако, разница между благородною дворянскою физиономией и грубою мужицкою рожей», который в лучшем случае должен был ощущать себя отцом родным своим темным и забитым чадам, - чтобы этот «самодержец в миниатюре» вдруг преклонил колена перед мужиком как пред учителем? Чтобы интеллигент-дворянин исступленно возглашал, что «вся мысль страны пребываете простом народе»?
■j Глава пятая
КОГО ВИНИТЬ. Ретроспективнаяутопмя|
Действительная проблема с этим национал- либеральным видением России была, однако, в том, что оно не имело никакого отношения к реальности. На самом деле ничего не могло быть дальше от светлого образа Святой Руси, чья история должна была читаться, по убеждению Аксакова, как жития святых, служа укором и уроком для «гниющего» Запада, нежели мрачная полицейская повседневность, от которой некуда было деться. Повторим хотя бы беспощадное её описание Константином Кавелиным, западником, конечно, но, как большая их часть в постниколаевскую эпоху, скорее, «националистом с оговорками», даже признавшимся однажды, что «стал совершенным славянофилом»54. «Куда ни оглянитесь у нас,- писал, как мы помним, Кавелин,- везде тупоумие и кретинизм, глупейшая рутина или растление и разврат, гражданский и всякий, вас поражают со всех сторон. Из этой гнили и падали ничего не построишь»55.
Ну допустим, что среди всего «растления и разврата» можно было и не заметить такую мелочь, как противоречие между отдельной крестьянской общиной, где присутствие «начальника» следовало трактовать как «уничтожение самобытной общественной свободы
Русская мысль. 1899. №12.0.5. Вестник Европы. 1909- № i- С- 9.
русского народа», и всем мужицким царством, где такой «начальник» почему-то выступал как воплощение этой самой свободы. Но сама зияющая бездна между пригрезившейся славянофилам наци- ей-семьей и действительностью, где, по словам того же К. Аксакова, «русский монарх получил значение деспота, а народ - значение раба-невольника»56, не могла ведь не бить в глаза. Ясно, что в такой ситуации вся их величественная картина русской истории лишалась какого бы то ни было правдоподобия, если бы они тотчас же не нашли виновника столь грандиозного её «извращения», эпического злодея, который, изменив родному преданию, «втолкнул Русь на путь Запада - путь ложный и опасный»57.
Самым подходящим кандидатом на должность такого злодея был бы, конечно, Иван Грозный. Тем более что он-то как раз и ввёл в России крепостное право, государственный террор и душевредный деспотизм. Для декабристов поэтому Грозный как раз и был родоначальником российского рабства. Как «тирана отечества драгого» проклял его Кондратий Рылеев. И чудом уцелевший декабрист Чаадаев благодарил Хомякова «за клеймо, положенное на преступное чело царя - развратителя своего народа»58. Короче, славянофилы всё про Грозного царя знали. Один из самых знаменитых их поэтов Николай Языков не стеснялся в выражениях:
... Трех мусульманских царств Счастливый покоритель и кровопийца своего! Неслыханный тиран, мучитель непреклонный, Природы ужас и позор!
И всё-таки не подошел славянофилам Грозный на роль главного злодея русской истории. Потому, надо полагать, что, в отличие от Петра, не вталкивал он Россию на путь Запада, а поднялся из мутных глубин того самого московитского болота, которое приравняли они к житиям святых. Но если не Грозный, то кто? Естественно, славянофилы назначили на зту роль Петра. Он подошел им по всем парамет-
Теория. С. 30.
HR Вып. 6. С. 87.
Сочинения и письма П.Я.Чаадаева. Т. i. М., 1913. С. 249.
рам: и «неслыханный тиран», и великий самодержец, способный собственноручно «извратить» курс истории своего народа, а - главное- и впрямь повернул страну лицом к Европе. Удивляться ли, что именно его славянофилы и прокляли? Как писал Константин Аксаков в стихотворении «Петру»,
Вся Русь, вся жизнь её доселе Тобою презрена была, И на твоём великом деле Печать проклятия легла.
Так одним ударом разрубили славянофилы современную русскую историю надвое. До Петра была она Святой Русью, благословенной нацией-семьей, а после него стала «черна неправдой черной». С ним двинулась Москва в совершенно неестественном для нее «петербургском» направлении, враждебном всему её прошлому. И настолько непримиримо противоположны были две эти России, что когда б не сельский мир да православие, никто, быть может, и не признал бы в «правительственной системе петровского периода» бывшую Святую Русь. Остается лишь недоумевать, как могли славянофилы, желая Западу добра, с легким сердцем рекомендовать ему «своего Петра», который «привил бы ему свежие, могучие соки славянского Востока».
1 / л л UIUBU илшип
Метод «исторического [Ретроспективнаяутопия
разрыва»
Нет слов, представление о петербургском периоде как об «антитезисе» русской истории, отрицавшем московитский «тезис» лишь затем, чтобы разрешиться грядущим идеальным «синтезом», : свидетельствовало о близком знакомстве славянофилов с диалекти- < кой немецкой классической философии. Равно как и о недюжинном ■ поэтическом воображении. Не зря же многие из них писали пламен- J ные стихи и наизусть цитировали Гегеля и Шеллинга.
Как художественный приём, звучало это экстраординарно и драматично. К сожалению, однако, беспощадно обнажил этот приём также и полную логическую несостоятельность всего славянофильского построения. Но об этом чуть позже. Сейчас скажем лишь, что метод «исторического разрыва» оказал огромное влияние не только на политическое воображение их наследников, но и оппонентов.
Еще и четверть века спустя, как мы помним, Герцен убеждал нового императора отречься от «петербургского периода». Да что Герцен, если и через полтора столетия Александр Солженицын повторил, говоря о советской «Официальной Народности», славянофильский приём почти буквально. Вот как звучало это у него: «На самом деле советское развитие - не продолжение русского, но извращение его, совершенно в новом, неестественном направлении, враждебном своему народу... Термины «русский» и «советский» не только не равнозначны, но ...непримиримо противоположны»59.Даром что в роли эпического злодея русской истории выступал у Солженицына не Петр, а Ленин, а утраченным раем, по которому он тосковал, оказался как раз тот самый проклятый славянофилами «петербургский период». Но это, согласитесь, всего лишь детали исторического орнамента. Сам-то приём все тот же, славянофильский: история страны разрубается на две части - благословенную и проклятую. И виновником катастрофы по-прежнему оказывается некий самодержавный злодей, одаренный дьявольской способностью «извратить» историю великого народа.
Глава пятая
В ПОИСК (Ретроспективная утопия
исторического злодея
Привлекательная своей механической про-
стотой была бы эта игра, наверное, вполне безобидной, когда б не подменяла решения действительно насущной задачи, не уводила от неё в сторону. Я говорю об объяснении того, почему Россия, в отли-
59 Вестник РХД. № 118. С. 170.
чие от других великих держав Европы, столько раз на протяжении тысячелетней истории теряла свою европейскую «супраидентич- ность», как зовётся это на научном жаргоне[33], и вновь её обретала - лишь затем, чтобы потерять снова. И снова обрести. Того, другими словами, что назвал я в первой книге трилогии цивилизационной неустойчивостью России.
Кто спорит, нет в мире страны, которая не пережила бы в своей истории бурные политические метаморфозы. Возьмем хотя бы ту же Францию, внезапно превратившуюся в конце XVIII века из абсолютной монархии в республику, затем в империю, затем в конституционную монархию, затем снова в империю и снова в республику. Но ведь всё это были метаморфозы политические, никогда при этом не доходило дело до отречения от супраевропейской идентичности. Понять, что это такое, несложно. Допустим, парижанин идентифицирует себя, естественно, со своим городом (да и то вспоминая об этом лишь где-нибудь, скажем, в Лионе или в Марселе). В Лондоне, однако, он уже чувствует себя французом, а в Нью-Йорке - европейцем. Вот эта естественная, чтобы не сказать инстинктивная, идентификация парижанина с Европой и есть его европейская супраидентич- ность. С чем, однако, должен был идентифицировать себя в том же Нью-Йорке москвич? До Николая с тем же, с чем и парижанин, с Европой. А при нём? А после него? С «русской цивилизацией»? С православной империей? Со славянским «культурно-историческим типом»?60
Вот от этой супраидентичности Россия (как, кстати, и Германия) неоднократно отрекалась. Даже самый краткий обзор её исторического пут^ществия не оставляет в этом сомнения. Как, впрочем, и втом, что она всегда обретала её снова. Но пусть читатель судит сам.
X - середина XIII века. Протогосударственный конгломерат варяжских княжеств и вечевых городов, известный под именем Киевско-Новгородской Руси, воспринимает себя (и воспринимается в мире) как неотъемлемая часть Европы. Никому не приходит в голову как-то отделить от неё Русь, изобразить её некой особой, противостоящей Европе «цивилизацией». Да, это была русская земля, но и европейская тоже.Такова была тогдашняя русская супраидентич- ность - на протяжении трех столетий. Точно такая же, между прочим, как европейская супраидентичность тогдашней Франции, скажем. (Кстати, управляла Францией - после смерти мужа-короля в XI веке - русская княжна, дочь Ярослава Мудрого).
Середина XIII - середина XV века. Русь завоевана, насильственно сбита с европейской орбиты, отделена от Европы стеной азиатского ига. «Последнее, - признает даже современный «национально ориентированный» интеллигент, - сдерживая экономическое развитие... подрывая культуру, хозяйство, торпедируя рост городов, ремесел, торговли, породило капитальную для России проблему политического и социально-экономического отставания от Европы»[34]. Так или иначе, утратила в ту пору Русь свою европейскую суперидентичность.
Середина XV- середина XVI века. Освобождаясь от азиатского ига, страна вновь обретает европейскую идентичность. Если верить главному аргументу первой книги трилогии, настаёт новое европейское столетие России. Великая реформа. Введение местного самоуправления и суда присяжных. Подъем хозяйства, культуры, неожиданный и мощный расцвет идеологического плюрализма, «Московские Афины». Приступ к церковной Реформации. Возникновение в связи с этим мощной антиевропейской идеологии - иосиф- лянства, под знаменем которого военно-церковная коалиция наносит сокрушительное поражение реформирующемуся государству. Террор самодержавной революции 1560-х и первое сознательное отречение России от европейской идентичности означают тотальное закрепощение крестьянства, торжество идеологии «сакрального самодержавия» и начало империи.
Середина XVI - конец XVII века. В результате Россия опять, как в середине XIII века, насильственно сбита с европейской орбиты. Повторяется история ига: хозяйственный упадок, «торпедируется» рост городов, ремесел, торговли. Крестьянство «умерло в законе». Утверждается военно-имперская государственность. На полтора столетия страна, вновь отрекшаяся от своей европейской идентичности, застревает в историческом тупике, превращаясь в Московию - угрюмую, фундаменталистскую, перманентно стагнирующую - и в то же время уверенную, что именно она монопольная обладательница единственно истинного христианства (короче говоря, в Святую Русь, по терминологии славянофилов).
В.О. Ключевский, как мы помним, полагал отличительной чертой этого странного сообщества то, что «оно считало себя единственным истинно правоверным в мире, своё понимание Божества исключительно правильным, Творца вселенной представляло своим собственным русским богом, никому более не принадлежащим и неведомым»[35]. Естественно, Василий Осипович находил это обстоятельство «органическим пороком» Московии. Зато славянофилы впослед- N ствии именно это и найдут её главным достоинством.
Начало XVIII - начало XIX вв. Железной самодержавною рукою Петр ликвидирует иосифлянский фундаментализм и снова поворачивает российскую элиту лицом к Европе, возвращая стране её первоначальную супраидентичность. Цена выхода из московитского тупика была непомерна, однако (еще страшнее, скажем, забегая вперед, чем из советского в конце XX века). Полицейское государство, террор, ужесточение крепостничества, страна расколота еще глубже, чем при Грозном. Ее рабовладельческая элита шагнула в Европу, оставив подавляющую массу населения, крестьянство, в иосифлянской Московии.
При всем том, однако, европейская идентичность делала свое дело и, как заметил один из самых замечательных эмигрантских писателей Владимир Вейдле, «дело Петра переросло его замыслы и переделанная им Россия зажила жизнью гораздо более богатой и сложной, чем та, которую он так свирепо ей навязывал... Он воспитывал мастеровых, а воспитал Державина и Пушкина». Ибо в конце концов «окно прорубил он не куда-нибудь в Мекку или в Лхасу»[36].
Первая четверть XIX века. На вызов, брошенный России Петром, ответила она не только колоссальным явлением Пушкина, по знаменитому выражению Герцена, но и европейским поколением, вознамерившимся воссоединить страну, разорванную надвое Грозным
царем. Для этого, естественно, понадобилось бы отменить как крепостное право, так и самодержавие. Одним словом, вместо петровского «окна в Европу», попытались декабристы сломать московит- скую стену между нею и Россией.
Вторая четверть XIX века. Антипетровская революция, в ходе которой разгромлено европейское поколение и под именем Официальной Народности воссоздана отмененная Петром изоляционистская государственность. Sonderweg торжествует и в результате Россия опять утрачивает европейскую идентичность. И на этот раз надолго. Начинается вырождение декабристского патриотизма в национализм. Развитое славянофилами в стройный исторический миф новое иосифлянство вознамерилось повторить то, что сделали уже однажды его средневековые предшественники - навсегда отказаться от европейской идентичности России.
1855-1917. Постниколаевская Россия пытается совместить европейские реформы с архаическим самодержавием и православной империей. Национализм становится ее «идеей-гегемоном». В результате страна словно бы повисает в воздухе, не в силах обрести какую бы то ни было культурно-политическую ориентацию, не может ни вернуться к николаевской пародии на иосифлянскую Московию (хотя при Александре III и пытается), ни вернуть себе утраченную при Николае европейскую идентичность.
1917-1991. Эта роковая неопределенность, естественно, завершается катастрофой. В совершенно неожиданном, мистифицированном виде сбывается мечта новых иосифлян. Страна в очередной раз насильственно сбита с европейской орбиты, изолирована и возвращена в «Московию». Но поскольку на дворе уже не средневековье, а XX век с его массовыми революциями и социалистическим поветрием, воплощается новый иосифлянский замысел в извращенной форме СССР. Что, впрочем, дела в принципе не меняет. Новая псевдо-Московия оказывается столь же безнадежным историческим тупиком, как и старая. В1991 году она рухнула.
Что же говорит нам этот беглый обзор тысячелетней Одиссеи российской государственности? Подтверждает он излюбленную западными историками (и русскими националистами) мысль, что она
изначально была самодержавной деспотией, если, как мы видели, существенную часть своего исторического времени прожила Россия даже без намёка на самодержавие? Подтверждает он примитивную механическую теорию «исторического разрыва» между Россией допетровской (якобы сплошь неевропейской) и петровской (полуевропейской), если оказывается, что задолго до Петра, провела Россия на европейской орбите, по крайней мере, четырнадцать поколений? Подтверждает ли он иосифлянско-славянофильскую гипотезу о благодельности для страны святорусской московитской государственности, если именно московитские эпохи в русской истории неизменно оказывались безнадежными историческими тупиками? Подтверждает ли он, наконец, миф о постниколаевской эпохе, вдохновляющий сегодняшних национал-либералов, миф о «России, которую мы потеряли», если оказывается, что изначально была она обречена на катастрофу?
На самом деле объясняет наш обзор лишь, что «национально- ориентированная» игра в поиск исторического злодея мешала (и продолжает мешать) России окончательно вернуться в её настоящий дом, тот самый, из которого была она четырежды насильственно выдворена (монгольскими завоевателями и тремя самодержавными революциями - Грозного в XVI веке, николаевской в XIX и большевистской в XX). Откуда происходит эта цивилизационная неустойчивость России попытался я подробнейшим образом объяснить в первой книге трилогии.
Глава пятая
Еще раз о «России, 1ретроспекшвнаяу™™ которую мы потеряли»
Или возьмем другой монументальный аспект «исторического разрыва». Мы видели, что противопоставили славянофилы николаевской псевдо-московитской «цивилизации» вовсе не другой вариант будущего России, но её прошлое. И только на первый взгляд обусловлено это было жестокой конкуренцией с бюрократической
утопией Официальной Народности. На самом деле и после её крушения не умела национал-либеральная Русская идея объяснить роковые ножницы между своим светоносным идеалом и «растлением и развратом» самодержавной реальности иначе, нежели апеллируя к прошлому.
Просто не оказалось - и до сих пор нет - в её идейном арсенале ничего, кроме легенды о «России, которую мы потеряли» (только сейчас - и восемьтомов «Красного колеса»томуярчайший пример - речь идет именно о той России, которую прокляли славянофилы). То самое, что современные национально ориентированные интеллигенты величают «белым патриотизмом». Как воздух нужен ей этот сказочный град Китеж, этот первозданный материк народной культуры, где предположительно запрограммирован генетический код Святой Руси. Ибо только обретя его, могли они с чистой совестью звать народ «домой», в землю обетованную, воспетую в страстных стихах Константином Аксаковым.
Пора домой! И песни повторяя Старинные, мы весело идем. Пора домой! Нас ждет земля родная, Великая в страдании немом!
«Домой» означало здесь назад, в утраченный рай Московии. Этот сумеречный ностальгический мотив не мог, конечно, ускользнуть от такого язвительного комментатора, как Чаадаев, навсегда окрестившего их Русскую идею ретроспективной утопией. Иными словами, уличил её Чаадаев при самом её рождении не просто даже в утопичности, но в утопичности по существу своему средневековой. Ибо земля обетованная располагалась у них не впереди, а позади.
Ј Глава пятая
I ID3B ЛИ ОЫЛ Ретроспективная утопия
Чаадаев?
Проще всего проверить правильность его суждения, обратив внимание не столько на то, что проповедовали славянофилы, сколько на вопросы, задать которые не посмели они даже самим себе. Не посмели, ибо, задав их, тотчас же и обрушили бы всю свою «святорусскую» постройку, чтобы убедиться в этом, достаточно суммировать её основные очертания.
Нации-семье, утверждали славянофилы, никаких политических гарантий от произвола самодержавия не требуется. В неё, можно сказать, встроен механизм самосохранения, своего рода негласный общественный договор, который, как мы помним, назвали они «отношением взаимного невмешательства между правительством и народом». Более того, согласно этому договору, именно неограниченная власть и гарантировала народу неограниченность его «духовной свободы». Сточки зрения «византийского любомудрия» всё это, может быть, и имело бы смысл - когда бы не было Петра.
Как беззаконная комета врывается Петр в стройное здание славянофильской Русской идеи, в полном соответствии со своим характером разнося его на куски. Ведь он тоже был самодержцем и по логике славянофилов, следовательно, связан, как все русские государи, тем самым негласным общественным договором, который и представляет фундамент всей постройки. А он взял да и уничтожил нацию-семью. Так где же был механизм самосохранения, который в неёякобы встроен? Почему не сработал? Почему беззащитной оказалась страна перед волей самодержца, обернувшегося тираном, наплевавшего на suverainete du peuple и без зазрения совести поправшего тот самый общественный договор, который, если верить славянофилам, был единственной «органической» для России гарантией от деспотизма? Согласитесь, что именно эти вопросы первым делом и задал бы себе любой современный мыслитель.
Я говорю современный вовсе не в том смысле, что жить он должен был непременно после славянофилов. Декабристы-то были раньше. И их тем не менее мучили именно эти вопросы. Монтескье вообще жил за столетие до декабристов. А Джон Локк - за два. Но были они все современными мыслителями именно потому, что бились над современными вопросами. Более того, они нашли на них ответ. Славянофилы же открещивались от этих вопросов, как от черта.
А ведь есть и вопросы покруче, касающиеся уже не прошлого, а будущего страны. Как предотвратить нового Петра? Где гарантия, что, даже вернувшись «домой», в Святую Русь сиречь самодержавную Московию, не обнаружим мы там еще одного эпического злодея, «извратителя» родной истории?
Славянофилы написали тома и тома. И речь в них о чем угодно - от красоты крестьянских хороводов до врожденных пороков «западной цивилизации». Но вот об этих, естественных, казалось бы, сюжетах, от которых зависит не только вся логика Русской идеи, но и сама судьба обожествленного ими народа, нет во всех этих томах ни единого слова. К какому же иному выводу можем мы прийти, кроме того, что они запретили - не только себе, но и «национально ориентированным» потомкам - даже думать о главном?
■ . w Глава пятая
НЗСТОЯЩЗЯ ТЗИНЗ |Ретроспекгивнаяутопия
слзвянофильствз
Давайте, однако, примем на минуту все посылки славянофилов. И то, что Россия была некогда нацией-семьей, Святой Русью. И то, что Петр был злодеем родной истории. И то, что «духовная свобода» выше политической. И то, наконец, что «пора домой», в Московию. И вот оказывается, что именно эти посылки, едва мы их принимаем, запрещают нам задавать вопросы, от которых зависит судьба страны. Так можем ли мы, спрашивается, объяснить себе это странное обстоятельство, не согласившись с Чаадаевым?
На самом деле он, похоже, нащупал в своем презрительном замечании самую сердцевину славянофильской Русской идеи, объясняющую нам все её загадки, а не только то, почему будущее страны она всегда видела в ее прошлом. Перед нами вовсе не современное философско-политическое учение, пусть противоречивое, пусть
полное логических несообразностей, пусть даже утопическое, - но именно ретроспективная утопия, всеми своими корнями уходящая в глубокое средневековье.
Именно поэтому отрицали славянофилы не столько Запад, сколько современное в Западе, его Ренессанс и Просвещение, его секу- лярность, его веротерпимость, его рационализм. Отсюда же их презрение к «закону» и отчаянный антиинтеллектуализм, их преклонение перед простым народом как перед стихией, неподвластной «формальному разуму» и секуляризации, живущей обычаем и верой, глубоко чуждой историческим изменениям, чуждой современности.
Потому, надо думать, и называл их утопию Белинский «странным, уродливым, не современным и ложным убеждением»64. Потому и разразился страстным монологом против славянофильства, вспоминая свою студенческую юность, Б.Н. Чичерин. Монолог его длинный, но настолько хорош, так безжалостно расставляет все точки над i, что я даже не стану извиняться перед читателем за его размеры. Вот он.
«Я пламенно любил отечество и был искренним сыном православной церкви, с этой стороны, казалось бы, это учение могло меня подкупить. Но меня хотели уверить, что весь верхний слой русского общества... презирает всё русское и слепо поклоняется всему иностранному, чего я, живя внутри России, отроду не видал. Меня уверяли, что высший идеал человечества - те крестьяне, среди которых я жил и которых знал с детства, а это казалось мне совершенно нелепым. Мне внушали ненависть к гению Петра... а идеалом царя Хомяков выагавлял слабоумного Федора Ивановича за то, что он не пропускал ни одной церковной службы и сам звонил в колокола... То образование, которое я привык уважать с детства, та наука, которую я жаждал изучить, выставлялись как опасная ложь, которой надобно остерегаться, как яда. Взамен их обещалась какая-то никому не ведомая русская наука, ныне еще не существующая, но долженствующая когда-нибудь развиться из начал, сохранившихся в неприкосновенности в крестьянской среде. Все это... до такой степени про-
64 Цит. по: Машинский С. Славянофильство и его истолкователи//Вопросы литературы. 1969. №12. С. 126.
9 Янов
тиворечило указаниям самого простого здравого смысла, что для людей посторонних, приезжих, как мы, из провинции, не отуманенных словопрениями московских салонов, славянофильская партия представлялась какой-то странной сектой, сборищем лиц, которые от нечего делать занимались измышлениями разных софизмов, самодурством потешающих себя русских бар»65.
Рене Декарт сказал это в цитате, вынесенной в эпиграф этой главы, короче, но не менее язвительно: славянофилы оказались теми самыми философами, которые взялись «доказать абсурд». Владимир Соловьев, один из самых блестящих знатоков этих сюжетов, назвал славянофильское православие «искусственным право- славничаньем», «более верою в народ, нежели народною верою», и даже «идолопоклонством перед народом». Вообще, думал он, «в системе славянофильских воззрений нет законного места для религии как таковой, если она туда попала, то лишь по недоразумению и, так сказать, с чужим паспортом»66. Короче говоря, потому и не могли славянофилы задавать себе вопросы, естественные для современного политического мыслителя, что точно так же, как германские тевтонофилы, у которых заимствовали они свой Sonderweg, не были современными мыслителями. И в этом, быть может, самая глубокая тайна славянофильства.
n I Глава пятая
ЛОВУШКЗ {Ретроспективная утопия
Главный вопрос, который здесь возникает, очевиден. Не противоречит ли глубоко средневековый характер славянофильской Русской идеи тому, что она сыграла вполне реальную роль в идеологической борьбе эпохи Официальной Народности, продолжала её играть в посттоталитарной (постниколаевской) России и вновь возникла на её обломках в XX - и даже, как мы сейчас увидим, в XXI веке, - практически не изменив при этом основных своих параметров? Нет, оказывается, не противоречит.
Русские мемуары. М., 1990. С. 179,1В1. Соловьев B.C. Цит. соч. С. 437-439.
Напротив, то обстоятельство, что гигантские перемены, случившиеся в стране за полтора столетия, почти не сказались на базисной структуре Русской идеи (полистайте «Тайну России» Михаила Назарова или хотя бы интервью Виталия Найшуля газете «Время МН» в 2ооо году или «Известиям» в 2001-м, и вы в этом убедитесь), лишь подтверждает: как и положено средневековому мифу, Русская идея полностью иммунна к любым изменениям окружающей среды.
Вот пример. Уже в 2000 году читаем в московской газете категорическое заявление «национально ориентированного» интеллигента: «Карты ложатся так, что мы [опять] можем жить ... на Святой Руси»67. И пишет это человек совершенно серьёзно, опираясь на те же славянофильские аргументы, от которых еще Чаадаев и Чичерин камня на камне не оставили. И слышим мы это не от какого-нибудь православного фундаменталиста вроде Назарова, который с откровенно средневековой маниакальностью не устает напоминать нам, что именно «еврейским ожиданием мессии и воспользуется антихрист, подготовка воцарения которого ... как раз и происходит в западном мире, подпавшем под иудейские деньги и идеалы»68.
Ничего подобного, слышим мы о «святорусском» будущем путинской России от вполне современного ультра либерального экономиста, именно в воссоздании Московии и усматривающего действительную цель сегодняшних реформ[37]. Поистине роковым образом недооцениваем мы роль славянофилов не только в истории России, но и в сегодняшней идейной борьбе.
Еще яснеер-анет это, если мы уточним наш вопрос. Если спросим, например, можетли средневековый по духу миф быть функциональным в современной среде? Но ведь ответ здесь так же очевиден, как и вопрос. Мы видели это - и не в одной России.
На наших глазах средневековые мифы не только возрождались, но и становились, по известному выражению Маркса, материальной силой - и в Германии, и в Италии, и в Японии, не говоря уже об
НайшульВА. Рубеж двух эпох// Время МН. 2000,6 марта.
Назаров М. Тайна России. М.» 1990. С. 578.
исламском мире. Как бы то ни было, XX столетие (как, впрочем, и нынешнее) снабдило нас, к сожалению, слишком большим числом свидетельств, что в стране, сохранившей достаточно пережитков средневековья в своей политической традиции и в сознании (или, может быть, в подсознании) своих «производителей смыслов», такие идеологии вполне функциональны.
Действительно серьезный вопрос, который, к сожалению, не заинтересовал ни Белинского, ни Чичерина, ни самого даже Чаадаева и на который покуда нет ответа, совсем иной: что вообще вызывает их к жизни в современной среде? Тут мы можем лишь внимательно исследовать каждый отдельный случай такого средневекового протуберанца, надеясь, что в конце концов, когда все такие случаи будут разобраны по косточкам, сложится и общая теория возрождения средневековья в современном мире.Рождение славянофильской утопии в 1830 годы представляет один из самых интересных таких случаев. Тут, как мы помним, была она ответом на бюрократическую утопию псевдомосковитской «цивилизации», присвоившей себе статус секулярной религии. И так тесно были сращены в этой новой религии обожествленного государства деспотизм с «гением нации», православие с политическим идолопоклонством, патриотизм с крепостным правом, что она оказалась практически неуязвимой для критики извне. Это была изобретательно придуманная конструкция, тоталитарная ловушка такой мощи, что подорвать её господство над умами можно было лишь одним способом - изнутри, став на её собственную почву, оперируя её понятиями.Никто в тогдашней России, кроме славянофилов, не мог бы исполнить такую задачу. Ибо только с позиции неограниченной власти можно было атаковать деспотизм - как кощунство. Только с позиции защиты православия можно было сокрушить политическое идолопоклонство - как ересь. Только с позиции «национального самодовольства» можно было бороться с «национальным самообожанием» - как с извращением. Это и сделали славянофилы, разоблачив деспотизм как самозванца, как фальшивую религию, как отступничество от христианства. Короче, они оказались
в парадоксальной для них роли борцов за секуляризацию власти. И если прав был Маркс, что «критика религии есть предпосылка всякой другой критики»[38], то задачу свою они выполнили.
Признанный мастер демонтажа тоталитарной идеологии Александр Николаевич Яковлев подтвердил эту мою догадку, высказанную в книге «Русская идея и 2000 год» задолго до распада советской «Официальной Народности». Вот что он сказал: «Этого монстра демонтировать можно только изнутри и обязательно под лозунгом совершенствования существующего строя»[39].
Другой вопрос, как оказались славянофилы, которые всё-таки были наследниками декабристов, «внутри» тоталитарного мифа Официальной Народности, созданного, можно сказать, именно для изничтожения декабризма, и чем пришлось им заплатить за такую метаморфозу. И тут мы ясно видим, что попытались они совершить невозможное, совместить несовместимое - свободу с самодержавием, патриотизм с «национальным самодовольством», современность со средневековьем.
В результате, способствуя разрушению в России тоталитарной ловушки, они в то же время создали вместо нее другую - средневековую. Не может быть сомнения в том, что, отчаянно сопротивляясь «непреодолимому духу времени», они помешали коренной реформе страны в 1860-е. Со своим архаическим самодержавием, отрицавшим ограничения власти, и средневековой сельской общиной, отрицавшей частную собственность, даже выйдя из фазы тоталитарной диктатуры, Россия осталась в тоталитарном пространстве, по- прежнему»беззащитная перед произволом любого нового диктатора. Страна перешла в затяжную посттоталитарную (пореформенную) фазу, так и не сумев адекватно ответить на вызовы современности.
Полуреформированная, остановленная на полдороге, повернутая лицом к прошлому, Россия жила в ожидании беды - и диктатуры. Лишь когда грянула беда, и страна, не выдержав напряжения мировой войны, провалилась в новую черную тоталитарную дыру, действительная роль славянофилов стала очевидна.
Они помешали ей выйти из средневековья, повернуться лицом к будущему, возвратить себе в очередной раз утраченную в результате антипетровской революции Николая европейскую супраидентич- ность. И тем самым подготовили новый, еще более страшный провал в прошлое. Именно это, я думаю, и имел в виду Бердяев, когда писал в 1924 году, что «Россия никогда не выходила из средних веков»[40].
глава первая вводная
глава вторая У истоков «государственного патриотизма»
глава третья Упущенная Европа
глава четвертая Ошибка Герцена
ШЕСТАЯ
глава пятая Ретроспективная утопия
Торжество
национального
глава седьмая глава восьмая глава девятая глава десятая глава
одиннадцатая
эгоизма
Три пророчества На финишной прямой Как губили петровскую Россию Агония бешеного национализма
Последний спор
глава шестая
Торжество национального эгоизма
Национальная идея старого славянофильства, лишенная своей гуманитарной подкладки, естественно, превратилась в национальный эгоизм.
П.Н. Милюков
Конечно, не одна лишь славянофильская утопия с её заимствованной мифологией Sonderweg и отчаянной тоской по Московии повинна в том, что вместо прорыва в будущее Великая реформа замкнула Россию в средневековой ловушке, обрекавшей страну на новый чудовищный катаклизм.
В реальной жизни, как мы скоро увидим, всё было куда сложнее. Работала тут и гигантская инерция патерналистской государственности, созданной еще за три столетия до их утопии после самодержавной революции Грозного царя. Сыграла свою роль и политическая близорукость дворянства, разрывавшегося между платоническими мечтами о конституции и вполне материальными узко-сословными интересами, «своекорыстничеством», как презрительно именовал это славянофил старой гвардии А.И. Кошелев. Работал и фантомный наполеоновский комплекс, т.е. всепоглощающий порыв к реваншу за крымское унижение, который практически предопределил всю внешнюю политику Александра II и его бесталанного министра Горчакова, проворонившего в пылу реваншистских страстей самую жестокую геополитическую угрозу будущему России.
Нельзя, наконец, игнорировать и экстремизм радикальной западнической интеллигенции, которая так горячо увлеклась входившими в моду в тогдашней Европе социалистическими поветриями, что практически сама себя исключила из конструктивного политического диалога постниколаевской эпохи.
Людей, принимавших политические решения в 1850-е, одно уже слово «социализм» повергало в такую же ярость, как советскую номенклатуру слово «капитализм». Всякий, кого можно было хоть отдаленно заподозрить в симпатиях к социализму, автоматически оказывался за пределами круга тех, чье мнение принималось всерьёз. Даже ничего общего с социализмом никогда не имевший Николай Александрович Милютин, мотор крестьянской реформы и самый талантливый из тогдашних либеральных бюрократов, так никогда и не смог избавиться от репутации «красного». Как гиря, висела она у него на ногах, несмотря даже на чин действительного статского советника и должность заместителя министра.
Глава шестая Торжество национального эгоизма
радикального западничества
Экстремизм
Нетрудно себе представить, какое впечатление на тогдашний реформистский истеблишмент должны были производить заявления, скажем, Герцена, провозгласившего в 1856 году: «Деспотизм или социализм - выбора нет!» Потому, видите ли, что «свободное развитие русского народного быта совпадает со стремлениями западного социализма»[41]. Бояться-то Александра Ивановича боялись, но руки ему никто в петербургском истеблишменте, включая Милютина, не подал бы. И тем более не стал бы спрашивать его совета по поводу реформы.
О происхождении этого странного свойства российских западников страстно увлекаться новейшими европейскими поветриями (загадочным образом сочетавшегося, как мы скоро увидим, с убеждением, что именно России суждено спасти Европу), разговор нам еще предстоит. Здесь скажем лишь, что увлечения зти, по сути, лишили самую обещающую часть западнической злиты зпохи Великой реформы, её «производителей смыслов», возможности представить обществу реальную альтернативу самодержавно-славянофильскому
курсу. И это тоже было одной из причин, почему она проиграла славянофилам борьбу за идейную гегемонию в умах либеральных соотечественников. Ибо происходило это в момент, когда, по словам Дмитрия Милютина, в процесс реформирования России должны были включиться все живые силы страны. Когда «личности, которые в прежнее время были под опалой как опасные либералы, теперь сделались полезными деятелями. Казалось, наступило, наконец, время осуществления тех идеалов, которые прежде были только заветною мечтой людей передовых»[42].
Глава шестая
/1У КЗ В ЭЯ Торжество национального эгоизма
двусмысленность
Конечно, всё это сыграло свою роль в том, что исторический шанс, представившийся России в ходе Великой реформы, оказался безнадежно упущен. Однако и преуменьшать вклад славянофилов в эту национальную трагедию было бы наивно. И дело тут не только в том, что они похоронили в умах значительной части российской культурной элиты европейскую идентичность России (заменив её утешительным мифом грядущего возвращения в утраченный рай Московии). Славянофильство ведь также внесло в эти умы - и в российскую политическую риторику - своего рода византийскую двусмысленность, языческую гордыню под личиной православного смирения, доведенную до такой виртуозности Достоевским*
Читатель еще услышит здесь его горделивые утверждения, что нигде, кроме России, христианства не существует («надо, чтобы в отпоре Западу воссиял наш Христос, которого мы сохранили и которого они не знали»), перемежающиеся со смиренным «Европа нам мать, как и Россия, вторая мать наша; мы много взяли от неё, и опять возьмём и не захотим быть перед нею неблагодарными» и даже, что «Россия живет решительно не для себя, а для одной лишь Европы». Но подробный разговор о политике Достоевского у нас еще впереди.
Пока что скажем лишь, что когда простодушный иосифлянский монах Филофей объяснял великому князю Василию, отцу Грозного: «На всей земле один ты христианский царь», - смирением в его письме и не пахло, одной лишь гордыней. Совсем не то у славянофилов, происходивших, как мы помним, одновременно и от декабристов и от их палачей.
Сошлюсь хоть на два знаменитых стихотворения Алексея Степановича Хомякова с одинаковым названием «России» (одно из них мы уже цитировали). Первое написано в 1839 году и в нем Хомяков словно отвечает Погодину, отчаянно, как мы помним, похвалявшегося в те поры военной мощью николаевской России и близостью её к наполеоновской мечте об универсальной империи. «Не верь, не слушай, не гордись!» - говорит Хомяков в своей декабристской ипостаси.
Пусть далеко грозой кровавой Твои перуны пронеслись, Всей этой силой, этой славой, Всем этим прахом не гордись!
Звучит так, словно усвоил поэт главную заповедь Юрия Крижанича «Мы не первые и не последние среди народов». Но тотчас после этого вполне погодинское:
И станешь в славе ты чудесной Превыше всех земных Сынов.
Но как, благодаря чему, спрашивается? А вот так: За то, что ты смиренна, -
отвечает Хомяков. Что это значит? Что Россия всё равно добьется наполеоновской универсальной империи - только не силой, а смирением?
Второе стихотворение написано в 1854-м, в разгар Крымской войны. Его декабристскую часть читатель помнит. («В судах черна неправдой черной ... и всякой мерзости полна»). Но ведь немедленно за этой обличительной диатрибой следует:
О, недостойная избранья,
Ты избрана!
И как же примиряет поэт это, казалось бы, непримиримое противоречие между «мерзостью» и «избранностью»? По тому же, оказывается, пятнадцатилетней давности рецепту: «Скорей омой себя водою покаянья». А потом что? А потом с Божиим именем в бой - за ту же погодинскую мечту:
И бросься в пыл кровавых сеч!
Рази мечом - то Божий меч.
Словно бы уже заранее оправданы «водою покаянья» все мерзости, которые только что с такой искренностью клеймил поэт - и «иго рабства» (оно никуда ведь от покаяния не делось), и «ложь тлетворная» Официальной Народности (в ней никто каяться и не думал). И самое главное, корыстное погодинское стремление к универсальной империи (помните его «законную добычу»?) Словно бы всё это чудесным образом преобразилось вдруг под пером Хомякова в «брань святую», где меч России оказался почему-то мечом Божиим.
Пусть не подумает читатель, что я пытаюсь поддержать такое серьёзное обвинение лишь легковесными литературно-критически- ми пассажами. Вот ведь и Бердяев, тонкий аналитик, написавший вдобавок о Хомякове целую книгу, приходит точно к такому же выводу. Посмотрите. «В стихотворениях Хомякова отражается двойственность славянофильского мессианизма: русский народ смиренный, и этот смиренный народ сознает себя первым, единственным в мире ... Россия должна поведать миру таинство свободы, неведомое народам западным. Смиренное покаяние в грехах ...чередуется у Хомякова с «гром победы раздавайся!». Хомяков хочет уверить, что русский народ - не воинственный, но сам он, типичный русский человек, был полон воинственного духа, и это было пленительно в нём. Он отвергал соблазн империализма, но в то же время хотел господства России нетолько над славянством, но и над всем миром»[43].
Другой вопрос, что это лукавая славянофильская двусмысленность (которую Бердяев, впрочем, предпочитает называть двойственностью), нравится нашему западнику, кажется ему «пленительной». И никогда Бердяев, весьма сведущий в Новом Завете, не напоминает своим читателям ответ Христа на аналогичное притязание на избранность и первенство между народами: «Кто хочет быть между вами первым, да будет вам рабом»4. Что ж, такие были у нас западники. И по мере движения пореформенной России к своему роковому концу всё больше будут они превращаться в «национально ориентированных» и всё труднее станет отличить их от националистов.
Не менее важно, что именно под влиянием славянофильства элементарное и казавшееся декабристам естественным представление о России как о неотъемлемой части европейской цивилизации начало вдруг казаться неприличным, почти крамольным.
Я не говорю уже, что славянофильство снабдило архаическое самодержавие высшей интеллектуальной санкцией. Что оно сумело убедить часть интеллигенции, включая «молодых реформаторов», т.е. как раз тех, кто был тогда причастен к выработке нового курса страны, в респектабельности патерналистской государственности. В том, что не стыдиться её, а гордиться ею надо как гарантией самобытности России, не допустившей в ней европейского «гниения».
Разве не славянофильство убедило реформаторов, что, как уточняет сегодняшний «национально ориентированный» интеллигент, «Россия, просто живущая по законам чисто экономической целесообразности, вообще не нужна никому в мире, в том числе и ей самой»?5 Что, иными словами, существование России, в отличие от любого европейского государства, имеет смысл сверхразумный, мистический, и нужна она миру как весть о спасении. Убедило, иначе говоря, что, вопреки здравому смыслу, мы не можем «идти ни по одному из путей, приемлемых для других народов», почему и суждено нам «великое одиночество в мире». Но мало того, что не по пути нам с другими, мы вообще не страна, мы - «огромная культурная и цивилизационная идея»6. Попросту говоря, не какая-то пустая, секу-
Матф. XX. 27.
Межуев В.М. Круглый стол «Кто развалил Советский Союз»//НГ сценарии. 1997,16 янв.
лярная, прозаическая, безблагодатная и вот уже которое столетие «гниющая» (но почему-то никак не сгнивающая) Европа.
Добавьте к этому, что именно славянофильству обязана была постниколаевская Россия и крестьянским гетто, а стало быть, и грядущей пугачевщиной; что именно его «славянская» племенная одержимость, непременно почему-то требовавшая захвата Константинополя (и разрушения Австрии и Турции), втравила-таки в конце концов Россию в самоубийственную для нее мировую войну - и картина предстанет полная.
С постепенным затиханием балканской лихорадки (тогдашнего Косово!) славянофильство, хоть и утрачивая, начиная с 1880-х, руководящую политическую роль в жизни страны, тем не менее превращалось в «идею-гегемона» пореформенной России. Но вернусь, как обещал, на минуту к западникам.
I
Глава шестая
D ПЛбНу Торжество национального эгоизма
интеллектуальной моды
В начале 1920-х фашизм представлялся многим европейцам прорывом в будущее. Блестящая победа Муссолини в Италии предвещала, казалось, тот самый закат либеральной Европы, который еще в 1840 годы предсказывали славянофилы и который сделал модным столетие спустя Освальд Шпенглер. И все-таки первым, кто самоотверженно отдался этой новой декадентской моде европейской мысли, пойдя дальше самого Шпенглера и провозгласив немедленное наступление всемирной эры нового средневековья, был - кто бы вы думали? - конечно, русский западник.
Я имею в виду того же Николая Александровича Бердяева. В книге, так и озаглавленной «Новое средневековье», он еще в 1924 году противопоставил западным парламентам, которые «с их фиктивной вампирической жизнью наростов на народном теле неспособны уже выполнить никакой органической функции», этим
«выродившимся говорильням» - «представительство реальных корпораций»[44].
Разумеется, первоисточником неожиданного политического вдохновения Бердяева были популярные тогда разглагольствования Муссолини о корпоративном государстве, непреодолимо идущем якобы на смену демократии. Бердяев этого, собственно, и не скрывал. Значение в будущем, писал он, «будут иметь лишь люди типа Муссолини, единственного, быть может, творческого государственного деятеля Европы»[45]. И вообще «фашизм, - полагал он, - единственное творческое явление в политической жизни современной Европы»[46]. Хотя бы потому, что «никто более не верит ни в какие юридические и политические формы, никто ни в грош не ставит никаких конституций»[47].
Многие поверили тогда в корпоративный миф. Даже американского президента Герберта Гувера не обошло это модное поветрие.[48]Но только у русского западника мог получиться такой странный выверт, при котором от столь парадоксального поворота истории вспять выиграть должна была прежде всех - и больше всех - именно Россия. Почему? Да потому, оказывается, что она, единственная из великих держав, «никогда не выходила из средних веков». В эпоху нового средневековья ей, следовательно, и карты в руки: «Мы, особенно Россия, идем к своеобразному типу, который можно назвать советской монархией, синдикалистской монархией... власть будет сильной, часто диктаторской. Народная стихия наделит избранных личностей священными атрибутами власти ... в них будут преобладать черты цезаризма»[49].
В те смутные межвоенные времена не требовалось быть Нострадамусом, чтобы предсказать победу «цезаризма» в России
или в Италии. И диктаторская тенденция, торжествовавшая тогда в Европе, была угадана верно. Только не это ведь предсказывал Бердяев, но окончательную победу антидемократической тенденции, бесповоротное наступление новой эры средневековья. То самое, что Гитлер называл «Тысячелетним рейхом». Только, разумеется, во главе с Россией, а не с Германией. В этом смысле Бердяев - вместе с Муссолини и Гитлером - попал, как мы знаем, пальцем в небо.
Но говорим-то мы сейчас о другом. О том, что едва охватывала Европу какая-нибудь новая интеллектуальная мода, так тотчас появлялся русский западник и обязательно доводил ее до последней крайности. И объяснял удивленной Европе почему как раз благодаря этой моде России и суждено стать первой в человечестве и, прямо по Хомякову и Достоевскому, повести за собою мир. Разве не точно то же самое, что Бердяев, сделал другой русский западник в эпоху, когда интеллектуальной модой в Европе стал марксизм?
Ведь и уЛенина оказалась вдруг Россия не страной, а «идеей», предназначенной вести за собою мир. В этом случае, конечно, не потому, что была она единственной православной великой державой, как полагали Филофей и Достоевский. И не потому, что «никогда не выходила из средних веков», как думал Бердяев. А потому, что оказалась, как обнаружил Ленин, «самым слабым звеном в цепи империализма». По каковой причине, видите ли, именно России и предстояло эту «цепь» прорвать.
Конечно, как и Бердяев, попал Ленин пальцем в небо. Никакая всемирная вролетарская революция, ради которой и предпринимался «прорыв цепи», ему не светила. Не в последнюю очередь потому, что интеллектуальные поветрия в Европе меняются, и моду на марксизм ожидала в конечном счете та же судьба, что и моду на фашизм.
Единственным результатом ленинского «прорыва» оказалось, таким образом, лишь национальное бедствие России, т.е. крушение в ней очередной Великой реформы и возврат в средневековую ловушку на многие десятилетия. Короче говоря, роль Ленина на перекрестке столетий, в сущности, совпала с ролью славянофилов во времена Великой реформы 1860-х.
Разумеется, ни Герцен, ни Ленин, ни Бердяев не шли так далеко, как славянофилы. Никто из них не объявлял Россию ни обладательницей последней истины, ни особой миродержавной цивилизацией, равных которой на свете нет. Все они, как и положено русским западникам, начиная с декабристов, считали Россию частью Европы. Просто любая интеллектуальная мода, охватывавшая ее, всегда почему-то поворачивалась у них таким образом, что именно России доставалась роль ключа к заколдованному замку будущего. И невозможно, согласитесь, не ощутить здесь влияния славянофильства (с его «национальным самодовольством») даже на самых откровенных его антиподов.
Я говорю о влиянии славянофилов лишь на постниколаевских западников потому, что декабристы были ведь от «национального самодовольства» совершенно свободны. Они не только не следовали модным поветриям с Запада, но шли прямо наперекор интеллектуальной моде своего времени. Ибо в их время, как мы уже знаем, универсальной модой в Европе была как раз романтическая реакция на рационализм XVIII века. Модно было тогда противопоставлять веру знанию, коллективизм - индивиду, национализм - космополитическому миропониманию. Иными словами, модно было тогда именно то, что и подхватили с Запада славянофилы, а вовсе не конструктивная, рациональная и самокритичная мысль декабристского поколения.
Как ядовито заметил по этому поводу Владимир Вейдле: «Европеизм Пушкина был вполне свободен от основного изъяна позднейшего западничества: поклонения очередному изобретению, «последнему слову», от склонности подменять западную культуру западной газетной болтовней»[50]. Вейдле, однако, не говорит главного: заразили-то русскую мысль этой странной «склонностью» всё- таки славянофилы.
Лорис-Меликов и Игнатьев
Конечных результатов своего влияния на судьбу России
славянофилы, естественно, знать не могли. Но сам факт этого влияния сомнению не подлежит. Один пример покажет это убедительнее дюжины аргументов.
Читатель, я надеюсь, помнит славянофильское пророчество, что едва лишь рухнет в России «петербургский» деспотизм, так традиционное московитское самодержавие обретет, как нынче говорят, человеческое лицо. И тотчас начнет употреблять свою неограниченную власть на столь несвойственные ему до той поры деяния, как защита «свободы духа, творчества, слова». А благодарный народ тут же и прекратит неприличные занятия политикой, безраздельно отдавшись «духовно-нравственному возвышению».
Напоминать ли читателю, что в действительности всё случилось как раз наоборот? Что крушение николаевского деспотизма привело вовсе не к растворению политики в благочестивой и гармонической «симфонии» славянофильских миров и соборов, но к жесточайшему политическому кризису? Что самая активная часть российской молодежи вступила, подобно декабристам, в открытую схватку с самодержавием? Причем жертвовала она собой как раз во имя ненавистной славянофилам европейской конституции.
«Русский народ есть народ не государственный, то есть не стремящийся к государственной власти» - таков был центральный постулат ретроспективной утопии, на котором основывались все славянофильские прогнозы. Четверть века спустя после падения деспотизма в стране бушевала, по сути, гражданская война. Вопреки прогнозам, русский народ оказался ничуть не менее «государственным», нежели любой другой в Европе. Обнаружилось, что Россия вовсе не «идея», а страна, и притом страна европейская. Во всяком случае, петербургские мальчики добивались от своего правительства точно того же, что мальчики мадридские или неапольские.
Но вот грянул февраль 1880 года. «Народная воля» буквально штурмовала самодержавие. Правительство ответило «белым террором». В стране было введено чрезвычайное положение. Началась короткая пора военной диктатуры Лорис- Меликова (известная впоследствии как «диктатура сердца»). Нас в данном случае интересует, однако, лишь то, какими аргументами обосновывал диктатор столь экстраординарный ответ постниколаевского самодержавия на требование о созыве Думы. «Для России немыслима, - писал он, - никакая организация народного представительства в формах, заимствованных с Запада. Формы эти не только чужды русскому народу, но могли бы поколебать все основные его политические воззрения»4.
М.Т. Лорис-Меликов|
Читатель опять-таки не нуждается в напоминании, что это отнюдь не язык декабристов, которые как раз во имя «народного представительства в формах, заимствованных с Запада» и вышли на площадь. Но это также и не казённый язык николаевского патернализма, для которого любое народное представительство, своё ли, чужое ли, было анафемой. На чьем же тогда языке говорит генерал, намекая между строк, что народное представительство в формах, не заимствованных с Запада, как раз и могло быть впору России?
Конечно же, никаким славянофилом Михаил Таризлович не был. Он просто хотел, чтобы намёк, содержавшийся в его записке, был правильно понят. Вот почему приём, который он здесь употребил, свидетельствует красноречивей любого прямого высказывания, что четверть века спустя после падения душевредного деспотизма для интеллигентного русского человека, желавшего говорить с властью на понятном ей языке, никакого другого политического языка, кроме славянофильского, просто уже не существовало. Текст
** HR Вып. 17. M,., 1907. С. 43 (выделено мною - АЛ.)
такой, словно написал его Иван Сергеевич Аксаков, возглавивший старую гвардию славянофилов, после того как признанные их вожди - старший его брат Константин, Киреевский и Хомяков - отошли в вечность.
Ибо на что же еще мог намекать Лорис-Меликов, когда делал ударение на «основных политических воз-
зрениях русского народа», несовместимых с «западными формами», если не на славянофильский Собор? Н.П.Игнатьев На тот самый Земский собор, «при
званный посрамить все парламенты в мире», который спустя год после падения Лорис-Меликова и впрямь попытался под влиянием Ивана Аксакова созвать другой генерал - Николай Игнатьев, сменивший у руля страны либерального «диктатора сердца» и тоже казавшийся тогда всевластным. Самое в этой истории замечательное, однако, вот что: попытка осуществить наконец славянофильскую мечту стоила Игнатьеву карьеры.
Глава шестая
Же СТО КЗ Я ИРОНИЯ ТоРжество национального эгоизма
Мы^еще подробно поговорим об этом удивительном эпизоде. Пока что обратим лишь внимание на его мораль. С одной стороны, идейное влияние славянофильства на политический истеблишмент пореформенной России казалось неотразимым. Либеральная бюрократия и говорить-то теперь ни на каком языке, кроме славянофильского, не умела. С другой стороны, однако, самодержавие язык этот по-прежнему не переваривало. Хоть плачь, ну никак не желало оно обрести человеческое лицо, которое привиделось славянофилам.
Словно бы заключенное внутри невидимого мелового круга, оно оказалось не в состоянии из него вырваться, не поддавалось радикальной реформе. Никакой - будыо в формах «заимствованных» или «незаимствованных», либеральных или славянофильских. Даже в самом водовороте революции пятого года, когда Думу пришлось- таки с роковым полувековым опозданием созвать - и терпеть, - всё равно продолжал император до конца считать себя самодержцем. Так и было, между прочим, записано в новом Основном законе Российской империи 1906 года.
Обнаружилась, короче говоря, страшная вещь, которая безжалостно растоптала славянофильские иллюзии. Как испытали на себе в 1880-е и Лорис-Меликов и Игнатьев, и как придется еще испытать в XX веке Витте и Столыпину, «православная государственность» самодержавной России оказалась нереформируемой.
Глава шестая Торжество национального эгоизма
читателю, что на этих трагических эпизодах старая история, увы, не закончилась. Нам уже, к сожалению, не впервой сталкиваться на протяжении трилогии с тем, что в сегодняшней, постсоветской России явилась целая когорта ученых, принявших на себя миссию возродить обанкротившуюся уже столетие назад «православную государственность». Новость лишь в том, что в числе современных эпигонов славянофильских доктрин оказались и правоведы. Иначе говоря люди, чье призвание, казалось бы, именно в защите современной государственности от средневековых предрассуд-
Неспособная адаптироваться к меняющейся реальности, до конца ставившая себе в заслугу безнадежное сопротивление «духу времени», она просто обречена была рухнуть под ударами великого кризиса, едва - утратив даже инстинкт самосохранения - ввяжется в мировую войну. И какая, право, жестокая ирония в том, что именно славянофильство, так искренне преданное самодержавию и его «православной государственности», их в конечном счете и погубило! Но об этом дальше.
КОВ.
Само собою, эти люди не имеют ни малейшего преставления о реальных исторических просчетах своих пращуров, не подозревают о страшной цене, которую заплатила за эти просчеты страна. Им не известны ни злоключения славянофильской идеи Земского собора, например, о которой мы только что говорили, ни тревоги мини-граж- данской войны, сотрясавшей «православную государственность» в 1878-1880 годах, ни неудача Лорис-Меликова, пытавшегося её спасти, ни отчаяние славянофилов, сопряженное, как мы скоро увидим, с падением Игнатьева, ни даже история самоубийства этой государственности в мировой войне. Они вообще ничего не знают о реалиях истории России.
Единственное, что им известно, это все то же абстрактное славянофильское заклинание, что Россия не Европа и умом её не понять. И на этом основании уверяют они читателей, что Земский собор как раз и есть естественный для неё способ явить миру «единство монарха и народа, как нравственное, так и юридическое»?[51] А как же иначе? Ведь «единоличная монархическая власть нуждается в определенных формах и условиях, при которых может творить свой подвиг»16. Это о перспективах России в XXI веке?
Какая, однако, «единоличная монархическая власть»? Какое «единство монарха и народа»? О каком «подвиге» самодержавия ведёт речь A.M. Величко в книге под обязывающим названием «Философия русской государственности»? Разве живет он не в республике, называющей себя Российской Федерацией, конституция которой TgK же далека от этих славянофильских материй, как небо от земли? Живет, конечно. Но не может, оказывается, закрыть глаза и на то прискорбное обстоятельство, что никаких таких республик, как Российская Федерация, в Ветхом Завете не предусматривается. Более того, сказано в нём нечто прямо противоположное. А именно, что «власть должна быть наследственной, несменяемой, пожизненной». В конце концов каждый может, заглянув в Библию, убедиться, что «данный принцип совершенно четко выражен в Ветхом Завете»[52].
Позвольте, может возразить читатель, но при чем здесь современная Россия? А при том, ответит правовед, что «закономерность мира обусловлена Законом Божиим, который Он установил и который раскрыт на страницах Священного писания»[53]. И следовательно, «как Истина содержит в себе всю полноту знания по любому вопросу»[54]. В том числе, конечно, и по вопросу о легитимности РФ. С точки зрения Священного писания она нелегитимна, вот же что на самом деле говорит нам автор.
Прежде, однако, чем читатель решит, что A.M. Величко (вместе с издателями своей книги) каким-то образом телетранспортировался, так сказать, в XXI век из глубокого средневековья, на помощь ему спешит другой современный автор, сообщающий читателю в книге с совершенно актуальным названием «Политическая глобалистика», что «идея христианизации мира» действительно является «единственной гарантией от ««злобесия» всякой формальной государственности»[55]. Включая, естественно, и отечественную.
Как быть в этом случае с демократией, хотя и не предусмотренной в Ветхом Завете, но представляющей тем не менее основу современной российской государственности? Но это отвечает третий автор: «Демократия родила в XX столетии слишком много государственных монстров и политических маньяков, чтобы доверять ей и дальше... власть в государстве»[56]. Особенно, имея в виду, что враг не дремлет. И «всегда недолюбливавший Россию Запад никогда не утруждал себя особым выбором средств разрушения её как самостоятельного политического и национального тела, как империи и супердержавы»[57].
Нет, пожалуй, смысла цитировать дальше. Читатель, я уверен, уже всё понял. Нет, не из глубокого средневековья телетранспорти-ровались к нам эти книги. Они - лишь эхо выродившегося славянофильства, того, что ступив на предпоследнюю ступень «лестницы Соловьева», полностью предалось «псевдопатриотическому обскурантизму», по его выражению, «умственному и нравственному одичанию»23. Вправе ли мы забыть, однако, что основы этого одичания заложены были именно в изощренных софизмах, пущенных в оборот еще в пору расцвета ретроспективной утопии? Что перед нами, говоря словами того же Соловьева, её «настоящая обнаженная сущность, которую родоначальники славянофильства прикрывали мистическими и либеральными украшениями»?24
А теперь пора возвращаться к рассказу о том, как мучительно, в ходе каких реальных исторических испытаний рождался на свет тот «псевдопатриотический обскурантизм», с современными образцами которого мы только что познакомились. Тут ведь еще одна загадка, которая нас ожидает. Едва ли не самые утонченные и образованные мыслители своего времени стояли, как мы видели, у истоков славянофильства. Мыслимо ли было представить, что заканчиваться оно будет «умственным и нравственным одичанием»? И как это могло случиться? Вот этот почти невероятный клубок мы с читателем и попытаемся здесь распутать.
Глава шестая Торжество национального эгоизма
о «начальнике мира»
Обнаружилась, впрочем, полная
нереалистичность ретроспективой утопии еще на дальних подступах к реформе. Проще всего проследить это на судьбе сельского мира, этой несущей конструкции всей утопии. Тем более что именно в ней коренились все их миродержавные мифы: о нации-семье, о нации- личности, о том, будто в России, в отличие от Запада, «нет аристократии», а есть, наоборот, suverainete du peuple.
Соловьев B.C. Собр. соч.: в 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 474» 47*« Там же. С. 474.
Начнем с того, что едва дело дошло до освобождения крестьян, т.е. до реального дележа земли и власти, никому в России и в голову не пришло посоветоваться с бедным peuple, даром что именно ему принадлежала, согласно славянофильской мифологии, suverainete supreme. Высочайший рескрипт от 12 ноября 1857 года обращен был исключительно к дворянству, которому предлагалось создать губернские комитеты для обсуждения крестьянского вопроса. Иными словами, именно к той самой аристократии, которой у нас, в соответствии с той же мифологией, и быть не могло. То есть складывалось всё прямо противоположно тому, что предусматривала ретроспективная утопия.
На первых порах, впрочем, дворянство откликнулось на царский рескрипт с истинно славянофильским воодушевлением. Вот в каких выражениях приветствовал его, например, херсонский предводитель дворянства на обеде по случаю открытия губернского комитета: «Какой бы ни был возбужден вопрос в любимом отечестве нашем, он всегда будет разрешен целой Россией, как одной семьёй, дружно, мирно, по-русски!»25. Также, по-славянофильски, сформулирована была первоначально и задача редакционных комиссий, призванных обобщить рекомендации губернских комитетов: «Дать самоуправление освобожденным крестьянам в их сельском быту»26.
Представьте себе теперь разочарование славянофилов, когда стало ясно, что, собственно, понимают помещики под крестьянским самоуправлением. Большинство губернских комитетов без околичностей потребовало назначить помещиков «начальниками сельских обществ»27. Россия, конечно, одна семья, заявило устами своих представителей русское дворянство, но отцовские права (т. е. suverainete supreme) принадлежат в ней нам, а вовсе не peuple.
Мифология, как мы помним, предполагала, что «начальник у мира может быть один - мир». То есть не должно быть хозяина над суверенным народом, пусть хоть на микроскопическом, сельском, волостном, уездном уровне. Любое другое решение было бы, по мнению славянофилов, «истязанием мира». Но реальный-то спор разго-
Там же. Вып. ю. С. 101.
HR Вып. 19. С. 140.
Там же. С. 139.
релся уже в 1858 году, как видим, вовсе не о том, должен ли у самоуправляющегося peuple быть начальник. Это подразумевалось само собою. Спор шел лишь о том, кому начальствовать над крестьянином - помещику или полицейскому.
Могилевское дворянство, например, ссылаясь на традицию, настаивало на том, что право выдачи паспортов крестьянам должно принадлежать именно помещикам. Калужское дворянство подкрепило аргумент могилевцев, апеллируя к «духу» русского народа: «Передача помещичьей власти в руки местной полиции не будет соответствовать ожиданиям крестьян. Самоуправство чиновников следовало бы заменить управлением, соответствующим духу народа». Разумеется, у калужан не было ни малейшего сомнения относительно того, в чем именно «народный дух» состоит: «Народ не отвергает неоспоримого права дворян участвовать в управлении и, несмотря на неистовые выходки поборников известной пропаганды, принявших на себя личину любви к России [чувствуете, в чей огород камешек?] сознает высокое значение дворян, как самого твердого оплота престола и государственного порядка»[58].
И хотя более либеральное тверское дворянство, понимая неудобство непосредственного начальствования помещика над личностью крестьянина, а также то, что «народный дух», к которому апеллировали могилевцы и калужане, есть все-таки дух крепостного права, предложило вроде бы компромиссную формулировку: «суд и попечительство над крестьянами должны быть переданы всему сословию дворян»[59] - что меняло их предложение по сути? «Участие в
управлении» кого угодно, кроме государственных служащих, было в *
глазах самодержавия - одинаково николаевского и постниколаевского - откровенной крамолой. А когда дворянство принялось еще вдобавок пугать его крестьянским бунтом и «дикими явлениями пугачевщины»[60], не осталось у самодержца ни малейшего в этом сомнения.
О том, что состояние крестьянских умов ничего общего не имело со славянофильской идиллией «негосударственного народа», правительство знало не хуже дворянства. Призрак «мужика с факелом» преследовал его десятилетиями. Знаменитая фраза царя: «гораздо лучше, чтобы это [отмена крепостного права] произошло сверху, нежели снизу», - тому свидетельство. Как комментировал русский историк, «Александр Николаевич не только пугал других, но и совершенно искренне боялся сам»[61].
Вот доказательство. Летом 1858 года царь вдруг предложил проводить реформу в условиях временной диктатуры - под контролем специально для этого введенных военных генерал-губернаторов. Даже министерство внутренних дел против этого протестовало. Крестьянство совершенно спокойно, заверяло оно царя, и вводить в таких условиях военное положение выглядело бы странно.
Вот что отвечал самодержец: «Все это так, покуда народ находится в ожидании, но кто может поручиться, что когда... народ увидит, что ожидание его, т.е. свобода по его разумению, не сбылось, не настанет ли для него минута разочарования? Тогда уже будет поздно посылать отсюда особых лиц для усмирения. Надобно, чтобы они были уже на местах»32.
Но одно дело глубоко укорененный страх перед пугачевщиной, который испытывал царь, и совсем другое, когда дворянство пыталось эксплуатировать этот страх в видах собственного участия в управлении, что по царскому разумению как раз и означало «конституционные вожделения». И все это в преддверии обещанного всероссийского дворянского собрания. Кто знает, чего потребуют там эти дворянские Робеспьеры, оспаривающие власть самодержца над родным peuple?
Так или иначе, к концу 1858 года курс правительства резко изменился, стал подчеркнуто антидворянским. Всероссийское собрание было, разумеется, похерено. Не стану утомлять читателя дальнейшими подробностями этого затянувшегося конфликта между самодержавием - с предполагаемым человеческим лицом - и аристократией, которой вообще в России не предполагалось, - о том, кому начальствовать над крестьянами. Скажу лишь, что кончилось дело
компромиссом. Решено было, что никому. Тут-то редакционная комиссия и извлекла из-под спуда старую славянофильскую формулировку: «власть над личностью крестьянина сосредоточивается в мире и его избранных... Помещик должен иметь дело только с миром, не касаясь личностей»33. Так оказалась заложена под здание постниколаевской России «мина» № 2.
I Глава шестая
Бюрократическое |ТоРжество национального эгоизма
иго
На первый взгляд, компромисс, достигнутый между самодержавием и дворянами, выглядел как триумф славянофилов. На деле, однако, было это лишь свидетельством, что и формальный их успех оборачивался полным поражением. Устранив помещика от непосредственного вмешательства в крестьянские дела, самодержавие, хоть и косвенным путем, учредило над ними свой собственный контроль. Институт «начальников мира», до глубины души возмутивший в свое время Аксакова, был, конечно, введен (в лице сельского старосты). Хуже того, подотчетен был этот староста на самом деле не миру, а волостному старшине, который, в свою очередь, был подотчетен административным органам министерства внутренних дел. Паспорта крестьянам выдавал теперь вместо помещика старшина. Такое вот получилось крестьянское самоуправление.
«Волость, - комментирует историк, - должна была взять на себя ту посредническую роль между крестьянами и правительством, которую домогались сохранить за собою помещики... Отклонив помещичьи вожделения, редакционные комиссии наложили на крестьянский мир бюрократическое иго»34. Над волостными старшинами стояли сначала мировые посредники, затем (с 1874 года) уездные присутствия по крестьянским делам - своего рода деревенский эквивалент райкомов партии, «непременные члены» которых были, как мы сейчас увидим, фактически начальниками волостей, - и,
Там же. С. 125.
Там же. Вып. 19. С. 140.
наконец, с 12 июля 1889 года, уже в ходе контрреформы Александра III, попросту земские начальники.
Дело дошло до того, что если мир имел суждения о предметах, его ведению не подлежащих (а подлежали его ведению, как мы знаем, лишь дела, касающиеся круговой поруки), то приговор его не только считался «ничтожным», но участники его предавались суду.
Ничего, таким образом, кроме названия, не осталось от славянофильской мечты о крестьянском самоуправлении. Постниколаевская Россия так же мало походила на Святую Русь, как Европа на придуманный ими образ «гниющего тела без души». Ничуть не лучше обстояло дело с «соборами» высших ступеней, уездными или губернскими, которым, как мы помним, тоже полагалось по славянофильскому катехизису быть полностью самоуправляющимися. Есть свидетельство сенатора Половцова, которому довелось присутствовать на съезде сельских обществ Борзенского уезда Черниговской губернии и который не сумел скрыть удивления тем, как вёл себя там «непременный член» уездного присутствия. Вот как описывал дело сенатор: «Непременный член на выборах сидел на председательском месте, принимал участие в совещаниях выборщиков, сам предлагал лиц баллотироваться в гласные, сам первый же себя записал в список, баллотировался и был избран»[62].
А вот что рассказывает о заседании губернского земства сенатор Мордвинов: «Большей частью в гласные избираются должностные лица, волостные старшины и волостные писаря, влиянию которых при обсуждении дел в земском собрании подчиняются остальные гласные от крестьян, опасаясь высказывать свои мнения и намерения»36. Подтверждает эту картину и славянофил Кошелев: «В собраниях гласные от крестьян почти никогда не брали на себя инициативу ни по какому делу... соглашались почти всегда с гласными из дворян; даже в уездных собраниях едва ли был где-либо пример, чтобы гласные из крестьян были все сообща мнения, противного мнению землевладельцев»[63]. Такое вот получилось suverainete du peuple...
Да и сами крестьяне оказались на поверку вовсе не теми самоотверженными коллективистами и приверженцами сельского мира, какими рисовались они славянофилам. Александр Энгельгардт, который был не только профессором, но и практикующим помещиком, попросту стёр с лица земли этот патриархальный образ. В своих знаменитых «Письмах из деревни», бестселлере 1870-х, этот авторитетнейший знаток сельской жизни так описывает славянофильских коллективистов: «У крестьян крайне развит индивидуализм, эгоизм, стремление к эксплоатации. Зависть, недоверие друг к другу, подкапывание одного под другого, унижение слабого перед сильным, высокомерие сильного, поклонение богатству - все это сильно развито в крестьянской среде. Кулаческие идеалы царят в ней, каждый гордится быть щукой и стремится пожрать карася. Каждый крестьянин, если обстоятельства тому благоприятствуют, будет самым отличнейшим образом эксплоатировать всякого другого, все равно крестьянина или барина, будет выжимать из него сок, эксплоатировать его нужду»[64]. И это пишет один из известнейших народников...
Если добавить, что прикрепление крестьян к общинам отчаянно тормозило экономическое развитие деревни, то картина крушения ретроспективной утопии будет завершена. В общинах происходило то же самое, что мы впоследствии увидим в колхозах (кроме разве что порки на конюшне. Уж поверьте мне. Так сложилась моя жизнь, что повидал я этих колхозов не меньше, чем Энгельгардт пореформенных крестьянских общин).
Как бы тд ни было, приехав хозяйничать в свое имение в Смоленской губернии через десятилетие после реформы, обнаружил Александр Николаевич, что если при крепостном праве пахалось у него в трех полях 163,5 десятины, в 1871 году обрабатывалось из них лишь 66, остальные 97,5 были запущены и заросли березняком. «Обработка земли производится еще хуже, чем прежде, - печально констатировал он, - количество кормов уменьшается, потому что луга не очищаются, не осушаются и зарастают; скотоводство же пришло в полный упадок ...проезжая по уезду и видя всюду запустение и разрушение, можно было подумать, что тут была война, нашествие неприятеля»39.
Право, трудно после всего этого не согласиться с историком, что после реформы «крепостные порядки в деревне держались, главным образом, благодаря заботливому сохранению коллективных форм быта, выработанных в свое время именно крепостным хозяйством для его надобностей»40.
Начать с открытого и гордого отвержения крепостничества и всего, что с ним связано, и закончить, способствуя его увековечиванию, - можно ли представить себе иронию более печальную? Что тут скажешь? Иначе, наверное, и не могла сложиться судьба средневековой утопии в XIX веке.
Глава шестая
«УП ПЭЗДН6НИ6 Торжество национального згоизма
славянофильства»?
Но если не везло старой славянофильской гвардии в делах домашних, то предсказания ее о роли России в мировой политике оправдывались еще меньше. «Загнивающая» Европа, пережив свой мучительный переходный период, вышла из клинча и стремительно рванулась вперед. Кончилось сбившее с толку Герцена (и славянофилов) «равенство рабства». Не понадобилось спасать Европу с помощью «свободного развития русского народного быта». Она спасла себя сама. А загнивала на самом деле самодержавная Россия.
Таково, по крайней мере, было главное открытие славянофильства второго призыва, его, можно сказать, «молодой гвардии». Если и впрямь хотела Россия оставаться верной самодержавию, то не свободу в ней следовало, подобно старой гвардии, проповедовать, а как раз напротив, «подморозить, чтобы она не гнила», как бесстрашно бросил ей в лицо Константин Леонтьев41. Не спасать Европу, а спа-
Там же. С. 2.
Там же. С. 12 (выделено мною-АЛ.).
саться от Европы. Не распространять приторные уверения, что «мысль всей страны сосредоточена в простом народе»42, а трезво и честно дать себе отчет в том, что «народ наш пьян, нечестен и ленив и успел уже привыкнуть к ненужному своеволию и вредным претензиям».43 Вот что проповедовали молодогвардейцы в пику «полулиберальным славянофилам неподвижного аксаковского стиля»44.
Со стороны этот жестокий конфликт между старой и молодой гвардиями мог показаться - и действительно показался - многим вполне проницательным наблюдателям предсмертной агонией славянофильства. Вот как понял его, например, Николай Михайловский, кумир народнической молодежи 1870-х. Славянофильство [оказалось] своего рода Антеем навыворот. Оно было сильно своей цельностью и последовательностью, пока висело в воздухе, в области отвлеченных теоретических положений, и разбилось - как только упало на землю, что по необходимости должно было случиться в эпоху реформы. Эпоха шестидесятых годов упразднила славянофильство»45.
Это, однако, поверхностное наблюдение. Михайловский, как впрочем, и многие его современники, так никогда и не понял, что параллельно политической деградации славянофильства беспрерывно росла идейная зависимость от него самых разных слоев российской публики. Какие еще нужны тому доказательства, если его собственная идея о судьбоносности крестьянской общины для будущего России была заимствована у того же «упраздненного» им славянофильства? Надо было находиться внутри мятущегося и стремительно трансформирующегося движения и вдобавок еще быть мыслителем масштаба Соловьева, чтобы проникнуть в суть того, что на самом деле происходило.
41 Леонтьев Н.Н. Собр. соч.: в 12 т. М., 1912-19. Т. 7. С. 121.
Теория государства у славянофилов (далее Теория). Спб., 1898. С. 39.
43 Леонтьев Н.Н. Собр. соч. Т. 7. С. 424.
ы Там же. Т. 6, с. 118.
45 Русская мысль. 1892. N 9. С. 160.
Ю Янов
Глава шестая
эгоизма
«(^брбДИНЫ Торжество национального эгоизма
А происходило вот что. Больше полустолетия, начиная
с Радищева, жила русская интеллигенция одной, но пламенной страстью. Отмена помещичьего рабовладения казалась ей ключом к новой жизни. В этом были едины декабристы и славянофилы, либералы и радикалы. Но вот, наконец, с непременным своим полувековым запозданием, самодержавие уступило. Эпохальное событие свершилось.
Но жизнь осталась прежней.
На самом деле тоталитарная идеология Официальной Народности, зачаровавшая поначалу столько интеллигентных умов, дала трещину уже при Николае. Уваровские гимны крепостному праву, «осенявшему и церковь и престол», понемногу сменялись общим убеждением, что рабовладение гибельно для страны. До такой степени общим, что зашевелилось и само правительство. Специальный комитет под руководством графа Павла Киселева потратил, как мы помним, много усилий, пытаясь облегчить положение государственных крестьян, и даже осмелился поднять вопрос об изменении статуса крепостных. Наткнувшись на яростное сопротивление консервативного дворянства, попытки эти, конечно, заглохли. Жесткие рамки уваровской триады, продолжавшей властвовать над бюрократическими умами, привели к параличу власти. Её дурная гротескность стала вдруг очевидна всем. Всевластное обожествленное государство предстало перед обществом бессильным банкротом.
И тогда произошло нечто необычайно важное. Отжившая идеология парадоксальным образом вдруг сплотила на краткий исторический миг страну. Точнее, сплотило её всеобщее презрение к «православию, самодержавию и народности», поставленным на службу рабовладению. Выглядело это, если угодно, как ранний аналог бушующего антикоммунизма, которому предстояло снова сплотить на мгновение Россию полтора столетия спустя, во второй половине 1980-х. И в обоих случаях едва отвалилась эта идеологическая скрепа, как стало ясно, что другой не было. Ничто больше не держало вместе безнадежно расколотую страну.
Добавим к этому, что крепостное право сменилось беспросветным крестьянским гетто; что худшие опасения либералов оправдались и крестьянин действительно превратился «из белого негра в батрака с наделом»; что мятущаяся интеллигентная молодежь в страстной и наивной надежде хоть как-то помочь обманутым массам устремилась «в народ» (и закончилось это лишь громкими процессами 193-х и 50-ти), тогда как кабинет его императорского величества оставался, по выражению Герцена, «бездарной и грабящей сволочью» - и мы получим картину семидесятых.
Короче говоря, петербургские мальчики начали стыдиться самодержавия, как раньше стыдились рабовладения. Оно было теперь в их глазах главным виновником всех язв, мучивших Россию: и ограбления крестьянства, и захлестнувшей страну дикой волны коррупции, и темноты народной, и общей постыдной отсталости державы. Опять, как в декабристские времена, винила российская молодежь во всех этих бедах именно то, что современные «национально-ориентированные» интеллигенты почтительно, как мы слышали, именуют православной государственностью, т. е. ту самую неограниченную власть, которая, по убеждению старой славянофильской гвардии (и ее нынешних эпигонов), как раз и была непременным условием «духовно-нравственного возвышения народа».
Так где же было место славянофильства в стремительно меняющейся стране, в которой никто больше не желал слышать ни о «возвращении в Московию», ни о «русской цивилизации», ни об историческом первородстве России? Теперь интеллигентная молодежь мечтала (как в 1820-е и как еще предстоит ей в очередной раз мечтать во второй половине 1980-х) о «чечевичной похлебке» Запада, о конституции и парламентаризме. Так где было место славянофильства в ситуации, когда все его прогнозы не сбылись, все пророчества не оправдались?
Как все романтики, славянофилы всегда презирали политику, почитали её изобретением западным, вредным, которому не место на Святой Руси. Но кризис-то, бушевавший в стране, был как раз политическим. Декабристы чувствовали бы себя в нем вполне уверенно. Так же, как либералы и «нигилисты» семидесятых, были они
совершенно убеждены, что страна их европейская и потому не может принадлежать никакому лицу или семейству, что неограниченная власть гибельна, а конституция императивна.
И вообще на новом витке исторической спирали модный в 1830-х романтизм, пленивший родоначальников славянофильства, оказался вдруг очевидным анахронизмом. Пришло время «новых людей». В моду опять вошли декабристский реализм и рациональность.
В этих условиях поведение родоначальников, превосходно усвоивших правила идейной борьбы во времена диктатуры, действительно выглядело нелепым. Невозможно оказалось и дальше сидеть на двух стульях, воспевая одновременно и свободу и самодержавие. Нельзя было больше одинаково ненавидеть и парламентаризм и душевредный деспотизм. Короче, прав был Константин Леонтьев: пробил час выбора - с кем ты и против кого. Время полулиберального славянофильства кончилось - вот что на самом деле в ту пору происходило в постниколаевской России.
Молодогвардейцы уже откровенно полагали себя единственными настоящими славянофилами, уверяя публику, что объяснили «сущность учения славянофилов лучше и яснее родоначальников этого учения»[65]. И если старая гвардия хотела оставаться на плаву, не дав молодогвардейству окончательно вытеснить себя из игры, ей приходилось выбирать. А выбор-то был невелик. Как сказал Иван Аксаков, «теперешнее положение таково, что середины нет - или с нигилистами и либералами, или с консерваторами. Приходится идти с последними, как это ни грустно»[66].
В условиях тогдашнего кризиса идти с консерваторами, т.е. с беззаветными защитниками российской сверхдержавности и реванша, могло означать только одно: славянофильству предстояла еще одна драматическая метаморфоза. Оно должно было превратиться в национализм - брутальный, экзальтированный, фанатический. Соответственно неприятие Европы уступало в нем место ненависти к ней, «неевропейский» язык менялся на яростно антизападный, откровенное национальное самообожание вытесняло безобидное
национальное самодовольство, сохранявшее еще, как мы видели, черты декабристской самокритики. И на обломках ретроспективной утопии на глазах вырастал монстр рокового для страны «бешеного» национализма.
Глава шестая
[\ РГОЭДЭиИЯ Торжество национального эгоизма
Но если подтверждалась правота Леонтьева, ошибался, стало быть, Михайловский. «Эпоха шестидесятых» так же не упразднила в России славянофильство, как и столетие спустя, в 1960-х, аналогичная полуреформистская эпоха не упразднила в ней социализм. В обоих случаях она лишь положила начало его деградации. Разница была, однако, в том, что если вырождение социалистической идеи шло в направлении от Официальной Народности к «человеческому лицу», то вырождение славянофильства происходило в направлении обратном. Из доблестного борца с Официальной Народностью оно обращалось в поборника её реставрации.
Мощь соловьевского предвидения в том, собственно, и состояла, что он угадал направление деградации славянофильства. Немедленно покинув его ряды, но не успев еще облечь свою догадку в отточенную формулу, он так отвечал своим критикам: «Меня укоряли в последнее время за то, что я, будто бы, перешел из славянофильского лагеря в западнический, вступил в союз с либералами и т.д. Эти личные упреки дают мне только повод поставить теперь следующий вопрос, вовсе уж не личного свойства: где находится нынчетот славянофильский лагерь, в котором я мог и должен был остаться?.. Какие научно-литературные и политические журналы выражают и развивают «великую и плодотворную славянофильскую идею»? Достаточно поставить этот вопрос, чтобы сейчас же увидеть, что... славянофильская идея никем не представляется и не развивается, если только не считать ее развитием те взгляды и тенденции, которые мы находим в нынешней «патриотической» печати. При всем различии своих тенденций от крепостнической до народнической, и от
скрежещущего мракобесия до бесшабашного зубоскальства, органы этой печати держатся одного общего начала - стихийного и безыдейного национализма, который они принимают и выдаютза истинный русский патриотизм; все они сходятся также в наиболее ярком применении этого псевдонационального начала - в антисемитизме»[67].
Читатель, сколько-нибудь знакомый с нравами современной «патриотической» прессы, не сможет избавиться от ощущения, что речь идет о газете Завтра или о журнале Молодая гвардия. Но Соловьев говорил, конечно, о Московских ведомостях, где Михаил Катков, иронизируя над «всякого рода добродетельными демагогами и Каями Гракхами», ликовал, что «пугнул эту сволочь высокий патриотический дух, которым мы обязаны польскому восстанию»[68]. Или о Варшавском дневнике, где царствовал Константин Леонтьев, задававший себе риторические вопросы вроде следующего: «Отчего же не донести на тех, которые даже исподволь потворствуют Ткачевым, Гартманам, Засуличам и т. д.?»[69].
Неотразимость сходства лишь в том, что язык «национального самообожания» не балует нас разнообразием. Он не зависит от времени и пространства, будь то в Гражданине князя Владимира Мещерского (1890-е), в Voelkischer Beobachter Альфреда Розенберга (1920-е) или в Нашем современнике Станислава Куняева (1990-е). Просто имеем мы здесь дело с универсальным международным кодом бешеного национализма. Во всех случаях неизменно состоял смысл этого кода в одном и том же: страна поднимается с колен после эпохального поражения. И все либеральные разговоры о неприличности доносов и вообще о гарантиях от произвола власти лишь отвлекают от судьбоносной задачи, мешают ей подниматься. Вот от этой роковой подмены национальных ценностей и пытался уберечь Соловьев своих бывших коллег из старой славянофильской гвардии.
Не уберег. В конце концов покинуть родной идеологический дом, где и стены помогают, ничуть не менее мучительное, надо полагать, предприятие, нежели эмигрировать из своей страны. И неудивительно, что большинство национал-либералов оказалось на это неспособно. Высоколобое меньшинство, главным образом интеллектуалы, протянет еще несколько десятилетий. Пусть на вторых ролях, пусть как рантье, доживающие век на дивиденды от капитала, нажитого первым поколением славянофилов с его декабристским наследством и «неевропейским» языком.
Это интеллектуальное меньшинство будет активным в земствах, в столичных кружках и в Религиозно-философском обществе, где «национально ориентированная» публика самозабвенно спорила о преимуществах русского мессианизма перед христианским эйкуме- низмом, о «философском национализме» и о новом религиозном сознании. Только жизнь и политика, в особенности международная политика, которой и предстояло в конце концов решить судьбу России, будет идти мимо них. Эта сфера станет вотчиной воинственного молодогвардейства, на глазах деградировавшего, как точно угадал Соловьев, в «стихийный и безидейный национализм». Знаменем его и впрямь станет ненависть к еврейству.
Конечно, еще и в 1890-е могли российские читатели услышать от генерала А.А. Киреева, возглавившего после смерти Ивана Аксакова обломки старогвардейского меньшинства, такие бравые пассажи: «Мессианистическое значение России не подлежит сомнению... Одно только славянофильство еще может избавить Запад от парламентаризма, анархизма, безверия и динамита»51. Ни у кого не оставалось сомнений, однако, что звезда этих людей закатилась уже безнадежно. Достаточно сравнить «мессианистическую» уверенность Киреева с рекомендациями славянофилов второго призыва, чтобы понять, насколько нелепо звучала она в эпоху, когда властителями националистических дум были уже Николай Данилевский и Константин Леонтьев.
Покуда, впрочем, мы все еще в 1870-х, Иван Аксаков жив и полон сил и уступать доставшееся ему по праву славянофильское наследство никаким молодогвардейским парвеню не намерен. Поэтому нам с читателем предстоит стать свидетелями жесточайшей
51 Цит. по: Трубецкой С.Н. Противоречия нашей культуры // Вестник Европы. 1894. N 8. С. 5Ю.
схватки между последними носителями неумолимо погружающейся в Лету ретроспективной утопии и ее будущими могильщиками, в том числе самым выдающимся ревизионистом национал-либерализма.
Глава шестая Торжество национального эгоизма
гвардия
Первое издание «России и Европы» Николая
Яковлевича Данилевского, опубликованное еще в 1869 году, прошло тогда практически незамеченным. Настоящую популярность книга приобрела лишь после националистической контрреформы Александра ill, когда правительство, как мы помним, возвело её в ранг официальной философии русской истории. (Книга рекомендовалась преподавателям гимназий в качестве настольного пособия.)
Но и в 1869-м Данилевский вовсе не намеревался, в отличие от Киреева, избавлять Запад от его недугов. Он откровенно этим недугам радовался. Ибо Европу он терпеть не мог и всю жизнь провёл в ожидании момента, когда она «опять обратится всеми своими силами и помыслами против России, почитаемой ею своим естественным, прирожденным врагом»52. Правда, Константин Николаевич Леонтьев был еще радикальней, предлагая не ожидать, покуда Запад «обратится против России», а самим обратиться против него, поскольку «разрушение западной культуры сразу облегчит нам дело культуры в Константинополе»53. Но Леонтьев заслуживает отдельного разговора.
Действительным основоположником славянофильского молодогвар- действа был, конечно, Данилевский (и сам даже Леонтьев, хотя и был лишь на восемь лет его моложе, охотно признавал себя его учеником).
Если классики славянофильства жили в мире религиозной метафизики и мистического мессианства, мечтая об обновлении Европы «живыми соками» Русской идеи, то, начиная с Данилевского, центральной темой, одушевлявшей второе поколение славянофилов, становится заимствованная у Официальной Народности геополити-
Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1871. С. 426. Цит. по: Вестник Европы. 1885. № 12. С. 909.
ка. С ним русский национализм окончательно становится не только вполне светской идеологией, но и единственным «производителем смыслов» для внешнеполитической ориентации страны.
Можно сказать, что Данилевский возродил николаевскую геополитику-только без ее двусмысленности, заставлявшей, как мы видели, идеологов Официальной Народности отчаянно метаться между охраной легитимных правительств от революции и откровенным стремлением к сверхдержавности. С Данилевским русский национализм сделал свой выбор. И был этот выбор в пользу старого николаевского «бронепоезда», простоявшего на запасном пути почти до самой Крымской войны (а после неё и вовсе, казалось, в пореформенном тумане растаявшего). Иными словами, если с тютчевской фантазией о «православном Папе в Риме» было покончено, то его же песнь о «всеславянском царе» становилась неофициальным гимном молодой гвардии (Данилевский даже сделал эти стихи эпиграфом к ключевой главе «России и Европы»).
Вкратце мысль его сводилась к следующему: «Будучи чужда европейскому миру по своему внутреннему складу, будучи, кроме того, слишком сильна и могущественна, чтобы занимать место одного из членов европейской семьи, быть одною из великих европейских держав, - Россия не иначе может занять достойное себя и Славянства место в истории, как став главою особой, самостоятельной политической системы государств и служа противовесом Европе во всей её общности и целостности»[70].
Выбор, как видим, был сделан в пользу сверхдержавности. По стопам Погодина (и опережая вождя старой гвардии Ивана Аксакова) Данилевский назвал свою «особую политическую систему» Всеславянским Союзом. Само собою разумеется, «под политическим водительством и гегемониею России».[71] Простираться эта новая сверхдержава должна была, по его замыслу, «от Адриатического моря до Тихого океана, от Ледовитого океана до Архипелага»56. Имея в виду гигантский географический размах, войти в неё, кроме славян,
«должны, волею или неволею, и те неславянские народности (греки, румыны, мадьяры), которых неразрывно, на горе и на радость, связала с нами историческая судьба, втиснув их в славянское тело»[72].
А поскольку «Турция и Австрия потеряли всякий смысл, [т.е.] умерли - и подобно всякому трупу, вредны в гигиеническом отношении, производя своего рода болезни и заразы»[73], их, естественно, придется с политической сцены, мягко выражаясь, устранить. Конечно же, такая «гигиеническая» операция предполагала тотальную войну с Европой. Но это обстоятельство Данилевского нисколько не смущает. Напротив, «продолжительная, многократно возобновляющаяся борьба с Европой ...посеет спасительное отчуждение от того, что идет от врагов и тем более заставит ценить и любить своё родное, исконно славянское»[74].
Весьма полезна была бы для хорошего дела и добротная, полноценная патриотическая истерия - в защиту, допустим, братьев-сербов или родных словаков. Поскольку «если бы такое отношение к чуждому европейскому и своему славянскому и перешло даже должную меру справедливости, перешло в исключительность и патриотический фанатизм, - то на время и это было бы в высшей степени благодетельно и целебно»[75].
^ ^ I Глава шестая
« НеизбежноСТЬ»? |ТоРжествонациональногозгоизма
Данилевский был совершенно, как мы помним, уверен, что сама история не позволит России уклониться ни от этой благодетельной и целебной истерии («патриотического фанатизма»), ни от войны с Европой. Ибо «рано или поздно, хотим мы или не хотим, но борьба с Европою неизбежна ...из-за свободы и независимости славян, из-за обладания Царьградом». И вообще «по мнению каждого русского, достойного этого имени [борьба эта], есть необходимое требование её исторического призвания»[76].
Он понимает, конечно, уязвимость своей позиции: «Нас обвинят, может быть, в проповеди вражды, в восхвалении войны»62. Но, защищается Данилевский, «такое обвинение было бы несправедливо: мы не проповедуем войны, мы утверждаем лишь, и не только утверждаем, но и доказываем, что борьба неизбежна, что хотя война очень большое зло, однако же не самое еще большее, - что есть нечто гораздо худшее войны, от чего война может служить лекарством, ибо не о хлебе едином жив будет человек»63.
И не дай бог России от этой войны уклониться. Поскольку в этом случае, как мы уже знаем, ей, «не исполнившей своего предназначения и тем самым потерявшей причину своего бытия, свою жизненную сущность, свою идею, - ничего не останется, как бесславно доживать свой жалкий век9 перегнивать как исторический хлам... распуститься в этнографический материал... даже не оставив после себя живого следа»64. Суровый, страшный, согласитесь, приговор: война или смерть!
| Глава шестая
КЭТбХ И 3 И С Торжество национального эгоизма
славянофильства»?
Я думаю, читатель уже может составить представление о том, как необозримо далеко ушла молодая гвардия от отцов-основателей славянофильства. Молодогвардейцам не было нужды доискиваться до исторических и метафизических причин отличия России от Европы: они с порога постулировали, что «Европа враждебна России». Молодогвардейцы не утруждали себя доказательствами религиозной избранности русского народа: военное могущество было для них более чем достаточным для этого основанием. Они не размышляли о спасении человечества светом православной идеи: сверхдержавность и была, по их мнению, Русской идеей. И следа не осталось у них от былой славянофильской одухо-
Там же. С. 320.
Там же.
Там же. С. 341 (выделено мною - А.Я.)
творенности и романтики, один сухой, чтобы не сказать бухгалтерский, расчёт: сколько и чего приобретёт Россия от нового своего сверхдержавного статуса.
Мы уже видели его образцы во второй книге трилогии. Повторю самые яркие. «Всеславянский Союз, - объяснял, например, Данилевский, - должен состоять из следующих государств:
Русской империи с присоединением к ней всей Галиции и угорской Руси.
Королевства Чехо-Мораво-Словакского ...приблизительно с 9 ооо ооо жителей и 1800 кв. миль пространства.
Королевства Сербо-Хорвато-Словенского ...с населением приблизительно 8 ооо ооо на 4500 кв. милях пространства.
Королевства Болгарского с Болгарией, большей частью
Румынии и Македонии с 6 ооо ооо или 7 ооо ооо жителей и с лишком 3000 кв. миль.
Королевства Румынского с Валахиею, Молдавией, частью Буковины и половиною Трансильвании ...Это составило бы около 7 ооо ооо населения и более 3 ооо кв. миль.
Королевства Эллинского ...приблизительно 2800 или 3000 кв. миль и с населением с лишком 4 ооо ооо жителей.
Королевства Мадьярского, т.е. Венгрии и Трансильвании, за отделением тех частей их, которые должны отойти к России, Чехии, Сербии и Румынии ...приблизительно с 7 ооо ооо жителей и около 3 ооо кв. миль пространства.
Царьградского округа с прилегающими частями Румынии и Малой Азии, окружающими Босфор, Мраморное море и Дарданеллы ...приблизительно с 2 ооо ооо народонаселения.
Такой союз, по большей части родственных по духу и крови народов, в 125 миллионов свежего населения, получивших в Царьграде естественный центр своего нравственного и материального единства, - дал бы единственно полное, разумное, а потому и единственно возможное решение Восточного вопроса»65.
Надеюсь, читатель простит мне длинную цитату. Просто она, как ничто иное, представляет нам возможность проникнуть в эту полубезумную «бухгалтерию» сверхдержавной мегаломании молодогвар- действа: «волею или неволею» включим в свой Союз славянские да и неславянские народы, у того отнимем, тому прирежем землицы, сами ввяжемся и их втравим каким-то образом в войну с Европой - и даст бог, задавим ее одной уже своей массой. (Впрочем, что именно считал Данилевский «свежим», т. е. по общепринятой терминологии заново приобретенным населением своей нововизантийской империи, так до сих пор и остается тёмным. Ибо население всех сконструированных им королевств составляло даже по его собственным подсчетам лишь 44 миллиона. Как бы не пришлось покрывать дефицит - 8о все-таки миллионов! - за счет Запада.)
Не совсем также на первый взгляд понятно, что общего у этого геополитического счетоводства с пусть странной, пусть средневековой, но все же вдохновенной утопией отцов-основателей славянофильства. Но вот Н.Н. Страхов, главный в постниколаевской России пропагандист молодогвардейства (и, понятное дело, один из самых яростных оппонентов Владимира Соловьева), именно книгу Данилевского считал настоящим «катехизисом славянофильства»66. И у постсоветского ее издателя, петербургского профессора А.А. Галактионова тоже нет ни малейших сомнений, что «Данилевский по своим убеждениям ...принадлежал к славянофильскому направлению в русской общественной мысли»67. Да и вообще, говорит он, почвенники (так почему-то модно называть в постсоветской литературе молодогвардейцев) - «преемники идей родоначальников славянофильства». Мало того, считает Галактионов, именно они «придали более четкую политическую определенность программе Хомякова и Киреевского»68.
Само собой профессор Галактионов в высшей степени сочувствует Данилевскому, видит в нём классика «здорового русского национализма», который он, в противоположность Соловьеву, считает «естественным проявлением патриотизма»69. Единственное, что оста-
Там же. С. XVII.
Там же. C.VII.
Там же. С. XVI.
ется не совсем понятным, это усматривает ли профессор вслед за Данилевским патриотическую обязанность россиян в том, чтобы воевать с Европой «во всей её общности и целостности» за ново-византийскую империю России. Атакже то, как относится он к геополитическому счетоводству Данилевского, расчитывавшего, как мы видели, на приобретение в результате этой войны «125 миллионов свежего населения». Несмотря даже на то, что по-прежнему неясно, как именно намеревался он покрывать дефицит в 8о миллионов. В конце концов Галактионов поручился читателю за то, что книга Данилевского «актуальна даже сейчас в ходе очередного витка социального и национального переустройства Европы и России»70. Надеюсь, его студенты зададут ему эти вопросы.
Как бы то ни было, нам нет необходимости полагаться в таком серьёзном деле лишь на суждения Страхова или Галактионова. У нас есть сколько угодно документальных свидетельств, не оставляющих ни малейших сомнений в том, что и прямые наследники классиков славянофильства заняли в 1870-е позиции почти неотличимые от воинственной риторики Данилевского. Надо полагать, у русского национализма действительно не было в это десятилетие другого способа выжить, нежели трансформироваться в идеологию войны и нововизантийской империи. Так или иначе, они старательно воспроизводили погодинский поворот политики ненавистного им Николая.Видимо, крымская катастрофа и в еще большей степени утрата Россией сверхдержавного статуса оказались для старой гвардии шоком почти невыносимым. И это едва ли удивительно. Подумайте. Хомяков или Киреевский так же, как в наши дни, скажем, Проханов или Михаил Леонтьев, прожили жизнь в сознании незыблемости военного превосходства России. Им и в голову не могло прийти, что в один прекрасный день все это сверхдержавное всемогущество может рассыпаться в прах вместе с ненавистной им Официальной Народностью.
А их наследникам пришлось с этим унижением жить.
В таких условиях возникновение фантомного наполеоновского комплекса или, как модно сейчас говорить «восстание державы с колен», было, как мы уже знаем из французской и германской истории, практически неизбежно. Можно сказать, что все славянофильское молодогвардейство и порождено-то было этой жгучей неутихающей ностальгией по утраченной сверхдержавное™. Естественно поэтому, что в постниколаевской России на смену ретроспективной утопии должна была прийти мечта о грядущем восстановлении сверхдержавного статуса, так же отчетливо пронизывающая книгу Данилевского, как и сегодняшние телевизионные пятиминутки ненависти какого-нибудь Алексея Пушкова. Или, как деликатно выражается проф. Галактионов, «славянофильство он представил обращенным в будущее, а не как уходящее, вырождающееся и умирающее»71.
Другое дело, что мечте этой суждено было принести гибель петровской России, национальную катастрофу, неизмеримо более тяжелую, нежели крымская. 1917-й окончательно решил спор между Страховым, превозносившем «безупречность» Данилевского, и Соловьевым, который назвал его книгу «литературным курьёзом», обвинив автора в «узком и неразумном патриотизме». Но решится этот спор лишь поколение спустя, а в 1870-е судьба русского национализма решалась совсем другим спором - между старой и молодой гвардиями славянофильства.Нет, наследники рестроспективной утопии отнюдь не намеревались сдаваться без боя. Как раз напротив, в их глазах и Данилевский и Леонтьев были не более, чем самозванцами, пытавшимися присвоить идейное наследство славянофилов. Естественно, с другой стороны, что и молодогвардейцы, в свою очередь, считали обломки старой гвардиц всего лишь замшелыми эпигонами отцов-основателей, давно утратившими какое бы то ни было представление о реальности.Так или иначе, однако, конкуренция за славянофильское идейное наследство разгорелась в 1870-е нешуточная. Ясно было одно: не адаптировавшись к новым настроениям «встающей с колен» публики, старая гвардия просто выпала бы из игры.
Как и предвидел Соловьев, она адаптировалась.
Глава шестая
(( Г1 Q D Q Q QT Торжество национального эгоизма
на Германы»
На практике, увы, адаптироваться означало переродиться. И притом самым драматическим образом. Оттого и горевал Иван Аксаков. Но пути назад, к благословенным временам национал-либерализма, к утраченной невинности ретроспективной утопии уже не было.
При всех натяжках и противоречиях этой утопии, при всём средневековом её характере, справедливость требует признать, что создатели её от сверхдержавной болезни были за немногими исключениями свободны. Вожделения николаевских идеологов они не только презирали - они их игнорировали. Брезговали их суетностью, их дикими амбициями. Мечты Тютчева о «похищении Европы» и о «православном Папе» казались им кликами варвара под стенами осажденного Рима. За исключением платонического сочувствия порабощенным Турцией и Австрией соплеменникам, своей внешней политики у родоначальников славянофильства не было. Для молодогвардейцев же, как мы видели, во главе угла стояла именно она. Им не было нужды перерождаться. Они родились с ностальгией по сверхдержавности. И конкурировать с ними, не перехватив у них «патриотическое» знамя, не отбросив, стало быть, брезгливости отцов-основателей, было невозможно.
Читатель, надеюсь, не забыл еще, как жестоко посмеялась история над наследниками ретроспективной утопии, когда, начав с гордого отвержения крепостничества, обнаружили они себя вдруг пособниками его увековечивания, и либеральный бюрократ Столыпин оказался в конце концов Немезидой славянофильства. Но еще более печальная ирония заключалась в их прыжке в геополитику. Логически рассуждая, ничего особенно неожиданного в нем, впрочем, не было. Что еще оставалось им делать, если дома почва уходила у них из-под ног и единственно живой из всех некогда знаменитых тем утопии оказалась тема, периферийная для отцов-основателей: судьба братьев-славян?
Удивляться ли тому, что славянофильство превратилось в панславизм и Аксаков заговорил вдруг языком Данилевского? «Пора догадаться, - вещал он теперь, - что благосклонность Запада мы никакою угодливостью не купим. Пора понять, что ненависть, нередко инстинктивная, Запада к православному миру происходит от иных, глубоко скрытых причин; эти причины - антагонизм двух противоположных духовных просветительных начал и зависть дряхлого мира к новому, которому принадлежит будущность»[77].
Но, с другой стороны, один на один с «дряхлым миром» России, как показал опыт Крымской войны, было не совладать. Выход из этого неудобного положения, который предложил Аксаков, был ничуть не оригинален. В особенности для «нового мира, которому принадлежит будущность». Как некогда Ивану Грозному и совсем недавно императору Николаю, Аксакову предстоял свой «поворот на Германы».
На практике означало это: по старой славянофильской привычке искать будущее в прошлом - обратиться к идеям николаевского лейб-геополитика Михаила Погодина. Помните, как тот сладострастно высчитывал, сколько «нас» и сколько «их», и размышлял, «что выйдет, если к российским 6о миллионам да прибавить еще 30 миллионов братьев-славян, рассыпанных по всей Европе, и вычесть это количество из Европы?» Не мог, однако, Аксаков, в отличие от Данилевского, забыть, что все эти геополитические восторги ничего, кроме крымского позора, России не принесли - он-то был живым свидетелем этого позора.
Но так далеко уже зашел он в своем «повороте на Германы», что и воспоминания о катастрофе не удержали его от панславистского соблазна. Трудно поверить, но был он теперь совершенно убежден, что вовсе не отмена крепостного права и не Великая реформа способны были приблизить страну к славянофильскому идеалу, но всё тот же Всеславянский Союз. Таков, полагала теперь старая гвардия, единственный путь к возрождению московитской Атлантиды. Единственный, поскольку без него невозможно, с её теперешней панславистой точки зрения, положить раз и навсегда предел интригам и коварству Европы и начать выращивать славянофильское будущее-прошлое в России.
Европа, и в особенности «Иуда-Австрия», которая не только предала Россию в 1854 году, но и оказалась «самым коварным врагом славянства», поработившим его культурнейшую центральноевропей- скую ветвь, почиталась теперь врагом № 1. Ибо «вся задача Европы состояла и состоит в том, чтобы положить предел материальному и нравственному усилению России, чтобы не дать возникнуть новому миру - православно-славянскому, которого знамя предносится единою свободною славянской державой Россией и который ненавистен латино-германскому миру»73. Вся и разница с сегодняшними властителями националистических дум в том. что они назвали бы этот ненавистный мир «англо-саксонским»)
«Россия
Глава шестая Торжество национального эгоизма
сосредоточивается»
В первое десятилетие после него ситуация в России складывалась, однако, совсем неблагоприятно для новорожденной славянофильской геополитики. Не зажили еще раны николаевского «поворота на Германы». Петербургский внешнеполитический истеблишмент, и в особенности возглавивший его после войны князь Александр Горчаков, не были готовы к такому повороту. То есть жил князь, конечно, тоже мечтой о реванше за Крым, которую и выразил знаменитой, по сей день восхищающей российских геополитиков фразой: «Россия сосредоточивается». Но в отличие от старой славянофильской гвардии, он понимал, что сверхдержавой России больше не быть. По крайней мере, при его жизни. И поэтому о реванше военном и мечтать нечего.
Короче, так незаметно для самого себя и вроде бы даже вполне органично перерождалось невинное «национальное самодовольство» славянофилов в сверхдержавный соблазн. И, естественно, в жажду военного реванша за крымское поражение.
Вообще Горчаков заслуживает отдельного разговора. Хотя бы потому, что современные «встающие с колен» интеллигенты в Москве неожиданно сделали его своим кумиром. И действительно, он вполне мог бы претендовать на авторство пассажа Подберезкина, опубликованного в 1996 году: «Убежден, что нашей главной внешнеполитической задачей является создание условий для того, чтобы в сжатые исторические сроки восстановить, в том числе и в территориальном смысле, великое Российское государство». Разница лишь в том, что наш современник, естественно, говорит «в рамках тех границ, которые существовали до 1991 года»74, а Горчаков сказал бы «до 1853 года». Подберезкин, между прочим, сходства этого и не думает скрывать. Уже на следующей странице добавляет он, что «в этой связи мне хотелось бы вспомнить великого русского дипломата, канцлера Александра Михайловича Горчакова, который во многом в сходной ситуации провозгласил аналогичные цели»75.
И Зюганов, ясное дело, туда же: «После унизительного поражения России в Крымской войне... среди политической элиты нашелся мудрый человек - канцлер А. Горчаков, друг Пушкина по лицею, удивительно цельный и любивший отечество политик. Он выдвинул гениальный принцип восстановления поруганной российской державы: «Россия сосредоточивается»76.
Интересно далее, что Подберезкин с Зюгановым тоже, подобно Горчакову 1860-х, стоят за мирный реванш (умалчивая, впрочем, что кончилось дело при Горчакове всё-таки войной и новым унизительным поражением России, не менее зловещим по своим последствиям, чем крымская катастрофа). Само собою разумеется, что о главных вопросах, связанных с тогдашней внешнеполитической ситуацией в России, они вообще предпочитают не упоминать, чтобы, надо полагать, не пришлось отвечать на неудобные вопросы.
В самом деле, как получилось, что николаевская Россия, тогдашняя сверхдержава, оказалась вдруг «поруганной» и потерпела «унизительное поражение»? И от кого? Не от «дряхлого» ли мира? Не от
Подберезкин А. Русский путь. М., 1996. С. 51.
Там же. С. 53.
Зюганов ГА. За горизонтом. Орел. 1995. С. 7.
безнадежно ли «гниющей» Европы? Еще тщательнее обходят они вопрос о том, к чему же в действительности привели Россию «гениальный принцип» и маниакальная жажда реванша «великого русского дипломата». Имеет поэтому смысл нам самим в этом разобраться.
Начнем с того, что поначалу, как мы уже говорили, политика Горчакова очень раздражала тогдашних «национально ориентированных». Дело в том, что их панславистские идеи не фигурировали в ней вовсе. Как раз напротив, основывалась она на тесной дружбе с ненавистной славянофилам Турцией (а стало быть, на предательстве балканских славян) и на «Тройственном союзе», включавшем, естественно, кроме Пруссии, и «самого коварного врага славянства», Австрию. Но и помимо славянофильского негодования, даже просто с точки зрения национальных интересов страны, выглядело горчаковское «сосредоточение России», скорее, парадоксально. С головой выдавая султану вчерашних союзников и подопечных, в особенности греков, которых Россия, как мы помним, уже столько раз предавала в прошлом, она, конечно, не укрепляла свое влияние на Балканах.Куда хуже, однако, было то, что во имя сиюминутных выгод Горчаков, ослепленный жаждой реванша, всемерно способствовал созданию долговременного смертельного антагониста России, несопоставимо более опасного, нежели все её вчерашние противники. Обязавшись охранять тыл и фланги Пруссии во время её войны с Францией в 1870 году, Горчаков таким образом несёт ответственность за возникновение на русской границе могущественной военной империи, Второго Рейха. А между тем одного княжеского слова было достаточно, чтобы этого не произошло. Во всяком случае в 1875 году, когда Бисмарк готовил новую карательную экспедицию против той же Франции, слова такого оказалось и впрямь достаточно, чтобы её предотвратить.Однако в момент, когда решалось быть или не быть бисмарков- скому Рейху, летом 1870 года, мир от России не услышал ни звука. Более того, она активно тогда Бисмарку помогала. Американский исследователь внешней политики России А. Лобанов-Ростовский, вполне сочувствовавший Горчакову, не мог, однако, не заметить, что
( во время франко-прусской войны Россия действительно обеспечила Бисмарку главное: нейтралитет Австрии и Италии. В дополнение, конечно, к собственному дружественному нейтралитету, В частности, пишет он, «тень Петербурга по сути определила решения Флоренции [первой столицы только что воссоединенной Италии]»[78]. Но об этой роковой ошибке Горчакова нам еще предстоит поговорить.
Глава шестая Торжество национального эгоизма
«сосредоточения»
Самым унизительным из пунктов s Парижского договора 1856 года, подведшего итог Крымской войне,
было, как мы помним, запрещение России иметь на Черном море военный флот. Вокруг отмены этого пункта и крутилась, собственно, на протяжении полутора десятилетий вся её внешняя политика. Для того и флиртовал Горчаков поочередно то с Францией, то с Турцией, то с Германией. Но если флирт с Францией привел лишь к тому, что черногорцы и сербы заговорили вдруг по-французски охотнее, чем по-русски, то флирт с Турцией требовал жертв куда более ощутимых. Хотя бы потому, что и она, подобно России, была тогда евразийской империей и главный её интерес состоял в том, чтобы держать в повиновении православные народы Балкан. Во имя черноморского флота Россия соглашалась ей в этом содействовать. Славянофилы могли сколько угодно объявлять такую политику Горчакова бессовестным предательством единоверцев. Но в 1860-е, покуда их романтическое негодование не совпало неожиданно с вполне прагматическими планами германского канцлера Отто фон Бисмарка, никто их не слушал. Письма Горчакова турецкому султану один к одному напоминали аналогичные поклоны графа Каподистрия при Александре I, знакомые нам по второй книге трилогии. Вот пример: «Уже много лет, - писал в Константинополь Горчаков, - мы не переставали твердить христианским народам под владычеством султана, чтобы они терпели, доверяясь добрым намерениям своего государя.
Мы предложили начало невмешательства во внутренние смуты Турции, твёрдо обязавшись держаться этого Принципа»78.
На практике означало это следующее. Когда во второй половине шестидесятых вспыхнуло восстание на Крите, которое было, конечно же, логическим продолжением греческой революции 1820-х, Россия активно помогала султану справиться с восставшими греками. Именно по её инициативе созвана была конференция великих держав, предъявившая ультиматум Греции и потребовавшая от неё не допускать «образования на своей территории вооруженных банд для нападения на Турцию и вооружения в греческих гаванях судов, предназначенных содействовать каким-либо способом попытке восстания во владениях султана»79. Восставшие критяне оказались изолированы и были, естественно, раздавлены турецкой карательной экспедицией. И это повторялось во всех случаях, когда волновались православные подданные султана.
Конечно, Парижский договор запрещал России покровительство балканским единоверцам. Но ведь он ни в какой мере не предписывал ей содействовать их подавлению. А делал-то Горчаков именно это.
Самым удивительным, однако, было совсем другое. Принеся неисчислимые жертвы во имя черноморского флота, Россия, как оказалось, даже и не намеревалась его строить. Во всяком случае, когда нужда в нём и впрямь возникла (во время русско-турецкой войны в конце 70-х), у России по-прежнему не было на Черном море ни единого военного корабля. В результате ей пришлось вести войну наспех вооруженными коммерческими судами. И Парижский договор был тут совершенно ни при чем. Его отменили еще в 1871 году.
Впрочем, история его отмены столь красноречиво говорит нам как о посткрымском «сосредоточении России», так и о фантастической бездарности всей реваншистской политики Горчакова, что заслуживает отдельного обсуждения.
Глава шестая Торжество национального эгоизма
Горчакова
В начале шестидесятых Бисмарку случилось быть прусским послом в Петербурге. И так очаровал он российский внешнеполитический истеблишмент, что на протяжении всех десятилетий своего канцлерства оставался для него persona gratis- sima.
Так или иначе он, признанный гроссмейстер международной интриги, советовал Горчакову поставить Европу перед фактом. Просто начать строить флот на Черном море и подождать, покуда Россию спросят, что происходит. Тем более, что и спрашивать-то было в тот момент особенно некому.
С Турцией, главной заинтересованной стороной, отношения оставались, как мы помним, самыми приятельскими. Франция так глубоко увязла в итальянских делах, что ей было не до Черного моря. У Англии сухопутных сил не было. Австрия оказалась втянутой в конфликт и с Францией (вышвыривавшей её из Италии), и с Пруссией (вышвыривавшей её из Германского союза). Короче, покуда державы успели бы разобраться со своими собственными делами, черноморский флот и впрямь мог стать свершившимся фактом - задолго до 1871 года.
Но его-то, как мы теперь знаем, Россия и не строила. Не в нём было дело. Горчаков жаждал дипломатического реванша, а не флота. Нужен ему ^ыл символический жест, демонстративное отвержение унизительного документа. Стукнуть кулаком по столу, да так, чтобы Европа смолчала и утерлась - вот о чем мечтал князь.
Депеша
Но такое могло произойти лишь в одном случае: если буря разразится в Европе и внезапно обрушится какая-нибудь из великих держав. А лучше бы всего - хранительница Парижского трактата Франция. Короче, нужно было Горчакову, чтобы соотношение сил в Европе изменилось драматически и необратимо. Никто, кроме Бисмарка, не мог ему преподнести такую международную драму. Конечно, это означало, что на месте «чисто и исключительно оборонительной комбинации германских государств» возникнет грозный военный Рейх[79]. (Я цитировал самого Горчакова.) Но игра, по его мнению, надо полагать, стоила свеч.
Тут уместно сказать несколько слов о действительной цене горча- ковского реванша. На протяжении пятнадцати лет после Парижского договора только и делала Россия, что «сосредоточенно» готовила беду на свою голову. Мало того, она, как деликатно заметил еще в начале XX века французский историк, неосмотрительно «согласилась на такое потрясение Европы, которое должно было заставить её... вооружаться так, как ей никогда еще не приходилось»[80]. Дважды в XX столетии вторгнется Германский Рейх в ее пределы, и лишь ценою неисчислимых жертв и крайнего напряжения всех своих ресурсов сможет она отстоять свою национальную независимость. Говоря словами Талейрана, то, что натворил Горчаков, было больше, чем преступление. Это была историческая ошибка. И последствия её были чудовищными.
Все это, впрочем, лишь предисловие ктому грандиозному всеевропейскому скандалу, который вызвала его депеша, разосланная всем державам-участницам Парижского договора в разгар франко- прусской войны. Смысл ее состоял в том, что поскольку одни лишь ленивые не нарушают международные договоры вообще и Парижский в частности, то Россия больше не считает себя связанной его условиями. «По отношению к праву, - писал Горчаков, - наш августейший государь не может допустить, чтобы трактаты, нарушенные во многих существенных и общих статьях своих, оставались обязательными по тем статьям, которые касаются прямых интересов его империи; по отношению же к применению его императорское величество не может допустить, чтобы безопасность России была поставлена в зависимость от теории, не устоявшей перед опытом времени, и чтобы эта безопасность могла подвергнуться нарушению вследствие уважения к обязательствам, которые не были соблюдены во всей их целостности»82.
Это был, конечно, вздор. Тот же Горчаков всего лишь четыре года назад и в столь же категорической форме настаивал, что изменения в международных договорах недопустимы без согласия всех заинтересованных сторон. Французский историк бесстрастно констатирует: «Эта бесцеремонная отмена договора, вошедшего в публичное европейское право, была плохо принята в Вене, в Риме и особенно в Лондоне»83. Но даже для циничнейшего из европейских политиков, безоговорочно к тому же поддерживавшего Россию, это был скандал. «Обыкновенно думают, - писал по этому поводу Бисмарк, - что русская политика чрезвычайно хитра и искусна, полна разных тонкостей, хитросплетений и интриг. Это неправда. Она наивна»84.
Заканчивалась, однако, грозная горчаковская депеша лишь требованием скромнейшим: «Его императорское величество не может больше считать себя связанным обязательствами Парижского договора, поскольку они ограничивают права его суверенитета на Черном море»85. То есть опять все свелось к тому же несуществующему черноморскому флоту. Гора, можно сказать, родила мышь. Бисмарк советовал рубить под корень: отказаться от договора - и баста. В этом случае, заметил он, России были бы благодарны, если б она потом уступила хоть что-нибудь. Иначе говоря, стукнуть-то Горчаков кулаком по столу стукнул, но сделал это глупейшим образом. Новое унижение России было неизбежно.
Европа единодушно взорвалась негодованием (Англия даже угрожала разрывом дипломатических отношений.) Но и Пруссия с Турцией, такие вроде бы друзья, и те присоединились к общему хору. Пришлось согласиться на международную конференцию по пересмотру Парижского трактата. «Мы открываем дверь для согласия, - писал Горчаков своему послу в Лондоне, - мы открываем её даже настежь, но мы можем пройти в неё только под условием - не наклонять головы»86. Имелось в виду, что депешу мы не аннулируем ни при каких обстоятельствах.
История XIX века. Т. 6. С. 98.
HR Вып. 22. С. 108
История XIX века. Т. 6. С. 98.
Европа, однако, была неумолима. Она требовала конференции без всяких предварительных условий. Пришлось-таки наклонить голову, согласившись вдобавок снести публичную выволочку лондонской конференции 1871 года, постановившей, что «державы признают существенным началом международного права то правило, по которому ни одна из них не может ни освободиться от договора, ни изменять его постановлений иначе, как по согласию всех договаривающихся сторон»87. И словно бы всего этого было мало, право открывать проливы для военных судов других держав предоставлялось исключительно султану. А это означало, что в случае конфликта с Турцией российский флот неизбежно будет сведен до положения озерного, практически заперт в Черном море. «Мы оказались более турками, чем сами турки», - с горечью заметил царь, подводя итог горчаковскому «сосредоточению России». Вот же на самом деле к чему привел страну «гениальный принцип».
Глава шестая Торжество национального эгоизма
Всеславянского Союза
Для славянофилов вся эта непрерывная череда
унижений была последним доказательством, что дальше так продолжаться не может. Только Всеславянский Союз под эгидой России и со столицей в Царьграде способен будет поставить, наконец, зарвавшийся «дряхлый мир» на подобающее ему место. И если создание такого Союза требует взорвать давно уже сгнившую Порту и расчленить «самого коварного врага славянства» - значит быть посему. И тут наши панслависты опять - в который уже раз - полностью совпали с молодогвардейцами. Те ведь тоже, как мы помним, считали, что Турция и Австрия «умерли и, подобно всякому трупу, вредны в гигиеническом отношении». Так или иначе, не флиртовать поэтому следовало с турками и австрийцами, как делал Горчаков, а воевать с ними. Опять, короче говоря, крестовый поход.
Но как развернуть лицом к Константинополю замшелый петербургский истеблишмент, у которого, если помнит читатель, были совсем другие заботы? И как убедить кандидатов во Всеславянский Союз, к которым причислялись - опять же, как у молодогвардейцев, - и греки, и румыны, и даже венгры, не говоря уже о черногорцах и сербах, что они и впрямь идут на смену «дряхлому миру», если только согласятся перейти под начало православного самодержца? Трудности тут были невообразимые.
Начать с того, что соплеменники вовсе не считали Запад «дряхлым миром». Точно также, как российская молодежь, стремились они перенять у Запада всё, что возможно. Аксаков и сам мог в этом убедиться, когда в i860 году, в пору краткого флирта с Францией, ездил в качестве представителя только что созданного тогда в Москве Славянского благотворительного комитета в единоверную и единоплеменную Черногорию. Её хозяин князь Данило к тому же был всем обязан России, так что где-где, но уж в его-то дворце русское влияние должно было, казалось, преобладать. На деле же, как огорченно признавался Аксаков, «на самой видной стене гостиной красовались в богатейших золотых рамах портреты во весь рост Наполеона III и императрицы Евгении. Портрета русского императора мы не заметили». За обедом «вокруг меня раздавался французский язык, сидели мы за столом, изготовленным французским поваром и сервированным французским метрдотелем, и разговор шел большей частью о Париже»88.
В 1867 Г°ДУ в Москву на славянскую этнографическую выставку, организованную аксаковским комитетом, съехались литераторы и ученые из всей Восточной Европы. В их честь давались банкеты, рекой лилось шампанское, и в тостах за кровное родство и славянское братство не было недостатка. Делегаты жаловались на только что совершившуюся «дуализацию» Австрийской империи (отныне она будет называться Австро-Венгрией). Они боялись «двойного немецко-мадьярского ига». Для московских организаторов момент, напротив, выглядел идеальным. Если бы можно было договориться со славянской интеллигенцией о будущей Федерации (на обломках
Австро-Венгрии), это стало бы первым шагом к Всеславянскому Союзу. Но договориться не удалось.
Первая загвоздка оказалась в поляках. Для Аксакова они, как мы уже знаем, были тем же, что четверть века назад для Тютчева, т.е. «верными прихвостнями Западной Европы и латинства, давно изменившими братскому союзу славян»89. Как ни нуждались в российской поддержке чехи, но эту позицию, к чести своей, отвергли они с порога. С их точки зрения, Федерацию следовало начинать именно с поляков. Переговоры с тюремщицей Польши о свободном союзе казались им бессмысленными. Впрочем, по части латинства и сами они были у славянофилов под подозрением.
И потому второй загвоздкой стала религия. Конечно, для Аксакова, который вел себя с бесшабашностью нашего современника Александра Лукашенко, проблемы тут не было: «Мы не видим никакой причины, почему, пользуясь свободой вероисповедываний, ограниченной конституцией, не могли бы те из славян-католиков, которые разделяют наш образ мыслей, отречься от латинства, присоединиться к православию... и воздвигнуть православные храмы и в Праге, и в Берне, и в прочих латинских местах»90.
Но в конституции-то третья непреодолимая загвоздка как раз и состояла. Для чехов она разумелась сама собою, хотя славянофилы, призывавшие их воспользоваться конституцией Австро-Венгрии, страстно отрицали её в будущей славянской Федерации. Еще хуже, однако, было то, что грешили по этой части и сербы. Не успели они добиться независимости, как тотчас завели у себя «скупщину», которая как две капли воды напоминала Аксакову «какое-то жалкое европейское представительство». И вообще «Сербия или, лучше сказать, её правительство, постаралось поскорее перенять внешние формы европейской гражданственности»91.
Не было у панславистов решения этого рокового противоречия. Ничего себе «православный мир», половина которого состоит из «прихвостней латинства»! (Заметим в скобках, что молодогвардей-
Там же. С. 109.
Там же. С. 46 (выделено мною. - АЯ.).
цев - в чём и состояло их главное преимущество - эта проблема нисколько не смущала. Племенное родство и геополитика были для них несопоставимо важнее веры.) Но с другой стороны хорош Всеславянский Союз, одна часть которого клянётся самодержавием, а другая неудержимо тяготеет к «европейской гражданственности». Короче, геополитические перспективы старой гвардии (да и молодой тоже) выглядели ничуть не лучше домашних.
I Глава шестая
Н еожиданн ые |торжествонациональногоэгоизма союзники
Еще сложнее, однако, складывались их отношения с петербургским истеблишментом. Царь и слышать не желал о новой войне. Министерство финансов уверяло его, что война означала бы государственное банкротство. Министерство иностранных дел, со своей стороны, объясняло славянофилам, что война с турками вопреки Европе привела бы лишь к повторению крымской катастрофы. Едва австрийские корпуса появятся на фланге русской армии, продвигающейся к Константинополю, придется бить отбой, как в 1854 году. Без согласия «самого коварного врага славянства», стало быть, о войне за освобождение славян и думать нечего.
А согласие Австрии означало не только предательство централь- ноевропейских «братьев». За него пришлось бы платить и независимостью «братьев» балканских. Например, в обмен на нейтралитет пришлось бы разрешить австрийцам оккупировать Боснию и Герцеговину. Так делалась тогда большая европейская политика, в которой славянофилы смыслили так же мало, как и в политике российской (только услуги Горчакова в 1870 году не стоили Бисмарку ничего).
И никогда бы не сломить им эту вязкую бюрократическую инерцию, когда б не пришли неожиданно на помощь два обстоятельства, кардинально менявшие всю картину. Ни одно из них, правда, не имело ничего общего с их расчетами на сотрудничество «братьев славян». Более того, если бы они хоть на миг заподозрили, каких
именно союзников уготовила им судьба, то, быть может, и вовсе отказались бы от всего панславистского предприятия. Ибо с такими союзниками не могло оно не закончиться новым глубочайшим унижением России. И на этот раз принести его стране суждено было не николаевским геополитикам, а пламенным патриотам.
Главо шестая Торжество национального эгоизма
Бисмарка
Чтобы утвердиться в новом статусе
европейской сверхдержавы, Второму рейху требовалась крупная дипломатическая победа. Канцлер его уже заявил изумленной Европе, что она должна видеть «в новой Германии оплот всеобщего мира». Это после трех-то войн (с Данией в 1864 году, с Австрией в 1866-м и с Францией в 1870-м!). Короче, покуда это были одни разговоры. Требовалось дело. И так же, как Горчакову нужна была франко-прусская война, чтобы разорвать Парижский договор, Бисмарку нужна была война русско-турецкая. Он желал предстать в глазах Европы верховным арбитром, «честным маклером», и впрямь способным восстановить мир после жестокого конфликта.
Короче, столкнуть Россию с Турцией стало для него императивом. Но, как истинный гроссмейстер, играл он сразу на нескольких досках. Он не забыл, например, вмешательства России в дела западноевропейские (совсем недавно, в 1875 году она помешала его карательной экспедиции против Франции). Следовало поэтому дать русским так глубоко увязнуть на Балканах, чтобы им стало не до Европы.
Точно так же следовало развернуть лицом к Константинополю только что разгромленную им Австрию. Тут добивался он сразу трех целей. Во-первых, помогал ей забыть старые обиды и стать из врага союзником (например, предложив компенсацию за территориальные потери в Италии и Германии - за счет той же Турции). Во-вторых, сделать её инструментом немецкого влияния на Балканах, которые раньше были вотчиной Англии и России. И в третьих, наконец, превратить её в непреодолимый бастион на пути России в Константинополь.
Но все это упиралось в русско-турецкий конфликт, который следовало сначала разжечь и довести до войны, дав России возможность разгромить Турцию. Лишь для того, однако, чтобы отнять у неё плоды её победы на международном конгрессе, где он, Бисмарк, как раз и выступил бы в роли европейского миротворца.
Это была сложнейшая комбинация, о которой не только наивные славянофилы, но и сам Горчаков (Бисмарк его презирал, обозвав однажды «Нарциссом своей чернильницы») не имели ни малейшего представления92. После злополучной горчаковской депеши, окончательно, как мы помним, уверившей Бисмарка, что политика Горчакова и впрямь наивна, он не сомневался в своей способности ею манипулировать. Тем более, что в его распоряжении были панславистские страсти славянофилов. Их и намеревался он использовать в качестве пешки, которую настойчиво проталкивал в ферзи.
Глава шестая
ID 6 В О Г И Торжество национального эгоизма
Оттоманской империи
Другим обстоятельством, пришедшим на помощь славянофилам, были припадки патриотической истерии, регулярно сотрясавшие Турцию. Она-то ведь, как мы помним, тоже была евразийской империей. И потому припадки эти не особенно отличались от истерии, потрясшей Россию в 1863 году, когда восстала Польша. Разница была лишь в том, что в составе Оттоманской империи таких «Польш» было, как мы знаем, много. Поэтому она практически не вылезала из «патриотических» конвульсий. Мы подробно говорили раньше об одной из них, случившейся в 1820 годах во время греческого восстания. Но число их нарастало. В 1866 году, как мы помним, восстали критяне, в 1875 году - Герцеговина, еще через год Болгария.
Работая
И на этот раз «патриотический сифилис» охватил Оттоманскую империю с такой силой, что вылился в антизападную революцию. Султан Абдул Азиз, друг России, был свергнут 30 мая 1875 года группой «патриотических» пашей и заменен вождем непримиримых исламистов Мурадом V. «В то же время, - пишет русский историк, - националистическое движение в турецких провинциях быстро вырождалось в настоящую черносотенную анархию, напоминавшую погромы христиан в 1820 годах. Жертвами черносотенных вспышек становились иногда даже европейские дипломаты (как это случилось с французским и германским консулами в Салониках в мае 1876 года), но гораздо чаще страдала христианская «райа». Попытка восстания болгар в Родопских горах была поводом к такой свирепой резне, которая всколыхнула общественное мнение всей Европы и довела воинственное настроение русских славянофилов до крайних пределов»93. Таков был их второй союзник.
Глава шестая Торжество национального эгоизма
на Бисмарка
Между тем события на самом верху петербургского истеблишмента тоже шли в желательном для славянофилов (и Бисмарка) направлении. Императрица Мария Александровна, несмотря на своё немецкое происхождение, так горячо симпатизировала славянофильскому делу, что выбрала в наставники наследнику престола (вместо уволенного ею либерала Кавелина) самого свирепого в Петербурге охранителя самодержавия Константина Петровича Победоносцева. Со временем это дало результаты. В Аничковом дворце под крылом воспитанника Победоносцева сформировалась панславистская «партия войны». Роль посредника между нею и Бисмарком исполнял брат императрицы принц Александр Гессенский, который сновал между Петербургом, Берлином и Веной, оркеструя русско-турецкий конфликт.
Это было посерьезнее Славянского благотворительного комитета. Но и его влияние Бисмарк, конечно, со счетов не сбрасывал. Тем более что энергия, с которой комитет пытался возбудить в России новую патриотическую истерию, достойна была, полагал он, восхищения. По всей стране собирались деньги на «общеславянское дело». Как пишет биограф Александра II, «сборы производились в церквах, по благословению духовного начальства, путём подписки»94. Собранные полтора миллиона рублей были немалой по тем временам суммой.
При комитете создано было также вербовочное бюро для набора добровольцев в сербскую армию. И их тоже собралось немало - больше шести тысяч человек. Среди них попадался, конечно, и просто бродячий люд, но были и отставные офицеры, и юные идеалисты, вроде Всеволода Гаршина. Аничков дворец откомандировал в Белград генерала Черняева, который принял командование сербской армией.
Особую роль во всем этом играл русский посол в Константинополе генерал Николай Игнатьев. На Балканах он был человек всемогущий, вице-султан, как его называли (у турок для него было, правда, другое прозвище: «отец лжи»). Весь свой авторитет употребил Игнатьев на подстрекательство сербов к войне. Компетентный наблюдатель даже писал, что «сербы начали войну только по наущению Игнатьева, уверявшего их, что Россия немедленно двинется на поддержку»95.
Прокламации Славянского комитета, обличавшие «азиатскую орду, сидящую на развалинах древнего православного царства», нисколько не уступали в своей ярости народовольческим. Турция именовалась в них «чудовищным злом и чудовищной ложью», которая и существует-то лишь благодаря «совокупным усилиям всей Западной Европы». И все это бурлило, соблазняя сердца и будоража умы, выливаясь в необыкновенное возбуждение, сопоставимое разве что с истерией 1863 года.
Там же. С. 29.
Там же.
11 Янов
Мечта о Царьграде распространилась по всему спектру славянофильской интеллигенции, даже на миг объединив молодую гвардию со старой. Достаточно сказать, что настроение Леонтьева полностью совпало тут с настроением Достоевского, которого он терпеть не мог за «розовое», по его мнению, христианство и, конечно, за «полулиберальный аксаковский стиль». Сравним то, что писал Леонтьев («Молюсь, чтобы Господь позволил мне дожить до присоединения Царьграда. А всё остальное приложится само собою») с тем, что говорил тогда Достоевский: «С Востока и пронесётся новое слово миру... которое может вновь спасти европейское человечество. Вот в чем назначение Востока, вот в чем для России заключается восточный вопрос... Но для такого назначения нам нужен Константинополь, так как он центр восточного мира... Константинополь должен быть НАШ, завоеван нами, русскими, у турок»96. Если исключить ненавистное молодогвардейцам «спасение европейского человечества», совпадение было полное.Об этом совпадении, впрочем, мы еще поговорим подробнее. Пока скажем лишь, что работа шла горячая. И результативная. Но вот прибыль от нее мог получить лишь настоящий заказчик, о котором никто из зтих наивных энтузиастов Константинополя даже не подозревал.
Глава шестая
^ W'UOU ШБЬШЦЛ
В О И Н б ТоРжество национального эгоизма
А события на Балканах шли тем временем своим чере-
дом. зо июня 1876 года Сербия, обманутая Игнатьевым, объявила Турции войну. Продолжалась она, впрочем, недолго. Уже 17 октября войска Черняева были наголову разбиты под Дьюнишем. Турки шли на Белград. Князь Милан умолял прислать ему хоть две русские дивизии. Но Игнатьев ограничился лишь ультиматумом султану. И тут-то проклятая славянофилами Европа Россию поддержала. До такой степени, что Daily News в Лондоне писала: «Если перед нами альтернатива - предоставить Боснию, Герцеговину и Болгарию
9* Достоевский ФЖ Дневник писателя. Берлин. 1922. С. 486.
турецкому произволу или дать России овладеть ими, то пусть Россия берет иххебе - и бог с ней»97.
Оставшись в одиночестве, Турция уступила. Сербия была спасена. Но что делать дальше, никто не знал. Александр II, сопротивлявшийся войне с самого начала, сделал неожиданный ход, обратившись к посредничеству Лондона и предложив созвать европейскую конференцию. Беседуя с английским послом, царь заверил его, что правительство России нетолько не поощряет «лихорадочное возбуждение» в обществе, на которое жаловался посол, а, напротив, стремится «погасить его струей холодной воды». Во всяком случае он честным словом поручился, что никаких завоевательных планов у него нет: «России приписывают намерение покорить Индию и завладеть Константинополем. Есть ли что нелепее этих предположений? Первое из них совершенно неосуществимо, а что касается до второго, то я снова торжественно подтверждаю, что не имею ни этого желания, ни этого намерения»98.
Содержание беседы, да и сам факт обращения царя к посредничеству Лондона, а не Берлина, делают совершенно очевидным, что две точки зрения и две, условно говоря, партии боролись внутри императорской администрации, и лишь одна из них руководилась сценарием Бисмарка. Это противоречие еще не раз, как мы увидим, проявится в российской политике и приведет в конечном счете к тому, к чему и должно было привести: к конфронтации с Германией. Но пока что и высокопоставленные «патриоты» из Аничкова дворца, и славянофильская старая гвардия продолжали дружно, как по нотам, разыгрывать бисмарковскую музыку. И турки им по-прежнему подыгрывали. И все вместе они - лютые и непримиримые враги - звучали как один слаженный оркестр.
Англия предложила программу международной конференции. И царь, который, по замечанию французского историка, «искренне и честно стремился обеспечить успех последней попытки к примирению»99, принял лондонскую программу. Вот эту-то
История XIX века. Т. 7. С. 433.
ИР. Вып. 22. с. 31-32.
Константинопольскую конференцию турки и сорвали, неожиданно объявив, что султан «жалует империи конституцию», открывая «новую эру благоденствия для всех оттоманских народов». Иными словами, что отныне нет нужды ни в каких реформах. Европейские послы покинули Константинополь. Это означало войну. Сопротивление «партии мира» в Петербурге было сломлено.
Единственное, что теперь оставалось, - это обратиться за помощью к другу Бисмарку, который уже два десятилетия клялся в любви к России. В союзе с ним можно было не только без труда усмирить Турцию, но и взять, быть может, Константинополь. По меньшей мере, поскольку его слово было законом для Австрии, он мог, если бы захотел, запросто обеспечить её нейтралитет, без которого наступление русской армии за Дунай было немыслимо. Вот тут-то и показал старый друг в первый раз зубы. О непосредственном вмешательстве Германии в восточный конфликт и речи, оказалось, быть не могло. «В миссию Германской империи, - ответил он челобитчикам, - не входит предоставлять своих подданных другим державам и жертвовать их кровью и имуществом ради удовлетворения желаний наших соседей»100.Горчакову бы так ему ответить в 1870 году, когда он умолял Россию прикрыть тыл и фланги наступающей прусской армии! Мало того, Бисмарк наотрез отказался даже воздействовать на Австрию. Теперь, когда он загнал Россию в тупик и выйти из него без потери лица было уже невозможно, он не хотел помогать ей вообще.И сожалеть о прошлых ошибках было уже поздно. Россию с головой выдали «самому коварному врагу славянства». А тот, ясное дело, назначил за свой дружественный нейтралитет цену - Боснию и Герцеговину. И поставил жесткое условие: ни при каких обстоятельствах на Балканах не должно быть создано одно «сплошное» славянское государство. Так, не пролив ни капли крови, Австрия достигала всех своих целей и вдобавок приобретала еще изрядный кусок славянских Балкан.
I
Александр II мог теперь перефразировать то, что сказал он в 1871 году о депеше Горчакова: мы оказались больше австрийцами, чем сами австрийцы. Только сказать этого вслух он не посмел бы.
Соглашение с Австрией должно было оставаться секретом от славянофилов. Они бы никогда ему такого предательства не простили. Так или иначе, 12 апреля 1877 года Россия объявила войну Турции.
Глава шестая
ОТЫГОЭННЭЯ Торжество национального эгоизма
карта
Здесь не место описывать русско-турецкую войну, затянувшуюся почти на год. Исход ее был предрешен. Даже при крайнем напряжении сил турки могли выставить в поле не более 500 тысяч штыков, половину из них необученных. Им противостояла полуторамиллионная армия обученных русских солдат. Спланирована кампания, однако, была, как всегда, из рук вон плохо: три бездарных штурма Плевны, на подступах к которой положили целую армию. (В конечном счете Плевну взял правильной осадой герой Севастополя Эдуард Тотлебен.) Выручила отвага русских солдат, их героическая защита Шипки, спасшая судьбу кампании. Однако победоносная армия, спускавшаяся с Балкан, была в состоянии отчаянном. Как записывал офицер главной квартиры, «наше победное шествие совершается теперь войсками в рубищах, без сапог, почти без патронов, зарядов и артиллерии»101.
И все же результат был налицо: в который уже раз турецкая армия вдруг перестала существовать. Путь к вожделенному Константинополю казался открытым. 19 февраля 1878 года в пригороде Стамбула Са# Стефано генерал Игнатьев и турецкие уполномоченные подписали мирный договор. Увы, обе стороны продолжали работать по сценарию Бисмарка.
«Высокопоставленные сотрудники», разочарованные, как мы помним, франкофильством черногорцев и склонностью сербов к европейской гражданственности, возлагали теперь главную надежду на «забытое, забитое болгарское племя». Потому и спланировали в нарушение договора с Австрией новое болгарское царство величиною с половину Балкан - от Черного и Эгейского морей и до самой
Албании на Адриатическом. По размерам оно должно было равняться средневековой болгарской империи XIV века времен царя Симеона.
Великой Болгарии предстояло, естественно, быть оккупированной русскими войсками. А турки с энтузиазмом соглашались на все русские условия. Им было ясно: чем больше они уступят, тем вероятнее возмущение Европы - и международная конференция. Короче, именно то, чего добивался Бисмарк.
Расчет турок был, разумеется, точный. Австрия, усмотрев в Сан- Стефанском договоре явное нарушение секретной договоренности с Россией, объявила мобилизацию, грозя отрезать русскую армию от её базы в Валахии. Английский флот стал на якорь у Принцевых островов в виду Константинополя. Все теперь свелось к позиции Германии. И Бисмарк, совсем недавно заявлявший, что весь восточный вопрос «не стоит костей одного померанского гренадера», теперь вдруг сам напросился на посредничество между конфликтующими сторонами. Нет, он, конечно, не собирается «играть роль судьи и наставника Европы», но если державы пожелают встретиться в Берлине, он великодушно возьмет на себя роль миротворца, или, говоря его словами, «честного маклера». И естественно было в таких условиях, что, как писал глава турецкой делегации Каратеодори Паша, «князь Бисмарк полностью доминировал Берлинский конгресс»[81].
Между тем карта панславизма была в глазах творца новой европейской сверхдержавы отыграна. В славянофилах он больше не нуждался. «Горчаков и Шувалов, - замечает французский историк, - к великому своему изумлению уже не нашли у Бисмарка того расположения к России, на которое они рассчитывали: одно лишь холодное и суровое беспристрастие, ни малейшей поддержки ни в чем»[82].
Конгресс, открывшийся в июне 1878 года, разделил Болгарию, задуманную как главный инструмент российского влияния на Балканах, на три части, одним ударом лишив тем самым Россию всех
плодов победы. Горчаков, разумеется, протестовал. Но к еще большему его изумлению главными противниками России вдруг выступили сербы, ради которых война, собственно, и затевалась.
Впрочем, это было естественно. Братство братством, но не желала Сербия усиления своей балканской соперницы. И земли, которые Горчаков намеревался подарить Болгарии, считала своей законной добычей. В конце концов заботилась она о Великой Сербии, а вовсе не о возрождении болгарской империи. В 1913 году она еще и нападет на Болгарию в союзе со своими смертельными врагами турками. Подумать страшно, что приключилось бы с Данилевским или Иваном Аксаковым, доживи они до такой кощунственной, с их точки зрения, межславянской резни.
Но самое главное, словно в насмешку над славянофильскими надеждами «забытое, забитое болгарское племя», едва обретя независимость, устремилось туда же, куда прежде него рванулись и греки, и сербы, и даже черногорцы, т.е. к проклятой «европейской гражданственности».
А Россия что же? Она - после войны, едва не приведшей к государственному банкротству - с чем была, с тем и осталась. Хуже того, поссорившись со вчерашней союзницей Румынией (у которой она отняла Бессарабию), Россия оказалась дальше от Константинополя, чем когда бы то ни было.
Глава шестая Торжество национального эгоизма
Англия, с другой стороны, получила Кипр, Австрия - Боснию и Герцеговину. На самом деле, как и запланировал Бисмарк, она была теперь куда ближе России к Константинополю. «В истории немного найдется таких странных и несправедливых решений», - заключает тот же французский исследователь[83].
Зачем нужна была война?
Невозможно описать разочарование, чтобы не сказать отчаяние, славянофильской интеллигенции. После всех вложенных в «освобождение славян» усилий, после всех надежд и упований, связанных с Константинополем, после десятков тысяч жизней, положенных на болгарских полях, закончить ничем? Старая гвардия никогда не простила этого Александру II. Как, впрочем, и молодая.
Что было, конечно же, несправедливо. Во-первых, он не делал секрета из своей принадлежности к партии мира и толкали его на войну именно они, панслависты. А во-вторых, император ведь тоже не обрадовался такому исходу. Ибо кому же мог он быть выгоден, кроме нигилистов, охотившихся за ним, да либералов, убежденных в полной бездарности самодержавия? Александр Николаевич просто ничего не мог с этим поделать. Все предприятие не имело смысла. С самого начала.
В либеральных кругах вспоминали записку Дмитрия Милютина, родного брата знаменитого Николая, в которой еще задолго до войны совершенно точно предсказывался её бедственный исход. Хотя Дмитрий Милютин, как и его брат, имел репутацию либерала, он все-таки был военным министром, ответственным за реформу армии, и, следовательно, знал, что говорил. «Ни одно из предпринятых преобразований, - писал он, - еще не закончено. По всем отраслям государственного развития сделаны или еще делаются громадные затраты, от которых плоды ожидаются лишь в будущем... Война в подобных обстоятельствах была бы поистине великим для нас бедствием»105.
Так оно, конечно, и получилось. Но ведь даже и Милютин не задавался главным вопросом: зачем, собственно, нужна была России эта война? Если исключить полубезумные и, как мы видели, совершенно безосновательные грёзы славянофилов о «славянском братстве» и еще более эфемерные надежды Достоевского на «спасение европейского человечества» посредством русского господства в Константинополе, то и вправду - зачем? Пожалуй, один лишь Владимир Соловьев задумывался тогда над этим основополагающим вопросом. Мы помним его приговор: «Но самое важное было бы узнать, с чем, во имя чего можем мы вступить в Константинополь? Что можем мы принести туда, кроме языческой идеи абсолютного государства, принципов цезарепапизма, заимствованных нами у греков и уже
погубивших Византию? Нет, не этой России, изменившей лучшим своим воспоминаниям, России, одержимой слепым национализмом и необузданным обскурантизмом, не ей овладеть когда-либо Вторым Римом»[84]. Разумеется, за всей славянофильской декламацией и «вставанием с колен» могли в принципе стоять и вполне прагматические соображения. Например, о Балканах как о потенциальном рынке для российской индустрии. Или геополитические расчеты контролировать Босфор. Могли стоять, но ведь не стояли же! Немыслимо даже представить себе, чтобы тогдашние купеческие тузы оказались сильнее партии мира, возглавляемой самим царем. А что до контроля над проливами, то ведь, как мы помним, у России и флота в ту пору не было. Куда уж ей с её пятью вооруженными коммерческими пароходами против двадцати турецких броненосных судов, не говоря уже о самом могущественном тогда английском флоте, который тоже стоял на причале у Константинополя?
Просто нет другого рационального объяснения причин этой злополучной войны, кроме очередного приступа патриотической истерии, искусно спровоцированного Бисмарком - при активном участии славянофилов. Это было дурное знамение. Конкретно говоря, эта злосчастная война обнаружила два новых (и громадной важности!) внутриполитических фактора, которым отныне предстояло определять судьбу страны - надолго.
Первый из них был такой. Если в крымскую катастрофу втянула страну казенная Русская идея, государственный патриотизм, подогревавший сверхдержавные страсти царя Николая, то ведь в 1870-х ничего поденного не было. Александр II войны не хотел, либеральная бюрократия, как мы видели, и слышать о ней не желала, государственный патриотизм давно почил в бозе. Иначе говоря, никто, если не считать Бисмарка, не навязывал России сверху эту никчемную войну. И если она тем не менее состоялась, означать это могло лишь одно. Рольуваровского государственного патриотизма исполнял теперь национальный эгоизм, тот самый «союз филозападов и славянофилов», по выражению Герцена, что сгубил, как мы видели, Колокол.
И шел он теперь не сверху, как при Николае, а снизу - от значительной части образованного, в том числе и западнического, общества, сделавшего, наконец, свой выбор. Я имею выбор не только между Герценом и польской свободой, как в 1863 году, но между самодержавием и конституционной монархией, между сверхдер- жавностью России и ее политической модернизацией, между, если хотите, Уваровым и Чаадаевым. «Вставание с колен» требовало жертв. И жертвой его пали не только славянофилы, но и западники, на глазах превращавшиеся в «националистов с оговорками»
И потому отныне приступы болезни, которую Герцен назвал «патриотическим сифилисом», станут в Российской империи столь же обыденными явлениями, как, скажем, вьюги зимою или весенние половодья.
Глава шестая
Плевелы торжество национального эгоизма
Как это произошло? Вот объяснение Соловьева: «плевелы, посеянные ими же [славянофилами] вместе с добрым зерном, оказались гораздо сильнее этого последнего на русской почве и грозят совсем заполонить всё поле нашего общественного сознания и жизни»107.
Преувеличивал ли Соловьев? Действительно ли успело славянофильство за три десятилетия, прошедшие после краха Официальной Народности, «заразить» значительную часть общества, включая бывших оппонентов, «плевелами» национального эгоизма? Действительно ли согласились в 1880-е вожди тогдашнего либерализма, «русские европейцы» с главными постулатами славянофилов? С тем, например, что свобода совместима с самодержавием? Или с императивностью сверхдержавного реванша («великодержавными стремлениями» на славянофильском жаргоне)? Или даже с тем, что сельская община, отрицавшая, как мы знаем, и права личности и частную собственность крестьянина, идеально подходит для России?
Довольно просто проверить утверждение Соловьева, обратившись, допустим, к сборнику статей современных авторов «Российские либералы», опубликованному в 2001 году и составленному из очень серьезных и содержательных биографий либеральных персонажей XIX века. В том числе современников Соловьева. Возьмем один, но очень характерный пример. Вот Александр Дмитриевич Градовский, блестящий юрист, автор болгарской конституции, сотрудник «диктатора сердца» Лорис-Меликова. Естественно, чистой воды западник. И тем не менее современный его биограф В.А. Твардовская так характеризует его политические идеи: «Защита неотъемлемых и естественных человеческих прав, какими Градовский считал гражданские права, не сопровождалась у него критикой существующего режима». Напротив, «идеи европейского либерализма сочетались у Градовского с уверенностью в их совместимости с самодержавием, как и с великодержавными стремлениями»108. Читатель еще не забыл, надо полагать, чьи это постулаты.
Что до славянофильской святыни, крестьянского «мира», то вот суждение самого Градовского: «Русское крестьянство имеет свою вековую и прочную организацию. Его «миры» являются союзами, готовыми и приноровленными к экономическим и другим нуждам крестьянства»109. Иными словами, от добра добра не ищут. Биограф не скрывает и своего мнения: «От этого «мира» поистине некуда было уйти, он бесцеремонно вторгался в жизнь крестьянина, всесторонне регламентируя её - нельзя было без мирского приговора ни на заработки отойти, ни избу новую поставить, ни семейный раздел земли совершить»110.
Как же уживалось в сердце поклонника «идей европейского либерализма» безоговорочное одобрение и самодержавия, и мос- ковитского «мира»? Биограф никак эту загадку не объясняет. Однако читатель, знакомый с приговором Соловьева, ответ на неё знает. Уживалось с помощью все тех же славянофильских «плевел»: Россия не Европа. Один из главных вождей тогдашнего либерализма К.Д. Кавелин так продолжал этот славянофильский постулат, заим-
ЮЗ
Российские либералы. M., 2001. С. 135 (выделено мною. - А.Я.).
Там же. С. 141.
Там же.
ствованный из уваровского государственного патриотизма: Россия не Европа, а «мужицкое царство».
И действительно, справедливо ли говорить об одном Градов- ском, если по свидетельству редакторов сборника Б.С. Итенберга и В.В. Шелохаева, все «либералы [1880-х] в основном единодушно выступали за поддержку общинного владения»?111 И совсем уж несправедливо винить Градовского в предпочтении самодержавия, если даже Кавелин, один из столпов тогдашнего либерализма, проповедовал в конце жизни, т.е. именно в 1880-е, идею совместимости самой широкой свободы с неограниченной властью самодержавия, единственно, по его мнению, возможной формы политической организации общества в «мужицком царстве». Даже Б.Н. Чичерин, в прошлом единомышленник и даже соавтор Кавелина, с презрением отверг эту явно заимствованную из славянофильского катехизиса ересь: «И теория и опыт говорят, что если для известного общества требуется неограниченная власть, то нечего толковать о широком развитии свободы»112.Как видим, и идейная эволюция Градовского, и уваровская метаморфоза Кавелина, так искренне радовавшегося еще в 1855 году кончине «калмыцкого полубога» и «исчадия мундирного просвещения», так же как неожиданное пристрастие тогдашних либералов к крестьянской общине, красноречивее иных томов говорят о правоте Соловьева. О том, другими словами, что «плевелы», посеянные славянофилами, действительно грозили тогда заполонить все поле нашего общественного сознания и жизни. Приходится признать, что славянофильство, потерпевшее к концу 1870-х сокрушительное поражение как во внешней, так и во внутренней политике, и впрямь становилось тем не менее «идеей-гегемоном» постниколаевской России. И, самое главное, «плевелам» этим предстояла долгая жизнь.
Я не говорю уже о вещах очевидных. О предпочтении, например, общинного коллективизма, которое безуспешно попытался в 1900-е поломать Столыпин. Или об убеждении, что, поскольку Россия не
111 Там же. С. 7.
иг Чичерин Б.Н. Собственность и государство. Ч. 2. М., 1883. С. 349-
Европа, свобода каким-то образом совместима у нас с «сильной рукой» и неограниченной властью. Или о твердой уверенности, что Европа «накануне краха», говоря словами Достоевского (это категорически предрекал он, как мы скоро увидим, в 1877 году во время войны)[85]. Конечно, всё это было почти 130 лет назад. Но сколько таких предсказаний клубится вокруг нас и сегодня? Так что и впрямь ведь не умерли своей смертью славянофильские «плевелы» и столетие спустя.
Но я о другом, о неочевидном. О том, в частности, почему Бисмарку так легко удалось спровоцировать - и использовать - патриотическую истерию конца 1870-х для собственных целей. Разве не свидетельствовало это, что захворавшая сверхдержавным соблазном страна открылась для манипуляций извне?
Можно было бы не поверить в то, что за всем этим стоял в 1870-е Бисмарк, когда бы уже полвека спустя не воспользовались тем же свойством заболевшей России французские политики, а еще три десятилетия спустя Гитлер. И разве не воспользовался этим в 1990-е сербский диктатор Милошевич? И разве не пытается уже в наши дни сделать то же самое Китай, отчаянно нуждающийся, подобно Третьему Рейху, в «жизненном пространстве» и в ресурсах Сибири? Но самое ужасное, что, когда бы ни нашелся такой зарубежный манипулятор, - он неизменно сможет отныне рассчитывать на «патриотических» союзников внутри России. И при этом они всегда, подобно славянофилам 1870-х, будут искренне убеждены, что очередная конфронтация с «дряхлым миром» - в лучших интересах страны. #
Вот же что на самом деле обнаружила ненужная балканская война: ностальгия по сверхдержавности сделала страну марионеткой в чужих руках. Одному Богу известно, какую еще цену придется ей заплатить за «плевелы», с самыми добрыми намерениями посеянные в ней славянофильством, если не найдет она в себе сил раз и навсегда излечиться от «патриотического сифилиса».
Глава шестая
РЭЗ ВЯЗ КЗ Торжество национального эгоизма
Вернемся, однако, к нашим баранам. Ничего удивительного, что разочаровавшись в царе-освободителе, наследники ретроспективной утопии связали свою последнюю, отчаянную надежду с новым царствованием, когда повелителем России станет бывший вождь «партии войны» и хозяин Аничкова дворца Александр III. А когда вдобавок после 1 марта 1881 года министром внутренних дел оказался старый союзник генерал Игнатьев, славянофилы решили сыграть ва-банк. Ничего другого, впрочем, после крушения панславистских иллюзий у них не оставалось. И вот с тем же лихорадочным энтузиазмом, с которым вчера еще занимались они «освобождением славян», принялись теперь славянофилы за подготовку Земского собора в России.
ю января 1882 года Иван Аксаков написал письмо Игнатьеву. Главным в нем было вот что: хотя, естественно, «дать конституцию царь не может: это было бы изменой народу, предательством», но «есть выход из положения, способный посрамить все конституции в мире, нечто шире и либеральнее и в то же время удерживающее Россию на ее исторической, политической и национальной основе. Этот выход - Земский собор с прямыми выборами от крестьян, землевладельцев, купцов, духовенства»14.
Бывший «вице-султан Турции» тотчас же уловил политический потенциал этого предложения. Европейский опыт в таком деле действительно был. Именно введя всеобщее избирательное право и оперевшись, таким образом, на консервативное крестьянство, нейтрализовал Наполеон III республиканцев после революции 1848 года. Французский император, правда, не мудрил ни с каким Собором и не пытался никого посрамить.
Но не втом же, в конце концов, дело, как назвать национальный форум, на котором сам народ воочию продемонстрирует, что не желает того, чего от его имени требуют «друзья народа». Докажет, иными словами, городу и миру, что не нужна ему никакая конституция, что он, народ, выбирает самодержавие по собственной воле.
14 Цит. по: ЗайончковскийПА. Кризис самодержавия на рубеже 1870-1889 гг. М., 1964. С. 452.
Такое, по выражению Аксакова, «учредительное собрание навыворот» могло ведь и впрямь раз и навсегда подорвать влияние в России «нигилистов и либералов». Так, по крайней мере, рассуждал Игнатьев.
Тем более что по расчетам Аксакова, в Соборе на тысячу крестьян приходилось бы всего 140 дворян. «Присутствие тысячи выборных от крестьян, - убеждал он Игнатьева, - заставит без всякого принуждения смолкнуть всякие конституционные вожделения и послужит лишь к всенародному перед всем светом утверждению самодержавной власти... Как воск от огня, растают от лица народного все иностранные, либеральные, аристократические, нигилистические и тому подобные измышления»115.
Выглядело, согласитесь, соблазнительно. И граф Игнатьев тотчас уселся писать докладную записку царю. В кои-то веки, после стольких горьких разочарований, мог, наконец, Аксаков хоть на минуту почувствовать себя идейным руководителем российской политики.
Исходная позиция записки Игнатьева была такая. Положение характеризовалось как переходное, как «перепутье», допускавшее три разных решения вопроса о политической стабилизации во взбудораженной цареубийством и Берлинским конгрессом стране. Первое из них было чисто охранительное. Оно предусматривало, по сути, реставрацию николаевской диктатуры - только без одушевлявшей ее идеологии Официальной Народности и универсальной империи. Игнатьев описал его довольно точно: «более сильное проявление административных мер, большее стеснение печати и развитие полицейских приемов». По его мнению, это решение было опасно и бесперспективно, так как лишь «заставит недовольство уйти глубже».
Второе решение представлялось ему тем более гибельным для самодержавия. «Путь уступок... всегда будет роковым. В какой бы форме уступки ни были сделаны, нет сомнения, что каждый новый шаг, ослабляя правительство, будет самой силою вещей вынуждать последующие уступки».
Фатальная бесплодность либерального решения обусловливалась, по мнению Игнатьева, безнадежным «европеизмом» русского образованного класса, его оторванностью от «земли». Достоевский сказал это, конечно, сильнее и колоритнее: «Мы, то есть интеллигентные слои нашего общества, теперь какой-то уж совсем чужой наро- дик, очень маленький, очень ничтожненький»[86]. В бюрократической прозе Игнатьева смысл дела был, впрочем, тоже совершенно ясен: «Русская интеллигенция вмещает в себе всего более опасных, неустойчивых элементов, а потому представляется несомненным, что её участие в делах всего скорее приведет к ограничению самодержавия, что для России несомненно станет источником всякой смуты и беспокойства».
К счастью, есть в нашем распоряжении и «третий путь» - тут внимательный читатель уже явственно услышит язык ретроспективной утопии - путь устранения как бюрократического средостения между царем и его народом, так и «неустойчивой интеллигенции», путь «возвращения к исторической форме общения самодержавия с землею - Земскому Собору»[87]. Достоевский опять-таки сказал то же самое куда выразительнее, обратившись к «чужому народику» с призывом не учить народ, а учиться у него, ибо «это мы должны преклониться перед правдою народной и признать ее за правду, даже и в том ужасном случае, если она вышла бы отчасти из Четьи-Минеи»118.
Так или иначе, через четверть века после знаменитого письма Константина Аксакова к вступавшему тогда на престол Александру II лежала теперь на столе у другого царя ретроспективная утопия старой гвардии, изложенная в докладной записке на понятном ему языке самим министром внутренних дел. Здесь не место гадать, что случилось бы, не встань поперек дороги Игнатьеву, как мы помним, еще более могущественный бюрократ, бывший наставник царя и обер-прокурор Святейшего синода Константин Петрович Победоносцев. Сошлемся лишь на мнение такого опытного политика, как
Сергей Юльевич Витте. В известной записке «Самодержавие и земство» он категорически утверждал, что «выполнить программу Аксаковых, то есть совершенно «уничтожить средостение» и «создать местно управляющуюся землю с Самодержавным Царем во главе дело прямо невозможное». Именно потому, между прочим, невозможное, что весь «этот Собор с самоуправляющейся землей весьма скоро обратился бы в самый обыкновенный парламент».119
Это неожиданное заключение Витте тоже совпадает с европейским опытом. Да, первоначальный состав Национального собрания, созванного Наполеоном III, оказался «карманным парламентом» императора. Но чем дальше, тем больше становился он народным представительством, покуда, наконец, после 1871 года и впрямь не превратился в обыкновенный парламент. Так не преподносила ли в 1880-е России история, пусть в извращенной и мистифицированной славянофильской форме, уникальный шанс покончить с самодержавием без революции? Неисповедимы пути истории...
В славянофильском случае, однако, предложение отвергнуто было, как мы уже знаем, с порога. Победоносцев пришел от него в ужас. Если воля и распоряжение перейдут от правительства на какое бы то ни было народное собрание, это будет, - писал он истерическим курсивом царю, - революция, гибель правительства и гибель России120.
Александр III послушался наставника. Игнатьева отправили в отставку, Аксакова сослали в его имение. Это был конец ретроспективной утопии. Впрочем, патриарх славянофильства понимал это, когда еще т<*лько затевал переписку с Игнатьевым. «Это ведь последняя ставка, - писал он тогда, - пропади она, выйдет фиаско, спасения больше нет».121 Аксаков не ошибся. Не было больше спасения - ни для старой гвардии, ни для её утопии. Молодогвардейцы победили.
Они тоже называли себя славянофилами. Только там, где отцам- основателям мерещилась Московия, им виделась сверхдержавная империя «со 125 миллионами свежего населения». И место страстно-
Витте С.Ю. Самодержавие и земство. М., 1903. С. 128,135.
Письма Победоносцева к Александру III. М., 1925-1926. Т. 1.С.379.
Цит. по: Захарова Л.Г. Земская контрреформа 1890 г. М., 1968. С. 462.
го призыва к «взаимному невмешательству правительства и народа» занял холодный бухгалтерский расчет национального эгоизма.
глава первая ВВОДНЭЯ
глава вторая У истоков «государственного патриотизма»
глава третья Упущенная Европа
глава ЧЕТВЕРТАЯ ОШИбнЭ ГерЦвНЭ
глава пятая Ретроспективная утопия
глава восьмая глава девятая глава десятая глава
одиннадцатая
глава шестая Торжество национального эгоизма
пророчества
На финишной прямой
Как губили петровскую Россию
Агония бешеного национализма
СЕДЬМАЯ
Три
Последний спор
глава седьмая
Три пророчества
Наша внеевропейская или противоевропейская преднамеренная и искусственная самобытность всегда была и есть лишь пустая претензия: отречься от этой претензии есть для нас первое и необходимое условие,.. Этому противостоит лишь неразумный псевдопатриотизм, который под предлогом любви к народу желает удержать его на пути национального эгоизма, т.е. желает ему зла и гибели.
B.C. Соловьев
Все происходившее с русским национализмом дальше - до конца столетия и за его пределами, в эпоху революций - было, как и предсказывал Соловьев, деградацией. Несмотря даже на то, что продолжали вспыхивать на его небосклоне новые звезды, порою и первой величины, как Федор Достоевский или Константин Леонтьев,
И не в том только было тут дело, что при всех их талантах выглядели эти новые звезды вторичными, подражательными, что светили они отраженным светом «программы Аксаковых», как назвал угасшую на наших глазах ретроспективную утопию Сергей Витте. И не в том даже, что оптимизм их был каким-то натужным, натянутым, картонным. В действительности дело было в том, что параллельно с деградацией национализма увядало, агонизировало и вдохновлявшее его самодержавие.
Поезд истории ушел, оставив его на опустевшем перроне. Но видели вы когда-нибудь власть, которая даже себе самой призналась, что она - анахронизм? Так что слепота последних хозяев империи в порядке вещей. Парадокс, как мы только что видели, состоял в том, что значительная часть российской элиты с энтузиазмом помогала агонизирующему самодержавию создавать иллюзию правления живого, полного сил и, конечно же, единственно возможного в самобытном «мужицком царстве», раскинувшемся на шестую часть суши (и уж, конечно, то, что на роду написано России быть до скончания века империей, сомнению не подвергалось).
I Глава седьмая
«Национально i^wm,*™ ориентированные»
Это было явление по-своему замечательное. По мере того как умирало ортодоксальное, классическое, если хотите, славянофильство, на смену ему шли две очень разные когорты «национально ориентированных». Первая, молодогвардейская, беспощадно ревизовала, так сказать, букву славянофильской утопии - с тем чтобы, сохранив ее дух, адаптировать ее к изменившейся исторической реальности. То были, собственно, славянофилы второго поколения, с которым нам предстоит очень скоро и подробно познакомиться.
Куда более интересна, однако, другая их категория, те, кто с порога отверг ортодоксальную московитскую утопию, как «славянофильскую мякину», по словам Петра Струве, и тем не менее бессознательно - прямо по Грамши - от неё «заряжался». То есть усваивал ключевые её аспекты. В этом смысле «национально ориентированными» могли быть и народники, и эсеры, и социал- демократы, позднее коммунисты, и даже, как мы видели на примерах Кавелина, Градовского или Бердяева, либералы-западни- ки.
Объединяли их главным образом три вещи. Первой из них была «самобытность», о которой говорил Соловьев и о которой я напомнил читателю в эпиграфе. Речь вовсе не о совокупности культурных особенностей, отличающих любой, в том числе европейский, народ от другого. В устах «национально ориентированных» самобытность оказалась своего рода кодом, обозначающим всё тот же старый николаевский постулат: Россия не Европа.
Второе, что всех их объединяло, было вполне славянофильское убеждение, что, как впоследствии сформулирует на советском канцелярите Геннадий Зюганов, «общинно-коллективистские и духовно- нравственные устои русской народной жизни... принципиально отличаются по законам своей деятельности от западной модели свободного рынка»[88]. Или еще категоричней: «капитализм не приживается и не приживется на российской почве»2 .В переводе на общепонятный язык: умрем, но жить, как все, не будем!
Третьей, наконец, и еще более живучей идеей, объединявшей «национально ориентированную» интеллигенцию, было державниче- ство, тоже своего рода код, только более древний, провозглашенный, как мы помним, еще Иваном Грозным. Я говорю о постулате «першего государствования» (на современном языке первенства России в мире). Дважды опровергала этот постулат история. Дважды безжалостно сбрасывала она Россию со сверхдержавного Олимпа, пусть поначалу и воображаемого, снова и снова доказывая, что не самодержавной государственности быть в мире первой. Но ни ливонская катастрофа в XVI веке, ни крымская в XIX ничему, как выяснилось, её не научили.
Напротив, как незаживающая рана, продолжала терзать «национально ориентированную» интеллигенцию нестерпимая ностальгия по утраченной российской сверхдержавное™.
Представление о России как о европейской великой державе - не хуже и не лучше, допустим, Франции или Германии - было для неё невыносимо. Её Россия должна была непременно быть выше, «пер- вее», сакральнее всех других. «Священной, - говоря словами новейшего российского гимна, - державой». Чем-то вроде тоже Священной Римской империи германской нации. Только не в X веке от Рождества Христова и не германской, а в XIX - и русской. И столь же непременно предстояло этой России «встать с колен» и показать, наконец, миру, кто в нем хозяин. Или, если хотите, самодержец.
Ну, в крайнем случае соглашались они (как с временным, конечно, состоянием) с биполярностью, т.е. с разделом мира между двумя сверхдержавами, каждая из которых «первая». Раньше всех выдвинул эту идею, как видели мы во второй книге трилогии, Михаил Погодин еще в 1830-е. Четыре десятилетия спустя подхватил её, как
мы еще здесь увидим, Достоевский. Согласно его пророчеству, Германия брала себе «для предводительствования западное человечество», а «России оставался Восток». Нечто подобное попытался реализовать впоследствии Сталин, сначала в союзе с нацистской Германией, а затем в конфронтации с либеральной Америкой. (Похоже, что этому николаевско-сталинскому идейному наследству не чужда и постсоветская элита.)
Но самым ярким символом неумирающей мечты о сверхдержавности служит все-таки персонаж из «Непридуманного» Льва Разгона. Сокамерник автора Михаил Рощаковский, осужденный на смерть сталинскими опричниками, благословляет со своей тюремной койки - кого бы вы думали? - императора Иосифа I! Именно Сталин, как он полагал, был единственным в России человеком, способным возродить ее сверхдержавность. Ленин с присущей ему непримиримой резкостью суждений отзывался о таких людях беспощадно: «Никто не повинен в том, если он родился рабом; но раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, но и прикрашивает свое рабство ... такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам»3.
В действительности всё, конечно, сложнее. Люди, жившие мечтой о российской сверхдержавности, отнюдь не чувствовали себя холуями. Напротив, казались они себе в высшей степени достойными и самоотверженными, если угодно, героями, способными, как некогда опричники Грозного, отречься ради величия державы от всего, включая родных и даже собственную личность.
На самом деле в постниколаевской России не рабами они были и не героями, всего лишь жертвами фантомного наполеоновского комплекса, о котором мы уже говорили, той мечты о сверхдержавном реванше, что терзает Россию уже шесть поколений - со времени крымской катастрофы. Так, наверное, и нужно к ним относиться, как к жертвам, а не ругаться, как Ленин.
Миф ОТВ О Р Ч еСТВ О I Три пророчества
Тем, что связывало первое поколение «национально ориентированных» - начиная от реформаторов Александра II и до противостоящего им в конвенциональной историографии анархиста Михаила Бакунина - с молодогвардейцами, была неколебимая лояльность патерналистскому режиму. Самодержавие было для них защитником России от чужеродных ее «почве» и заразительных идей буржуазного европеизма и гарантом особняческого «русского пути». Конечно, сюда примешивалось и всё, что, по их мнению, связано с органически чуждой нам «моделью свободного рынка» - и «искус земного благополучия», и «вульгарная сытость», и вообще, как говорил Леонтьев, «земная буржуазная всепошлость».
Само собою разумеется, что и этот средневековый протест против западных соблазнов, как и вся славянофильская риторика, был тоже заимствован с Запада. Еще Маркс и Энгельс жестоко высмеяли его под именем «феодального социализма» (как нам еще предстоит увидеть, именно так и определял его Константин Леонтьев: «Социализм - это феодализм будущего»). И хотя речь классики вели о французских сторонниках реставрации Бурбонов, а вовсе не о российских «национально ориентированных», звучит их убийственная характеристика феодального социализма так, словно описывали они как раз их проповеди: «наполовину похоронная песнь - наполовину пасквиль, наполовину отголосок прошлого, наполовину угроза будущего, подчас поражающая буржуазию в самое сердце своим горьким, остроумным, язвительным приговором, но всегда производящая комическое впечатление полной неспособностью понять ход современной истории»[89].
Конечно, когда самодержавие рухнуло, бесславно ушло из русской жизни, заставив, однако, страну заплатить за свое вековое опоздание кровавой гражданской войной, место его в сознании «национально ориентированных» как раз и заняла державность, т.е. верность империи, созданной этим самодержавием. Они сочинили новые мифы, в которых империя отождествлялась с Россией, «в том
числе и в территориальном смысле», выступала как «особый мир, целый социальный космос», как «особая цивилизация», наследующая традицию самодержавия5.
Но мы-то говорили сейчас о «национально ориентированных» первого поколения. Можно было счесть их сознательными мифо- творцами, не будь они так искренне, так страстно убеждены в благотворности для России самодержавия. В ретроспективе выглядит это, скорее, коллективным безумием. В особенности имея в виду, что гимны их сочинялись в то самое время, когда десятилетие за десятилетием, словно по ступеням «лестницы Соловьева», спускалось самодержавие в свой средневековый, так и хочется сказать, дантов- ский ад, где ожидало империю предсказанное им национальное самоуничтожение.
Как удавался этот самообман утонченным, европейски образованным интеллектуалам в условиях, когда даже Иван Аксаков вынужден был признать, что произошло «фиаско» и «спасения нет»? На чем основывали они свои новые мифы? Как их аргументировали? Это вопросы и сами по себе, согласитесь, интереснейшие. Хотя бы потому, что вовлечены в те годы были в это средневековое мифотворчество вполне разумные, а порою и замечательно талантливые люди. Но дело ведь не в одном историческом любопытстве. Оно еще и в том, что проповедь феодального социализма и средневековое мифотворчество продолжаются, как ни в чем не бывало, и сегодня. Более того, бушует оно вокруг нас в десятках «национально ориентированных» изданий, по-прежнему проповедуя «сущностную несовместимость западной буржуазной цивилизации и цивилизации российской»6, по-прежнему пытаясь втиснуть все многообразие современной жизни «в рамки традиционного миросозерцания, обнимаемого формулой Русская идея»7.
Это я цитировал Зюганова. Но на самом деле и куда более серьезные сегодняшние мыслители пишут в этих терминах, отравляя ими сознание образованной молодежи. Читатель, наверное, тоже обра-
ПА. Зюганов А. Цит. соч. С. 74.
Там же. С. 75-
Там же. С. 49.
тил внимание на поток ученых монографий об этом предмете. И в большинстве из них по-прежнему высмеивается знаменитая, как видели мы во второй книге трилогии, «европейская кочка зрения» и превозносятся достижения беззаветных апологетов самодержавия, защитников его «метафизической», «сакральной» сущности и даже актуальности.8 Вот еще почему совершенно необходимо, чтобы не сказать, жизненно важно ответить на эти вопросы.
Ахиллесова пята мифотворцев
Проблема лишь в том, как это сделать, как подступиться к их анализу. Как убедительно и доступно показать, что сегодняшнее мифотворчество точно так же нелепо, нереалистично и - главное - губительно для страны, как и дореволюционное? Что сам способ политического мышления «национально ориентированных» по природе средневековый и потому - в современном мире - просто не может не вести к ошибкам, порою роковым?
Сказать правду, задача головоломная. Ведь эти люди ничего и не намерены доказывать. Они просто постулируют, скажем, что на российской «почве» капитализм не приживется. Или что Россия и Европа друг другу чужды, как небо и земля. Почему не приживется? Почему чужды? Потому что несовместимы с «народным менталитетом». Почему несовместимы? Потому что «почва» такая.
В учебниках логики это называется циркулярным аргументом: человек заранее провозглашает именно то, что требуется доказать. Короче, спорить с этими людьми бесполезно. Им нельзя объяснить,
!7iaea седьмая Три пророчества
8
Вот лишь несколько примеров. П.А. Сапронов, допустим, объяснил нам, что такое «Власть как метафизическая реальность» (Спб., 2001). М.Б. Смолин дополнил его объяснение в «Очерках Имперского пути». (М., 2000). Увенчала это созвездие книга А.Н. Боханова «Император Александр III». (М., 1998). Не оставали от ученых мужей и диссертанты. Вот пожалуйста. А.В.Елисеев. Социально-экономические воззрения русских националистов начала XX века//Дис... канд. ист. наук (М., 1997); Э.А.Попов. Разработка теоретической доктрины русского монархизма в конце XIX - начале XX века//Дис... канд. ист. наук (Ростов-на-Дону, 2000); С.М.Сергеев. Идеология творческого традиционализма в русской общественной мысли 80-90-х в Х1Х//Дис... канд. ист. наук (М., 2002).
например, что настаивая на державности, они толкают Россию в тот же тупик, в каком оказалась она в прошлом веке со своим безнадежно отжившим самодержавием. Не объяснить им также, что если капитализм и впрямь не приживется в России, как они - вопреки Ленину - утверждают, это было бы для нее величайшим несчастьем. Ибо неминуемо оказалась бы она в этом случае в полной и отчаянной изоляции в мире. Была бы, по сути, обречена опять противопоставить себя человечеству. Просто потому, что в нем-то капитализм уже прижился...
Короче, ничего нельзя доказать людям, отрицающим общепринятую логику и потому для нее неуязвимым. В особенности, если провозглашают они, как Подберезкин, что «только Вера, т.е. иррациональный подход, способна ответить на острейшие вопросы современной политики»[90].
И тем не менее даже этот на первый взгляд недоступный для критики извне способ политического мышления тоже имеет свою ахиллесову пяту, свой незащищенный нервный узел. Даже два таких узла.
Первый состоит в произвольности метафизического начала, или постулата, который тот или иной «национально ориентированный» автор заложил в ее фундамент. Допустим, для Зюганова это «народный менталитет». Для Достоевского, однако, таким абсолютным началом выступало православие русского народа (в котором, собственно, и состоял, по его мнению, «наш русский социализм»). А для Бакунина постулатом было присущее русскому народу «историческое чувство свободы». Леонтьев же, как мы помним, исходил, совсем даже наоборот, из того, что русская нация специально не создана для свободы.
Поэтому столь родственным по способу политического мышления людям тоже, по сути, бесполезно друг с другом спорить. Ведь пренебрежение общепринятой логикой имеет и свои неудобства: у спорящих, в частности, просто нет общей почвы для спора (поскольку один произвольный постулат вполне и безоговорочно исключает другие). Вторая - и, пожалуй, роковая - слабость этого способа политического мышления в том, что, создавая на основании своего иррационального постулата вполне вроде бы практичную идейно-политическую конструкцию, каждый из спорщиков претендует на последнюю истину и, стало быть, на роль пророка. И потому просто обязан отвергать истину конкурирующего пророка.
Великолепной иллюстрацией этого могут служить отношения Леонтьева и Достоевского. Вот как описывает их Юрий Павлович Иваск, замечательный эмигрантский поэт и философ, автор единственной, пожалуй, серьёзной биографии Леонтьева. «Если Достоевский для Леонтьева еретик-утопист, «розовый христианин»,- пишет Иваск, - то Леонтьев для Достоевского еретичен своим пессимизмом, за которым будто бы прячется грубое эпикурейство и даже зависть... В конце своей филиппики против Достоевского Леонтьев противопоставляет его будто бы «ложное» христианство - истинному, церковному христианству Победоносцева (добавим, что Леонтьев не переносил Победоносцева, которого в письмах называл «старой девушкой», но в полемической статье попытался им «убить» ненавистного ему подпольного пророка Достоевского). Вообще же взаимопонимания между ними не было, да и не могло быть: каждый рвался к своей правде и каждого своя правда ослепляла»[91].
Как же в таком случае нам с ними спорить, если они и друг с другом спорить не могли? К счастью, там, где пасует логика, помогает история. Ведь за истекшее столетие «национально ориентированных» пророков было более чем достаточно. В 1860-х прогнозировали они одно, в следующем десятилетии другое, а еще десятилетием позже третье. То обстоятельство, что способ политического мышления был у H|ix один и тот же (Россия во всех случаях оставалась «внеевропейски или противоевропейски», говоря словами Соловьева, самобытной) - менялись лишь постулаты и прогнозы, - именно это обстоятельство и дает нам счастливую возможность проверить, оправдала ли история их пророчества, сработали ли их прогнозы. Короче, если мы внимательно присмотримся к нескольким таким прогнозам позапрошлого века, мы тотчас увидим, работает ли сам этот способ политического мышления, способствует ли он выработке реалистических прогнозов или мешает им. Проще говоря, оправдались их пророчества или нет.
По-английски есть для этого специальный термин - «case studies». Означает он детальное исследование отдельных случаев (cases), из совокупности которых и возникает общая картина. Так почему бы нам не проверить реалистичность прогнозов сегодняшних пророков при помощи нескольких таких case studies пророков прошлого? Конечно, для большей выразительности желательно, чтобы героями их были яркие, талантливые и всем известные персонажи. Особенно такие, которым поклоняется как своим предшественникам, допустим, Зюганов. Он, например, поминает с одобрением «мятежного Михаила Бакунина» (даже не подозревая, что Бакунин был чем-то вроде ненавистной ему Валерии Новодворской своего поколения), а Леонтьеву и вовсе слагает оды (скорее, впрочем, напоминающие чеховское «Письмо к ученому соседу»). Ну посмотрите: «Ревностно отстаивал Леонтьев самобытность русского пути познания мира и его одновременную преемственность по отношению к религиозно-нравственным идеалам первохристианства»11. Совершенная ведь, право, абракадабра!
Еще лучше было бы, если б представляли наши герои весь спектр «национально ориентированного» мифотворчества - слева направо. По всем этим причинам и выбрал я для детального исследования .трех выдающихся идеологов: левого радикала Бакунина, экзальтированного славянофила (центриста по националистическим меркам) Достоевского и замечательнейшего из правых радикалов Константина Леонтьева, «самый острый ум, рожденный русской культурой XIX века», по выражению Петра Струве12. Напомню, что политические прогнозы Федора Тютчева и основоположника моло- догвардейства Николая Данилевского мы рассмотрели уже довольно подробно во второй книге трилогии13.
Зюганов ГА. Цит. соч. С. 23.
Цит. по: Леонтьев К. Pro et contra. Кн. 2. Спб., 1995. С. 81.
О философии и политике Тютчева никаких новых исследований, кроме, конечно, упо-
Конечно, case studies требуют серьезного, тщательного и беспристрастного исследования. Нетерпеливому читателю оно может показаться, пожалуй, чересчур академичным. И все же я не советую ему поспешно захлопывать эту книгу. Хотя бы потому, что речь здесь не столько о старых пророках, сколько о прогнозировании его собственного будущего.
I Глава седьмая
Ста В р О Г И Н I три "рор[92]^™ и Мефистофель
Одной из самых модных тем в раннесоветском литературоведении 1920-х были попытки отыскать прототип главного героя «Бесов» Николая Ставрогина. Именно этой теме посвятил, в частности, свою статью «Бакунин и Достоевский» Леонид Гроссман. Она вызвала бурную дискуссию, в которой приняли участие крупнейшие литературоведы того времени. Гроссман утверждал, что «единственный раз на протяжении целого полустолетия маска с лица Бакунина была приподнята и сущность труднейшей психологической проблемы разрешена до конца в одной замечательной художественной интуиции... Ставрогин - это яркий рефлектор перед лицом Бакунина»14. Копья ломались целых два года. Вопрос остался открытым.
мянутой во второй книге трилогии работы В.В. Кожинова, обнаружить мне не удалось. Зато о Данилевском, помимо подробно расмотренной там же монографии Б.П. Балуева, была еще защищена докторская диссертация К.В. Султанова (Социальная философия Н.Я. Данилевского и проблема культурно-исторических типов в современной общественной мысли. Спб., 1995). Нельзя также не упомянуть многочисленные публикации правнучки Данилевского В.Я. Данильченко, особенно её эссе «Востребован временем» (Наше наследие. Вып.1. Ливны, 1999). В момент, когда подавляющее большинство славянских государств наперегонки стремятся в Европейский союз и в НАТО, не желая и слышать о Русско-славянской федерации, напророченной её прадедом, выражение «востребован временем» выглядит, согласитесь, несколько комично (как, впрочем, и аналогичные утверждения Б.П. Балуева и всей котерии современных последователей Данилевского).
Я вспомнил об этом лишь затем, чтобы показать, что с разделяемой всеми тогдашними оппонентами точки зрения, согласно которой Бакунин и Достоевский представлялись полярными противоположностями, проблема, собственно, не имеет решения. Другое дело, если мы посмотрим на них как на своего рода коллег-мифотворцев, которые при всех их различиях были едины в главном, в том, во что оба одинаково верили и что одинаково ненавидели. В этом случае нам тотчас становится очевидным: никак не мог быть Ставрогин сатирой на Бакунина. Просто потому, что был его антиподом.
Что призван олицетворять в «Бесах» Ставрогин? Европеизированный интеллект, до такой степени очищенный от славянофильского «цельного знания», от чувства и веры, что органически неспособен уверовать во что бы то ни было - будь то шигалевский рай, женская любовь, атеистический «муравейник», материнская привязанность или православный бог. Ставрогин не бес, Ставрогин - искуситель бесов, Мефистофель бесовства, Пигмалион навыворот, презирающий свою Галатею. Он оскоплен своим гипертрофированным интеллектом, он не холоден, не горяч - он тепл. И потому не может прилепиться душой ни к чему, и потому - рене- МА- Бакунин | гат по природе. Он изменил православию, в которое вовлек неверующего Шатова, и атеизму, которым соблазнил верующего Кириллова, чем погубил обоих. Изменил Лизе с Дашей и Даше с Лизой, России с Европой и Европе с Россией. Изменил всему, чему можно на этом свете изменить, запутал всех, запутался сам - и погиб в петле, как Иуда.
Ставрогин (читай: интеллект без веры) ренегат не какого-либо движения, он - ренегат всех движений, ренегат в принципе. И все оттого, что «гордость» убила в нем «смирение», интеллект убил веру,рациональность убила «цельное знание». В этом противоположении движется, как мы видели, славянофильская мысль вообще и мысль Достоевского в частности. «Бесы» - самый головной, самый идеологический из его романов, и потому славянофильская дихотомия (вера против разума) совершенно в нем обнажена.
| Ф.М. Достоевский
Нетривиально здесь другое. То, что именно эта дихотомия вдохновляла и Бакунина. Ибо он так же, как Достоевский, ненавидел гипертрофированный интеллект. И так же веровал. Причем веровал фанатически. Не только в свою идею всеобщего разрушения как в залог сотворения нового и прекрасного мира, но и в связанную с ней идею славянского мессианизма, несущего человечеству все, «что
есть инстинктивного и творческого в мире», и в первую очередь «историческое чувство свободы». Так же, как Достоевский, противополагал он интеллекту недоступную ему, непосредственную «народную правду, свободную от закоренелых и на Западе в закон обратившихся предрассудков». Бакунин никогда не изменял своей вере и своей ненависти. Уж чем-чем, а ренегатом он не был. И Достоевский знал это. Вот почему бес Петр Верховенский у него «мошенник, а не социалист».
Но если это так, то очевидно же,
что либо Достоевский не имел намерения изобразить Бакунина либо изобразил карикатурно. В обоих случаях предположение Гроссмана, что «сущность труднейшей психологической проблемы разрешена до конца», не подтверждается. Но разве в этом суть? На самом деле Ставрогин оказывается ключом не к частной психологической проблеме, но к философскому обобщению большой объяснительной силы, несопоставимо более важному, нежели гипотеза о его прототипе. Потому что именно в нем попытался Достоевский воплотить пронизывающую всю его публицистику генеральную славянофильскую
12 Яновидею о принципиальной неспособности разума разгадать законы мира и общества, открытые лишь интуиции верующего. О том, что европейский интеллект без веры - Мефистофель истории, провоцирующий человечество на неисполнимые, безумные акции и тем самым неотвратимо влекущий его в тупик безнадежности, преступления и бесовства.
Вот почему социальная функция и само даже существование носительницы этого интеллекта - «публики» в славянофильской номенклатуре, «антинародной» интеллигенции на современном жаргоне - оказывается сомнительным, если не вредоносным. В самом деле, если не для разгадывания законов мира и общества и не для просвещения народного существует интеллигенция, то для чего она? Если законы эти открыты лишь неиспорченной ложным просвещением интуиции, лишь «живому чувству» человека с улицы, если, как убежден был Достоевский, «народ наш просветился уже давно, приняв в свою суть Христа и его учение», и «христианство народа нашего есть и должно остаться навсегда самою главной и неизменной основой его просвещения», то зачем тогда интеллект и научный поиск?
Что, собственно, открывать науке, если вся информация, необходимая для праведной жизни, заранее запрограммирована в заповедных глубинах народного духа, и задача, стало быть, лишь в том, чтобы извлечь ее из этих изначальных метафизических глубин?
Ясно, что из всех наук действительно необходима разве что теология, да и то ортодоксальная, толкующая жития святых, т. е. те самые Четьи-Минеи, в которых и заключена, по Достоевскому, «народная правда». Вот откуда возникает у него интеллигенция как «чужой народик... очень маленький, очень ничтожненький». Согласитесь, что там, где в качестве кодекса и конституции идеального общественного устройства предлагаются Четьи-Минеи, интеллекту делать и впрямь нечего. Он способен лишь навредить. И потому должен быть сброшен с пьедестала, принижен, разрушен вместе с порожденным им ложным просвещением и всей подпирающей его
институциональной структурой - с ее университетами и академиями.
Но ведь это и означает на самом деле знаменитое бакунинское «Разрушение есть созидание». Перед нами вовсе не парадокс, перед нами вера. Средневековая вера, спору нет, но общая у Бакунина с Достоевским.
Вера вто, что, содрав, разрушив верхний, порочный, неистинный и «ничтожненький» слой социальной структуры, мы найдем под ним вечный и неизменный пласт «народной правды», метафизический источник добра и красоты, истинное просвещение, освобожденное от сатанинских «хитростей разума».
Первая неожиданность состоит здесь, как видим, в том, что разоблачитель русских бесов и сам верховный бес мыслят, оказывается, совершенно одинаково. Еще большая неожиданность, однако, что самый яркий интеллектуальный оппонент обоих Константин Леонтьев был в этом смысле, как мы увидим, совершенно с ними согласен. Его византизм, который «как сложная нервная система пронизывает весь великорусский общественный организм», и был тем самым неизменным подземным пластом добра и красоты, околдовавшим Достоевского и Бакунина.
Но самая большая неожиданность все-таки в том, что эти трое - революционер-анархист, национал-либерал и радикал- консерватор - несовместные во всем остальном, как гений и злодейство, одинаково оказались апологетами самодержавия.
В конце концов то, что Бакунин, Достоевский и Леонтьев друг на друга не похожи, - тривиально, общеизвестно, здесь никакой проблемы нет. Проблема в том, что у них общего. И в том, помогло ли им это общее адекватно разобраться в современной им политической реальности и предложить правильные прогнозы.
1 I Глава седьмая
ПрОрОЧеСТВО | Три пророчества
Бакунина (1860-е)
«Русский народ, - утверждает Бакунин, - движется не по отвлеченным принципам. Он не читает ни
иностранных, ни русских книг, он чужд западным идеалам и все попытки доктринализма консервативного, либерального, даже революционного подчинить его своему направлению будут напрасны... У него выработались свои идеалы, и составляет он в настоящее время могучий, своеобразный, крепко в себе заключенный и сплоченный мир, дышащий весенней свежестью... Свободный от закоренелых и на Западе в закон обратившихся предрассудков религиозных, политических, юридических, социальных, он создаст и цивилизацию иную: и новую веру, и новое право, и новую жизнь»[93]. Что создаст он на самом деле СССР, Бакунину, конечно, и в голову не приходило).
Так или иначе, корневой, органический фундамент, в котором запрограммирована вся освободительная информация, обнаруживается у Бакунина сразу. И нисколько не смущает его, так же как и Достоевского, «непросвещенность» этого фундамента. Напротив, видит он в ней преимущество, а вовсе не недостаток: «Народ наш, пожалуй, груб, безграмотен... но зато в нем есть жизнь, есть сила, есть будущность - он есть... А нас, собственно, нет; наша жизнь пуста и бесцельна...» Не правда ли, очень естественно продолжается эта тирада Бакунина уже цитированными словами Достоевского насчет «чужого народика»?
Народную веру в царя Бакунин тоже принимает как данность. Проверить этот стереотип ему тоже в голову не приходит. Да, русский народ верит в самодержавие и «здесь не место углубляться в причину этого факта многозначительного, потому что рады мы этому или нет, он обуславливает непременно и наше положение и нашу деятельность».
Средневековье, таким образом, задано уже в катехизисе будущего идеального государственного устройства. В Четьи-Минеях. Реальный политик не оспаривает данность. И устрашающее язычество этой предполагаемой веры его тоже не пугает: «царь - идеал русского народа, род русского Христа, отец и кормилец своего народа»[94].
Где же здесь слой социальной структуры, предназначенный «к сдиранию» для освобождения подземных вулканических сил «народного духа»? Он, разумеется, тут как тут: «Теперь народ за царя и против дворянства, и против чиновничества, и против всего, что носит немецкое платье. Для него все враги в этом лагере официальной России, все - кроме царя»17.
«Немецкое платье» упомянуто здесь не для риторики. С ним подходим мы к еще одной любопытной черте исследуемого способа политического мышления. Подлежащий разрушению слой объявляется не только чуждым «русскому духу», но и обязательно инородным, т.е. навязанным народу извне, порождением чужого, западного «духа». И свержение его с русского пьедестала - непременное условие строительства новой свободной жизни. В данном случае в качестве этого лжекумира фигурирует «дух» немецкий, воплотившийся в «германской правительственной системе».
Французский анархист Лагардель, написавший предисловие к книге Бакунина, так объясняет эту черту его утопии: «Перед лицом германской расы, живого выражения догмата и авторитета, славянство представляет все, что есть инстинктивного и творческого в мире. Если Россия стонет под политическим гнетом, то это потому, что она испытывает влияние Германии и ее правительственной системы. Стоит только освободить ее от этих германских цепей, и она распространит в цивилизованном мире то чувство свободы, которое есть ее исторический штемпель»18.
Вот как всё, оказывается, просто. Освободим Россию от германских цепей - и мир свободен. Вопроса о том, как сопрягается вожделенная свобода, этот «исторический штемпель» России, с трехсотлетним закрепощением соотечественников и вообще с тем, что Герцен называл «долгим рабством», ни автор предисловия, ни сам Бакунин не касаются вовсе. Для них судьба «цивилизованного мира» сводится, по сути, лишь к тому, с кем пойдет самодержец - со своим народом или с немцами. Так Бакунин, собственно, и пишет: «весь вопрос состоит в том, хочет ли он быть русским земским царем Романовым или голштейн готорпским императором петербургским. Хочет он служить России, славянам или немцам?»19
Там же. С. 27.
Там же. С. 5.
Вот вам и миф: русское самодержавие, разумеется, «земское», оказывается вдруг необходимым условием европейской свободы. Декабристам, для которых дело как раз и заключалось в принципиальной несовместимости самодержавия со свободой, такая постановка вопроса показалась бы дикой. Славянофилы, напротив, нашли бы ее естественной. Вот почему, если мы хотим представить себе масштаб влияния славянофильства на русскую мысль, случай Бакунина, неистового революционера и к тому же западника, представляется идеальным. Тем более что сам он никогда, собственно, и не скрывал своего восхищения славянофилами и в особенности Аксаковым. Много лет спустя Бакунин писал Герцену: «Константин Сергеевич вместе со своими друзьями был уже тогда (в 1830 годах) врагом петербургского государства и вообще государственности, и в этом отношении он даже опередил нас». Как видим, анархист- западник Бакунин неожиданно оказывается олицетворением «национально ориентированной» интеллигенции.Только в отличие от ортодоксальных славянофилов, он не мог не поставить рокового вопроса: «Но что если вместо царя-освободителя, царя земского народные посланцы встретят в нем петербургского императора в прусском мундире, тесносердечного немца, окруженного синклитом таких же немцев?» Вот прогноз Бакунина на этот случай: «Ну, тогда не сдобровать и царизму, по крайней мере, императорскому, петербургскому, немецкому, голштейн-готорпскому»[95]. Заметьте это «по крайней мере». Бакунин бунтует не против царизма, но против немцев и тут - простор для его консервативной утопии. Ибо «если бы в этот роковой момент... царь земский предстал перед всенародным собором, царь добрый, царь приветливый, готовый устроить народ по воле его, чего бы он не мог сделать с таким народом? И мир и вера восстановились бы как чудом»21.Таким образом генеральное преимущество России перед «окоченелой европейской жизнью» складывалось, как видим, в представлении «национально ориентированного» интеллигента из трех составных. Во-первых, оно в ее «черном народе, русском, добром и угнетаемом мужике», у которого «выработался ум крепкий и здоровый, зародыш будущей организации». Во-вторых, в самодержавии, т. е. в способности царя содрать верхний «немецкий» институциональный слой «без потрясений, без жертв, даже без усиленной борьбы и шума». В-третьих, сделать все это можно, только отстранив развращенную европейским доктринализмом «образованную часть общества», интеллигенцию.
Вот почему, когда встанет вопрос «за кем идти?», «за Романовым, за Пугачевым или, если новый Пестель найдется, за ним, скажем правду, мы охотнее всего пошли бы за Романовым, если б Романов мог и хотел превратиться из петербургского императора в царя земского».[96] Другими словами, самодержавие предпочтительнее даже революции, которой Бакунин посвятил жизнь. При любых условиях, однако, не пойдет «национально ориентированный» интеллигент 1860-х за последователями Пестеля с их «абстракциями» и «доктринами». Уж им-то русский народ никогда «не сможет поручить этого дела, потому что никто в образованном русском мире не жил еще его жизнью». Тем более, что «западные абстракции, консервативные ли, либерально-буржуазные или даже демократические, к нашему русскому движению неприменимы»[97].Мы видим здесь просто графически, как из полудекабриста тридцатых годов превратился «национально ориентированный» интеллигент шестидесятых в антидекабриста. Видим, как культ «простого народа» сделал его антиинтеллектуалом и как ухитрился он окончательно мистифицировать проблему свободы. Еще более неожиданно то, как естественно перешел он к панславизму. Ибо для Бакунина, как и для Аксакова (Славянский благотворительный комитет, если помнит читатель, основан был именно в i860 году), свобода России оказалась каким-то образом привязана к моменту, когда «создастся вольное восточное государство» и «столицей его будет Константинополь»24.
I Глава седьмая I
ПрОрОЧеСТВО | тРипророчества |
Достоевского (1870-е)
Достоевский глубже и основательней Бакунина. Его аргументация серьезней и, если можно так выразиться, глобальней, а рекомендации и прогнозы более конкретны. Пристрастие к самодержавию обосновывается тысячелетием борьбы православия против католицизма, истинного христианства против Великого Инквизитора, мечты о духовном всечеловеческом «братстве во Христе» против претензии на «механическое, без Бога, устройство жизни». Загадочным образом русское самодержавие оказывается у Достоевского воплощением всечеловеческого братства. Так или иначе современный конфликт перерастает под его пером в конфликт вселенский. Естественно, что реальную его историю начинаетон с времен античных.
«Древний Рим первый родил идею всемирного единения людей и первый думал практически ее выполнить в форме всемирной монархии. Но эта формула пала перед христианством - формула, а не сама идея... Пала лишь идея всемирной римской монархии и заменилась идеалом всемирного же единения во Христе. Этот новый идеал раздвоился на восточный, то есть идеал совершенно духовного единения людей, и на западно-европейский, римско-като- лический, папский, совершенно обратный восточному»[98].
Так формулируются два полюса исторической драмы и устанавливается ее отрицательный герой, Антихрист-«католичество, продавшее давно уже Христа за земное владение». Заметьте, что Достоевский не упоминает иосифлянство, проделавшее в России XVI века точно ту же операцию, что и католичество на Западе и лишившееся «земного владения» лишь благодаря петровскому повороту к Европе. Но, продолжает как ни в чем не бывало свою диатрибу Достоевский, католичество, «бывшее, таким образом [каким образом?] главнейшей причиной материализма и атеизма
Европы; это католичество, естественно, породило в Европе и социализм»26.
Итак, пусть исторически и логически некорректно, устанавливается, что Антихрист двулик, как Янус, и обе грозные его ипостаси - папство и социализм - едины в том, что «имеют задачей разрешение судеб человечества уже не по Христу, а вне Бога и вне Христа», и потому угрожают самому существованию человечества. Угрожают, конечно, уже давно, но именно сейчас, по истечении 1877 года от рождества Христова (когда, как помнит читатель, русские войска шли на Константинополь), «она накануне падения, ваша Европа, повсеместного, общего и ужасного. Муравейник ... подкопан. Наступит нечто такое, чего никто и не мыслит. Все эти парламентаризмы, все исповедуемые сейчас гражданские теории, все накопленное богатство, банки, жиды, все это рухнет в один миг и бесследно... Все это близко и при дверях ...предчувствую, что подведен итог»27.
Вот оно, пророчество Достоевского. Наступает для Европы час Апокалипсиса. Время задуматься, как спасать мир. И кто спасет его. Социалисты? Но эти «жаждут муравейника, а пока зальют мир кровью»28. На радость, разумеется, папству, которому они на самом деле служат, хотя об этом и не подозревают. Ибо «католичеству даже выгодны будут резня, кровь, грабеж и хотя бы даже антропофагия. Тут-то оно и может надеяться поймать на крючок в мутной воде свою рыбку... и очутиться вновь, но уже всецело и наяву, нераздельно ни с кем и единолично земным владыкою и авторитетом мира сего, и тем окончательноуже достигнет цели своей»29.
И не было бы миру спасения, когда б не выросли на горизонте величественные контуры нового мессии - носителя «восточного идеала», где «в силу духовного соединения всех во Христе... правильное государственное и социальное единение»30. Для читателя, знако-
Там же. с. 489.
Там же. С. 631.
Там же. С. 319.
39 Там же. С. 498.
мого со второй книгой трилогии, сходство с аналогичным пророчеством Тютчева должно быть неотразимо.
Разумеется, как и уТютчева, роль спасителя Европы отводится России. И самодержавию. А также православию. Одним словом тому, что «народ русский в огромном большинстве своем православный и живет идеей православия во всей полноте». Вот почему, «когда все рухнет, волны разобьются лишь о наш берег»31.
Так выглядят противоборствующие силы в драматической консервативной утопии Достоевского, такова их расстановка и соотношение, таков его прогноз - накануне Сан-Стефанского договора и, не забудем, Берлинского конгресса. Читатель знает уже, каким стыдом и разочарованием все это обернулось. Но Достоевский еще не знает. И он продолжает формулировать свою программу спасения «европейского человечества» от кровожадного католицизма и его бессознательного орудия - социалистов.
Что для этого нужно? В первую очередь, самой России очиститься накануне Апокалипсиса Европы, разобраться «без европейской опеки с нашими общественными идеалами, непременно исходящими от Христа и личного самосовершенствования»32. Познакомившись с «программой Аксаковых» - и Бакунина - мы уже вполне представляем себе, что именно имеет в виду Достоевский. Освобождение подземных вулканических сил православного народа, для чего, естественно, должен быть «содран» и разрушен верхний европеизированный слой общества, тот самый неисправимый «чужой народик». А западному социализму - порождению и прислужнику папства - должен быть противопоставлен «наш русский социализм». В том-то ведь и заключается роковая ошибка либералов, что «они не признают в русском народе церкви. Я не про здания церковные сейчас говорю и не про причты, я про наш русский социализм теперь говорю... цель и исход которого всенародная и вселенская церковь, осуществленная на земле, поколику земля может вместить ее»33.
Там же. С. 665.
Там же. С. 633.
Подробности русского социализма изложены в откровениях старца Зосимы в «Братьях Карамазовых» и сверх того в возобновленном в последний год жизни Достоевского «Дневнике писателя»: «Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского, он верит, что спасется в конце концов всесветным единением во имя Христово. Вот наш русский социализм»[99].Разумеется, внутриполитическая программа Достоевского отличается от бакунинской. Для освобождения фундаментальных сил «русского духа» требует она, например, разрушить слой культурный - а не институциональный, европейский, а не германский. И вообще Бакунина едва ли устроила бы формулировка социализма как «всесветного единения во имя Христово». При всем том различия эти касаются, скорее, деталей и формулировок, нежели существа дела. Проистекают они лишь из того, что в основание утопии положено иное метафизическое начало: не «народная организация», а «народная вера». Действительно важные различия возникают, когда речь заходит о программе внешнеполитической.Если для Бакунина виновником всех бед России был «немецкий дух» и соответственно Германия, то в утопии Достоевского на роль вселенского дьявола претендует в качестве «обнаженного меча папства» и «родины социализма» Франция. Именно ей пророчит он самое мрачное будущее: «Франция отжила свой век... разделилась внутренне и окончательно сама на себя навеки... в ней никогда уже не будет твердого и единящего всех авторитетного правления, здорового национального и единящего центра... Францию ждет судьба Польши, и политически жить она не будет»35. Вот вам еще один прогноз, естественно следующий из центрального мифа утопии. Согласитесь, что сегодня он выглядит особенно впечатляюще.
Что же до Германии, руководимой Бисмарком, «единственным политиком в Европе, проникающим гениальным взглядом в самую суть фактов» и узревшим в результате «самого страшного врага Германии в католицизме и порожденном католицизмом чудовище - социализме»36, то все симпатии Достоевского на ее стороне. Конечно, она в непомерных своих притязаниях ошибается, конечно, «не она остановит чудовище: остановит и победит его воссоединенный Восток и новое слово, которое скажет он человечеству»37. Но имея в виду общего врага, с ней нужно и можно договориться по-доброму.
Тем более «что Германии делить с нами? Объект ее - все западное человечество. Она себе предназначила западный мир Европы, провести в него свои начала вместо римских и романских начал и впредь стать предводительницею его, а России она оставляет Восток. Два великие народа, таким образом, предназначены изменить лик мира сего»38. Вот вам и биполярность. Временная, конечно. Ибо вспомним и другое, уже известное читателю пророчество Достоевского, согласно которому «Истинный великий народ никогда не может примириться со второстепенною ролью в человечестве и даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою... Но истина одна, стало быть, только единый из народов может иметь Бога истинного... Единый народ-богоносенец - русский народ»39.
Но в ближайшей перспективе прогноз Достоевского таков: Россия останавливает и побеждает «чудовище» (социализм), после чего великодушно отдает Запад для «предводительствования» Германии. В обмен, разумеется, на Восток и Константинополь. (Читатель помнит, конечно, что «Константинополь должен быть НАШ»). И если предлагаемый раздел мира между Россией и Германией смутно напомнит читателю грядущий пакт Молотова- Риббентропа и его исход, Достоевский тотчас же и опровергает эту параллель. Нет, не только для тактических выгод нужен этот союз двух великих народов. Ему кажется совершенно «ясным: мы нужны Германии даже более, чем мы думаем. И нужны мы ей не для минутного политического союза»40.
Там же. С. 493.
Там же. С. 498.
Там же.
Достоевский Ф.М. Собр.соч.: в 30 т. Т. ю. Л., 1947. С. 200.
Я не должен напоминать читателю, что все это писалось, конечно, до Берлинского конгресса, впрах развеявшего мечты о Константинополе и тем более о союзе с Германией. Иллюстрируют воинственные прогнозы Достоевского лишь то, до какой степени «национально ориентированные» интеллигенты 1870-х со всеми своими панславистскими и прогерманскими пристрастиями и впрямь оказались простыми марионетками в руках Бисмарка. Что до истории, как развивалась она в последующие десятилетия, то пророчества Достоевского имеют к ней примерно такое же отношение, какое детские мультипликации имеют к реальной жизни.
Глава седьмая Три пророчества
Где падение Европы, «повсеместное, общее и ужасное»? Где папство, которому выгодны «резня, кровь, грабеж и хотя бы даже антропофагия»? Где Франция, «разделившаяся навеки», которую «ожидает судьба Польши»? Где, наконец, православие, раздавившее «чудовище социализма»? Если что-нибудь все это и напоминает, то разве лишь пророчество Бакунина о «едином вольном восточном государстве со столицей в Константинополе».
Человек-миф
О Леонтьеве писали - и пишут, как мы видели, - много и разное. Либералы, конечно, ругали. Свои, однако, кусали больнее и ядовитее (мы скоро увидим, почему). В последнем за 1885 год номере Вестника Европы напечатали анонимную рецензию (впоследствии ее приписывали перу главного редактора этой штаб-квартиры либералов Михаила Стасюлевича) на книгу Леонтьева «Восток, Россия и Славянство». Рецензия была откровенно оскорбительная: «Г-н Леонтьев, бывший консул на Востоке, является горячим сторонником славянофильства, доведенного до абсурда ... он весь ушел в византийские бредни, от которых веет чем- то совершенно затхлым, беспощадно фантастическим ... мистик на грубой хищнической подкладке»41.
А вот для сравнения отзыв Сергея Шарапова, одного из вождей славянофильства третьего, предреволюционного, поколения и главного редактора Русского дела: «Как характеристику Леонтьева мы приведем следующие, нами лично услышанные удивительные положения: «Урядник тоже немножко помазанник божий», «Цензура должна стеснять литературу, а не помогать ей», «Я совершенно разделяю культ палки»42. Либеральный редактор, как видите, просто разбранил, а славянофильствующий, похоже, доносит. Конечно, Леонтьев тоже, как помнит читатель, не считал донос за грех. Доносить-то не грех, но ведь не на своих же!
И вдобавок еще Шарапов печатает в своей газете фельетон некоего П. Аристова, уже прямо выходящий за рамки приличия, даже относительного, «патриотического». «Любит ли г-н Леонтьев свою родину? Вот вопрос, который приходит на ум все чаще и чаще... Затрагивать все великое, священное и резонировать, резонировать без конца, да ведь это же кощунство! Сурово-несправедливая аттестация творчеству русского духа и славизма за целую тысячу лет - позор для русского писателя! Г-н Леонтьев читает отходную России, славянству и целому человечеству. Нам-то что из того, что одному из «любителей родины» не видно ее будущего? Страшен сон, да милостив Бог. Истомилась жизненность не в России, не в славянстве, а в старом честолюбце-неудачнике»43. Либералы, по крайней мере, на личности не переходили...
Впрочем, обливавшая, как мы только что видели, Леонтьева грязью при жизни черносотенная публика с тем же рвением бросилась на защиту репутации «великого патриота от грязных лап еврейской библиографии» после его смерти. Для нововременского публициста А.А. Бурнакина Леонтьев уже «великий христианин, великий славянин, великий совестивец, великий патриот» - в отличие от всяких Гершензонов или Струве, пытавшихся сварить «новый маргарин по рецептам еврейской ортодоксии»44. Да и Василий Васильевич Розанов, близко сошедшийся с Леонтьевым в последний год его
Русское дело. 1882. № 19.
Там же. 1888. №2.
жизни, вспоминал о нем с восторгом: «Это был Кромвель без меча- Был диктатор без диктатуры... Более Ницше, чем сам Ницше»*5.
Но поистине глубокую, серьезную и уважительную статью-некролог о Леонтьеве, свободную и от оскорблений и от восторгов, написал, конечно, Владимир Сергеевич Соловьев. А между тем за две недели до своей смерти Леонтьев был до такой степени раздражен его высказываниями, что говорил одному из своих друзей: «Надо бы, чтобы духовенство наше возвысило свой голос... Скажут, много чести? Я не согласен. Преосвященный Никанор удостоил же внимания своего Л.Н. Толстого. А что такое проповедь этого самодура и юрода сравнительно с логическою и связною проповедью сатаны Соловьева!»[100].Лучшей, однако, его характеристикой служит, пожалуй, то обстоятельство, что единственное, в чем когда-либо согласились такие антиподы, как марксист Михаил Покровский и экзистенциалист Николай Бердяев, была именно оценка Леонтьева. Покровский говорил о нем как «о самом талантливом и самом откровенно русском дворянине второй половины XIX века»[101], Бердяев как о «самом крупном, единственно крупном мыслителе из консервативного лагеря»[102].Поколение спустя после смерти Леонтьева, «он не просто оброс мифами в толкованиях и интерпретациях, - пишет в послесловии к первой книге «К.Н. Леонтьев: pro et contra» А.П. Козырев, - он сам стал мифом, одновременно манящим и устрашающим»[103]. Даже Осип Мандельштам, по авторитетному свидетельству Надежды Яковлевны, увлекся на «короткое время Леонтьевым, но к чести своей сумел быстро его разгадать: «Он считал Леонтьева значительным мыслителем, но причислял его к лжеучителям»[104].
В эпоху гражданской войны, представление о нем как о пророке, то самое, в котором отказали ему современники, становится общепринятым. В 1918 году вышла книга Сергия Булгакова «Тихие думы», где наряду с интересными замечаниями о «византийско-мусульман- ском православии Леонтьева» и об «идеале халифата, религиозной деспотии», который «явственно пробивается через его христианство», утверждалось уже как нечто положительно бесспорное: «по смелости, доходящей до дерзости, Леонтьев, этот вдохновенный проповедник реакции, есть самый независимый и свободный русский писатель, притом принадлежащий к числу самых передовых умов в Европе... События сделали нынче для каждого ясным, в какой мере он был историческим буревестником, зловещим и страшным»51.С возникновением евразийства, которое, по сути, было простым продолжением его идеи о «славяно-азиатской цивилизации», репутация пророка укрепилась за Леонтьевым окончательно. Сошлюсь лишь на статью одного из лидеров евразийства Петра Сувчинского: «Ведь в нынешней катастрофе нет ничего неожиданного; сбылось все писанное и предреченное (хотя бы страстные и упорные пророчества Константина Леонтьева)»52. А современный итальянский философ Е.Гаспарини вообще полагает, что «не существует предсказаний, кем бы они ни делались, от Нострадамуса до Мадзини, от Маркса до Ницше, Герцена и Бакунина, которые предсказали бы будущее с конкретностью и точностью хотя бы приближающимся к леонтьевским»53.
Как ни странно, профессор Гаспарини оказался единственным, сколько я знаю, из тех, кто писал о Леонтьеве, сфокусировавшим внимание читателей не столько на его религиозных или философских взглядах, сколько на политических пророчествах. Вкратце заключение Гаспарини (на которое я возражал в «Вопросах философии» еще во времена, когда там царил Мераб Константинович Мамардашвили) сводилось к тому, что Леонтьев «предвидел само направление международной советской политики»54.
Булгаков С.Н. Тихие думы. 1918. С. 128.
Евразийский временник. Кн. 3. Берлин, 1923. С. 40.
GaspariniE. Scritori Russi. Padova, 1966, P. 678.
Ibid. P. 679. См. в этой связи А. Янов «Славянофилы и Константин Лентьев», Вопросы
И хотя я совершенно не согласен с интерпретацией Гаспарини (просто потому, что конкретные политические прогнозы Леонтьева, как мы скоро увидим, не выходили за рамки той расстановки сил на международной арене, которая сложилась в 1880-е), в принципе иду я по его стопам. В том смысле, что интересует меня здесь вовсе не то, что занимало тех, кто писал о Леонтьеве (так же, как о Бакунине, Достоевском или Тютчеве), но главным образом политические его прогнозы.
Ревизионист славянофильства
Нет спора, Леонтьев смотрел на вещи куда трезвее Достоевского и Бакунина. Да и то сказать, восьмидесятые годы требовали трезвости. Сокрушительная неудача обоих крестовых походов на Константинополь, воспетых Погодиным и Иваном Аксаковым, Берлинский конгресс, цареубийство и «измена» Болгарии надолго (но, как мы еще увидим, отнюдь не навсегда) излечили «национально ориентированных» как от панславистских иллюзий, так и от мечтаний о спасении Европы посредством распространения на нее «русского духа». С наивным мессианизмом отцов- основателей было покончено. И самого даже Ивана Аксакова заподозрили уже в крамольном либерализме.
Николай Данилевский первый, как мы помним, возвел племенное различи^ между Россией и Европой в ранг естественноисториче- ского закона. Он отрицал само понятие всемирной истории, заменив его «теорией культурно-исторических типов» (на современном языке «цивилизаций»), между которыми столько же общего, сколько, допустим, между рыбами и ящерицами. И постольку для его ученика
Глава седьмая Три пророчества
философии. 1969. №8. См. также, как разительно отличается заключение Гаспарини от интерпретации, скажем, М.Ю. Чернавского, защитившего диссертацию о «Религиозно- философских основах консерватизма K.H. Леонтьева» (М., 2000), не говоря уже об удивительных выводах Д.М. Володихина. Впечатление такое, словно рассуждая об одном и том же человеке, все эти авторы имеют на самом деле в виду совершенно разных людей. Так, впрочем, как правило, и бывает, когда мыслитель, потерпевший при жизни сокрушительное поражение, становится после смерти мифом.
Леонтьева Европа уже вовсе не «вторая родина», которую предстояло спасать «от парламентаризма, анархии, безверия и динамита», но лишь вредный и опасный источник либеральной инфекции, от которого «северный исполин... заразился бактериями западной демократии... заболел либеральной горячкой»55.
Вдобавок Леонтьев уже не верит, в отличие от Достоевского, в спасительную силу «всемирного единения во Христе», содержащуюся якобы в православии русского простого народа, не верит даже и в сам этот простой народ, не желает перед ним «преклоняться и ждать от него правды». Ибо «русский простолюдин наш... вместо того, чтобы стать нам примером, как мы, националисты, когда-то смиренно и добросердечно полагали... стал теперь все более и более проявлять наклонность заменить почти европейского русского барина почти европейскою же сволочью с местным оттенком бессмысленного пьянства и беззаботности в делах своих»56.Короче, и на Европу, и на простой народ, и на все прочие иллюзии ретроспективной утопии, включая крестьянский мир и Земский собор, не говоря уже о панславизме, смотрит Леонтьев, в отличие от современных интерпретаторов, глазами трезвыми и беспощадными. Ему и в голову не приходит звать свой народ «домой», в Московию. В ней находит он лишь «бесцветность и пустоту, бедность, неприго- товленность». И к ужасу ортодоксальных славянофилов честно признается, что «домом» своим считает как раз проклятую ими петербургскую Россию. Ибо «начало нашего более сложного и органического цветения ... надо искать в XVIII веке, во время Петра I»57.
Само собою разумеется, с порога отвергает Леонтьев весь самокритичный нравственный пафос, унаследованный славянофилами от декабристов, их страстный протест против закрепощения соотечественников. Ему смешны пламенные восклицания Константина Аксакова, что «нравственное дело должно и совершаться нравственным путем, без помощи внешней принудительной силы»58.
К.И.. Собр. соч.: в 12 т. М., 1912-14. Т. 5. с. 293.
Там же. С. 246.
Там же. С. 116.
Цит. по: Венгеров С.А. Собр. соч. Спб., 1912. Т. 3. С. 64.
Леонтьев отвечает на это издевательской усмешкой опытного и циничного политика: «Нет ничего нравственного, а все нравственно или безнравственно только в эстетическом смысле». И потому «сам Нерон мне дороже и ближе Акакия Акакиевича или какого- нибудь другого простого и доброго человека»59.И вообще Леонтьев полагал себя «славянофилом на особый салтык» и, как мы уже слышали, заявлял с некоторой даже бравадой: «имею дерзость считать себя более близким к исходным точкам и конечным целям Хомякова и Данилевского, чем полулиберальные славянофилы неподвижного аксаковского стиля»60. И тех, «полулиберальных», презирал он откровенно, уверяя даже читателей, что «Государь Николай Павлович был прав, подозревая, что под широким парчевым кафтаном их величавых вещаний незаметно для них самих скрыты узкие и скверные панталоны обыкновенной европейской буржуазности»61.Не пощадил он, впрочем, и своего учителя. Данилевский был уверен, как мы знаем, что «для всякого славянина после Бога и святой церкви идея славянства должна быть высшей идеей, выше свободы, выше просвещения, выше всякого земного блага»62. Для Леонтьева это было лишь вредное «славянопотворчество», «славя- новолие», «славянобесие»63. Кто оказался прав в этом жестоком споре рассудила история, хотя сегодняшние утописты-консерваторы, отчаянно пытающиеся усидеть на двух стульях, предпочитают делать вид, что никакого такого спора и не было64.
На самом деле Леонтьев беспощадно разрушал самые основы пророчества Данилевского. Ибо, полагал он, грозит Всеславянский Союз «ничем иным, как все большей и большей и весьма пошлой буржуазной европеизацией; ибо вся славянская интеллигенция -
Цит. по: Бердяев Н.А. Леонтьев К. Париж, 1926. С. 27.
Леонтьев К.Н. Собр. соч. Т. 6. С. 118.
Там же. Т. 7. С. 432.
Цит. по: Волжский А. Святая Русь и русское призвание. М., 1915. С. 36.
Леонтьев КН. Собр. соч. Т. 6. С. 119.
См., например, РепниковА.В. Современная историография российского консерватизма. www. nationalism, org
сплошь от Софии и Филиппополя до Праги - с ничтожными оттенками как две капли воды похожа на среднего европейца»[105].
Как раз напротив, «если славянофилы не желают повторять одни только ошибки Хомякова и Данилевского, если они не хотят удовлетвориться одними только эмансипационными ошибками своих знаменитых учителей, а намерены служить их главному, высшему идеалу, то есть национализму настоящему... то они должны впредь остерегаться быстрого разрешения всеславянского вопроса»[106].
Теперь, я думаю, читатель понимает, почему так больно и ядовито жалили его свои, бывшие друзья и соратники, отчаянно цеплявшиеся за обломки старой утопии. Он был единственным среди них, кто мужественно посмотрел в глаза правде и без обиняков осмелился бросить им эту правду в лицо. Он сказал то, во что они не смели поверить: время национал-либерализма миновало безвозвратно. Ваша утопия сгнила. Она смехотворна. Панславизм столь же нелеп, сколь и славянофильская мечта о совмещении самодержавия со свободой
И потому забудьте все, чему учили вас Хомяков и Данилевский, не говоря уже об Аксаковых. Ибо «раз вековой сословно-корпора- тивный слой жизни разрушен эмансипационным процессом - новая прочная организация на старой почве и из одних старых элементов становится невозможной... Нужен крутой поворот, нужна новая почва, новые перспективы и совершенно непривычные сочетания и, главное, необходим новый центр, новая культурная столица»67.
Как видим, Леонтьев и впрямь был величайшим из ревизионистов славянофильства (как в интерпретации старой гвардии, так и интерпретации молодогвардейцев). Подобно мощному бульдозеру, наехал он на их хрупкую средневековую конструкцию и доказал убедительнее, чем кто бы то ни было, что нет ей места в современном мире, что она безнадежный анахронизм. В этом и была его настоящая роль в истории русской мысли.
И именно этого не прощали ему бывшие соратники. Представьте себе теперь уровень образования наших «национально ориентированных», если одинаково провозглашают они сегодня своими учителями и Достоевского с Иваном Аксаковым, и Леонтьева, который, как мы уже знаем, ненавидел Достоевского и глубоко презирал Аксакова (за «честную глупость» и «травоядность»)68.
Консервативный революционер
Но ошибались и бывшие соратники Леонтьева: не от национализма призывал он их отказаться, но лишь от консервативного утопизма. Просто не было, с его точки зрения, другого способа спасти русский национализм от уничтожающей критики истории, сохранив в нем главное, нежели кардинально его ревизовать.
А в принципе что ж, в принципе он был с ними согласен. «Я больше его националист», - воскликнул он однажды в отчаянии в ответ на уничтожающую критику старого соратника69. «Избави боже, - добавил он в другом случае, - большинству русских дойти до того, до чего шаг за шагом дошли уже многие французы, то есть до привычки служить всякой Франции и всякую Францию любить!.. На что нам Россия не самодержавная и не православная? На что нам такая Россия? Такой России служить или такой России подчиняться можно разве по нужде и дурному страху»70.
Это важно запомнить. Потому что без этого Леонтьева не понять. Несамодержавная Россия была ему не нужна. Такой он был патриот-с оговорками.
А теперь о том, что предложил Леонтьев взамен низвергнутой им средневековой утопии. Оказывается, увы, лишь другую утопию, ничуть не менее средневековую. Исходил он при этом из того же постулата, что предлагает сегодня в книге «Русский путь» Алексей Подберезкин: «Любое мироосознание должно быть выстрадано мас-
Иваск Ю.П. Цит. соч. С. 217-218.
Глава седьмая Три пророчества
Леонтьев К.Н. Цит. соч. С. 350 (выделено мною. - А.Я.). Там же. Т. 7. С. 206-207.
сой населения страны и сложиться в повседневной рутинной жизни людей»71.
Только Леонтьев, который был куда более глубоким мыслителем, нежели Достоевский, не говоря уже о Подберезкине, назвал это византизмом. Назвал, поскольку точно так же, как итальянец Гаспарини или англичанин Тойнби, был убежден, что русская культура не просто «сложилась в повседневной рутинной жизни людей», но что она также бессознательно, до самых, по его мнению, корней пронизана антизападной политической традицией, доставшейся ей в наследство от Византии. Ибо «византийский дух, византийские начала и влияния, как сложная ткань нервной системы, проникают насквозь весь великорусский общественный организм»72 - от самых рутинных бытовых привычек до национального самосознания.
В самом деле, - рассуждал Леонтьев, - «нас крестят по-византийски; нас отпевают и хоронят по византийскому уставу. В церковь ли мы идем, лоб ли дома крестим, царю ли на верность присягаем - мы продолжаем византийские предания; мы являемся чадами византийской культуры»73. Это попросту выше нас и сильнее.
Таким образом, в совершенно новой форме генетического кода, органического строения самого национального духа, вновь выплывает вдруг на поверхность словно бы навсегда уже затонувшая московитская Атлантида, тот первозданный материк народной культуры, в котором по-прежнему задана наперед вся историческая программа народа. А как же иначе, если именно «византийские идеи и чувства сплотили в одно тело полудикую Русь», если «византизм дал нам силу пережить татарский погром и данниче- ство», если «под его знаменем... мы, конечно, будем в силах выдержать натиск и целой интернациональной Европы, если б она осмелилась когда-нибудь предписать нам гниль и смрад своих новых законов о мелком земном всеблаженстве, о земной радикальной всепошлости»?74
Цит. по: Крахов О. Рецензия//НГ-сценарии. 1997, 13 февраля. Русское обозрени. 1892, № 1. С. 353. Леонтьев КН. Цит. соч. С. 335. Там же. Т. 5. С. 137.
Леонтьев здесь как бы отвечает Достоевскому - и Подберезкину. Для них «народная правда», сложившаяся «в повседневной рутинной жизни» православного народа, хороша тем, что она нравственна и в конечном счете совпадает с идеалом абсолютного Добра. Леонтьеву нет дела до Добра. И до нравственности, как мы видели, тоже. Он уверен, что «без страха и насилия у нас все пойдет прахом»75. И потому его «народная правда» проста и цинична. Она совпадаете крепостным правом, с самодержавием и с деспотизмом. «Дворянин привык начальствовать над крестьянином... Мужик привык испокон веку повиноваться господам... И все русские люди, начиная от последнего батрака, давно знали и знают теперь, что они повинуются одному и тому же Самодержавному Государю»76.
Это в ней, в народной правде, записано, согласно Леонтьеву, что самодержавное государство «обязано быть грозным, иногда жестоким и безжалостным, должно быть сурово, иногда и до свирепости»77. И самое главное, что «русская нация специально не создана для свободы»78. Достоевский, как мы помним, заклинал русскую интеллигенцию «преклониться перед правдою народною ... даже в том ужасном случае...» - так вот он вам, этот «ужасный случай», - уличает его Леонтьев. Готовы вы принять такую правду?
Но не был бы Леонтьев «самым острым умом, рожденным русской культурой в XIX веке», когда бы ограничился этим, по его собственному выражению, «историческим фатализмом». Для Достоевского, как и для Подберезкина, как, впрочем, и для всех «национально ориентированных», то, что «сложилось в повседневной рутинной жизни людей», пусть оно и почерпнуто хоть из Четьи-Миней, - закон. Высший и непреложный. Так было, так будет. Традиция неотменима, неоспорима. Движения истории, исторического творчества для них не существует. И если бы наследие Леонтьева сводилось лишь к этому тривиальному традиционализму, то, при всей колоритности его высказываний, едва ли кто-нибудь назвал бы его пророком. И круп-
Цит. по: Pro et contra. Кн. 2. С. 194.
Леонтьев КН. Цит. соч. Т. 7. С. 429.
Памяти Леонтьева: Сб. ст. Спб., 1911. С. 157.
Леонтьев КН.Письма к Фуделю//Русское обозрение. 1885. № 1. С. 36.
ным мыслителем не назвали бы тоже, не говоря уже о сравнении с Герценом или с Ницше.
В том-то и дело, что при всем своем «историческом фатализме» Леонтьев понимал, что история движется. Конечно, и в его проекте будущего, как и у Бакунина и у Достоевского, присутствует чужеродный верхний слой, подлежащий «сдиранию»(здесь он сохраняет абсолютную верность традиционному способу политического мышления всякого «национально ориентированного» интеллигента своего времени). Только у него в этой роли выступает не «германская правительственная система», как у Бакунина, и не «чужой народик», как у Достоевского, но режим, допустивший, чтобы «вековой сословно- корпоративный строй жизни [был] разрушен эмансипационным процессом». В этом смысле консерватор Леонтьев предстает перед нами мятежником и революционером ничуть не меньше Бакунина.С противоположным, конечно, знаком. Если Бакунин исходит из того, что в Четьи-Минеях записано «историческое чувство свободы», то для Леонтьева записан в них, как мы видели, «византийский» деспотизм. Но вот этот-то дорогой его сердцу деспотизм как раз и размывался на глазах под напором «буржуазного европеизма». Вот откуда у Леонтьева это постоянное трагическое ощущение ужаса перед «дальнейшим ходом либерального гниения, долженствующим разрешиться, вероятно, очень быстро торжеством нигилистической проповеди», ибо «нет народа, который нельзя было бы развратить»79.Короче говоря, не устраивал Леонтьева режим, пусть и самодержавный, но безнадежно отравленный «полулиберальным славянофильством», по собственной воле отказавшийся от необходимых «грозности» и «свирепости» и подписавший, таким образом, смертный приговор себе - и самодержавной России. Те, кто внимательно читал Леонтьева, заметят, что, многократно упоминая «Самодержавных Государей», он ни разу не упомянул в этом ряду Александра II.
Страстно защищая византизм как наследственный код страны, Великую реформу, эту, чужую, как он был убежден, страницу русской истории, он попросту вымарывает. Вот посмотрите: «Как мы отречемся оттого душевного наследия, от тех вековых привычек, которые
79 Леонтьев К.Н. Цит. соч. С. 502.
перешли преемственно к нашему народу и к правящим классам нашим от времен Михаила Федоровича, Петра I, Екатерины И и Государя Николая Павловича? Как мы от них отречемся? Мы не можем, не разрушая Россию, заставить организм ее иметь других предков, принять нетоттип, который он от них наследовал»80.
Два полностью отрицающих друг друга утверждения («изменить наследственный код народа невозможно» и «либеральное гниение», которое несет «торжество нигилистической проповеди», и при том «скорое», т. е. как раз радикальное изменение этого кода) соседствуют в его текстах на каждом шагу. И что еще может следовать из этого парадоксального соседства, кроме совершенно очевидного заключения, которое при всей своей отваге Леонтьев так никогда и не решился выговорить вслух: полулиберальный режим Александра II, его полуповорот к Европе, его попытка совместить московитское самодержавие с европейской риторикой и европейскими учреждениями способствовали «торжеству нигилистической проповеди»?
Глава седьмая Три пророчества
Вот почему вся его работа была на самом деле бунтом против режима пореформенной России, яростной проповедью революции, если угодно. Консервативной, разумеется, но все-таки революции.
Пророчество Константина Леонтьева (1880-е)
Нет сомнения, что задача перед ним стояла головоломная. Во всяком случае,^несопоставимо более сложная, нежели та, с которой имели дело Бакунин и Достоевский. Те свято верили в первоэлемент славянофильского способа политического мышления, в то же самое, во что верят сегодня, скажем, Зюганов или его бывший идейный наставник Подберезкин: в неразрушимость наследственного политического кода страны. Конечно, их представления о «народной правде», о том, что Зюганов зовет сегодня модным термином «народный менталитет», различались кардинально, были, как мы видели, противоположны. Но способ-то политического мышления оставался прежним. И он делал их задачу элементарной: достаточно содрать «чужеродный слой» - и вулканическая лава «народного менталитета» вырвется наружу.
Леонтьеву все эти инфантильные мифы были смешны. Он не верил в неразрушимость первоэлемента - тот разрушался на глазах. Фундамент русского византизма неотвратимо разъедала «либерально-буржуазная» ржавчина. И ужас был в том, что разрушало его то самое священное для него самодержавие, без которого он не мог представить себе Россию. Поэтому руки у него были связаны. Он не мог просто восстать против режима, как Бакунин (или как Зюганов). Он должен был с режимом этим работать, заставить его каким-то образом изменить самоубийственную политику, принять предложенную им программу консервативной революции. И не половинчатой, на которую только и оказались способны бюрократы Александра III, а радикальной, так сказать, ревизантинизации России, т.е. полного - и необратимого - возвращения ее в средневековье.
Теперь задача Леонтьева может быть сформулирована очень конкретно. Ему предстояло убедить глубоко охранительное правительство, для которого сама идея «революции» была синонимом катастрофы, в необходимости этой самой революции. Попробуйте прикинуть масштабы этой задачи, и вы тотчас убедитесь, что она и впрямь была головоломной.
А Леонтьев за нее взялся. И одно уже это свидетельствует, что как политический мыслитель он был на голову выше и Бакунина, и Достоевского (и своих сегодняшних толкователей). Прав Гаспарини, когда говорит, что «отвага его мысли была беспримерна даже для России, где люди вообще не робки»81. Разумеется, программа «ревизантинизации» включала и массу тривиальных, с точки зрения славянофильства второго призыва, лозунгов. Например: долой интеллигенцию! Ибо «гнилой Запад - да, гнилой, так и брызжет, так и смердит отовсюду, где только интеллигенция наша пробовала воцаряться»82. Или: долой всеобщую грамотность и вообще просвещение! Ибо «обязательная грамотность только тогда принесет хорошие
Gasparini Е. Ibid. Р. 68i.
Леонтьев К.Н. Восток, Россия и славянство. Спб., 1885-1886. т. 2. С. 13.
плоды, когда помещики, чиновники, учителя сделаются все еще гораздо более славянофилами, нежели они сделались под влиянием нигилизма, польского мятежа и европейской злобы»83.
Именно эти злосчастные декларации и сделали Леонтьева мишенью критических залпов как либеральной прессы, так и полулиберальных обломков старого славянофильства. В пылу этой слишком легкой охоты просмотрели они, однако, вещи куда более существенные. Например то, как осторожно, но настойчиво пытался Леонтьев приучить правительство и публику к мысли о неотвратимости феодального и самодержавного социализма.«Иногда я думаю (объективно и беспристрастно предчувствую), что какой-нибудь русский царь, быть может, и недалекого будущего, станет во главе социалистического движения и организует его так, как Константин способствовал организации христианства... Но что значит организация? Организация означает принуждение, значит благоустроенный деспотизм, значит узаконение хронического постоянного насилия над личной волей граждан»84.И снова: «Чувство моё пророчит мне, что Славянский Православный Царь возьмет когда-нибудь в руки социалистическое движение и с благословения Церкви учредит социалистическую форму жизни на место буржуазно-либеральной. И будет этот социализм новым и суровым трояким рабством: общинам, Церкви и Царю»85. А для тех, кто все еще не понял, о чем речь, он добавлял: «Социализм есть феодализм будущего... То, что теперь крайняя революция станет охранением, орудием строгого принуждения, дисциплины, отчасти даже и рабством»86. ^
Вот здесь и пригодилась ему пропасть между Россией и Европой, то бишь между «славянским» и «двухосновным романо-германским культурно-историческим типом», вырытая Данилевским. Да, - поучает Леонтьев свое туповатое правительство, - в Европе под социализмом понимают нечто совсем иное - страшное, нигилистическое. Но
Александров АЛ Цит. соч. С. 95.
Леонтьев К.Н. Письма к Губастову//Русское обозрение. 1B97. № 5. С. 400.
Там же. С. 417.
Леонтьев КН.Собр. соч. Т. 7. С. 500.
к нам-то какое это может иметь отношение? «То, что на Западе значит разрушение, у славян будет творческим созиданием»87. И рабством, конечно, и «хроническим постоянным насилием надличной волей граждан» - но и дисциплиной. И «орудием строгого принуждения». И возрождением «сословно-корпоративного строя». Одним словом, триумфом национального эгоизма или, чтобы уж совсем было понятно, национал-социализмом. То есть как раз тем, для чего мы, как уверен был Леонтьев, рождены. Понимаете теперь, почему Розанов назвал его «более Ницше, чем сам Ницше»?
А теперь конкретное политическое пророчество о том, как мог бы осуществиться этот план построения национал-социалистической России. Мы уже говорили, что одних внутренних контрреформ, с точки зрения Леоньева, для этого недостаточно, что прежде нужен крутой внешнеполитический поворот, способный создать «новую почву, новые перспективы и совершенно непривычные сочетания». Говорили и о том, что России жизненно «необходим новый центр, новая культурная столица». И тогда уже могло зародиться в уме читателя подозрение: да уж не идет ли опять речь о том самом злополучном Константинополе, о котором так отчаянно грезили и Бакунин, и Достоевский, и Тютчев? Что ж, и впрямь о нем, хотя Леонтьев никогда его Константинополем и не называл: «Таким поворотным пунктом для нас, русских, должно быть взятие Царьграда и заложение там основ новому культурно-государственному зданию».
Уже из этого очевидно, что речь здесь для Леонтьева не просто еще об одном, пусть и открывающем России ворота в Средиземноморье, территориальном приобретении. И даже не просто о символе возрождения России. Для него здесь решающий элемент плана «ревизантинизации» страны, призванный заменить не только вялые и неэффективные внешнеполитические телодвижения правительства, но и резко развернуть прочь от Европы всю культурно-политическую ориентацию страны. «Скорая и несомненная (судя по общему положению политических дел) удачная война, - предсказывал он в 1882 году, - долженствующая разрешить восточный вопрос и утвердить Россию на Босфоре, даст нам сразу выход из нашего нравственного и политического расстройства, который мы напрасно будем искать во внутренних переменах»88.
Вот что должно, согласно пророчеству Леонтьева, произойти дальше. «Само собою разумеется, что Царьград не может стать административной столицей для Российской империи, подобно Петербургу. Он не должен даже быть частью или провинцией империи. Великий мировой центр этот с прилегающими округами Фракией и Малой Азией должен лично принадлежать государю- императору (наподобие Финляндии или прежней Польши). Там само собою при подобном условии и начнутся те новые порядки, которые могут служить высшим объединяющим культурно-государственным примером для юоо-летней, несомненно уже уставшей и с 6i года заболевшей эмансипацией России»89.
Таким образом, архаический, «уставший» и «заболевший» византизм уступит место византизму новому. Старая Российская империя станет лишь формой, лишь пустым сосудом, предназначенным вместить в себя вторую, ревизантинизированую Россию. Ибо «будуттогда две России, неразрывно связанные в лице государя; Россия-империя с административной столицей (в Киеве) и Россия - глава Великого Восточного Союза с новой культурной столицей на Босфоре»90.
Знай Леонтьев отечественную историю получше, он и сам бы, наверное, увидел, что изобрел уже изобретенное. А именно опричнину. Иван Грозный ведь тоже создал «две России, неразрывно связанные в лице государя». И одна из них тоже принадлежала лично царю. Та первая страшная попытка «византинизировать» страну обошлась ей непомерно дорого. Когда цена была подсчитана поздней- *
шими историками, оказалось, что она стоила жизни каждому десятому россиянину. Впрочем, то было в реальной истории, а мы говорим всего лишь о несбывшемся пророчестве.
Но говоря о нем, читатель не должен упустить из виду знаменательный факт, что новая административная столица империи планируется вовсе не в чиновничьем Петербурге и даже не в славянофиль-
Там же. С. 422 (выделено автором).
Там же (выделено автором).
Там же. Т 5. С. 432 (выделено автором).
ской Москве, но в южной колыбели отечественного византизма. Это не оговорка (у Леонтьева оговорок не бывает), а важная часть все того же плана «ревизантинизации» страны. На самом деле Леонтьев непрочь вообще отдать Германии весь прибалтийский Северо-Запад, обменять, так сказать, Финский залив на Босфор. «Нет разумной жертвы, которой нельзя было бы принести Германии на бесполезном и отвратительном северо-западе нашем, лишь бы этой ценой купить себе спокойное господство на юго-востоке, полном будущности и неистощимых как вещественных, так и духовных богатств»91.
Тем более, что вместе с Прибалтикой отдадим мы Германии и «петровское тусклое окно в Европу», через которое и проникла к нам «эгалитарная зараза», окно, которое «тогда потемнеет и обратится в простой торговый васисдас»92. И «чем скорее станет Петербург чем-то вроде балтийского Севастополя или балтийской Одессы, тем, говорю я, лучше»93.Еще важнее, однако, что ценой Прибалтики и Финского залива покупаем мы союз с Германией, которую нужно использовать сразу для двух целей. Во-первых, для удара по Франции - чтобы вызвать окончательный ее распад, анархию и превращение во вторую Польшу (тут Леонтьев, как видим, согласен с Достоевским). А во-вто- рых, Берлин должен развязать нам руки для разгрома «самого коварного врага славянства» (тут он согласен с Иваном Аксаковым).
Что до первой цели, то «я не знаю, почему бы людям, желающим России идеального блага (то есть духовной независимости), не желать от всего сердца гибели и окончательного унижения той стране или той нации, которой дух и во дни величия и во дни падения представлял и представляет собой квинтэссенцию западной культуры, хотя и отжившей, но еще не утратившей своего авторитета в глазах того отсталого большинства русской интеллигенции, которое и теперь еще имеет наивность верить в какое-то демократическое и благоденствующее человечество». Тем более, что «разрушение Парижа сразу облегчит нам дело культуры даже и внешней
Там же. Т. 6. с. 88.
Там же. Т. 5- С. 462.
Там же. С. 434.
в Царьграде»94.
Ну, а главная цель, для которой понадобится Германия, так же естественна, как разрушение Парижа, - для просвещения «отсталого большинства русской интеллигенции». Мы ведь намерены уничтожить для «идеального блага России» не только Францию, но и Турцию. То есть не одну лишь Оттоманскую империю, угнетающую «братьев-славян», против которой всегда негодовали славянофилы, но и саму страну. Просто не повезло ей. Оказалась она на том самом месте, где предназначено по нашему проекту быть «второй России», иначе говоря, царьградскому округу, принадлежащемулично госуда- рю-императору (тут Леонтьев согласен с Данилевским). А без нейтрализации Австрии это, как мы уже по опыту знаем, невозможно. И отбить у нее раз и навсегда охоту вмешиваться в наши проекты можно лишь с разрешения Германии, за которое мы и вручаем ей «бесполезный и отвратительный наш северо-запад».
Суммируем, однако. Прогноз Леонтьева о том, как предстояло в перспективе развиваться европейской и российской политике, включает в себя следующие аспекты:
Договор с Германией, подталкивающий ее к новой франко-германской войне (подобно тому, как Бисмарк когда-то подталкивал Россию к войне с Турцией).
Вызванную германским ударом анархию во Франции и разрушение Парижа.
Перенесение административной столицы империи в Киев и уступку Прибалтики немцам в обмен на «Скорую войну с Австрией» и устранение ее с линии дунайских коммуникаций.
Нейтрализацию или принуждение Румынии и Болгарии (с тем чтобы они открыли нам проход на Балканы).
Уничтожение Турции.
Основание на ее месте «второй России» с культурной столицей в Царьграде.
Расцвет новой «славяно-азиатской цивилизации», способной бросить вызов «отжившей» Европе.
У нас есть все основания считать именно этот проект политическим завещанием Леонтьева, его, если хотите, пророчеством.
Консервативный проект и реальность
Мы видели, что пришел Леонтьев к своему прогнозу, беспощадно ревизуя самые фундаментальные основы славянофильства, но неизменно стараясь сохранить при этом верность славянофильскому способу политического мышления. И вот что из этого получилось.
С точки зрения охранительной доктрины, которой руководилось контрреформистское правительство Александра III, его проект действительно означал революцию, что с порога делало его утопическим. Современные националисты с упоением повторяют популярную декларацию этого царя, что у России есть лишь два союзника - русская армия и русский флот. На самом деле, как мы сейчас увидим, первая же мысль, которая пришла в голову царю при известии о союзе между Германией и Австрией была о том, что для предстоящей войны против них ему понадобится не эффектные афоризмы, а действительные союзники. И что вы думаете? Нашел он их именно в республиканском Париже, который по мнению Тютчева и Достоевского был ножом в сердце России и который, согласно прогнозу Леонтьева, следовало разрушить, дабы «облегчить нам дело новой культуры в Царьграде».
С точки зрения «лестницы Соловьева», знаменовал леонтьев- ский проект переход русского национализма в следующую, «бешеную», его фазу, предвещавшую новую войну за передел Европы и, следовательно, «самоуничтожение России». Здесь, в анализе леонть- евского проекта, была у нас редкая возможность увидеть, как именно это происходило, заглянуть, так сказать, в лабораторию трансформирующегося национализма.
Глава седьмая Три пророчества
Но как бы то ни было, проект, предусматривающий уничтожение двух суверенных государств ради «идеального блага» России, не оставляет ни малейшего сомнения в том, что интенсивность в нёмнационального эгоизма сопоставима в русской литературе разве что с агрессивными фантазиями Тютчева и Погодина в николаевские времена и с геополитическим счетоводством Данилевского в постниколаевские. Более того, открытая пропаганда войны предвещала, что, как и в случае Данилевского, следующее за ними поколение националистических молодогвардейцев неизбежно окажется дер- жавническим и до кончиков ногтей милитаристским.
Но самое главное, с точки зрения реального соотношения сил в международной политике 1880-х, как понимало его правительство Александра III, прогноз Леонтьева выглядел столь же безнадежно нереалистичным, как прогнозы Бакунина или Достоевского. Напомню, что союзный договор между Германией и Австро-Венгрией заключен был в феврале 1887-го, т.е. еще за четыре года до смерти Леонтьева. Напомню также, что уже в августе 1891 года Россия начала переговоры с Францией о военном союзе против Германии. Но еще в июле французская эскадра нанесла дружественный визит в Кронштадт, и Александру III пришлось обнажить голову при звуках революционной Марсельезы.
Короче, еще при жизни Леонтьев мог убедиться, что его проект необратимой ревизантинизации России построен был на песке. Так обстояло дело с его пророчеством. На практике оказалось оно лишь еще одной средневековой консервативной утопией, ничуть не более практичной, нежели высмеянная им московитская утопия Аксаковых. Не знаю, как у читателя, но у меня вполне отчетливое ощущение, что еще один миф буквально расползается у нас под руками - м1*ф о Леонтьеве как о пророке. И дело не только в его политическом прогнозе, ни одному из элементов которого не суждено было состояться. Дело в самой сути пророчества. Ибо если даже преставить себе сталинскую диктатуру как попытку ревизантинизации России посредством «феодального социализма», то ведь и эта попытка оказалась, вопреки Леонтьеву, обратимой. Что же в таком случае остаётся от мифа?
13 Янов
Глава седьмая
П оч бму? IТрипр°р°чесгва
Так или иначе, подошли мы к концу наших case studies. Пора возвращаться к тому, с чего мы начали. Читатель мог убедиться, какая бездна страсти, ума, таланта и политической изобретательности положена была их героями на то, чтобы оправдать агонизирующее самодержавие, продлить его дни, спроецировать русское средневековье в вечность. В каждом случае речь здесь шла о серьёзных, самостоятельных мыслителях. Все они искренне верили, что именно их проекты - единственно возможный путь России к новой сверхдержавности (а в случае Погодина и Тютчева, и к ее увековечиванию). А на самом деле, как тоже видел читатель, все без исключения их проекты будущего оказались невообразимо далеки от действительных путей истории. Прогнозы их не сбывались, надежды рушились у них на глазах, пророчества оказывались бесплодными, как библейская смоковница.
Словно бы некий рок смеялся над ними. Когда они, как Тютчев, предсказывали православного Папу в Риме, происходила Крымская война, закончившаяся капитуляцией России. Когда пророчествовали революцию, как Бакунин, наступала реакция. Когда предвидели великое православное пробуждение страны, как Достоевский, «Победоносцев над Россией простер совиные крыла»95. Когда прогнозировали войну, как Данилевский, наступал мир. Когда говорили о союзе с Германией против Франции, как Леонтьев, заключался союз с Францией против Германии. Почему?
Почему вполне реалистичные, по мысли их авторов, идейно- политические проекты обратились на наших глазах в памятники политической некомпетентности, в реакционные утопии? Одно уже это обстоятельство делает судьбы их авторов трагическими и заставляет задуматься над причиною столь постоянного, столь рокового их бесплодия.
Если социологические, по выражению Плеханова, эквиваленты всех этих утопий были совершенно различны и ничего, собственно, общего в этом смысле не было между Бакуниным и Достоевским, не говоря уже о Леонтьеве, то объединяло их, стало быть, что-то совсем другое. Что? Поневоле приходится заключить, что обусловил их бес-
95 Блок А. Поли. собр. стихотворений: в 2 т. Т. i. М., 1946. С. 558.
плодие именно общий им всем способ политического мышления. Тот самый, который Соловьев, а вслед за ним Милюков, навсегда заклеймили «национальным эгоизмом». Тот, что основан был на «самобытности» и державности.
Ибо что же еще может объяснить провал всех без исключения консервативных проектов будущего России, оставленных нам людьми, совершенно друг на друга непохожими - ни по социальному происхождению, ни по политическим предпочтениям, ни по нравственным убеждениям, будь то проповедники «народной организации», как Бакунин, или пророки «народной веры» и «народного византиз- ма», как Достоевский и Леонтьев?
Прибавьте к этому списку еще и основоположников ретроспективной утопии, как Хомяков и Константин Аксаков, и Тютчева, автора проекта о Константинополе как о естественном «дополнении», в котором непременно нуждается для своей исторической самореализации Россия, и знаменитых глашатаев Всеславянского Союза, как Погодин, Иван Аксаков и Данилевский, - и не останется у вас сомнений, что ничего общего кроме национального эгоизма между этими людьми не было.
Присмотримся же напоследок к первопричине их тотального бесплодия. Прежде всего бросится нам в глаза, что формула Соловьева, описывающая вырождение русского национализма в постниколаевской России верна даже в деталях. Действительно ведь не явился миру внезапно, как Афина из головы Зевса, проект, допустим, Леонтьева. Он - результат деградации национализма, деградации, занявшей много десятилетий и проходившей именно по схеме, описанной Соловьевым. То есть от сравнительно мягкой фазы национал-либерализма - «Россия не Европа», «Права или не права, моя страна всегда права» - к жесткой, ослепляющей, агрессивной фазе национального самообожания, когда идеологам стало уже нипочём предлагать проекты «поглощения» (Тютчев), «подчинения» (Данилевский) или даже «разрушения» (Леонтьев) других государств и народов. Разумеется, во имя «идеального блага» России как они его понимали.
Другое, однако, что тоже бросается в глаза, может на первый взгляд показаться некоторым изъяном соловьевской схемы.
Поставив себе задачей сформулировать неминуемость вырождения идеологии национального эгоизма в постниколаевской России от основоположников славянофильства до Данилевского, он игнорировал его действительное начало - в горниле николаевской Официальной Народности. Достаточно напомнить читателю тютчевский проект России будущего, «осуществленный поглощением Австрии и возвращением Константинополя», который мы подробно обсудили во второй книге трилогии, чтобы стало очевидно, что начиналась идеология национального эгоизма в России вовсе не со славянофилов.
Тем более, если вспомнить умопомрачительные рекомендации Погодина в 1830-е, когда не только еще никакой славянофильской внешней политики не было, но не существовало и самого славянофильства как идейного движения образованной молодежи. Вот о чем спрашивал тогда, как мы помним, в пылу изобличений Европы Погодин: «Что есть невозможного для русского государя? Одно слово - целая империя не существует, одно слово - стерта с лица земли другая, слово - и вместо них возникает третья от Восточного океана до моря Адриатического». Ну, многим ли, скажите, отличается эта сверхдержавная спесь от самых агрессивных проявлений национального эгоизма полвека спустя в 1880-е? И тем не менее никакого изъяна в формуле Соловьева тут нет.
Просто, как, я уверен, давно уже понял читатель, задачи, которые ставил себе Соловьев, и та, что вдохновляла в этой трилогии меня, разные. Он говорил о полуевропейской постниколаевской России, а я - о повторяющихся «выпадениях» из Европы на протяжении всей русской истории, начиная от самодержавной революции Грозного царя в середине XVI века. О той самой московитской революции, которую, насколько было это возможно в Новое время, попытался воспроизвести во второй "четверти века XIX царь Николай. Ничего поэтому удивительного в том, что Соловьев игнорировал даже самые хамские проявления национального эгоизма николаевской эпохи. Тогда агрессивный национализм был в порядке вещей, сам собою подразумевался. Более того, он был единственной адекватной формой внешней политики в условиях диктатуры и сверхдер- жавности.
Но Соловьев-то пытался доказать - и доказал - совсем другое. А именно, что покуда отказывается Россия от воссоединения христианских церквей (той единственной формы воссоединения с Европой, что была в его время возможна), она обречена на возрождение самой агрессивной фазы национального эгоизма - даже в условиях полуевропейской постниколаевской государственности. Обречена, другими словами, на самоуничтожение.
Как знает читатель, этот прогноз сбылся - в отличие отлеонтьев- ского и всех прочих проектов «дополнения» России за счет других государств и народов. И, что еще важнее, в отличие отмосковитского пророчества национал-либералов, которое на самом деле было лишь отправной точкой, лишь спусковым крючком для всей зловещей эволюции идеологии национального эгоизма. Так не в самой ли этой идеологии и заключается первопричина постоянного и удручающего бесплодия всех проектов её пророков?
В любом случае такой вывод исследования был бы неполон, когда бы не обратил я внимание читателя на то, что именно эта бесплодная идеология противостояла воссоединению с Европой и, следовательно, политической модернизации России, избавлению ее от произвола власти. Случайно ли, что столь же бесплодными оказались и все проекты сохранения в России крестьянского рабства? Не в том ли тут дело, что слова Соловьева, вынесенные в эпиграф этой главы, верны? И противостояние истории под предлогом, что мы не такие, как все, обречено? А люди, настаивающие на нём, какие бы патриотические речи они ни произносили, на самом деле способны принести своей стране лишь зло и гибель?
Увы, ничему, похоже, не научил культурные элиты России скандальный провал всех без исключения проектов, основанных на идеологии национального эгоизма, если и сегодня продолжают как ни в чем не бывало мутить умы молодежи новые консервативные пророки. Если, допустим, Егор Холмогоров по-прежнему безнаказанно клеймит высокую мечту Соловьева о воссоединении христианских церквей как «еретическое чужебесие экуменизма»96. Если Б.П. Балуев или В.Я. Данильченко по-прежнему торжественно уверяют, что архаический проект Данилевского «востребован време-
96 Холмогоров Е. Русская доктрина// Спецназ России. 2002. № 1. Цит. по:
. org
нем».
Глава седьмая Три пророчества
И дело даже не в том, что находятся и сегодня такие пророки. Дело в том, что никто, сколько я знаю, не опровергает их простой ссылкой на банкротство их предшественников - всех без исключения. На то, другими словами, что опровергла их сама история.
Итоги
Как бы то ни было, нисколько, согласитесь, не странно, что идеология национального эгоизма выработала для себя специфический способ политического мышления, который и пытался я здесь так подробно исследовать на примере трех несбывшихся пророчеств. Подведем же итоги.
В основе этого способа, как мы видели, лежит представление об однажды и навсегда заданном национальном характере. Как бабочка в коконе, содержит он в себе готовые правила истинно русского общежития. Его подземная стихийная мощь требует лишь освобождения из-под чужеродных европейских напластований. И если она по сию пору не освобождена, то что из этого следует? Очевидно то, что, начиная с петровского прорыва в Европу, Россия постоянно находится под неким игом, подобным монгольскому. Неважно, воплощается ли это иго в культурном слое, в интеллигенции, «не признающей в народе церкви», как в случае Достоевского, или в «германской правительственной системе», как в случае Бакунина, или, наконец, в полулиберальном режиме, ставшем инструментом «европейской буржуазности», как в случае Леонтьева. Задача идеолога от этого не меняется. Она по-прежнему в том, чтобы найти способ устранить это чужеродное иго, выведя таким образом на поверхность «народную правду», сложившуюся «в повседневной рутинной жизни людей».
Ибо этот метафизический фундамент консервативной утопии - вечный покой среди вечного движения, первозданный безгреховный рай, золотой век России - не где-то в далеком будущем, как учили социалисты, и не в туманном прошлом, как учили родоначальники славянофильства, а здесь, рядом с нами, в нашем «простом народе», в его духовном наследии, в его вековых привычках.
И даже когда Леонтьев, самый умный и самый глубокий из «национально ориентированных» русских интеллигентов (потому, собственно, и говорили мы о нем подробнее, чем о других), бунтует против столь безоговорочного отрицания истории, то лишь затем, чтобы реставрировать этот, пусть и разъеденный ржавчиной европеизма, но все еще мерцающий где-то в глубине метафизический фундамент утопии.
Проблема с таким представлением о мире лишь в его безнадежной средневековости. Это ведь все равно, как если бы кто-нибудь предположил, что судьба человека раз и навсегда предопределена унаследованными им генами, что окружающая его среда ничего изменить в ней не может и свободы выбора для него поэтому не существует. Жизнь остановилась бы, будь это верно. На самом деле в философии истории, как и в биологии, суть дела в конечном счете сводится к соотношению наследственности (традиции) и изменчивости (исторического творчества).
Смешно отрицать роль традиций в человеческом сообществе. Но ничуть ведь не менее нелепо отрицать и историческое творчество, свободу выбора и, следовательно, вообще свободу, будь то человека или народа. Но ведь именно этим и занимались герои наших case studies. В том-то и состоит суть способа политического мышления, неизменно приводившего к банкротству их идейно-политических проектов. (Я даже и не упоминаю здесь о том, что никто из них попросту не заметил в русской истории другую, альтернативную самобытно-дер- жавной традицию. Об этом довольно было сказано в первой книге трилогии. Да и самый факт крушения всех консервативных проектов Русского будущего свидетельствует об этом неопровержимо.)
Но даже независимо от этого поразительная, согласитесь, ирония в том, что самую блестящую защиту свободы и исторического творчества даже с важнейшей для наших героев религиозной точки зрения находим мы именно у русского либерала, тоже, конечно,
«национально ориентированного», но никогда, в отличие от них, политических проектов не строившего и сверхдержавной болезнью не страдавшего.
«Насильственное, принудительное, внешнее устранение зла из мира, необходимость и неизбежность добра, вот что, - говорит Николай Александрович Бердяев, - окончательно противоречит достоинству всякого лица и совершенству бытия. Творец не создал необходимо и насильственно совершенного и доброго космоса, так как такой космос не был бы ни совершенным, ни добрым в своей основе. Основа совершенства и добра - в свободе»97. Георгий Федотов так суммировал его философию истории: «Бердяев решается утверждать в творчестве возможность принципиально нового, т.е. нового даже для Бога. Бог хочет от человека продолжения Его творения и для этого дает ему творческую способность (Свой образ). В этом смысл всего трагического эксперимента, которым является создание Богом свободного существа»98.
Так решает вопрос о соотношении в истории наследственности и изменчивости, традиции и творчества, не говоря уже о свободе выбора между отечественными традициями, современная религиозная мысль. Средневековая мысль исходила из диктатуры традиции. У нее и оказались в плену наши герои. И это сделало их судьбу столь трагичной. И поучительной.
Бердяев Н.А. Происхождение зла и смысл истории//Вопросы философии. № 94.
Федотов Г.П. Бердяев - мыслитель//Новый журнал. 1948. Кн. 19. С. 69.
Вводная
У истоков «государственного патриотизма»
Упущенная Европа
Ошибка Герцена
Ретроспективная утопия
Торжество национального эгоизма
глава первая
глава вторая
глава третья
глава четвертая
глава пятая
глава шестая
ВОСЬМАЯ
ГЛАВА
глава седьмая
Три пророчества
На финишной
глава девятая глава десятая глава
одиннадцатая
прямой
Как губили петровскую Россию Агония бешеного национализма
Последний спор
\
Vt V t:
глава восьмая
На финишной прямой
Когда я в грустные минуты размышляю о возможных последствиях недавнего переворота, то мне представляются война, банкротство и затем конституция, дарованная совершенно неприготовленному к ней обществу
Б.Н. Чичерин. 1881 г.
Когда пробил, наконец, в апреле 1881 года так давно ожидаемый ими час контрреформы, молодогвардейцы, т.е. славянофилы второго поколения, были совершенно уверены, что время их пришло. Леонтьев, например, приветствовал режим Александра III как «смелый поворот» и «новый порядок», как начало того, что он называл «реакционным реформаторством» и ревизантизацией России. Менее одаренные его соратники по «реакционному обскурантизму», как называл их мировоззрение П.Н. Милюков, ожидали от нового режима хотя бы просто реставрации Официальной Народности с её подзабытыми в эпоху Великой реформы православием, самодержавием и народностью. Оптимисты среди них надеялись, что теперь-то и впрямь выходит Россия - после четвертьвекового блуждания «по пустыне либерально-эгалитарных реформ» - на «историческую дорогу нашу: гармоническое сочетание самодержавия и самоуправления». Я имею в данном случае в виду, конечно, героев «Красного колеса» А.И. Солженицына, обломки старого славянофильства, окопавшиеся в земствах. Но всех их ожидало разочарование жесточайшее.
Глава восьмая
И нтелл е ктуал ьн ая наФинишной прямой нищета власти
Ибо степень дегенерации самодержавия была уже такова, что оно с порога отвергало любые новые идеи, любое интеллектуальное оправдание. Самое драматическое подтверждение тому - судьба Леонтьева, отвергнутого тем самым режимом «нового порядка», идеологом которого он так отчаянно мечтал стать. И были ведь у него, казалось, для этого все основания. Кумиром нового хозяина империи действительно был Николай I, которому он сознательно подражал и режим которого пытался воспроизвести. Так почему бы, спрашивается, и не принять «новому порядку» в качестве национальной идеи леонтьевский византизм? Ведь принял же полстолетия назад Николай любительскую карамзинскую утопию в форме Официальной Народности, предложенной ему безнадежным дилетантом графом Уваровым? Тем более, что разработана была новая национальная идея куда более глубоко и серьезно и выросла под пером Леонтьева в блестяще, как мы видели, аргументированную философию истории, которая сделала бы честь и самому Ницше. Недаром же говорил Розанов об этих двух, как об «одной комете, разделившейся надвое».
Но нет, не принял Леонтьева «новый порядок». На финишной прямой, на последней накануне «национального самоуничтожения» ступени деградации, оказалось самодержавие идейно пустым, интеллектуально нищим. Ни на что, кроме обнаженной полицейской диктатуры, оно больше не претендовало.
Это был опасный курс. Кто-кто, но уж Леонтьев-то понимал, что опасен он был самоубийственно. Ибо просто не может средневековая система жить в современном мире без моноидеологии, без национальной идеи. И тем не менее суждено ему было умереть отвергнутым той самой контр реформой, ради которой он жил.
_ Глава восьмая
Правли Бе р д я ев? Iна финишн°й
Отчасти объяснялось это, конечно, искренним отвра- щением, которое испытывал к любой новой мысли самый могущественный идеолог «нового порядка» Константин Петрович Победоносцев, этот Суслов позапрошлого века, который, по словам академика Ю.В. Готье, был «вдохновителем и руководителем русской государственной политики в течение всего царствования Александра II! и первых лет царствования его преемника»1.
И потому характер этого человека, чьи «совиные крыла», по выражению Александра Блока, накрыли Россию на четверть столетия, обретает некоторое историческое значение. Вот как пытался объяснить его Бердяев: «Он был нигилистом в отношении к человеку и миру. Он абсолютно не верил в человека, считал человеческую природу безнадежно дурной и ничтожной»2. Из такой философской посылки, заключал Бердяев, следовать могла лишь одна политика: «Человек так безнадежно плох, что единственное спасение - держать его в ежовых рукавицах. Человеку нельзя давать свободы. Только насилием и принуждением монархической государственности можно держать мир»3.
Бердяев, боюсь, ошибся. Ведь отцы-основатели Соединенных Штатов, летом 1787 года работавшие в Филадельфии над конституцией, которой суждено было пережить столетия, точно так же, как Победоносцев, исходили из принципиальной порочности человеческой природы. И точно так же, как он, не верили, что добродетель сама по себ^сможет когда-либо победить порок. Более того, они вообще были убеждены - вслед за Кальвином, - что, как замечает историк конституции Ричард Гофштадтер, «земной ум находится во вражде с Богом»4.
Только вот выводы из одинаково мрачной посылки сделали они почему-то прямо противоположные. Во всяком случае ни о какой
Тайный правитель России (далее Правитель). М., 2001. С. 499.
Там же. С. 536.
Там же.
HofstadterR. The American Political Tradition. Vintage Books, 1948. P.3.
самодержавной государственности они и не помышляли, не говоря уже о ежовых рукавицах. Вместо всего «отцы конституции полагались на способность порока нейтрализовать порок»5. Институциональным выражением этого и было, собственно, то самое разделение властей на три независимых друг от друга ветви, которое за несколько десятилетий до того предложил в «Духе законов» Шарль де Монтескье. Короче говоря, они «не верили в человека, но верили в силу хорошей политической конституции, способной его контролировать»6.
У Победоносцева же, как мы н.а. Бердяев]
видели, одно слово «конституция»
вызывало пароксизм ярости (точно такой же, как, допустим, слово «Америка» в наши дни вызывает у Михаила Леонтьева). Говорит нам поэтому его «нигилизм», похоже, совсем не о том, что увидел в нем Бердяев. А именно о первостепенной важности политической традиции. Если отцы-основатели исходили из европейской традиции, которую Бердяев игнорировал, то Победоносцев исходил из традиции николаевской Официальной Народности. Вот откуда и появились у него «ежовые рукавицы монархической государственности».
Куда яснее - и ярче - объяснил нам, как мы помним, без всякой философии характер этого человека Константин Леонтьев. Победоносцев, полагал он, «человек очень полезный, но как? Он, как мороз; препятствует дальнейшему гниению; но расти при нем ничего не будет. Он не только не творец; он даже не реакционер в тесном смысле этого слова; мороз, я говорю, сторож; безвоздушная гробница; старая невинная девушка и больше ничего»7. Это ответ «реакцио-
Ibid.
Ibid. Р. 7.
этого устрашающего арсенала
к
1
4
i А
Ивоск Ю.П. Константин Леонтьев. Франкфурт. 1974. С. 243.
нера в тесном смысле», т.е. реакционного реформатора бесплодно-
му политическому охранителю.
Нет сомнения, можно представить себе ситуации, в которых охранительство спасительно. Я писал уже во второй книге трилогии об одной такой ситуации в июле 1914-го. Но там речь шла о редком в истории моменте, когда самое полезное действие заключалось втом, чтобы не предпринимать никаких действий. Но в ситуации, когда, по словам К.Д. Кавелина «почти все [были] убеждены, что самодержавие кончило свои дни»8, охранительство Победоносцева было для страны губительно. Даже Б.Н. Чичерин, много лет состоявший с ним в переписке, признавал, что «Победоносцев ничего не понимает, кроме канцелярии и консистории. Выборных учреждений он не видел в глаза и боялся их, как огня»9. Сохранилось об этом охранительстве Победоносцева любопытнейшее свидетельство высокопоставленного бюрократа.
Е.М. Феоктистов был в 1880-е начальником Управления по делам печати, тогдашнего Главлита. Прославился он тем, что установил в русской литературе такой цензурный террор, какого не испытывала она со времен Официальной Народности. Даже очень осторожному и лояльному дружественной России французскому историку начала XX столетия Э. Оману пришлось-таки заметить по поводу деятельности Феоктистова (и его высокопоставленного патрона, министра внутренних дел Дмитрия Толстого): «Последние следы свободы печати исчезли; с первых же месяцев царствования Александра III повременные издания отнюдь не разрушительного свойства, такие, как
Вестник Европы. 1909, № 1. С. 9.
К.П. Победоносцев
Чичерин Б.Н. Воспоминания. М., 1929. Т. 4. С. 132.
Порядок, Молва, вынуждены были прекратить свое существование. Несколько позднее наступила очередь самого влиятельного органа русской печати, газеты Голос». (Оман еще не упоминает об Отечественных записках Салтыкова-Щедрина, тоже запрещенных по распоряжению Толстого.)
«Как и при Николае I, - продолжает историк, - параллельно с борьбой против печати велась борьба против профессоров и студентов. Преподавательский персонал университетов был очищен от нежелательных лиц; в университетах и даже в гимназиях были установлены более суровые правила приема [речь идет о знаменитом гонении на «кухаркиных детей»]; в Московской сельскохозяйственной академии, а также в Петербургском и Московском университетах произведено было массовое исключение студентов»10. Прибавьте к этому, что институты путей сообщения и электротехнический, так же, как Военно-Медицинская Академия, полностью закрыли свои двери для еврейских абитуриентов.
Так вот этот самый Феоктистов, большой, кстати, поклонник Леонтьева и вообще реакционного реформаторства, так отзывался о Победоносцеве: «Стоило лишь заикнуться, что нельзя сидеть сложа руки, необходимо принимать меры, которые вывели бы нас из мрака к свету [представляете, что мог означать «свет» в устах Феоктистова?], и он тотчас приходил в ужас, его невыразимо устрашала мысль о чем-нибудь подобном... К чему перемены, к чему новые узаконения, когда еще неизвестно, будет ли от них прок?»11.
Глава восьмая
Тр ИДОрОГИ На Финишной прямой
Но правомерен ведь, с другой стороны, и вопрос, случайно ли, что именно такой идейно бесплодный человек, как Победоносцев, оказался, по сути, вершителем судеб русской политики на финишной прямой дореволюционного самодержавия?
История XIX века. M., 1939. Т. 7. С. 407-410.
Феоктистов Е.М. За кулисами политики и литературы. С. 220-221.
Конечно, отчасти объяснялось это состоянием, в каком оставил страну своему преемнику Александр Николаевич, «этот благодушный государь, сеятель свободы на русской земле». (Я цитирую записку Б.Н. Чичерина.) «Казалось бы, - продолжал он, - что совершённые преобразования должны были поднять русскую жизнь на новую высоту, дать крылья слишком долго скованному народному духу. А между тем в действительности произошло не то. Вместо подъёма мы видим упадок и умственный, и нравственный, и материальный. Вместо нового благотворного порядка везде ощущается разлад. Повсюду неудовольствие, повсюду недоумение. Правительство не доверяет обществу, общество не доверяет правительству. Нигде нет ни ясной мысли, ни руководящей воли. Россия представляет какой-то хаос»12.Что-то здесь мучительно знакомо, не правда ли? Как говорят французы, deja vu. Сходство, однако, совершенно не намеренное. Возникает оно лишь из того, что и в начале 1880-х постниколаевская Россия оказалась на перепутье, на роковой развилке дорог. Можно ли еще было её спасти? Не было ли уже слишком поздно? Кто знает? Похоже лишь, что, как всегда, открывались в эту смутную пору перед страной три дороги.
На первую из них толкали Россию молодогвардейцы. Вела она к немедленной попытке сверхдержавного реванша и диктовалась, как мы уже знаем, всетем же глубоко укоренившимся в «национально ориентированных» умах фантомным наполеоновским комплексом. Им жгла сердца потребность «поднять Россию с колен». Разумеется, означала она войну - либо против Запада «во всей его целостности» (как советовал Данилевский), либо против Австрии (как рекомендовал Леонтьев), либо, наконец, в союзе с Францией против Германии (к чему склонялся царь и за что вскоре станут страстно агитировать славянофилы третьего поколения). Имея в виду, что и два десятилетия спустя после крымского поражения Россия по-прежнему была не готова к европейской войне, в конце этой дороги ожидала её национальная катастрофа - немедленная и неминуемая. Такого поворота событий отчаянно боялся, как видим мы хоть из эпиграфа к этой главе, Б.Н. Чичерин.
12 Цит. по: Правитель. С. 54.
Вторая дорога была конституционная, декабристская, если угодно. Она нацеливала на нейтрализацию всех трёх разрушительных «мин», заложенных в основание постниколаевской государственности во времена Александра Николаевича. Шлагбаум для неё мог еще, наверное, быть открыт протоконституционным проектом М.Т. Лорис-Меликова, который царь подписал накануне фатального покушения, или, по крайней мере, аксаковским Земским собором. На вторую дорогу работали бы и размывание крестьянского гетто - в духе предстоявшей раньше или позже столыпинской реорганизации «мужицкого царства», которая могла бы стать вторым изданием Великой реформы, - и приступ к разрешению национального вопроса в империи (например, восстановление польской автономии в рамках конституции Александра I, отмена черты еврейской оседлости и вообще решительный отказ от политики насильственной русификации).
Совокупность этих мер не только могла бы выбить идейную почву из-под ног максималистов-революционеров, но и вернуть Россию на путь европейского развития. Естественно, что прежде всего следовало для этого отказаться от самой идеи сверхдержавного реванша и пуще смерти остерегаться войны, рекомендованной молодогвардейцами.
Последняя, наконец, дорога была в сущности продолжением горчаковской. На ней Россия по-прежнему «сосредоточивалась» бы в ожидании грядущей войны, выжидая наиболее удобного момента для реванша. А пока суд да дело, диктовал этот выбор глухой политический застой и всемерное «закручивание гаек» (в сочетании, впрочем, с ускоренной военно-экономической модернизацией, необходимой для будущего реванша). Это внутри страны. А во внешней политике флирт с Францией - во имя военного альянса против тогдашней сверхдержавы Германии. Короче, вела эта третья дорога в тупик. Катастрофу она откладывала, это верно. Но в то же время делала она ее не только неминуемой, но и многократно более страшной. Тем самым «национальным самоуничтожением», что предсказывал Соловьев.
Глава восьмая
TVn И К На финишной прямой
На самом деле не могло быть сомнения, какую из этих трех дорог изберет новый хозяин России, с младых ногтей находившийся под сенью «совиных крыл» Победоносцева. Слишком далеко ушла уже Россия от декабризма и слишком любезен был застой охранительному сердцу наставника, чтобы даже мысль о двух других дорогах могла прийти в голову его воспитаннику. Как писал он позже брату о последних либералах из команды отца, «они хотели меня забрать в свои лапы и закабалить, но это им не удалось, и как я счастлив, что отделался от них, а в особенности от графа Лориса, который заварил такую кашу своим популярничаньем с журналистикой и игрой в либерализм, что еще немного, и мы были бы накануне полнейшей революции»13.
Поначалу, впрочем, этот выбор пути не был очевиден. Немедленно после смерти отца новый император распорядился: «Не изменяйте ничего в его повелениях, пусть они будут его завещанием». Но уже несколько часов спустя публикация проекта Лорис-Меликова, который, собственно, и был завещанием Александра Николаевича, оказалась почему-то отложенной. Почему - стало ясно лишь через неделю, когда на совещании высших сановников под председательством императора против либерального проекта - практически один против всех - выступил Победоносцев. Лорис-Меликов даже был уверен, что дело выиграно.
Но еще несколько недель спустя ему пришлось - в ходе первого в российской истории правительственного кризиса - уйти в отставку. Вместе с ним ушли из правительства последние представители либеральной бюрократии во главе с Дмитрием Милютиным (а это, между прочим, означало, что одна из самых важных реформ предшествующего царствования, военная, так и останется незаконченной). Наставник нового императора восторжествовал. Не только над либеральными министрами, но и над почтением сына к памяти трагически погибшего отца (которого, заметим в скобках, Победоносцев терпеть не мог). Чуть позже, как мы помним, он сокрушил проект
генерала Игнатьева, а с ним и Земский собор, «последний шанс» славянофилов. Можно ли после этого сомневаться, что вовсе не случайно простерлись над Россией его совиные крыла именно на финишной прямой самодержавия?
Архаическая государственная система в той форме, в какой сложилась она после декабристского восстания, больше не могла быть интеллектуально оправдана. Она была в принципе чужда какому быта ни было видению будущего страны, кроме полицейского. И её руководители это отчетливо понимали. Не понимали они другого. Полностью перекрывая стране идейный кислород и все источники живого, сознательного патриотизма, они практически обрекали её на ужас и кровь гражданской войны, в которой обеим сторонам останется бороться лишь за форму, в какой окажется в ней воскрешена диктатура.
Глава восьмая
« гО С С И Я П ОД На Финишной прямой
надзором полиции»
Это, собственно, название статьи Петра Бернгардовича Струве, опубликованной в журнале Освобождение в 1903 году. Он подводил в ней первые итоги того, что случилось со страной после закона от 14 августа 1881-го, который ввел в ней своего рода перманентное осадное положение и стал, как выразился столетие спустя американский историк, единственной «реальной конституцией, под властью которой и жила с тех пор - с короткими интервалами - Россия»14. Струве так суммировал сущность нового порядка: «всемогущество политической полиции»15. Говоря современным языком, террор спецслужб.
Есть много аналогичных наблюдений, эффектно описывающих это тупиковое состояние дел. А.А.Лопухин, например, бывший глава Департамента полиции, определил его так: «Все население России оказалось зависимым от личных мнений чиновников политической полиции»16. Джордж Кеннан, родственник знаменитого
Pipes R. Russia under the Old Regime. New York, 1974. P. 305. Струве П.В.. Освобождение. Т. 1. № 20/21. С. 357.
дипломата, описал его еще эффектней. Ему российские спецслужбы представлялись «вездесущим регулятором всего поведения человека, своего рода некомпетентной подменой божественного Провидения»17.
Но если перевести все это в плоскость реальной жизни, картина вырисовывается и впрямь ужасная. Вот несколько примеров. Полиция считала себя, допустим, вправе навсегда отнимать детей у сектантов и посылать их в дальние края, где их воспитывали в приютах в духе официального православия и враждебности к религии отцов. В Прибалтике дети должны были забыть родной язык. Сначала в университетах, затем в гимназиях и, наконец, в начальных школах обучение должно было вестись только по-русски. Хуже всех пришлось там литовской интеллигенции, когда возрождение национальной литературы рассматривалось, как «иезуитская интрига» и работа «фанатичных польских агитаторов»18.
Но могло ли быть иначе, если руководивший в империи народным просвещением Д.А. Толстой официально заявил, что «конечной целью просвещения всех инородцев должна быть их русификация и слияние с русским народом»?19 Другими словами, лозунг «Россия для русских» стал официальной политикой правительства. Заодно в Бессарабии запретили и румынский язык. И беспощадно вымарывала цензура во всех печатных изданиях слова «Грузия» и «грузинский»20. То есть говорить по-грузински еще разрешалось, но писать уже нет. И армяне, как, впрочем, и евреи, фигурировали в националистической прессе исключительно как эксплуататоры, паразиты и предатели.
Униаты в Дольше были официально объявлены православными, упорствовавшие сечены плетьми и заключены в тюрьмы. Евреев выселили из внутренних губерний, заперли в черте оседлости и даже там, в гетто, где они составляли большинство, ввели для них процентную норму (ю%) при поступлении в гимназии. Это не говоря уже
Лопухин АЛ. Настоящее и будущее русской полиции. М., 1907. С. 26.
Кеппап George. The Russian Police. The Century Illustrated Magazine. Vol. XXXVII. P. 892.
Лемке M. Эпоха цензурных реформ/ Спб., 1914. С. 30.
Махмутова АХ Становление светского образования у татар. Казань, 1972. С. 23.
KoppelerAndreas. The Russian Empire. Harlow. England, 2001. P. 266.
о погромах, первых массовых зверствах этого рода в современной истории. На территории Польши польский язык был вычеркнут из программы школ всех уровней. Названия улиц и даже вывески магазинов разрешались только по-русски.
Французский историк подводит печальный итог этому всевластию спецслужб и нетерпимости: «Политика русификации не была в империи новостью. Она уже применялась в Польше после восстаний 1831 и 1863 годов. Но при Александре III она уже не являлась, как прежде, наказанием, налагаемым на непокорный край; она стала системой, которую русское правительство проводило по отношению ко всем подвластным национальностям, даже наиболее ему верным»21.
Другими словами, официальная политика «России под надзором полиции» сводилась, по сути, к самому примитивному брутальному этническому национализму. В моноэтнической стране такую политику назвали бы государственным шовинизмом, в многонациональной империи она была самоубийственной. «Новый порядок» словно бы сознательно готовил гигантский взрыв того, что назвали мы раньше «миной» №3.
w Глава восьмая
« Б л е стя щ и и п е р и о д » на финишн°й пр™°й
Нисколько не менее самоубийственно, однако, обстояло дело и с подготовкой взрыва мины № 2, крестьянской. Тут поневоле придется нам, пусть мимоходом, затронуть укоренившийся в историографии миф о предреволюционной финансовой политике самодержавия как о необыкновенном успехе, своего рода «русском чуде». Время между 1891 годом, когда, по словам русского историка, «перед глазами всего мира была продемонстрирована внутренняя слабость империи, где недород хлеба сопровождается ужасами голода, напоминающими мрачную и беспомощную эпоху далекого средневековья»22 - и очередным унизительным поражением империи в русско-японской войне, время, когда к управлению ее финансами пришел
История XIX века. Т. 7. С. 411-412. ИР. Вып. 29. С. 1.
Сергей Витте, часто называют даже «блестящим периодом» в истории России. И поверхностный взгляд как будто это подтверждает.
Русская промышленность и впрямь развивалась в этот период бурно, в особенности производство вооружений, разработка минеральных ресурсов и железнодорожное строительство. Протяженность железнодорожной сети России, не достигавшая в 1866 году и 6 тысяч верст, превысила к концу века 40 тысяч, выведя страну на второе место в мире после Соединенных Штатов. Впервые достигнут был бездефицитный бюджет, введена золотая валюта. Отсюда впечатление, что не будь это замечательное развитие прервано на полном скаку мировой войной (в одном варианте мифа) или коварным большевистским заговором (в другом), «Россия, которую мы потеряли» стремительно вырвалась бы в первые ряды богатейших и развитых стран, оказалась бы экономической - или энергетической - сверхдержавой.
Ничего похожего. Ибо, как говоритисторик российской экономики, «финансовое искусство - не магия, и поэтому блеск гниющего дерева всегда говориттолько о процессе разложения»23. Государственные расходы возросли за «блестящий период» на по процентов. За счет чего этот рост оплачивался? Цифры указывают на два источника: во-первых, на гигантский рост налогового обложения крестьянства, что, естественно, вело к катастрофическому сужению внутреннего рынка, во-вторых, на иностранный капитал.
«Правительственная политика, - говоритисторик, - направилась в сторону наименьшего сопротивления, всей своей тяжестью обрушиваясь совершенно незащищенный и задавленный класс крестьянства. Единственная защита этого класса заключалась в его потрясающей бедности: взяли бы больше, да нечего было взять»24. А когда выяснилось, что взять действительно больше нечего, то дело и пришло «к своему логическому концу: истощение платежных сил податных классов заставило Россию прибегать к ежегодным займам на разорительных условиях для покрытия хронического дефицита»25.
Там же. С. 21.
Там же. С. 24.
А что же бездефицитный бюджет? На самом деле, как оказалось, у правительства было два бюджета - ординарный и экстраординарный. Если первый и вправду сводился с ежегодным превышением доходов над расходами (агитпроп для привлечения зарубежного капитала), то второй был постоянно в долгу как в шелку. Чтобы стало еще яснее, скажем так: поскольку «Россия не знала естественного роста государственных доходов», то «концы с концами оказалось возможным сводить только при помощи займов»26.Причем «попытки правительства сократить расходы не увенчались никаким успехом; по-прежнему урезывались только расходы на культурные нужды»27. В результате расходы по министерству народного просвещения составили два процента бюджета, тогда как расходы на вооружение тридцать два. Последствия оказались страшными: «правительственная политика привела не только к оскудению центра, но и к истощению всей народной России, к превращению податного домохозяина в податного нищего»28.Историк российской экономики М.И. Боголепов цитирует для иллюстрации одного из наблюдателей тогдашней деревенской жизни, «чрезвычайно скромного, - по его словам, - по своим политическим воззрениям». Автор этот рекомендует «составить правдивую выставку», на которой «показать в картинах избы без соломенных крыш, снятых для корма скоту в конце зимы, равно изобразить кистью художника коров, поднимаемых кольями от бессилия встать на ноги вследствие зимней бескормицы и, наконец, заключить все это кладовой большинства наших крестьян... При этом обнаружится, что все их имущество заключается в старых тряпках, кое-каких веревках, оборванной сбруе и обвитых берестой горшках»29.
Даже необычайно популярный в наши дни среди «национально ориентированных» журналист суворинского Нового времени М.О. Меньшиков, чье свидетельство должно быть для них выше подозрений, увидел в тогдашних русских деревнях лишь «рваную нище-
Там же. С. 16, ю.
Там же. С. 17.
Там же. С. 20.
ту», «угрюмое пьянство» да «великое одичание и запустение»30. И в результате вынужден был скрепя сердце признать, что «нынешний крестьянин - кроме разве глубоких стариков - почти равнодушен к Богу, почти безразличен к государству, почти свободен от чувства патриотизма и национальности»31.
Удивительно ли, если «новейшая сельская картина такова - всего чаще маленькая, убогая хата, в которой не живет, а прозябает постепенно вырождающаяся от скуднейшей растительной пищи крестьянская семья, одетая в ситцевые фабричные отрепья?.. Отвар воды с ничтожным количеством кислой капусты, картофель, пшенная каша и черный хлеб, смоченный этим же отваром, - вот обычная пища крестьян... О мясе, сале, конопляном масле нет и помина - это роскошь доступна лишь 3-4 раза в году, в большие праздники»32.
Вот ведь откуда то катастрофическое сужение внутреннего рынка, о котором мы говорили: ограбленное государством «податное сословие», крестьянство, составляло тогда основную, подавляющую массу потребителей. Вопрос, следовательно, в том, что если потребители не могли покупать товары, предлагаемые растущей промышленностью, то за счет чего она росла? Ответ отчасти в том, что росла вовсе не вся промышленность. Росли либо экспортные отрасли - нефть, уголь, которые оплачивали иностранные потребители, либо те, где заказчиком выступала казна - вооружение, железные дороги (которые правительство «блестящего периода», кстати, рена- ционализировало, т.е. выкупило у частных владельцев). Полный ответ на наш вопрос даёт русский историк: «так как повсюду обнаруживалось крайнее обнищание народа как потребителя... промышленность самым очевидным образом поступает на содержание к государственному казначейству... держится правительственными заказами»33.
Меньшиков /И.О. Выше свободы. M., 1998. С. 143.145- Там же. С. 155-156. ИР Выл. 29. С. 36. Там же. С. 48.
Глава восьмая
Приключения «а финишной прямой русского кредита
Так постепенно раскрывается для нас вся искусственность, кукольность, условность знаменитого индустриального подъема «блестящего периода». И предстает он перед нами лишь как «финансовая магия», как экономический эквивалент того политического «всевластия полиции», о котором говорили Струве и Лопухин. Население, «народ как потребитель», нищает, а промышленность поступает на иждивение к государству и славно таким образом растет. Тут, однако, возникает еще один вопрос. Откуда, спрашивается, взялись у казны деньги, чтобы содержать эту растущую независимо от внутреннего рынка промышленность? Ответ опять-таки простой: «в последние десятилетия прошлого века привлечение иностранного капитала сделалось лейтмотивом русской финансовой и экономической политики»34.
Другими словами, точно так же, как русская промышленность поступила на содержание к государству, само русское государство поступило на содержание к иностранному капиталу. Проще говоря, замечательный рост русской индустрии оплачивался из-за рубежа. Естественно поэтому, что именно этим «лейтмотивом», т.е. интересами иностранного кредита, диктовалась отныне и внешняя политика самодержавия. Отсюда и двойной бюджет, позволявший демонстрировать иностранным финансовым рынкам «бездефицитность», отсюда введение золотой валюты. Отсюда, короче, вся «магия» полицейского государства. Но история эта прелюбопытнейшая.
) \
С момента, когда еще при Александре Николаевиче Россия в поисках новых рынков завоевывает Среднюю Азию, угрожая таким образом «жемчужине британской короны», богатейший из финансовых рынков Европы, лондонский, захлопывается перед нею наглухо. И в 1870-е русская кредитная, а следовательно, и внешняя политика переориентировалась на германские рынки. Что удивительным образом совпадало с описанными раньше играми Бисмарка, провозглашенного, как мы помним, Достоевским «единственным политиком в Европе, проникающим гениальным взглядом своим в самую суть фактов». В следующем десятилетии, однако, когда после Берлинского конгресса панславистские страсти оказались для Бисмарка отыгранной картой, он просто изгнал русские ценные бумаги из Германии. Правительство настоятельно рекомендовало публике избавиться от русских облигаций.
В результате они были внезапно выброшены на рынок - в огромных, катастрофических количествах, - угрожая затопить Россию, которая за неимением средств их скупить, оказалась вдруг в отчаянном финансовом положении. Имея в виду полную, чтобы не сказать рабскую, зависимость руководителей «блестящего периода» от иностранных займов, поворот Бисмарка мог оказаться гибельным для всей их «магии». Выручила Франция. Её рынок скупил, разумеется по дешевке, русские ценные бумаги, вышвырнутые Германией. И все последующие займы тоже. Не следует поэтому удивляться, что русский император обнажил голову при звуках Марсельезы, встречая в кронштадтском порту французского президента.
Внешняя политика России была теперь золотой цепью прикована к интересам французского кредита. Что, естественно, делало конфронтацию с Германией неминуемой. Вот почему столь жестоко ошиблись в своих пророчествах и Достоевский, и Леонтьев, так никогда и не постигшие хитросплетений самодержавной «финансовой магии».
Глава восьмая
ИЗВИВЫ На финишной прямой
молодогвардейской мысли
Еще любопытней, что выродившаяся славянофильская мысль каким-то образом буквально следовала за всеми этими меняющимися приоритетами российского кредита. Если еще для Данилевского вся романо-германская Европа, как мы помним, «гнила», по каковой причине «и Франция и Германия в сущности наши недоброжелатели и враги»35, то для славянофилов 1870-х Германия, как мы видели, гнить и не начинала. Как раз напротив, она «предназначила себе западный мир Европы, провести в него свои начала вместо романских и впредь стать предводительницею его». Короче, в семидесятые счастье России полагалось в том, что «нужны мы ей [т.е. Германии], по словам Достоевского, не для минутного политического союза»36.
«Гнили», как неожиданно выяснилось, одни лишь «романские начала», т. е. Франция. Ей предрекалась судьба Польши, она, говорилось, «отжила свой век». Для Леонтьева она была «худшей из Европ» и именно Париж, как помнит читатель, надлежало разрушить наряду с завоеванием Царьграда. Даже Данилевский, как цитировал его Леонтьев, сказал однажды, что если «Россия - глава мира возникающего,™ Франция - представительница мира отходящего»37. Сам Леонтьев с присущей ему математической точностью мысли сформулировал это лучше всех: «наше счастье в том, что мы стоим im Werden, а не у вершин, как немцы, и тем более не начали еще спускаться вниз, как французы»38. Все это, разумеется, покуда русский кредит высоко стоял на германском рынке, а французы наших облигаций не покупали.
И вдруг в третьем поколении славянофилов вся эта геополитическая премудрость меняется - полностью, неузнаваемо, что называется на 180 градусов. Теперь вдруг оказывается, что «гниет» как раз Германия, а прекрасная Франция, напротив, процветает. Замечательно, что этот новый «поворот на Германы» оркестрован был стой же страстной убежденностью, с какой совсем еще недавно Леонтьев проклинал Францию, Достоевский прославлял Германию, а Данилевский объявлял, что обе одинаково гниют. Сергей Шарапов, о котором Леонтьев в одной из последних своих статей говорил как «о примерном, честном русском человеке», заявляет в 1909 году, что славянофилы «давно уже определили Германскую империю как главного
Данилевский Н. Я. Сборник политических и экологических статей. Спб., 1890. С. 23.
Достоевский Ф.М. Дневник писателя. Берлин. 1922. С. 237.
Леонтьев К. Н. Собр. соч. Т. 6. С. 76.
Там же. Т. 7. С. 203.
врага и смутьяна среди остального белого человечества... В предстоящей мировой борьбе за свободу и мирное развитие арийской расы, находящейся в постоянной опасности вследствие агрессивной и безнравственной политики Германии, последняя должна быть обезврежена»39.
У Шарапова были все основания говорить, что славянофилы давно уже «повернули на Германы». По крайней мере он, Шарапов, молодой еще в конце 1880-х человек, но уже главный редактор Русского голоса и издатель влиятельного Московского сборника, действительно давно повернул. Просто, в отличие от своих соратников, он был экономически образованным человеком. И потому в ту же минуту, когда русские ценные бумаги изгонялись из Германии, заметил он это - и соответственно переменил фронт. Еще тогда, в 1887-м, французы под его пером «уже пережили свою латино-гер- манскую цивилизацию». Для них она каким-то образом оказалась в прошлом. А поскольку «блестит луч с Востока, греет сердце, и это сердце доверчиво отворяется» (вместе, добавим в скобках, с кошельком), то «зла к нам во Франции мы больше не встретим». А вот «Германия - другое дело. Позднее дитя латино-германского мира, не имеющее никаких идеалов, кроме заимствованных у еврейства, не может не ненавидеть новую культуру, новый свет мира»40.Как видим, Шарапов перевернул постулат Леонтьева на голову. Тот утверждал, что германская культура моложе латинской и потому к нам дружественна, а этот уверен, что именно из-за своей молодости она нам враждебна.
Произвольность идеологических канонов деградировавшего славянофильства обнажилась в этой внезапной перестановке врагов и друзей с откровенностью, можно сказать, потрясающей. Оно больше не предъявляло никаких условий самодержавию. Оно теперь полностью зависело от внешнеполитических поворотов полицейского государства, которые в свою очередь, как мы видели, обусловлены были его самоубийственной «финансовой магией».
' 39 Шарапов С. и Аксаков Н. Германия и славянство. М., 1909. С. 16, 26.
40 Московский сборник. М., 1887. С. XXVI.
Всё происходило, иначе говоря, буквально по Соловьеву, Высоколобое славянофильство выродилось в «стихийный и без- идейный национализм», в «национальное кулачество», увенчанное «наиболее ярким проявлением этого псевдонационального начала - антисемитизмом»[107].
И следа не осталось у третьего поколения славянофилов от наивного идеализма ретроспективной утопии, все еще мерцавшей, как помнит читатель, отраженным светом декабристского патриотизма. Даже от романтических порывов молодогвардейцев ничего не осталось - ни от православной окрыленности Достоевского, ни от мрачного византийского вдохновения Леонтьева. Когда говорили они теперь о «предстоящей борьбе за свободу», то имели в виду лишь «свободу арийской расы». Когда упоминали «идеалы», то лишь «заимствованные от еврейства».
Больно и страшно читать это заключение затянувшегося почти на столетие путешествия славянофильской мысли. Больно за обманутые надежды её родоначальников. Страшно за будущее великого народа, заведенного ею в средневековый тупик.
w Глава восьмая
Три ВОИНЫ На финишной прямой
Тем более что историческая эволюция имперского национализма на этом не закончилась. И завершение предстояло ей еще более мрачное. Государственный патриотизм николаевской эпохи поднял Россию в 1850-е, как мы видели, на войну - крестовый поход против Европы, завершившийся крымской катастрофой. Ничему не научившись на этом трагическом опыте, два десятилетия спустя опять втравила страну на этот раз славянофильская Русская идея в балканский поход на Царьград во имя мифического «славянского братства», поход, закончившийся еще одним национальным унижением на Берлинском конгрессе. И вот снова поднимала Россию на «священную войну», теперь против Германии, «национально ориентированная» интеллигенция.
Читателя должен был насторожить, я думаю, уже манифест выдвинувшегося в лидеры третьего поколения Шарапова, подписанный, кстати, и родственником родоначальников славянофильства Н.П. Аксаковым и требовавший «обезвредить» одну из великих держав Европы, объявив ее «главным врагом и смутьяном среди остального белого человечества». Манифест глухо провозглашал «предстоящую борьбу за свободу арийской расы».Что конкретно имелось в виду, объяснил с солдатской прямотой первый «белый» генерал Михаил Скобелев, призывавший внушить Франции «сознание связи, существующей ныне между законным возрождением славянства и возвращением ей Меца, Страсбурга, а может быть, и всего течения Рейна»*2.
N
В устах Скобелева такая тирада могла означать только войну. Войну с большой буквы. Войну - крестовый поход. Ибо «путь в Константинополь должен быть избран теперь не только через Вену, но и через Берлин»43. Так формулировался канон третьего, полицей- ско-милитаризованного, сказал бы я, славянофильского поколения: «есть одна война, которую я считаю священной. Необходимо, чтобы пожиратели славян были сами поглощены»44.
Скобелев говорил еще на языке второго поколения. Но разве менялась от этого суть дела? Он ведь опять призывал к войне «за освобождение славянства», которая при тогдашнем состоянии страны была, как и обе ее предшественницы, предприятием заведомо безнадежным, обреченным. И вдобавок еще чреватым на этот раз не одним лишь национальным унижением, но крушением петровской России. AJV1.0. Меньшиков, этот «великий патриот» и «живоносный источник русской мысли», по выражению нашего современника Валентина Распутина, подводил под самоубийственную генеральскую риторику теоретическую базу.
Оказывается, что вообще «очистителями земли являются по воле Божьей воинственные народы»45. Так как же, скажите, могла жить
42 Апушкин В. Скобелев о немцах. Пг., 1914. С. 92. Там же. С. 86.
м Там же. С. 27.
45 Меньшиков /И.О. Из писем к ближним, М., 1991, с. 14. Отзывами о Меньшикове в современной российской литературе я обязан А.Рейтблату (см. его статью «Котел фельетонных объедков» в журнале «неприкосновенный запас», 1999, №2).
Россия в мире, если сам Господь требовал от нее воинственности? Даже не во имя «идеального блага» России, как требовал Леонтьев, а просто для «очистки земли».
«Три войны» - так, собственно, можно озаглавить эту печальную повесть об окончательной деградации постниколаевского национализма. Три войны, три крестовых похода (японская не в счет: порожденная исключительно алчностью той «продажной и грабящей сволочи», которая продолжала доминировать кабинет его императорского величества при всех режимах, позорная эта война была лишь символом деградации самодержавия). Три войны - Крымская, Балканская и предстоящая мировая - на совести выродившейся Русской идеи. Она губила Россию, в любви к которой клялась.
Невероятным, почти мистическим образом совпадали войны эти, как видим, с тремя ступенями «лестницы Соловьева». Некоторые из славянофилов первого поколения стыдились Крымской войны за что, по словам самого Соловьева, «подверглись ... анафеме со стороны представителей новейшего зоологического патриотизма»46. Второе поколение, уже соскользнувшее на ступень «национального самообожания», горячо ратовало, как мы помним, за войну Балканскую. Третье, как видим, страстно и самозабвенно втравливало Россию в мировую войну, которой суждено было ее окончательно погубить, доведя, наконец, дело до её «национального самоуничтожения».
Глава восьмая
РОССИЯ ПРОТИВ «а финишной прямой
еврейства
Но как ни парадоксально может нам теперь это показаться, в стране, опустошенной «финансовой магией» самодержавия и способной поддерживать видимость порядка только «под надзором полиции», смотрели эти люди в будущее с оптимизмом. Словно позабыв трагические уроки 1856-го и 1878-го, они не только нарывались на новую войну, но и были совершенно уверены
46 Соловьев B.C. Сочинения: в 2 т. Т. 1. M., 1989. С. 445.
в победоносном ее исходе. Иван Аксаков, как мы помним, еще с грустью шел на союз с полицейским государством - только чтобы защитить «русскую самобытность», «оригинальную культуру» от посягательств либералов-западников, только потому, что в его время «середины не было». Третье поколение откровенно потешалось над этой робкой защитной тактикой. Ему уже не нужна была аксаковская «середина» между всевластием спецслужб и либералами. Эти люди представляли полицейское государство.
«За самобытность приходилось еще недавно бороться Аксакову, - восклицает теперь Шарапов, - какая там самобытность, когда весь Запад уже успел понять, что не обороняться будет русский гений от западных нападений, а сам перевернет и подчинит себе все, новую культуру и идеалы внесет в мир, новую душу вдохнет в дряхлеющее тело Запада»47. Вот у кого следовало бы сегодня поучиться Дугину.
Еще в семидесятые, во втором славянофильском поколении, Данилевский представлял себе основную конфронтацию современного мира как «Россия против Запада». Еще в восьмидесятые Леонтьев громил «либерально-эгалитарную» европеизацию России. Третьему поколению все это казалось безнадежно устаревшим, архаическим вздором. Оно верило в «Протоколы сионских мудрецов» и главным врагом полагало вовсе не европеизацию, но «евреи- зацию» России. Не «германская правительственная система», как думал в шестидесятые наивный Бакунин, лежала, по их мнению, в основе всех наших бед, а «германские идеалы», заимствованные, как только что объяснили нам свежеиспеченные арийцы, «от еврейства». «Не в прошлом, свершенном, а в грядущем, чаемом, Россия - по общей мысли славянофилов - призвана раскрыть христианскую правду о земле»48. И состояла эта правда в том, что основная конфронтация современного мира звучала как «Россия против еврейства».
Московский сборник. С. XXV.
Волжский А. Святая Русь и русское призаание. С. 23.
14 Янов
Глава восьмая
Евангелие от Сергея w**
Есть в нашем распоряжении замечательный в своем роде документ, ярко живописующий эту роковую эйфорию последнего предвоенного поколения славянофильства. Сам Шарапов и поведал нам простодушно - и подробно, - как виделась ему накануне окончательной катастрофы петровской России «христианская правда о земле». Он написал об этом роман, который вышел в 1901 г. и назывался «Через полвека».
«Я хотел в фантастической форме, - объясняет автор, - дать читателю практический свод славянофильских мечтаний, показать, что могло бы быть, если бы славянофильские воззрения стали руководящими в обществе»49. Вот как видел он Москву 1951 года, руководимую славянофильскими воззрениями.
Москвич 1950-х встречается с человеком из прошлого и отвечает на его недоуменные расспросы:
« - Разве Константинополь наш?
Да, это четвертая наша столица.
Простите, а первые три?
Правительство в Киеве. Вторая столица - Москва, третья - Петербург»50.
Внешне автор словно бы следует начертаниям Леонтьева: и «правительство в Киеве» и «Константинополь наш». Но смысл, душа леонтьевского пророчества - отдать «петровское тусклое окно в Европу» за «спокойное господство на юго-западе, полном будущности и духовных богатств»- исчезли. Петербург по-прежнему третья столица империи, о превращении его в «балтийскую Одессу» и речи нет. А что до «духовных богатств», то они Шарапова не волнуют. Были бы территориальные...
Так вот, о территории. Каковы границы новой России? «Персия представляет нашу провинцию, такую же, как Хива, Бухара и Афганистан. Западные границы у Данцига. Вся Восточная Пруссия, Чехия с Моравией, мимо Зальцбурга и Баварии [граница] опускается
Шарапов С. Через полвека. М., 1901. С. 3. Там же.
к Адриатическому морю, окружая и включая Триест. В этой Русской империи были Царство Польское с Варшавой, Червонная Русь со Львовом, Чехия с Веной, Венгрия с Будапештом, Сербо-Хорватия, Румыния с Бухарестом, Болгария с Софией и Адрианополем, Греция с Афинами»51. Прямо по Данилевскому.
Когда-то, за много лет до имперской утопии Шарапова, Леонтьев, как мы помним, пророчествовал: «Я того мнения, что социализм в XX и XXI вв. начнет на почве государственно-экономической играть ту же роль, какую играло христианство на почве религиозно-госу- дарственной тогда, когда оно начинало торжествовать. Теперь социализм еще находится в периоде мучеников и первых общин... Найдется и для него свой Константин (очень может быть и даже всего вероятней, что этого экономического Константина будут звать Александр, Николай, Георгий, т.е. ни в коем случае не Людовик, не Наполеон, не Франциск, не Джеймс, не Георг»52.
Конечно, для Шарапова социализм табу, да и Леонтьев опять промахнулся - как по поводу имени «экономического Константина», так и относительно XXI века. Но все-таки если соединить два эти, на первый взгляд, столь различных прогноза, то невольно создается удивительное впечатление, что истинным наследником выродившейся Русской идеи оказался на деле коммунистический император Иосиф I (Сталин). Мы еще к этому поразительному совпадению вернемся.
Покуда скажем лишь, что во многих деталях Шарапов ошибся. С Австрией и Грецией вышла осечка. С Сербо-Хорватией и Триестом тоже. Иран нЈ вошел в советско-славянскую империю, а с Афганистаном и вовсе оскандалились. И всё же общее предвидение гигантской империи, простершейся на Восточную и Центральную Европу и опирающуюся на леонтьевский диктум «социализм есть феодализм будущего», оказалось точным. Пусть в совсем другой форме, пусть с совершенно иным интеллектуальным оправданием, отрицающим (по крайней мере, на словах) любезное их сердцу самодержавие, пусть всего лишь на полстолетия, но оно оправдалось.
Там же. С. 45.
Леонтьев К. Письма и А. Губастову// Русское обозрение. 1897. № 5. С. 460.
Это свидетельствует, по-моему, неопровержимо, что природу сверхдержавной болезни и логику фантомного наполеоновского комплекса, которым заболела после Крымской войны Россия, угадало выродившееся славянофильство точнее, нежели современные ему русские либералы.
Как, однако, сопрягается прогноз Шарапова с пророчествами Ивана Аксакова и Данилевского о Всеславянском Союзе будущего? Да никак. Это наследство панславизма раскассировано, оказывается, полностью.
«- А мы мечтали, - говорит славянофил из прошлого, - что образуется Всеславянский Союз и в нем растворится Российская империя...
- Помилуйте, это смешно. Вы посмотрите, какая необъятная величина Россия и какой к ней маленький привесок западное славянство. Неужели было бы справедливо нам, победителю и первому в славянстве, а теперь и в мире народу, садиться на корточки ради какого-то равенства со славянами?»53 Словно Достоевского цитирует...
Так легко оказалось сбросить панславистскую маску «первому в мире народу», едва достиг он своей цели и оказался снова, пусть лишь в мечте «патриотического» идеолога, единственной в человечестве сверхдержавой. Нечего и говорить, что «самодержавие не только сохранилось, но и необыкновенно укрепилось и приобрело окончательно облик самой свободолюбивой и самой желанной формы правления»54.
_ w w Глава восьмая
«Евреискии вопрос» н**»»»*™*
И все-таки, полагает Шарапов, борьба за преобразование мира по образу и подобию России не закончится и в 1951 году. Хотя, опять вспомним Достоевского, «истина одна, и стало быть, только единый из народов может иметь Бога истинного» и хотя превраще-
53 Шарапов С. Цит. соч. С. 59. и Там же.
ние России в единственную глобальную сверхдержаву эту истину вроде бы и подтверждало,найдутся еще и через полвека люди на свете и, что хуже всего, даже в самой Российской империи, которые истину эту не признают. Разумеется, эти враги народа должны быть устранены.
Их устранение как раз и представляет самую насущную проблему для Москвы середины XX века, которой, собственно, и посвящена большая часть романа Шарапова.
«Речь шла о непомерном размножении в Москве еврейского и иностранного элемента, сделавшего старую русскую столицу совершенно международным еврейским городом»55. Дело дошло до того, что «была уничтожена процентная норма для учащихся евреев во всех высших и средних учебных заведениях». Даже в фантастическом будущем такой либеральный разврат ужасал автора. Впрочем, как мы сейчас знаем, ужасался он зря. В полном соответствии с «христианской правдой» выродившегося славянофильства процентная норма была при императоре Иосифе благочестиво восстановлена.
Тут, однако, нужно опять отметить точность предвидения Шарапова. Если вспомнить действительно потрясавшие Москву середины века кампании против «безродных космополитов» и «убийц в белых халатах», то в главном пророчество его сбылось. Коммунистический император и впрямь превратил еврейский вопрос в самую насущную проблему России. Как известно, лишь его смерть помешала её «окончательному решению».
Существенно, однако, что и для Сергея Шарапова, и для Иосифа Сталина решение еврейского вопроса одинаково оказалось оборотной стороной глобальной борьбы с мировым злом. Фундаментальный постулат Русской идеи был, таким образом, сохранен в обоих случаях: Россия по-прежнему противостояла гнилому Западу. Только в новой, переформулированной доктрине мировое зло коренилась не в западном парламентаризме, как думали основоположники славянофильства, не в «либерально-эгалитарном разложении», как считал Леонтьев, и даже не в западной буржуазности,
как полагали родоначальники большевизма, но в еврействе, которое, согласно «Протоколам сионских мудрецов», навязало миру и этот парламентаризм, и это либеральное разложение, и эту буржуазность56. Стало быть, окончательная победа «христианской правды о земле» была просто невозможна без окончательного решения еврейского вопроса.
Тут, впрочем, проявил Шарапов некоторое легкомыслие. По крайней мере, с точки зрения его влиятельных единомышленников, среди которых были и депутаты Думы и даже виднейшие ее ораторы, он упростил дело. По его мнению, окончательное решение вопроса могло быть достигнуто превращением евреев в изгоев и всеобщим организованным презрением к ним со стороны «коренных русских людей, которые, наконец, почувствовали себя хозяевами земли своей»57. Просто не следовало их брать ни на какую работу, кроме черной.
Ю.М.Одинзгоев шел, однако, дальше Шарапова. Он предлагал «бойкот христианами всех органов печати жидовской окраски, бойкот промышленности, торговли, бойкот во всех решительно сферах человеческой деятельности»58. А Владимиру Пуришкевичу, возглавлявшему Союз Михаила Архангела, и это предложение казалось слишком либеральным. Окончательно решить вопрос, по его мнению, могло лишь выселение всех евреев на Колыму, за Полярный круг (идея, впоследствии подхваченная и модифицированная Сталиным). Но радикальней всех был, конечно, шеф Союза русского народа Николай Марков, подробный разговор о взглядах которого у нас еще впереди. Сейчас скажем лишь, что в апреле 1911 года он темпераментно заявил в Думе: в случае, если его коллеги будут продолжать свою либеральную политику по отношению к евреям, в частности, не давая русскому народу «возможности обличить в суде иудея ... всех жидов начисто до последнего перебьют»59. Эта идея была впоследствии подхвачена Гитлером - тоже с известными модификациями.
Там же.
Там же. С. 24.
Одинзгоев /ОЖ В дни царства Антихриста. Сумерки христианства. С. 225.
Цит. по: Кожинов В.В. Черносотенцы и революция. М., 1998. С. но.
Атеоретическое обоснование всей этой черносотенной свистопляски дал, как всегда, всё тот же «неисчерпаемый духовный резервуар», по характеристике сегодняшних его единомышленников, М.О. Меньшиков. Дело, оказывается, в том, что «входя в арийское общество, еврей несет в себе низшую человечность, не вполне человеческую душу»60. Именно по этой причине «народ требует чистки. Когда он здоров и могуч, то совершает выпалывание чуждых элементов сам безотчетно, как организм выгоняет своих паразитов. Больному же и захиревшему народу нужно несколько помочь в этом»61. Вот Шарапов с компанией и взялись помогать. Отсюда их требования бойкотов и выселения за Полярный круг, обвинения в ритуальных убийствах и обещания «перебить» в предстоящих погромах всех жидов до последнего.Что касается «обличения в суде иудея», то это как раз российскому Министерству юстиции два года спустя затеять удалось. Только, вопреки его ожиданиям и к вящему позору «обличителей», закончилось оно оправданием невинного человека. Я говорю, конечно, о знаменитом деле Бейлиса. Но это к слову. А, по сути, отчетливо видим мы теперь, что «евангелие от Сергея» вовсе не было грёзой любителя-одиночки. Оно было необыкновенно популярно среди значительной части «национально ориентированных». Было на самом деле одной из трех главных частей нового «патриотического» канона, который, как мы видели, состоял у последнего предреволюционного поколения русских националистов из войны с Германией, возврата утраченной в крымской катастрофе сверхдержавности и, конечно же^окончательного решения еврейского вопроса.
И помимо всего прочего даёт нам утопия Шарапова возможность представить себе, как выглядел бы сегодня мир втом, почти невероятном случае, если победа в холодной войне досталась бы не ошельмованному нашими «патриотами» Западу, а советско-славянофильской империи, что привиделась в 1901 году Сергею Шарапову.
Новое время. 1909, i марта.
Там же. 190В, 2В февраля.
w Глава восьмая
Русским вопрос Нафи™™**прммй
Так или иначе, вырождение благородной старой утопии завершилось. Она слилась с геополитическими амбициями деградировавшего самодержавия и с брутальным черносотенством. И, может быть, вовсе не странно, что именно её идеологи несопоставимо точнее предвидели - и описали - основные очертания эволюции средневековой системы натри четверти столетия вперед. Что-то такое, выходит, знали они об инстинктах аудитории, к которой обращались, о чем не подозревали ни высоколобые молодогвардейские пророки, ни тем более «национально ориентированные» либералы.
Им, этим новым идеологам, не было нужды апеллировать к врожденному византизму России, как Леонтьеву, не говоря уже об «историческом чувстве свободы», как Бакунину. И в отличие от Достоевского не оправдывали они мировое первенство России православием русского народа. Для них это первенство подразумевалось само собою. Из всего славянофильского наследства усвоили они один лишь национальный эгоизм - причем, в самой обнаженной, в самой бесстыдной его форме -на уровне инстинкта ненависти ко всем, кто противился российской сверхдержавности. Ибо отныне, запомним дерзкий вызов Шарапова, «не обороняться будет русский гений от западных нападений, а сам перевернет и подчинит себе всё».
Я не уверен, как объяснить внезапное появление таких бесшабашно агрессивных идеологов на финишной прямой самодержавия, когда, по выражению американского историка, «даже русские генералы заговорили апокалиптическим языком»62. Можно, конечно, счесть это временным помрачением рассудка, порожденным миазмами разложения средневековой политической системы. Но откуда в таком случае взялись бы точно такие же, словно сорвавшиеся с цепи идеологи на политической арене совершенно новой, только что народившейся постсоветской государственности? Ведь и она, как мы знаем, ими буквально кишит. Одни лишь сегодняшние аналоги дореволюционного Сергея Шарапова Владимир Жириновский и Алек-
62 Fuller W.C. Jr. Strategy and Power in Russia. 1600-1914. New York, 1992. P. 267.
сандр Дугин чего стоят! Приходится предположить, что эти люди - своего рода живой итог эволюции идеологии национального эгоизма. Выходит, и впрямь не умерла эта идеология даже после чугунных советских десятилетий.
Как бы то ни было, вопрос остается: почему именно этим выродившимся наследникам благородной утопии удалось угадать то, на чем сломали зубы такие серьезные, можно сказать, профессиональные мыслители, как Тютчев, Леонтьев или Данилевский? Что такое знали они о своей стране, о чем не ведали профессионалы? Совсем ведь, право, несложно измерить точность их предвидения. Всё, что для этого требуется, - просто спросить себя: вправду ли кончилась власть над российскими умами так отчаянно волновавшего их «еврейского вопроса» даже сейчас, столетие спустя после падения породившего их самодержавия?
Разве не отмечен был в России конец XX века бурным всплеском восхищенного интереса именно к черносотенцам - и даже не в каком-нибудь маргинальном Нашем современнике, а в самом сердце современного литературного процесса, в его, как говорят англичане, mainstream? А. Рейтблат, на которого мы уже ссылались, привёл в журнале Неприкосновенный запас немало документальных свидетельств этого восхищения. Вот некоторые из них.
«В адресованном учителям библиографическом словаре «Русские писатели. XX век» (М., 1998), изданном «Просвещением» под редакцией директора Пушкинского дома Н.Н. Скатова помещены вполне сочувственно написанные статьи об идеологах черносотенного движение Б.В. Никольском и В.М. Пуришкевиче [том самом, как помнит читатель, который требовал выселить евреев за Полярный круг], а получивший широкую известность публикацией «Протоколов сионских мудрецов» С.А. Нилус назван «выдающимся духовным писателем» и «пророком». ИНИОН ...выпустил недавно монографию П.И. Шлемина об М.О. Меньшикове, где речь идет о «публицистическом подвиге» этого журналиста, его «аналитических талантах» и «нравственной крепости»». Речь, как понимает читатель, о том самом черносотенном журналисте, утверждавшем в 1909 году, что «еврей несет в себе не вполне человеческую душу».
«Меньшиков, - продолжал автор, - в последнее время вообще становится предметом настоящего культа. При региональном общественном фонде поддержки Героев Советского Союза действует инициативная группа по увековечению его памяти и популяризации наследия, ежегодно проходят Меньшиковские чтения... и, что самое важное, обильно переиздаются его работы. Вышло уже несколько книг: «Из писем к ближним», «Выше свободы» (1998; с предисловием Валентина Распутина и тремя (!) послесловиями), и тематический том издаваемого студией Никиты Михалкова ТРИТЭ сборника «Российский архив» (вып.4. М., 1993; содержит дневник Меньшикова 1918 г. и его письма), не считая многочисленных публикаций в журналах и сборниках»63.
Это все, впрочем, судя по анализу Рейтблата, скорее, работы любительские, сопоставимые разве что с такими перлами самиздат- ского черносотенства 1970-х, как, скажем, уже упомянутые в трилогии «Заметки русского человека». В ту сумеречную пору, напомню, главным форумом национал-либерализма был в СССР журнал Вече, тоже самиздатский, но пытавшийся все-таки не преступать пределы хотя бы «патриотического» приличия. Так вот черносотенные Заметки атаковали Вече за непоследовательность. За то, как мы помним, что оно замалчивало эпохальное открытие физика-теоретика Тяпкина, который доказал, что культ Эйнштейна был создан бездарными евреями, чтобы повысить свой научный престиж. Заключался тот памфлет, естественно, патетическими вопросами: «На кого же работает Вече? На Россию или на её врагов?»64.
Согласитесь, что этот всплеск ненависти советских времен так же смахивает на пародию, как и аналогичные памфлеты времен постсоветских. О действительной глубине новейшего интереса к «еврейскому вопросу» судить лучше по тому, что в дело вмешалась тяжелая, так сказать, артиллерия. Я говорю о вполне серьёзных авторах, претендующих на объективное, чтобы не сказать академическое, решение вопроса. Например, о В.В.Кожинове и его вышедшей в 1998 году вторым изданием книге «Черносотенцы и Революция», которую мы уже
Неприкосновенный запас. 1999, №2. С. 5.
Цит. по: Новый журнал. 1975. № 118. С. 223, 227.
упоминали, или о первом томе работы А.И. Солженицына «Двести лет вместе», изданной в 2001-м.
Конечно, оба автора трактуют отдельные сюжеты «еврейского вопроса» по-разному. Кожинов, допустим, всячески подчеркивает, что Союз русского народа был одним из самых серьёзных политических движений дореволюционной России, которое «гораздо лучше других политических сил понимало к чему ведёт Революция»65. Подтверждает он свою трактовку, как мы помним, тем, что принадлежала к этому движению не одна только шпана, но и выдающиеся деятели русской культуры. С гордостью за Черную сотню приводит Кожинов длинный список знаменитых имён, принимавших в ней участие. На видном месте в этом списке высшие церковные иерархи, как митрополит Антоний (Храповицкий), «обладавший наиболее высокой духовной культурой из всех тогдашних церковных иерархов» и «один из двух главных кандидатов на пост Патриарха Московского и всея Руси». Более того, митрополит Тихон (Белавин), выигравший этот пост (162 голосами против 150 за Антония), тоже, согласно Кожинову, «был виднейшим черносотенцем»66.«Общенародный», «всесословный» характер Союза русского народа обосновывает Кожинов еще и тем, что «в нем с самого начала принимали прямое участие и родовитейшие князья Рюриковичи (например, правнук декабриста М.Н. Волконский и Д.Н. Долгоруков) и рабочие Путиловского завода».67 Но Кожинов, конечно, писал апологию Черной сотни и откровенно болел за «своих».
В отличие от него Солженицын чувствует себя, скорее, некомфортабельно, Јоворя о Союзе русского народа и всячески стремится его роль умалить: «Союз этот, раздутый слухами и страхами в легендарный, был в реальности жалкой, бессильной и безденежной партией ...Через несколько лет после загасания революции 1905 Союз Русского Народа - и от начала бутафорский - бесславно растаял»68.
Кожинов В.В. Цит соч. С. 13.
Там же. С. 24.
Там же. С. 18-19.
Солженицын А.И. Двести лет вместе. М., 2001. С.405-406.
Не берусь судить, кто здесь прав, надеюсь лишь, что читателю будет легче разобраться в этом, когда он услышит в одной из следу- щих глав этой книги рассказ о судьбе Союза русского народа из уст самого его шефа Николая Евгеньевича Маркова. Сейчас, однако, представляется разумней остановиться не столько на том, что разделяет наших авторов, сколько на том, что у них общего - на самом их подходе к «еврейскому вопросу» в самодержавной России.А подход этот такой. Отношения между самодержавием и евреями описываются как конфликт равных. Да, они враждовали между собою и вынуждены были волею судьбы жить вместе. Но выглядят они в этом подходе почти как две высокие договаривающиеся стороны, в конфликте между которыми оба автора пытаются исполнить ту же роль «честного маклера», какую играл на Берлинском конгрессе после Балканской войны Бисмарк.Допустим, в погромах, где разоряли, калечили и убивали сотни людей только за то, что они евреи, виноват, по Солженицыну, «стихийный взрыв масс»69. В какой-то мере и православные иерархи «не смогли помешать, чтобы впереди погромных масс не качались бы распятия и церковные хоругви»70. Но пуще всего виновата «нераспорядительность полиции»71.Да, все они - и раздраженные евреями массы, и местная администрация, и иерархи - несут свою долю ответственности за погромы (косвенно даже и самодержавие, не сумевшее учредить на местах дельную администрацию). «Но с существенной поправкой: что и еврейская молодежь того времени - весомо делит ту ответственность»72. И те, стало быть, виноваты, и эти тоже хороши - всем сестрам по серьгам.
Ибо как посмела еврейская молодежь создавать отряды самообороны от погромщиков, отчаянно - а порою и нагло - провоцируя и без того возбужденные массы? Кто, скажите, позволил ей защищать своих женщин и стариков, пусть и не защитила их «нераспоря-
Там же. С. 406.
Там же. С. 405.
Там же. С. 324.
дительная полиция»? У Кожинова эти отряды самообороны и вовсе вырастают в зловещую силу, в главную, по сути, причину погромов. Удовлетворенно цитируя диатрибы скандально известного Д.Е. Гал- ковского, вроде таких: «Вооруженные до зубов еврейские погромщики ...специально учиняли беспорядки, провоцировали русское население», Кожинов глубокомысленно замечает: «ясно, что в резких суждениях Галковского есть своя правота»73. Не случайно же, продолжает он, «более 8о процентов октябрьских погромов 1905 года произошло вокруг Киева и Одессы, где, очевидно, были сильные центры сопротивления ... Сопротивление, в свою очередь, порождало ответные вспышки»74. Но добавляет, объективности ради, что «всё вышесказанное отнюдь не означает, разумеется, что в погромах виноваты были одни евреи»75. И на том, как говорится, спасибо...
Как и Бисмарк, оба автора считают такую позицию посредника в конфликтах сторон «объективным пониманием ситуации»76, даже не замечая жестокой иронии в самой попытке пропорционально «разделить ответственность» между теми, кто бил, и теми, кого били. Зачем, скажите, стали бы евреи создавать отряды самообороны, не будь погромов? Неужто следовало им, как баранам, покорно подставлять горло под ножи убийц?
Ведь в том-то же и дело, что между «высокими договаривающимися сторонами» было столько же равенства, сколько между тюремщиками и заключенными. И вовсе не о конфликте между равными шла речь, но об истязании бесправного и униженного меньшинства могущественным «административным ресурсом» самодержавной империи. О конфронтации, в которой и полиция, и бюрократия, и прокуратура, и церковные иерархи оказались поголовно на стороне погромщиков. Не только было самодержавие неспособно защитить это меньшинство, но и беспощадно, всей своей чугунной тяжестью на него обрушилось.
Кожинов В.В. Цит. соч. С. 107.
Там же.
Там же (выделено мною. - АЯ.).
За столетие с четвертью пальцем о палец оно не ударило, чтобы дать этому меньшинству гражданское равноправие, отказало ему в элементарном человеческом уважении, третировало его как изгоя, заперло его в гетто. И всё это по отношению к гордому народу, про который Владимир Соловьев сказал, цитируя «иудея из иудеев», по его словам, апостола Павла: «Это народ закона и пророков, мучеников и апостолов, «иже верою победиша царствия, содеяше правду, получиша обетования»77.Да возьмем хоть ту же оскорбительную процентную норму для приема евреев в гимназии и университеты, введенную в 1887 году в разгар контрреформы, ведь и ее Солженицын оправдывает. «Конечно же, - признает он, - динамичной, несомненно талантливой к учению еврейской молодежи - этот внезапно возникший барьер был более чем досадителен». Но, с другой стороны, «на взгляд коренного населения - в процентной норме не было преступления против равноправия, даже наоборот. Те учебные заведения содержались за счет казны, то есть средства всего населения, - и непропорциональность евреев виделась субсидией за общий счет»78.Значит так, не Россия выиграет от талантливости к учению части её молодежи, пусть еврейской, а «они» получают субсидию за счет «коренного населения». Явно же,что видит автор в евреях чужаков, «не наших». Явно не чувствует оскорбительности самой постановки вопроса. Не понимает, что не «досадительна» была процентная норма для этой части российской молодежи, а невыносимо, непередаваемо унизительна.
Неужели и впрямь нужно самому побывать в шкуре «не наших», как, скажем, сегодня русские в Латвии или в Туркмении, чтобы это почувствовать? Но вот ведь Короленко почувствовал. И Соловьев тоже. И лучшие из лучших русских юристов, защищавших в 1913 году Менделе Бейлиса на чудовищном средневековом процессе, затеянном против него российским Министерством юстиции, все это чувствовали. А вот Солженицын и Кожинов не чувствовали. Почему? Владимир Соловьев объяснил нам это еще 120 лет назад, когда ска-
Соловьев B.C. Сочинения: в 2 т. м., 19В9. Т. 1. С. 213.
Солженицын А.И. Цит. соч. С. 273.
зал, что «господствующий тон всех славянофильских взглядов был в безусловном противоположении русского нерусскому, своего - чужому»79. Потому-то, выходит, и не чувствовали, что унижая других, унижают самих себя ни Шарапов, ни Кожинов, ни Солженицын, что сами принадлежали к этой «особняческой» традиции. Не к той, декабристской, к которой принадлежали Короленко и Соловьев.
Удивляться ли после этого, что оба автора терпеть не могут Соловьева? Еще бы! Он в одной беспощадной фразе раскрыл настоящий секрет их шокирующей глухоты к переживаниям «не наших», глухоты, граничащей с атрофией нравственного чувства и вынуждающей их оправдывать чугунные мерзости разлагавшегося самодержавия. И оправдывать притом мучительно неловко. Тем, что и у других народов, дескать, тоже рыльце в пушку. Кожинов, например, сослался на то, что и в средневековой Европе тоже были еврейские погромы, например, в 1147 и 1188 годах во время второго и третьего крестовых походов80. И даже не подозревал человек, какую провел самоубийственную параллель. Ведь означает она невольное признание, что если в Европе средневековье умерло уже сотни лет назад, то в России начала XX века было оно всё еще живо. Право, не меньшего стоит это признание, нежели памятная декларация Бердяева, что «Россия никогда не выходила из Средних веков».Современной Америки, впрочем, Кожинов не касался, за исключением того, что объявил ее царством «идеологического тоталитаризма»81. Солженицын же, напротив, именно примером современной Америки оправдывает российскую процентную норму 1887-го. Покушайте, как: «в общем виде - вопрос [о процентной норме], уже теперь с предела низшего, «не меньше, чем» - и сегодня бушует в Америке»82.
Не знаю, право, на какую степень невежества читателей рассчитывал автор. Ведь не мог же он не знать, что в Америке-то спор идёт о чем-то прямо противоположном тому, что происходило в самодер-
Соловьев B.C. Цит. соч. С. 470.
Кожинов В.В. Цит. соч. С. 83.
Там же, с. 113.
Солженицын АИ. Цит. соч. С. 274.
жавной России. А именно о том, каким образом компенсировать даже правнуков некогда оскорбленного и униженного меньшинства, но уж никак не о его новом «досадительном» унижении.
И ничему не научил наших авторов даже развал советской империи, когда миллионы русских словно обратились во мгновение ока в евреев, в «не наших», оказались гражданами второго сорта, бесправным меньшинством в бывших советских республиках, а ныне суверенных государствах. Нет, конечно, им там не устраивают погромов, не запирают в какую-нибудь черту русской оседлости, не вводят для них процентную норму - но тяжко ведь всё равно, спросите их, тяжко чувствовать себя «не нашим» в своей стране.Не помню уже кто сказал, что не было в самодержавной России «еврейского вопроса». Был русский вопрос. Я понимаю это так. Полтора столетия боролись, как мы видели, в России две традиции - декабристская и особняческая. Утех, кто принадлежал к первой, сердце болело за всех униженных и оскорбленных. Те, кто принадлежал ко второй, болели за «своих», шельмуя «не наших» - даже в собственной стране. Какая из этих традиций возьмёт в конечном счете верх - к этому и сводится, кратко говоря, русский вопрос.
Судя по тому, что серьёзные (и несерьёзные) мыслители «державного» большинства и сегодня продолжают делить свой народ на «коренное население» и «не наших», верх пока что берет традиция особняческая. В этом, по крайней мере, смысле предвидение Шарапова и его единомышленников оправдалось. Печальное заключение это нечаянно подтвердил и сам Кожинов, заметив, что «ореол поклонения, который окружает сегодня «ретроградные» лики Розанова или Флоренского [их он, конечно, тоже зачислил в черносотенцы], свидетельствуют об их духовной победе»83. Что же тогда сказать об ореоле поклонения, окружающем сегодня Меньшикова?
83 Кожинов 8.8. Цит. соч. С. 82.
Глава восьмая
Уроненное знамя на финишной прямой
Но если, в отличие от идеологов национального эгоизма, ничего в дальней перспективе тогдашние либералы не угадали, то ближайшее будущее России они, по крайней мере, самые проницательные из них, как Борис Николаевич Чичерин, предвидели точно. На финишной прямой самодержавия всё случилось так, как предсказал он в словах, вынесенных в эпиграф этой главы. Действительно были война и банкротство и действительно дарована была конституция совершенно неподготовленному к ней обществу. Но вот что из всего этого выйдет, не предвидел никто из либералов, даже Чичерин. Почему?
Здесь еще одна громадная историческая загадка, которая совершенно очевидно выходит за пределы моей темы. Но поскольку она с нею соприкасается, вовсе обойти её невозможно. Вот как я вижу одну из основных причин политической слепоты тогдашних либералов.
Никто в России, и в первую очередь, как это ни парадоксально, люди, считавшие себя учениками Соловьева, не воспринял его как политического мыслителя, как учителя жизни, а не только философии. Знамя борьбы с национальным эгоизмом как основой средневековой политической системы упало с его смертью. Не стал он для своих учеников апостолом Павлом. Как «первого русского самостоятельного философа»84, как «блестящее явление» на небосклоне русской мысли85 Владимира Сергеевича превозносили. Его «философия всеединства» была, можно сказать, канонизирована. Особенно красноречиво хвалил его Бердяев: «Соловьевым могла бы гордиться философия любой европейской страны. Но русская интеллигенция Соловьева не читала и не знала, не признала его своим»86.
Допустим. Но Бердяев-то читал. И признал. Так почему даже ему, не говоря уже о Булгакове, который вообще не отличал Соловьева от славянофилов, никогда не понадобилась политическая интуиция учителя? Даже притом, что самая яркая статья Соловьева так и назы-
Вехи. M., 1990. С. 22. Там же. С. 21. Там же. С. 99.
валась «Славянофильство и его вырождение». Что целый том в его первом собрании сочинений посвящен был именно борьбе с национальным эгоизмом.
Редчайший ведь в русской истории случай. Учитель, мудрец, почитаемый пусть не всей либеральной интеллигенцией, но цветом её, самыми красноречивыми, самыми талантливыми её лидерами, объяснил им, в чем корень зла в стране, которую они любили и хотели спасти. Объяснил не только опасность этого зла, но и катастрофу, которая их ожидала. А они словно оглохли. Во всяком случае знаменитый сборник Вехи, большинство авторов которого полагало себя его учениками, полностью игнорировал вырождение славянофильства и патриотическую истерию, грозившую России не только волной черносотенства, но и попросту гибелью. Вместо того чтобы поднять знамя Соловьева, сосредоточились авторы Sex на беспощадной критике интеллигенции.
Что ж, и впрямь велики были ее грехи перед страною. Тут и «правовой нигилизм» (Богдан Кистяковский). Тут и «политический импрессионизм» и «рецепция социализма» (Петр Струве). И вообще «интеллигентский быт ужасен, подлинная мерзость запустения, ни малейшей дисциплины... праздность, неряшливость, гомерическая неаккуратность в личной жизни, грязь и хаос в брачных и вообще половых отношениях... совершенное отсутствие уважения к чужой личности, перед властью - то гордый вызов, то покладливость» (Михаил Гершензон).
Все это верно, несомненно. Хотя было ведь и другое. Был декабристский патриотизм: стремление сделать страну «как можно лучше». Был и «укоренившийся идеализм сознания, этот навык нуждаться в сверхличном оправдании индивидуальной жизни, [который] представляет собой величайшую ценность»87. Не в этом суть, однако. В веховской критике отсутствовало главное.
Глава восьмая
Про6лбмз На*инишной"р™0*
«политического
воспитания»
А главное было в том, что веховцы так никогда и не поняли, что жили в заколдованном круге средневековой империи, в основание которой заложены были, как мы помним, даже не одна, а три «мины» громадной разрушительной силы: разлагающееся самодержавие, глухая враждебность ограбленного крестьянства и глубокая ненависть угнетенных, униженных империей народов. А в результате вырождения славянофильства и «правового нигилизма» общества (воспитанного, впрочем, правовым нигилизмом самодержавия) добавились к ним, как мы видели, еще и четвертая и пятая «мины». А именно грозный всплеск бешеного национализма, одержимого фантомным наполеоновским комплексом и потому отчаянно толкавшего Россию к «последней» войне. И не менее грозная готовность радикалов превратить эту войну в гражданскую, используя и крестьянскую пугачевщину и ненависть, накопленную подневольными нациями.
Взрыва любой из этих пяти «мин» было достаточно, чтобы надолго, на поколения похоронить вековую декабристскую мечту вырваться из заколдованного круга «гниющей империи». И поэтому любая политика, не ориентированная на то, чтобы разрядить эти «мины», обрекала петровскую Россию на неминуемый коллапс. Вот за что, стало быть, следовало критиковать интеллигенцию: за столетие после разгрома декабристов её политическая мысль не продвинулась ни на шаг. По-прежнему была она жестко зациклена лишь на самодержавии, на том, чтобы, как цитировал тогдашнюю публицистику Струве, «последним пинком раздавить гадину»88.
«Делали революцию в то время, когда задача состояла в том, чтобы все усилия сосредоточить на политическом воспитании и самовоспитании»89. Вот, казалось бы, и выставил на всеобщее обо-
там же. С. 145. Там же.
зрение Петр Бернгардович ахиллесову пяту российских либералов. Тут бы и объяснить им, в чем, собственно, это воспитание должно состоять. И поверьте, тут было о чем поговорить.
Первым пунктом, резонно предположить, должен был стоять вопрос о том, что же реально угрожало самому существованию петровской России - после несчастной русско-японской войны и потрясшей страну революции. После принятия двусмысленного Основного закона империи и двух досрочно распущенных царем Государственных дум. О том, в моих терминах, какая именно из этих «мин» могла взорваться первой, послужив детонатором для взрыва всех остальных? Было это «безрелигиозное отщепенство интеллигенции», на котором сосредоточили свой удар Вехи? Или затяжная патриотическая истерия, бушевавшая в стране с 1908 года, требуя немедленно «обезвредить главного врага и смутьяна среди остального белого человечества»? Другими словами, агрессивная, чреватая новой войной истерия?
Правительству Столыпина действительной угрозой представлялась как раз она. Во всяком случае «разрядить» пыталось оно именно эту «мину». Свидетельств тому сколько угодно. Возьмите хотя бы публичное заявление Столыпина: «Наша внутренняя ситуация не позволяет нам вести агрессивную политику»90. Премьеру вторил министр иностранных дел Извольский: «Пора положить конец фантастическим схемам имперской экспансии»91. «Решающе важно было тогда, - объяснял впоследствии Сазонов, сменивший в 1909 году Извольского, - любыми уступками утихомирить [placate] враждебность Германии к России»92.
Да и удивительно ли все это было, если, как заключило летом 1908-Г0 Адмиралтейство, «русский флот не в силах даже защитить столицу»?93 Если военный министр Редигер заявил на заседании Совета министров, что «вооруженные силы России не смогли бы даже отразить нападение противника, не говоря уже о том, чтобы его
Fuller W.C. Jr. Op.cit. P. 425. Ibid.
SazonovS. How the War Began. London, 1925. P. 33. Fuller W.C Jr. Op.cit. P. 421.
атаковать»?94 Короче говоря, не готова была Россия к новой войне катастрофически.
И сказано это было в том же самом 1909 году, когда Австро- Венгрия аннексировала Боснию, когда Шарапов с Аксаковым опубликовали Манифест, требовавший от лица «национально ориентированной» общественности немедленно обезвредить «врага и смутьяна», когда присоединилось к этому требованию большое число депутатов Думы во главе с её председателем Родзянко и, самое главное, когда вышли Вехи, ни словом об этой патриотической истерии не упомянувшие.
Попробуем теперь суммировать ситуацию.
«Патриотическая» общественность настойчиво требовала объявления войны Австро-Венгрии (а стало быть, и Германии, состоявшей с ней в военном союзе).
Война эта, по свидетельству всех цитированных выше государственных деятелей, чревата была неминуемой катастрофой, по сравнению с которой неудачи России в Крымской, Балканской и Японской войнах выглядели бы не более, чем рядовыми неприятностями.
На пути катастрофы стояло лишь неустойчивое правительство и мало что понимавший в большой политике самодержец, вдобавок еще благосклонный к черносотенной «общественности».
В условиях нарастающей патриотической истерии не было никакой гарантии, что в следующем конфликте царь устоит перед натиском симпатичной ему «общественности». В особенности если следующий конфликт коснется дорогой её сердцу Сербии. Несмотря даже на jo, что, как сообщал в Петербург посол в Белграде Евреинов, сербское правительство отреагировало на итоги русско-японской войны ошеломляющим отречением от России как от союзника95.
Перед лицом этой угрозы лидеры либерального общества, намеревавшиеся, по словам Струве, политически это общество «воспитывать», обрушились в Вехах не на тех, кто провоцировал чреватую катастрофой войну, а на «политический импрессионизм» интеллигенции.
Ibid. Р. Д22. ibid. Р. 413.
s
Не знаю, что подумает после этого об авторах Вех читатель. Я, честно говоря, не представляю себе, как умудрились все эти серьезные, умные, яркие люди совершенно, напрочь ничего не понять в том, что происходило в эти решающие годы в стране и в мире. И почему так невнимательно они читали своего учителя, все-таки «первого русского самостоятельного философа», что не заметили очевидного. Того, что петровская Россия стояла на грани самоуничтожения, что войне, надвигавшейся на страну, суждено было стать, по слову Соловьева, «последней».
Хотя бы просто потому, что даст она оружие в руки миллионов враждебных этой петровской России крестьян, которые в момент неминуемого поражения столь же неминуемо повернут его против нее. Да, конечно, и против царя, и против помещиков, и против их превосходительств тоже, но в первую очередь против дорогой либеральному седцу, пусть полуевропейской, но все же петровской России. И грозит ей поэтому возвращение в старую, чреватую «оце- пением духовной жизни» Московию..
Ведь из такого, единственно реального понимания ситуации вытекала совсем другая программа «политического воспитания» общества, нежели та, что была предложена в Вехах. В частности вытекала из него императивность направить все усилия культурной элиты России на борьбу с патриотической истерией и, следовательно, на предотвращение новой войны, которая, если верить Соловьеву, не могла не оказаться для России самоубийственной.
Вытекало из такого понимания ситуации также, что смерти подобно было для либеральной интеллигенции (и, стало быть, для России) уступить монополию на борьбу против надвигавшейся войны радикалам. Потому хотя бы, что еще за два года до выхода Вех состоялся Штутгартский конгресс II Интернационала, резолюция которого «обязывала социалистов, - по словам Ленина, - на всякую войну, начатую правительствами, отвечать усиленною проповедью гражданской войны и социальной революции»96. Вытекало из него, наконец, что не свертывать следовало, а многократно усилить начатую Соловьевым борьбу с реваншистским национализмом, насмерть
Ленин В.И. Собрание сочинений. 4-е изд. Т. 21. С. 15.
привязавшим внешнюю политику России к балканской пороховой бочке и Константинополю.
Все это были темы первостепенной, поистине жизненной важности. Само существование петровской России стояло здесь на кону - в буквальном смысле. А либеральная интеллигенция со своим укоренившимся провинциализмом была к ним безразлична. Погруженная сверх головы в перипетии дел домашних, она традиционно рассматривала международную политику как нечто чуждое, интересное разве что чиновникам да националистам и, в любом случае, третьестепенное.
Глава восьмая
На финишной прямой
На самом деле идеи-то у Струве и впрямь были.
Уже за год до выхода Вех он не только поделился ими с российской публикой (в Русской мысли, литературно-политическом журнале, который он редактировал), но и развернул активнейшую кампанию, в которой, естественно, участвовали и другие веховцы. Только идеи эти были свойства прямо противоположного тем, о которых ведем мы речь. Коротко говоря, авторы Русской мысли во главе со своим редактором и вместе с черносотенной «общественностью» дружно и целенаправленно подталкивали Россию к «последней» войне. Одним словом, работали, не щадя сил, на радикалов, на тех, кому только и могла быть эта война выгодна. Об этой удивительной метаморфозе веховцев и вообще «национально ориентированной» интеллигенции, оказавшейся в полной зависимости от геополитики выродившегося самодержавия, мы в следующей главе и поговорим.
Вот над этим легкомысленным внешнеполитическим нигилизмом интеллигенции и поработать бы, казалось, политическим воспитателям. Странным образом, однако, в Вехах, как знает читатель, нет об этих сюжетах ни слова. Упомянув политическое воспитание, Струве тут же и переходит к разоблачению «безрелигиозного отщепенства» интеллигенции. И сводит всё в конечном счете к вполне тривиальному призыву: «нужны идеи, творческая борьба идей».
Пока что скажем лишь, что Струве и Кистяковский были ведь еще серьёзнее других веховцев. Что уж говорить о Гершензоне, вся критика которого свелась к совершенно славянофильскому тезису: либералы, мол, не понимают, что «народная душа качественно другая»? И тем более о Булгакове, убежденном, что «соприкосновение интеллигенции и народа есть прежде всего столкновение двух вер, двух религий» и что «разрушая народную душу» либералы «сдвигают ее с незыблемых вековых оснований»?
Подумайте, насколько реалистичней был тот же черносотенец Меньшиков, уверенный, как мы помним, что «нынешний крестьянин почти равнодушен к Богу». Да и в любом случае, разве помешали крестьянам их «качественно другая душа» и «незыблемые основания» пойти за атеистами-большевиками, когда позвали они их делить помещичьи земли, грабить усадьбы и разрушать храмы? Поневоле вспоминаются пророческие слова Герцена, сказанные, как мы помним, еще за полвека до этого дня расплаты, о том, что «в передних и в девичьих, в селах и полицейских застенках схоронены целые мартирологи страшных злодейств, воспоминание о них бродит в душе и поколениями назревает в кровавую и беспощадную месть, которую остановить вряд возможно ли будет».
Кто был виноват в этих страшных мартирологах? Крепостное право, законсервировавшее в крестьянстве московитскую менталь- ность? Самодержавие, до последнего стоявшее, как мы видели, за крепостное право? Постниколаевские правительства, ограбившие крестьян, умножая тем самым их вековую ненависть? Организаторы патриотической истерии, приблизившие день расплаты, одев миллионы крестьян в солдатские шинели и дав им в руки оружие? Радикалы, мечтавшие о гражданской войне?
Много было в России виноватых. Но уж меньше всего относилась к ним либеральная интеллигенция. Разве что винить её можно было за то, что ровно ничего она в этом сложнейшем клубке застаревших страстей и воинственной риторики не понимала. Но вот почему-то именно на неё ополчились в этот острый, решающий для самого существования петровской России момент авторы Вех.
Туг и открывается нам самая глубокая тайна веховских критиков. Эти несостоявшиеся воспитатели русского общества оказались на поверку до такой степени «политически невоспитанными», что вообще не предвидели и даже не предчувствовали надвигавшегося несчастья. Для них революция пятого года была концом, а не началом бури, которой предстояло снести не только псевдоконституционное, по словам Макса Вебера, «думское самодержавие», но и монархию, а за нею и республику. Лейтмотивом проходит через Вехи идея, что все утрясается, наступает штиль - и самодержавие уже не то, и интеллигенция не та, и вообще пришло время заняться «самовоспитанием».
Длинная тирада Гершензона дает об этом совершенно ясное представление. «Великая растерянность овладела интеллигенцией. Формально она всё еще теснится вокруг старого знамени, но прежней веры уже нет. Фанатики общественности не могут достаточно надивиться на вялость и равнодушие, которые обнаруживает интеллигентская масса к вопросам политики... Реакция торжествует, казни продолжаются - в обществе гробовое молчание; политическая литература исчезла с рынка за полным отсутствием покупателей... Вчерашнего твердокаменного радикала не узнать: пред модернистской поэзией широко раскрываются двери, проповеди христианства внимают не только терпимо, но и с явным сочувствием, вопрос о поле [имеется в виду секс] оказался способным надолго приковать к себе внимание публики»97.
Вот же в чем был корень ошибки. Веховские критики приняли перемирие за мир, передышку за начало новой эпохи, затишье перед бурей за долговременную стабильность. И поэтому все для них начиналось и заканчивалось отношениями народа и интеллигенции. Словно бы эти отношения, каковы бы они ни были, и впрямь могли остановить надвигавшуюся Катастрофу.
Мы-то теперь знаем, как жестоко ошибались веховцы. Проживи еще несколько лет Соловьев, он, наверное, все это им объяснил бы. Но его не было.
Глава восьмая На финишной прямой
большевизму?
Так или иначе, момент был упущен. Страна вползла в ненужную ей бойню и уже в 1915 году стало совершенно очевидно, что «думскому самодержавию» её не пережить. Было ли слишком поздно тогда думать о стратегии, которая могла бы перехватить инициативу у радикалов и дать новому либеральному правительству шанс выжить на обломках самодержавия? Иначе говоря, существовала ли еще альтернатива гражданской войне, военному коммунизму, тотальному террору и гибели петровской России? Одним словом, всему, что Геннадий Зюганов называет сегодня «одной из исторических вех российской и шире - всемирной истории»?[108]
Альтернатива
Не знаю. Но если и существовала, заключалась эта альтернатива, по-видимому, в том, чтобы опередить большевиков, перехватив их лозунги и выдернув у них таким образом ковер из-под ног. Что, естественно, требовало погасить патриотическую истерию - на этот раз насчет «войны до победного конца». Чего на самом деле хотела тогда решающая сила грядущей революции - миллионы вооруженных крестьян в солдатских шинелях и матросских тельняшках? Немедленного перемирия на фронтах и раздела помещичьих земель. Возможна ли была либеральная стратегия «перехвата» радикальных лозунгов, при которой массы всё это получили бы, но страна удержалась на краю бездны?
Может быть. При условии, конечно, что либералы первыми отказались бы от «войны до победного конца» и нашелся у них сильный, популярный лидер и штаб, способный такую стратегию выработать. К сожалению, условие это было неисполнимое: либералы и сами ведь были, как мы помним, «национально ориентированными» - и отказаться от Константинополя оказалось выше их сил (даже после революции министр иностранных дел временного правительства П.Н. Милюков всё еще публично требовал Константинополя). И потому не нашлось у них сильного лидера - ни в 1915-м, ни в 1916-ь, ни
даже в 1917-м. Не получилось и стратегии, способной одновременно погасить патриотическую истерию черносотенного меньшинства и «перехватить» лозунги меньшинства леворадикального. Судя по Вехам, это легко было предвидеть. В ситуации смертельного кризиса интеллектуальная элита России оказалась банкротом.
Жуткое, почти невероятное зрелище, которое должно было бы стать, но не стало, жестоким уроком для русской мысли - на века и века. Вот же как это происходило. Революционный вулкан готов был извергнуть кипящую лаву пугачевщины, хороня под собою петровскую Россию. Момент, предсказанный за три десятилетия до этого Соловьевым и подробно, как мы тоже увидим, описанный Петром Дурново еше в феврале 1914-го, настал.
И что же? У подножия вулкана беспомощно метались, по-прежнему сводя между собою никому кроме них не интересные счеты, стаи бюрократов и придворных пустомель, бешеных националистов, национально ориентированных либералов и «воспитывавших» их веховцев, все одинаково зараженные патриотической истерией, все одинаково неспособные хоть на минуту остановиться, оглянуться, вспомнить о здравом смысле. И не было между ними ни одного человека, достаточно серьезного, чтобы изменить курс государственного Титаника, даже в момент, когда совершенно отчетливо уже вырисовался на его пути страшный риф. Подумайте, в великой стране ни одного. Прав Н.В. Рязановский: таково было страшное николаевское наследство..
Еще хуже, что и 8о лет спустя российская пресса продолжает уныло пережевывать в многополосных статьях Александра Ципко или Андраника Миграняна все ту же, давно навязшую в зубах тему «Почему победили большевики?», ссылаясь на де Токвиля и на Бердяева, и демонстрируя тем самым, что так ничего и по сей день не поняли. Да как же могли большевики, спрашивается, не победить, если их оппонентам и в голову не пришли даже самые простые идеи, способные вывести их из игры? В таких условиях они были, можно сказать, обречены победить. Их, если угодно, принудили победить. Не сделав даже попытки выработать альтернативную политическую стратегию, российская интеллектуальная элита собственными руками провела эту политическую пешку в ферзи. И Токвиль здесь совершенно ни при чем.
Короче, даже если альтернатива большевизму была, думать о ней оказалось некому. «Национально ориентированные» либералы не были к ней готовы, не были для нее «политически воспитаны». Ведь даже отречение царя в феврале 1917-го, в котором виднейшую роль играли думские либералы (не говоря уже о корниловском мятеже), мотивировалось исключительно «патриотической» необходимостью продолжать самоубийственную войну, а вовсе не попыткой ее остановить. И стало быть, обречена была февральская революция еще до того, как началась.
глава первая ВВОДНЭЯ
глава вторая У истоков «государственного патриотизма»
глава третья Упущенная Европа
глава четвертая ошибкэ герцвнэ
глава пятая Ретроспективная утопия
глава шестая Торжество национального эгоизма
глава седьмая Три пророчества
глава восьмая На финишной прямой
ДЕВЯТАЯ
Как губили
петровскую Россию
глава десятая Агония бешеного национализма
глава
одиннадцатая Последний СПОр
глава девятая
Как губили петровскую Россию
В некотором смысле Россия так никогда и не наверстала тридцать лет, потерянных при Николае. Александр П реформировал страну; Александр HI апеллировал к националистическим чувствам... В царствование Николая II страна обрела неустойчивое конституционное устройство. Но всё это оставалось каким-то неуверенным и неполным. И обрушившийся в пожаре 1917-го старый порядок был все еще тем же архаическим старым режимом Николая I.
W.R Рязановский
Я надеюсь, что неожиданный финал предыдущей главы, оборванный будто на полуслове, достаточно разочаровал и раздразнил читателя, чтобы он потребовал объяснений. Ведь то, что там утверждается, и впрямь почти невообразимо. Легко ли в самом деле представить себе, что Катастрофы семнадцатого года - а вместе с нею и «красной» эпопеи, затянувшейся на три поколения и, словно топором, разрубившей на две части мир, - могло и не быть? И что зависело быть^ей или не быть вовсе не от готовности большевиков штурмовать «самое слабое звено в цепи империализма» и даже не от социально-экономических условий, превративших Россию в это самое «слабое звено», как учили нас историки на протяжении десятилетий, но точно так же, как в XVI веке, от поведения ее культурной элиты? Тем более представляется это фантастическим, что лишь утверждается, но не доказывается.
С другой стороны, подумаем, каким образом мог Соловьев предсказать национальное самоуничтожение России еще за 30 лет до того, как оно совершилось? И ведь предсказал он его, даже не подозревая, что 19 лет спустя образуется партия большевиков или что социально-экономические условия в стране сложатся именно так, а не как-нибудь иначе. Предсказал лишь на основании вырождения русского национализма, заразившего своей деградацией культурную элиту страны. И сбылось ведь предсказание один к одному. Так при чем же здесь, спрашивается, большевики?
Глава девятая
ID И ШКОЛЫ Как губ*™ петровскую Россию
Короче, жесткая и нарочито бездоказатель-
ная концовка предыдущей главы предназначена была шокировать читателя. Подготовить его к возмутительной мысли, что никакие большевики не герои нашей драмы. Что роль их в ней, по сути, не отличалась от роли, допустим, ножа в человекоубийстве. Кто, однако, объявляет нож, каким бы ни был он острым, ведущим актером трагедии?
Есть три главные школы в мировой историографии Катастрофы семнадцатого. Самая влиятельная из них, школа «большевистского заговора», сосредоточивается на расследовании закулисных сфер жизни страны, например, на генезисе русского марксизма или на перипетиях социал-демократических и вообще лево-радикальных движений, или, наконец, на формировании большевизма. Одним словом, всего того, что Достоевский называл «бесовством».
В противоположность ей, школа «социальной истории» пытается доказать, что была Катастрофа результатом подлинной народной революции, а вовсе не какого-то «бесовского» заговора. Интереснее для нас, однако, третья школа. В том смысле интереснее, что, в отличие от первых двух, которые основываются главным образом на исследованиях западных историков, она отечественной чеканки, вполне, можно сказать, доморощенная. (Мы не будем касаться здесь советской историографии, поскольку она, естественно, 1917-го как Катастрофу не рассматривала.)
Эта третья, назовем ее евразийской, школа, конечно, продолжает «особняческую» традицию. И, конечно, тоже винит в Катастрофезаговор. Только не большевистский, а масонский. Под пером евразийских авторов, однако, заговор этот вырастает до масштабов поистине гомерических, трактуется как измена всей послепетровской элиты России самим основам православной московитской «цивилизации». Для них цивилизация эта - законная преемница евразийской империи Чингизхана, а вовсе не часть Европы, Так вот, крушение в 1917 году этой предательской, масонской элиты России, подозреваемой в попытке сделать Московию частью Европы, было, по мнению евразийцев, вполне закономерно. В этом смысле даже безбожники-большевики со всем их «бесовством» оказывались тем не менее орудием воли Божией. И возродиться должна после них Россия уже как Московия, т.е. как православная евразийская империя, ничего общего с «романо-германской» Европой не имеющая.
Ясно, что приняв соловьевскую версию «национального самоуничтожения» России, неминуемо оказываемся мы еретиками в глазах приверженцев всех этих школ без исключения.
Мало того, что мы разжаловали «6есов»-6ольшевиков из генералиссимусов в рядовые, мы еще и демонстрируем: потому и обречена была постниколаевская элита России, что в годы Великой реформы не пожелала стать Европой. Как попытался я показать, настояла она в эпоху, когда Европа повсеместно вводила всеобщее избирательное право, на сохранении самодержавия (чем спровоцировала две революции - пятого года и февраля 1917-го). Настояла также на том, чтобы в эпоху, когда крестьянская частная собственность стала в Европе повсеместной, запереть русское крестьянство в «общинном» гетто (чем спровоцировала полустолетием позже новую пугачевщину).
Видели мы, наконец, что до самого своего финала не освободилась она оттого, что назвали мы фантомным наполеоновским комплексом, т.е. от ностальгии по утраченной при Николае I сверхдержавности, то и дело впадая в патриотические истерии, требуя Константинополя, отстаивая вопреки очевидности мифическое «славянское братство», провоцируя тем самым серию нелепых, агрессивных - и обреченных - войн.
На фоне таких фатальных ошибок не должно уж, право, особенно удивить читателя, что культурная элита России собственными
15 Янов
руками отдала страну на поток и разграбление «бесам». Спорить можно поэтому лишь о том, что лежало в основе всех этих ошибок.
I Глава девятая
_ Как губили петровскую Россию
Глупость [109]или измена?
Когда 1 ноября 1916 года лидер партии народной свободы Павел Милюков многократно повторил этот страшный вопрос в своей знаменитой думской речи, имел он в виду нечто совершенно тривиальное. Он намекал, что на самом верху российской политической пирамиды гнездится измена и именно поэтому страна проигрывает войну. «Мы потеряли веру в то, что эта власть может привести нас к победе», - провозгласил Милюков1. Словно бы не знал он этого два с половиной года назад, в июле 1914-го, когда колебалась Россия вступаться ли ей за сербов перед лицом совершенно очевидной угрозы мировой войны, к которой этот шаг неминуемо должен был привести. Вот когда следовало этот громовой вопрос задавать.
На самом деле ни Милюков, ни его партия, ни его либеральные западнические коллеги в партиях октябристской и прогрессистской задавать его тогда и не думали. Как раз напротив, они единогласно, с энтузиазмом и воодушевлением встали за эту роковую войну. Милюков объявил даже, что «в такой момент все различия между партиями должны уйти в тень... Французы называют это union sacree, священный союз». Как раз тогда и обратился председатель Государственной думы Михаил Родзянко к правительству со следующей почти невероятной в устах парламентария просьбой: «Мы только будем путаться у вас под ногами. Поэтому лучше будет вообще распустить нас до конца военных действий»[110]. Не правда ли прекрасно коррелируется это со знаменитым заявлением нынешнего спикера, что Дума не место для дискуссий? Но ведь Родзянко заявил это накануне войны.
Культурная элита страны, как и предсказывал с ужасом Соловьев, практически единодушно поддержала этот «патриотический» порыв. Утро России, газета крупного бизнеса, провозгласила, что в стране «больше нет ни правых, ни левых, ни правительства, ни общества, есть лишь Единая Русская Нация». Октябристский Голос Москвы вторил в выражениях почти идентичных: «Настал момент, когда все партийные различия отходят на второй план, [когда] в России может быть лишь одна партия - Русская»[111]. Но ведь именно это и провозглашал всегда Союз русского народа. Удивляться ли, что черносотенное Русское знамя комментировало ядовито: «Вся Россия превратилась в черносотенцев и профессорские Русские ведомости пишут теперь только черносотенные статьи»*. Октябристы дошли даже до того, что в «патриотическом» порыве исключили из своей фракции шесть ее членов, по происхождению балтийских немцев.
О либералах и говорить нечего. «С первых дней военных действий, - замечает американский историк, - литературная братия, охваченная патриотическим порывом, приветствовала войну и мечтала о победе»[112]. «Либералы резко встали за войну - и тем самым за поддержку самодержавного правительства», - подтверждает Зинаида Гиппиус[113].
И говорили они вовсе не только о прямых потомках славянофилов, которые, как Николай Клюев, величали эту войну последней схваткой крестьянской православной России с нехристями буржуазной урбанистической цивилизации[114], но и о самых что ни на есть городских и космополитических поэтах, как Георгий Иванов или Николай Гумилев, воспевших войну в почти неотличимых высокопарных стансах. Может быть, читателю посчастливится больше, чем мне, и он угадает, какие из этих строф кому из них принадлежат:
И воистину светло и свято Не силы темные, глухие Дело величавое войны Даруют первенство в бою:
Серафимы ясны и крылаты Телохранители святые За плечами воинов видны. Твой направляют шаг, Россия8.
И не только ведь рядовые поэты-западники пели осанну самоубийственной войне (впрочем, Гумилев называл ее «прекраснейшей из войн»), но и высоколобые философы спускались из своих хрустальных башен, чтобы отдать дань борьбе России против «германо- монгольской» (согласно Вячеславу Иванову) или «германо-турецкой» (согласно Дмитрию Мережковскому) цивилизации.
Как писал в знаменитой тогда книге «От Канта до Круппа» философ Владимир Эрн, «восстание германизма как военный захват всего мира коренится в глубинах феноменологического принципа, установленного в первом издании «Критики чистого разума»... энте- лехийная сущность орудий Круппа совпала с глубочайшим самоопределением немецкого духа в философии Канта... [они] становятся как бы прибором, осуществляющим законодательство чистого разума в масштабах всемирной гегемонии»9.
И веховцы были, разумеется, в первых рядах энтузиастов войны. «Независимо от всех наших рассуждений и мыслей эта война сразу и с неколебимой достоверностью была воспринята самой стихией национальной души, как необходимое, нормальное, страшно великое и бесспорное по своей правомерности дело», - писал Семен Франк10. Не отставал и Бердяев. Как он впоследствии признавался: «Я горячо стоял за войну до победного конца и никакие жертвы не пугали меня... Я думал, что мир приближается путем страшных жертв и страданий к решению всемирно-исторической проблемы Востока и Запада и что России выпадет в этом решении центральная роль»11.
Там же.
Русская мысль. 1914, декабрь. С. 119,122.
Там же. С. 126.
Бердяев Н.А. Судьба России. M., 1990. С. 4,5.
О Струве и говорить нечего. Он еще в 1908 году вместе с октябристским златоустом Александром Гучковым беспощадно клеймил «дипломатическую Цусиму» (речь о которой у нас еще впереди) и «вялую леность официальной России». А Гучков так и вовсе призывал страну подготовиться «к неизбежной войне с германской расой»[115], т. е буквально повторял славянофила Шарапова.Поддерживала, наконец, вступление России в войну и либеральная бюрократия. Двух примеров будет, наверное, достаточно. «К началу 1914 года, - замечает британский историк, - настроение прославянской воинственности распространилось на двор, на офицерский корпус и на большую часть госаппарата. Г.Н. Трубецкой, который заведовал отделом Балкан и Оттоманской империи в Министерстве иностранных дел, был известен панславистским убеждением, что контроль над Константинополем и Балканами России необходим»[116]. Между прочим, это был старший брат редактора Московского еженедельника Евгения Трубецкого, одного из самых преданных учеников Владимира Соловьева, посвятившего себя изучению его идейного наследства. И странным образом не помешало это обстоятельство превращению его журнала в рупор славянофильского империализма, против которого так отчаянно боролся Соловьев. В этом братья Трубецкие оказались едины.Правоверный западник Сергей Сазонов, министр иностранных дел, убеждал колебавшегося царя в июле 1914-го, что «если он не уступит всенародному требованию войны и не обнажит меч в защиту сербов, он рискует революцией в стране и, может быть, потерей трона». И даже когда царь страшно побледнел и взмолился: «Подумайте, какую ответственность вы взваливаете на мои плечи!», Сазонов, по его собственным словам, остался неумолим[117]. Так чем все это было? Глупостью или изменой?
Предчувствия
Глово девятая Как губили петровскую Россию
Ведь вступление России в эту войну было очевидно предприятием для нее гибельным. Ни минуты не сомневались в этом ни бывший (до 1906 года) председатель Совета министров Сергей Витте, ни сменивший его Столыпин, ни даже сменивший Столыпина Владимир Коковцов. Это было совершенно ясно просто всякому здравомыслящему россиянину. Вот что писала в «Петербургском дневнике» та же Гиппиус: «Для нас, людей, не потерявших человеческого здравого смысла, одно было ясно - война для России, при ее современном политическом положении, не может кончиться естественно; раньше конца ее - будет революция. Это предчувствие, более - это знание разделяли с нами многие»[118].
Но ведь как раз это и предчувствовал, как мы помним, Соловьев - еще за четверть века до Гиппиус. Притом именно в связи стретьим - после Севастополя и Берлина - поражением в славянофильской войне во имя Константинополя и сербов. «Нам уже даны были два тяжелых урока, - писал он, как мы помним, тогда, - два строгих предупреждения: в Севастополе, во-первых, а затем, при еще более знаменательных обстоятельствах, - в Берлине. Не следует ждать третьего предупреждения, которое может оказаться последним»[119]. Самое поразительное, однако, даже не это. Катастрофический исход войны был замечательно детально описан в знаменитом меморандуме Петра Дурново, переданном царю в феврале 1914 года, т.е. почти за полгода до рокового решения.
Историки единодушны в том, что если бы нам точно не было известно происхождение меморандума Дурново (он был извлечен из царского архива после февральской революции), его непременно сочли бы апокрифом, т.е. подделкой, написанной задним числом. Автор предупреждал, что едва военная фортуна отвернется от России (в чем он не сомневался), общество тотчас единодушно ополчится против правительства. Все партии Думы станут винить в неудачах царя, возбуждая разочарованные массы. Большинство кадровыхофицеров, лояльных монархии, падет в первыхже битвах, а заменившие их гражданские не сумеют (или не захотят) удержать одетую в солдатские шинели вооруженную крестьянскую массу, которая неизбежно рванется с фронта домой, в деревню - делить помещичью землю. В этих условиях думские политики, не имеющие опыта в управлении страной, не готовые ни к тому, чтобы немедленно положить конец войне, ни к тому, чтобы столь же немедленно дать крестьянам вожделенную землю, окажутся бессильны восстановить в стране порядок. Короче, «социальная революция, в самых крайних ее проявленияху нас неизбежна» и «Россия будет ввергнута в беспросветную анархию»[120].
Невозможно с большей точностью описать события, последовавшие за июльским решением 1914 года. Но если предчувствия неминуемой гибели страны одолевали таких разных людей, как Соловьев, Гиппиус или Дурново, то почему, спрашивается, игнорировали их такие светлые головы, как Гучков или Струве? Ну, допустим, поэты или философы, какие-нибудь Гумилев и Бердяев, что они в политике понимали и что могли предвидеть? Но столь искушенные в этом деле эксперты - Сазонов, Трубецкой или Милюков - они-то каким образом остались к этим страшным предчувствиям глухи? Очевидно же, что не глупость и не измена толкали этих либералов и западников, а вдобавок еще лучшие политические умы тогдашней России на роковое для страны решение, а что-то совсем другое. Но что именно?
I Глава девятая
Контрреформистская1 догма и Ричард Пайпс
Может быть, просто другого выхода не было? Ричард Пайпс, например, один из лидеров историографической школы «большевистского заговора», полностью усвоивший националистический аргумент Александра III, думает, похоже, именно так. Во всяком случае он совершенно разделяет мнение руководителя российской контрреформы, что «нам действительно нужно сговориться с французами и, в случае войны между Францией и Германией, тотчас броситься на немцев, чтобы не дать им времени разбить сначала Францию, а потом наброситься на нас»[121].
Иначе говоря, сама идея, общепринятая, как помнит читатель, в третьем поколении славянофильства, что тогдашняя сверхдержава Германия есть «главный враг и смутьян среди остального белого человечества», и что война с нею не только неминуема, но и желанна (хотя бы потому, что надо же было как-то освободить эту сверхдержавную должность для России), давно уже стала своего рода догмой для деградировавшего полицейского самодержавия. Так же как и для Пайпса, которому позарез нужно взвалить всю вину за Катастрофу семнадцатого на большевиков. Ибо едва мы примем эту контрреформистскую догму, то получится, что, говоря словами Пайпса, «роковой выбор сделала за Россию Германия, и выбирать осталось лишь одну из двух дорог: выступить против Германии в одиночестве или же действовать совместно с Францией, а возможно, и с Англией»[122].
Нам-то теперь понятно, что в конце любой из этих двух дорог, очерченных для нас славянофилами и Пайпсом, лежала гибель петровской России. Но третьей дороги, если верить этим людям, дано просто не было.
А почему, собственно, нет? Многие проницательные современники, равно как и сегодняшние беспристрастные исследователи, полагают, что такая дорога была. Присмотримся к их аргументам.
Глава девятая
Гб О П О Л ИТИ КЗ Как гУ6или петровскую Россию
Дурново и Витте
Эти двое были совсем разными людьми. Оба, впрочем, бюрократы высокого полета. Витте во время революции пятого года - председатель Совета министров, Дурново - министр внутренних дел. Если о первом «Советский энциклопедический словарь» (1989) отзывается довольно по тем временам милостиво: «Разработал основные положения столыпинской аграрной реформы, автор Манифеста 17 окт. 1905 года. Выразитель интересов российской монополистической буржуазии», то приговор Дурново краток: «Реакционер». В современных им политических терминах, один представлял левый центр, другой - правый. После революции Пятого года оба были уволены и, как все отставные высокие чиновники, коротали оставшееся им до смерти десятилетие (оба умерли в 1915 году) в Государственном совете, интригуя, между прочим, против Столыпина.
Единственное, что их объединяло, - полная свобода от влияния славянофильства. Если о Дурново мы можем судить главным образом по его знаменитому меморандуму, то о Витте у нас осталось замечательное документальное свидетельство. По крайней мере, некоторые исследователи полагают, что Витте послужил прототипом Политика в повести Владимира Соловьева «Три разговора». И монологи Витте-Политика не оставляют ни малейшего сомнения в его позиции. Вот лишь один пример. «Существительное прилагательному русский есть европеец. Мы русские европейцы, как есть европейцы английские, французские, немецкие, [а наши оппоненты] никак не могут удержаться на точке зрения греко-славянской самобытности, а сейчас же с головой уходят в исповедание какого-то китаизма... и всякой... азиатчины. Их отчуждение от Европы прямо пропорционально их тяготению к Азии. Что же это такое? Допустим, что они правы насчет европеизма. Пусть это крайнее заблуждение. Но откуда же у них такое роевое впадение в противоположную крайность, в азиатизм-то этот самый? А? И куда же испарилась у них греко-славянская, православная середина?.. А ведь в ней-то, казалось бы, самая суть... Гони природу в дверь, она влетит в окно. А природа-то здесь в том, что никакого самобытного греко-славянского культурно-исто- рического типа вовсе не существует, а была, есть и будет Россия как великая окраина Европы»[123].
Стоило освободиться от оков славянофильской «идеи-гегемона», как тотчас возникала геополитическая картина мира, нисколько не похожая на ту, что предстала нам в изображении Александра III или Ричарда Пайпса. По мнению Дурново (которое, заметим в скобках, полностью совпадало в этом случае с точкой зрения Витте), единственный и впрямь неразрешимый конфликт в Европе был между Британской империей, не желавшей поступиться своим морским владычеством, и Германией, бросившей вызов британской монополии. Эта конфронтация была без сомнения чревата войной. Но Россия-то здесь причем? Ей-то зачем было ввязываться в чужую ссору, да еще на стороне Англии, навлекая на себя гнев и вражду соседней и могущественной Германии?
Тем более что единственный интерес России на Западе заключался в этот роковой момент исключительно в охране нерушимости своих границ, угрожать которым могла только Германия. Смерти подобно поэтому было объединяться с ее врагами. Наиболее опасным результатом проанглийского крена в политике России была, по мнению Дурново, взрывная ситуация на Балканах, где Германия ответила на недружелюбие России поддержкой австрийской агрессии и покровительством Оттоманской империи.
Дурново заключал, что судьба России, а быть может, и мира зависит оттого, сумеет ли она примирить Германию и Францию в едином Континентальном союзе вместо того, чтобы пытаться играть на их противоречиях. Этот Континентальный союз (несколько десятилетий спустя его назовут Европейским союзом) был также главной внешнеполитической идеей Витте. Он считал, что неспособность России его создать обещала мировую войну21. Причем столь громогласно идею свою проповедывал, что был в конце концов даже «обвинен в измене»22. Любая держава, которая потерпит поражение в грядущей войне (если ее не остановить), добавлял Дурново, навлечет на себя революцию23.
Leaven D. Op. cit. p. 80.
Ibid. P. 76.
Ibid. P. 79.
Глава девятая
СТОЛЫПИН И Розен как губили петровскую Россию
Конечно, в геополитической картине Дурново и Витте были свои прорехи. Они очевидно недооценивали непримиримость вражды между тогдашними Францией и Германией и силу националистических движений внутри Австро-Венгрии. Но главное, недооценили они мощь идейного излучения выродившегося славянофильства в самой России. А оно между тем давно уже, как мы видели, заразило и западническую элиту, превратив ее в то, что назвали мы «национально ориентированной» интеллигенцией. Иначе говоря, традиционные славянофильские темы, приведшие в 1850-е к крымской катастрофе и в 1870-е к унизительному поражению в Берлине, такие, скажем, как тема русского Царьграда или великой миссии России в отношении братьев-славян вошла в плоть и кровь ее культурной элиты. Но если не понимал этого даже «русский европеец» Витте, презиравший славянофильство, то еще меньше понимал это Столыпин.
Внешняя политика, впрочем, мало его занимала. Он требовал от нее лишь одного - мира. По крайней мере, на два десятилетия, которые, как он думал, были необходимы для радикального реформирования страны. Он знал, что Россия так же не готова к новой европейской войне в начале XX века, как не была она готова к Крымской в середине XIX. Она по-прежнему катастрофически отставала от других европейских стран во всем - от числа учителей и уровня грамотности до протяженности железнодорожных путей. И знаменитый индустриальный подъел* после революции 1905 года ничего в этой ее глубоко укоренившейся отсталости не изменил. Несмотря на все предвоенные успехи Россия и в 1912 году всё еще добывала лишь 13% угля, добывавшегося в Германии, и всё еще выплавляла лишь 26% стали по сравнению с противником, которому она бросила вызов. Короче, производила она те же два процента мирового ВВП, что и сейчас.На каждые юо квадратных километров территории по-прежнему приходилось в ней лишь 1,1 километра железных дорог, тогда как в Германии их было ю,6 километра, т.е. на порядок больше (от Франции Россия отставала в 8,5 раз, даже от Австрии в 6,5 раз).
Вдобавок три четверти ее дорог были одноколейками, что в случае войны обещало немыслимый транспортный хаос. Короче, как и во времена Крымской войны, Россия была обречена на поражение уже по одной этой -транспортной - причине. Добавим, что уровень грамотности населения был в ней, если верить компетентному исследованию Ольги Крисп, «значительно ниже, чем в Англии XVIII века»[124]. И что на юоо человек приходилось в России лишь 1,2 учителя (тогда как в Японии их было 2,8, в Австро-Венгрии - 3,2, во Франции - 4, в Англии - 4, 4, в США - 5, 7). Добавим все это - и тотчас станет понятно, почему новая европейская война представлялась Столыпину чумой, для предотвращения которой он был готов на любые внешнеполитические жертвы.
К сожалению, судьба не дала ему возможности сконструировать такую же ясную программу предотвращения войны, как его программа внутриполитической реформы. Он передоверил это своему министру иностранных дел Александру Извольскому, а тот оказался неспособен кардинально реформировать политику, унаследованную от контрреформы Александра III. Ту самую, что так очаровала Пайпса.Несчастьем России, наверное, было и то, что Столыпин не заметил в том же министерстве, всего на две ступеньки ниже Извольского, мощный и изобретательный ум, вполне способный создать реформистскую альтернативу самоубийственной славянофильской стратегии. Я говорю о бароне RR Розене,бывшем после России в Японии и США, который уже в эмиграции опубликовал двухтомник своих мемуаров «Сорок лет дипломатии»[125]. Мы сейчас увидим, в чем состояла альтернатива Розена.Но сначала посмотрим, как описывает ситуацию в роковом июле 1914-го Пайпс, следуя, разумеется, славянофильской схеме: «Во многих предшествовавших конфликтах на Балканах Россия, к негодованию своих консервативно-патриотических кругов [вот, заметим к слову, откуда взялась «дипломатическая Цусима» у Гучкова и Струве], часто уступала первенство. Поступить так же в новом кризисе, усугубившемся в июле 1914 года после того, как Австрия предъявила Сербии заведомо оскорбительный ультиматум, означало для России забыть о своем влиянии на Балканах и вызвать глубокие осложнения внутри страны»26.О каких таких «глубоких осложнениях» речь, Пайпс не объясняет. Но вот по поводу того, стоило ли бросать страну в бездну военной катастрофы ради «влияния на Балканах», у Розена есть что сказать. Гораздо смелее, чем Дурново и Витте, заявлял он, что России вообще нечего делать на Балканах. Что вся ее балканская политика бесплодна и нереалистична. Вот его аргументы. Во-первых, славянская солидарность, полагал он, пустой звук, миф. Балканская война 1913 года, в ходе которой Сербия в союзе с Румынией и, между прочим, со своим заклятым врагом Турцией, напала на Болгарию, тоже, между прочим, славянскую и православную, продемонстрировала это с полной очевидностью.
Самое в этом любопытное, что будь Розен знаком с идеями Соловьева, он нашел бы, что предсказал мой наставник эту неопрятную свару между славянскими «братьями» России еще за четверть века до того, как она совершилась. Уже в 1888 году обличил он молодогвардейские планы «добить издыхающую Оттоманскую империю, затем разрушить империю Габсбургов». С необыкновенной своей политической проницательностью объяснил он тогда, что даже в случае успеха не получится из этих планов ничего, кроме «кучи маленьких национальных королевств, которые только и ждут торжественного часа своего освобождения, чтобы броситься друг на друга»27. Именно это ведь и случилось тринадцать лет спустя после его смерти, когда идея «Валикой Сербии» насмерть схлестнулась с идеей «Великой Болгарии». И разве не оправдалась еще год спустя горькая ирония Соловьева, что «стоило России страдать и бороться тысячу лет, становиться христианской со святым Владимиром и европейской с Петром Великим... и все для того, чтобы в последнем счете стать орудием великой идеи сербской или великой идеи болгарской»?28
ПайпсR Цит. соч. С. 225.
Соловьев B.C. Смысл любви. С. 48.
Там же.
Ничего, впрочем, особенно странного нет в том, что полемические тирады Соловьева так точно совпали с аккуратными выкладками Розена. Просто в обоих случаях имеем мы дело с одной и той же традицией русской мысли, с декабристской патриотической традицией, с порога отрицающей племенные, по сути, расистские приоритеты выродившегося славянофильства и все, что привнесли они с собою в российскую политику.
Как бы то ни было, второй аргумент Розена был такой: славянофильские амбиции неминуемо вели к преобладанию в российской внешней политике того, что британский исследователь Доминик Ливен назвал впоследствии «либеральным империализмом». Другими словами, к усвоению западниками мечты о Царьграде и о «влиянии на Балканах», которое так близко к сердцу принял Пайпс. Смертельная опасность «либерального империализма» состояла, по мнению Розена, во-первых, в том, что он неминуемо втягивал Россию в совершенно ненужную ей конфронтацию на Балканах с Австрией, за которой стояла Германия, а во-вторых, намертво привязывал Россию к союзу с Францией. Семь десятилетий спустя после 1914 года знаменитый американский дипломат и историк Джордж Кеннан назвал этот союз ««роковым альянсом». И даже написал о нём толстую книгу[126].
Глава девятая
П Л Э Н Роз 6 Н Э Как г^или петровскую Россию
Розен понял это задолго до 1914-го. Как профессиональному дипломату ему было ясно, что «отвязываться» от этого альянса, навязанного России контрреформистским режимом Александра III (похвалявшимся, как мы помним, в полном противоречии со своей реальной политикой, что единственные её союзники - русская армия и русский флот), нужно заранее.
И в этой связи идея Континентального союза, которую упорно проталкивал Витте, очень для такого «отвязывания» подходила. Конечно, с точки зрения Франции идея эта была обречена: ни при
каких обстоятельствах не согласилась бы она навсегда отдать немцам Эльзас. Зато с точки зрения безопасности России идея Континентального союза, официально истолкованная как альтернатива «роковому альянсу», выглядела идеальной. Просто потому, что отказ Франции от этого союза освобождал бы Россию от обязательств по альянсу. В этом случае в любом конфликте между великими державами Европы Россия могла бы занять единственно разумную для неё позицию вооруженного нейтралитета. Прецедент был: именно такую позицию заняла она в конфликте между Англией и Америкой при Екатерине.
Что до Константинополя, Розен вполне разделял аргумент Дурново: его приобретение не обещало России ровно никаких выгод. Хотя бы потому, что (даже в случае успеха) неприятельский флот, сосредоточенный в восточном Средиземноморье, всегда мог перекрыть ей выход из Черного моря. Гибралтаром, а не Константинополем следовало ей овладеть, пожелай она военным путем обеспечить себе свободный выход на просторы голубого океана.
Труднее было «отвязаться» от Сербии. Но и тут можно ведь было вспомнить, с какой необыкновенной легкостью сама Сербия дважды - в 1881 и в 1905 годах - «отвязалась» от России. Причем, в первом случае вдобавок еще и заключила на 15 лет военное соглашение с ее злейшим врагом, Австро-Венгрией, которую М.П.Погодин обзывал, как мы помним, «бельмом на нашем глазу, типуном на нашем языке». Короче говоря, предлагал Розен ту самую переориентацию внешней политики России, которую требовала программа Столыпина. Перелленив центр тяжести этой политики с европейского конфликта и балканской мясорубки на освоение гигантских ресурсов Сибири, переориентация эта как раз и обеспечила бы Столыпину те двадцать лет мира, которых требовали его реформы[127].
Не следует, конечно, думать, что Розен был в ту пору единственным государственным человеком в России, делавшим в своём внешнеполитическом планировании упор на освоение Сибири и даже на угрозу ей со стороны Китая. Британский историк обращает внимание на то, что «многие влиятельные люди в России, самые известные из
них князь С.Н. Трубецкой и М.О. Меншиков, ужасались [уже в начале XX века] потенциальной угрозе для полупустой Сибири со стороны громадного населения Китая и тревожным, с ихточки зрения, признакам восстановления его единства и военной мощи31.
Так или иначе, вовсе не потому, как видим, вступила Россия в губительную для себя мировую войну, что другого выхода у неё не было или что «выбор за нас сделала Германия», как пытается убедить читателей Пайпс. Альтернатива была.
В частности, Розен, как видим разработал и предложил ее задолго до рокового июля. Современный британский историк международных отношений Доминик Ливен замечает по этому поводу, что «с точки зрения холодного разума ни славянская идея, ни косвенный контроль Австрии над Сербией, ни даже контроль Германии над проливами ни в малейшей степени не оправдывали фатального риска, на который пошла Россия, вступив в европейскую войну»32. Ибо, заключает он, «результат мог лишь оправдать мнение Розена и подтвердить пророчество Дурново»33.
Загадка
Только где же было взять в тогдашней России этот «холодный разум»?
Глава девятая Как губили петровскую Россию
В любом случае не может сколько-нибудь серьезный исследователь той роковой предвоенной ситуации отрицать, что перед нами здесь загадка поистине гигантская.
Почему, собственно, поверила культурная элита постниколаевской России геополитической стратегии нелюбимого ею Александра III, оставшись глуха и к предостережению Соловьева, и к категорическому требованию Столыпина, и к настойчивым возражениям Витте34, и к пророчеству Дурново, и к альтернативному плану Розена,
LievenD.CB. Russia and the Origins of the First World War? NY., 1983. C. 10.
Ibid. P. 101.
Ibid. P. 154.
Восточный вопрос во внешней политике России конца XVIII - начала XX века. М., 1978..
и вообще к каким бы то ни было доводам «холодного разума» (точно так же, заметим в скобках, как не вняла она в 1863-м отчаянному воплю Герцена)? Почему так дружно- с таким беззаветным энтузиазмом -толкнула она свою страну в пропасть? Как могло такое случиться?
Вот же в чем на самом деле загадка, а вовсе не в том, как готовились завоевывать Россию большевики (еще за полгода до революции Ленин, как известно, ожидал ее лишь лет через 50-70). И тем более не в социально-экономических перипетиях ее дореволюционного бытия (во всяком случае внутри страны никаких экстраординарных неприятностей в ту пору не наблюдалось). Но если не в этом было дело, то в чем? Должна же в конце концов быть причина, которая толкнула Россию в июле 1914 года на фатальный риск. Причина, говорю я, ввязаться в войну, которую она практически неминуемо должна была проиграть, как проигрывала все войны, начиная с середины
века? Почему-тоже «цель, поставленная П.А. Столыпиным после революции 1905-1907 гг., - уберечь страну от новых потрясений - не была достигнута»35? Понимают ведь это, как видим, и российские историки. Но по какой причине не спрашивают, почему?
Много лет ждал я, что, по крайней мере, поставит эти решающие вопросы, от ответа на которые зависела судьба страны на столетие вперед, советская историография. Очень меня обрадовал выход в свет в конце 1970-х фундаментального коллективного труда «Восточный вопрос во внешней политике России конца XVIII - начала XX века». Но нет, и в нём рассматривалась эта смертельная ошибка вовсе не как ошибка, но как нечто естественное, обусловленное вполне абстрактной «буржуазно-помещичьей» природой царизма.Еще более чувствительным ударом по моей вере в российскую академическую историографию было появление в конце 1990-х, т.е. уже в постсоветской, свободной от диктатуры сакральных марксистско-ленинских «высказываний» стране пятитомной «Истории внешней политики России», последний том которой был посвящен началу
века[128]. Увы, и там было то же самое. Этим, я думаю, и объяснялось моё облегчение, когда я узнал о выходе в 2007 году уже упоминавшей-
Кострикова Е.Г. Российское общество и внешняя политика накануне Первой мировой войны. М., 2007. С. 396.
ся монографии Е.Г Костриковой, специально посвященной внешнеполитическим проблемам России накануне Первой мировой войны37. Уж здесь-то, был я уверен, не уйти автору от «проклятого вопроса».
Признаюсь, чтение монографии Костриковой добило мою веру в академическую историографию. Опять никакой загадки, никакой альтернативы губительной войне. Даже имён Дурново или Розена нет в именном указателе книги. О Соловьеве и говорить нечего. Витте упомянут дважды, но оба раза по поводам, не имеющим ни малейшего отношения к его внешнеполитической позиции. Ничего, кроме набивших оскомину в советские времена намеков, что вроде бы «помещичьи круги» были за сближение с Германией, тогда как «крупные финансовые, торговые и промышленные капиталисты» предпочитали союз с Антантой. Вот примерно так: «В России еще сохранялись силы, преимущественно помещичьего толка, настроенные на кардинальную перемену внешнеполитического курса страны в пользу Германии. И они были близки к Николаю II. Однако... сторонники Антанты имели значительный перевес»38.
Почему, однако? И что общего имела, скажем, газеты Земщина (прогерманского толка) с помещиками? И было ли антигерманское суворинское Новое время на содержании у «крупных финансовых капиталистов»? Конечно же, нет у автора даже попытки ответить на эти вопросы, кроме примитивно-советских «классовых» суррогатов. Ей богу, вполне уместна была бы такая монография в разгар брежневских 1970-х.
Еще важнее, однако, другое. А именно, что даже с перенятой у советских историков фаталистической позиции простого клерка в суде истории, призванного лишь еще раз зарегистрировать её приговор, все равно не сходятся у автора концы с концами. Судите сами. Мы уже знакомы с «убежденными монархистами и буржуазно-помещичьими кругами, традиционно ориентировавшимся на укрепление политических и экономических связей с Германией»39. Знаем мы также, что круги эти «были близки к Николаю II», Верховному главно-
Кострикова Е.Г Цит. соч.
Там же. С. 397.
командующему, ответственному за внешнюю политику страны. Знаем и то, что «даже В.Н. Коковцова и П.А. Столыпина называли в числе сторонников сотрудничества с Германией»40. Знаем, наконец, что «для германского правительства было очень важно в случае возможного столкновения удержать Россию от активной поддержки Англии»41.
Всё это, подчеркиваю, знаем мы от автора. В том числе и то, что Германия вовсе не приглашала Россию принять участие в войне против Англии, но всего лишь пыталась удержать её от «активной поддержки» своего главного соперника. И это в общем совпадало с позицией вооруженного нейтралитета России «в случае возможного столкновения», с той самой, другими словами, позицией, которую отстаивали Витте, Розен и Дурново.
Чего, однако, мы не знаем и так, к сожалению, от автора и не узнаем, это каким образом в решающий час «помещичьи круги», включая самого Верховного главнокомандующего, оказались вдруг в рядах «партии войны». Как случилось, что «26 июля, в день объявления Манифеста о начале войны с Германией, Государственная дума почти единогласно выразила свою солидарность с государем и правительством»?42 Это-то как объяснить?
«Крупные капиталисты, прочно связанные с Францией и Англией»43 сумели все-таки в последнюю минуту переубедить «помещичьи круги, ориентированные на укрепление политических и экономических связей с Германией»? Переубедить, несмотря даже на то, что именно Германия была тогда крупнейшим торговым партнером России? Или вдруг прозрели эти «помещичьи круги» и поняли, что все последние десятилетия они, ориентируясь на Германию, ошибались? Или что?
Скудный классовый инструментарий, унаследованный Е.Г. Костри- ковой (и её коллегами-«академиками») от советской историографии, не позволяет им даже поставить решающий вопрос, почему все-таки
Там же.
Там же. С. 114.
Там же. С. 390.
предпочла Россия фатальный риск вооруженному нейтралитету. Не позволяет увидеть за ним огромную загадку, сформулированную Соловьевым (загадку, о которой автор, судя по именному указателю, даже не подозревает). Недаром же заключительные главы её монографии посвящены не имеющему никакого отношения к делу вопросу о реформе МИД - в канун апокалипсиса, не оставившего даже следа ни от этой реформы, ни от самого этого министерства.
Ясно, одним словом, что, поскольку никто из российских историков так и не попытался до сих пор поставить вопрос о роковой ошибке России в июле 1914 года, то нет на него и готового ответа. Я не говорю, что такой ответ есть у западных историков (мы видели в вводной главе, как упорно отбивались от него наши польские коллеги). Но они, по крайней мере, свободны от официозного советского фатализма, понимают, что у большинства стран, принявших участие в Первой мировой войне был реальный выбор. И каждая из них совершила свои ошибки.
В частности, как полагает популярный сегодня в Америке историк Ниалл Фергюсон, «русские упорно игнорировали все свидетельства, что их политическая система рухнет из-за напряжения еще одной войны, пришедшей по пятам поражения от рук Японии в 1905 году. Только у французов и у бельгийцев не было выбора. Германия напала на них и они должны были драться»44. Тот же Фергюсон предположил даже, что, не ввяжись в 1914 году в войну Британская империя, она и сегодня была бы мировой державой45.
Так или иначе, свобода от угрюмого советского фатализма, до сих пор сковывающего по рукам и ногам российских историков, внушает надежду, что ответы на вопросы, так и не поставленные их коллегами в нашем отечестве, могут быть в конце концов найдены. Но где она, эта свобода, в сегодняшней России?
Есть, однако, в мировой историографии несколько пусть и косвенных, но все же интересных версий, пытающихся объяснить предсмертную патриотическую истерию, сотрясавшую культурную элиту России в начале XX века. Было бы недобросовестно, да и нелепо их
Ferguson Niall. Empire. 2002. P. 249.
Cited in Foreign Affairs. 2008, May/June. P. 22.
игнорировать. Попробуем в них разобраться.
Честно сказать, работа эта сложнейшая. И потребует она от читателя почти такого же напряжения мысли и терпения, какого потребовала от меня. Но избавить от неё читателя я не могу. Просто потому, что, не пройдя вместе со мною по всем мыслительным тропинкам, по которым шли к разрешению этой громадной загадки сильные умы наших предшественников, не сможет он быть уверенным в правомерности её решения, предложенного ниже.
[лава девятая
Версия Хатчинсона ^^ петровскую рос»»
Высказана она канадским историком еще в 1972 году в скромной статье «Октябристы и будущее России». С тех пор статья Хатчинсона стала образцовым исследованием октябризма, которое обязательно цитируется в каждой книге, посвященной русской истории XX века. Автор констатирует как нечто само собой разумеющееся, что краеугольным камнем имперской внешней политики либеральной партии конституционных монархистов с самого момента ее образования в 1907 году было следующее убеждение: «Россия должна сконцентрировать всю свою энергию на экспансии на Балканах»46. Но когда он углубляется в тему и обнаруживает, что «решение правительства не объявлять войну Австро-Венгрии, аннексировавшей в 1908 г. Боснию и Герцеговину, рассматривалось октябристами как предательство исторической роли России»47, в его анализ закрадывается некоторое удивление.
А когда подходит он к событиям марта 1913-го и к демаршу октябриста Родзянко, председателя Думы, требовавшего в письме к царю атаковать Константинополь («Проливы должны быть наши, - писал Родзянко, даже не подозревая, что цитирует Достоевского. - Война будет принята с радостью и сразу повысит престиж правительства»48)» удивление автора достигает такой степени, что он не может удер-
Hutchinson J.F. The Octobrists and the Future of Russia. Slavonic and East European Review. 50.1972. P. 223
Ibid. P.225.
жаться от восклицания: «Да они и впрямь были вполне серьезны, выступая адвокатами авантюристической военной политики»49. И это уже требовало какого-то объяснения.
«Без сомнения, - замечает он, - ни один октябрист не мог представить себе империю, трансформированную в Федерацию или в Конфедерацию автономных или хотя бы полуавтономных государств».50 Как раз напротив, они с энтузиазмом поддерживали «разрушение автономии Финляндии, сокращение польского влияния в западных провинциях, враждебность к украинскому движению, т.е. все инициативы правительства Столыпина»51. А уж в отношении к ситуации на Балканах, октябристы шли, как мы видели, куда дальше правительства, практически непрерывно «лоббируя вооруженную интервенцию»52 и обвиняя правительство не просто в нерешительности, но даже в прямой измене интересам империи. Иначе говоря, в 1908-1914 годах октябристы странным образом вели себя в точности, как славянофилы Ивана Аксакова в 1870-е. Почему бы это?
И вот мы подходим к речи лидера октябристов Гучкова в конце 1913-го, проливающей, наконец, некоторый свет на принципиальную позицию его партии: «Мы не должны закрывать глаза на то, что бескровные, но постыдные поражения России во время Балканского кризиса глубоко оскорбили народное чувство, в особенности среди общественных кругов и народных масс, для которых роль России как Великой Державы - главное в их политических убеждениях и важнее любых вопросов, касающихся внутренней политики»53. Покопайся Хатчинсон в истории русского национализма поглубже, у него не осталось бы ни малейшего сомнения, что, как это ни парадоксально, западники исполняли в этом случае точно ту же роль в российской политике 1908-1917 годов, что славянофилы в 1875-1877-х, целенаправленно толкавшие страну в пучину Балканской войны. Главное, однако, в том, что и в XX веке мотивы были у них, как мы только что
Ibid.
lbid.P.233.
Ibid. P. 230-231.
Ibid. P. 225.
Ibid. P. 213 (выделено мной. - А.Я.).
слышали от Гучкова, те же самые.
Но автор - строгий академик, его тема - октябристы, а вовсе не столь неожиданное славянофильство западников и тем более не история русского национализма. И он жестко держится в ее рамках. Поскольку, однако, какое-то объяснение этой беззаветной империалистической агрессивности октябристов все-таки необходимо, он приходит к следующему поразительному выводу. «В некотором смысле империализм октябристов, - пишет он, - был отвлекающим маневром гигантских пропорций»54. Иначе говоря, октябристы видели в империалистической активности способ отвлечь массы и интеллигенцию от социальной революции.
Глава девятая Как губили петровскую Россию
Они были совершенно уверены, что славянский вопрос для «народного чувства» важнее земельного и связанное почему-то именно с ним «величие России» важнее гарантий от произвола власти. Конечно, Хатчинсон понимает почти невероятную наивность этого взгляда. Он констатирует, что вполне разумные, порою блестящие люди, темпераментные ораторы и серьезные политики оказались почему-то не только авантюристами, но, по сути, и простаками. Увы, ограниченность академической задачи, не допускающей отклонений от темы, не позволила ему даже спросить себя, почему.
Версия Хоскинга
Само уже название книги Джеффри Хоскинга, одного из самых извес^ых британских историков России, «Российский конституционный эксперимент», свидетельствует, что круг его интересов выходит далеко за пределы славянофильских художеств октябризма. В отличие от Хатчинсона, Хоскинга интересует поведение всех конституционных партий между 1906 и 1914 годами, равно как и их взаимодействие с правящей бюрократией. По сути, это самое детальное исследование второго думского периода в русской истории (первым я называю, конечно, думский период в досамодержавной России, исследованный Ключевским в его докторской диссертации и продол-
w Ibid. Р. 237.
жавшийся до опричной революции 1560-х, а третьим тот, что начался в 1993-м).
Видимо именно поэтому удивление закрадывается в анализ Хоскинга с самого начала. Невозможно, говорит он, счесть вступление России в войну случайным фактором, никак не связанным с ситуацией перехода к конституционному порядку. «Хотя бы потому, что именно партии, наиболее преданные конституционному эксперименту, как раз и выступили адвокатами политики, которая помогла вовлечь Россию в войну»55. Другими словами, парадокс, замеченный Хатчинсоном, обнаружился вовсе не у одних октябристов. И кадеты, и прогрессисты (представлявшие крупный капитал), все, короче говоря, либералы-западники (и веховцы в первых рядах) с одинаковым славянофильским рвением толкали страну в пропасть.
Начинает Хоскинг с анализа знаменитой статьи Струве «Великая Россия», появившейся, как мы уже говорили, в Русской мысли на год раньше вех, в январе 1908 г. Название статьи нарочито заимствовано из не менее знаменитой отповеди Столыпина левым: «Вам нужны великие потрясения, а нам великая Россия». Столыпин был одним из многих увлечений Струве. Он даже считал его «русским Бисмарком». Тем более поражает полное несоответствие главных тезисов его статьи генеральному плану столыпинской реформы, императивом которой были, как мы знаем, двадцать лет мира. Напомним хотя бы заявление Столыпина, что «Наша внутренняя ситуация не позволяет нам вести агрессивную внешнюю политику»56.
Тезисов у Струве три. Во-первых, полагал он, конституционалисты больше не могут позволить себе роскошь не иметь собственной внешней политики; во-вторых, целью такой политики должно стать государственное величие России; и в-третьих, наконец, «для создания великой России есть только один путь: направить все силы на ту область, которая действительно доступна влиянию русской культуры. Эта область - весь бассейн Черного моря»57.
Дальше Струве объясняет, что в то время, как реакционная поли-
55 Hosking G. The Russian Constitutional Experiment. Cambridge, 1973. P. 215. Ibid. c. 154.
57 Русская мысль. 1908, янв. С. 146. (Выделено. - Д.Я.).
тика самодержавия вовлекла Россию в бездарную авантюру на безразличном для нас Дальнем Востоке, прогрессивная политика либералов должна перенести центр тяжести на родственные нам славянские Балканы. И потому «Великой России, на настоящем уровне нашего экономического развития, необходимы сильная армия и такой флот, который обеспечивал бы нам возможность десанта в любом пункте Черного моря... мы должны быть господами на Черном море».58
Комментируя эти воинственные пассажи, Хоскинг пишет, что сам даже язык Струве поражает: «многократное использование таких слов ... как «организм», «сила», «мощь», является проекцией дарвинизма, игравшего столь громадную роль в германской политике конца XIX века, на международные отношения».59 На этом сравнении с германской идеологией и строится, по сути, весь дальнейший анализ Хоскинга. По непонятной причине он совершает ошибку Хатчинсона, игнорируя то, что гораздо ближе к дому, т.е. историю русского национализма.
Между тем Струве лишь повторяет, и притом буквально, логику своего первого учителя Ивана Аксакова. Точно так же оказался Аксаков, как помнит читатель, в 1870-е на перепутье, когда Великая реформа выбила почву из-под ног у внутренней политики второго поколения славянофилов. И точно так же, как Струве, укорял он тогда своих товарищей по движению в отсутствии у славянофильства внешней политики. И точно так же, наконец, центр тяжести этой политики нашел он на Балканах (т.е. именно там, где искали его в свое время идеологи николаевской Официальной Народности). Иначе говоря, при всей полезности сравнения русского национал- либерализма, глашатаем которого выступил Струве, с германским, корни-то его уходят все-таки в родную почву. И вырывать его из контекста вырождения русского национализма, право, не стоило.
Объяснить это могу я лишь так: в современной западной историографии ниша, принадлежащая феномену русского национализма во всей его целостности, пустует многие десятилетия. То есть
Hosking G. Op. cit. P. 219.
ibid. P. 221.
попросту не существует его как драматического процесса, начавшегося в 1840-е раздвоением между Официальной Народностью и славянофильством, продолжавшегося в 1870-е расколом между официальным реваншизмом Горчакова и панславизмом Ивана Аксакова и Данилевского и увенчавшегося, наконец, в начале XX века очередным раздвоением между бешеным русификаторством и черносотенством думских крайних правых и либеральным империализмом конституционных партий.
Между тем сталкиваемся мы тут с еще одним парадоксом. Ибо если крайние правые (по тогдашней терминологии) исходили из постулатов первоначального славянофильства с его противоположением «русского не русскому, своего - чужому»,то национал-либералы унаследовали как раз геополитику выродившегося славянофильства.Вот как описывает Хоскинг идеологию думских крайних правых. Инородцы угрожают подорвать органическое единство царя и народа, свойственное русской цивилизации. «Это в особенности относится к евреям, давно уже сформировавшим пятую колонну внутри империи, а теперь породившим и ядовитую отраву социализма. Целью национальной политики должно быть отражение этих угроз и разгром нерусских культур с тем, чтобы все обитатели империи стали русскими»[129]. Другими словами, хорошо знакомая нам сегодня «Россия для русских». Важно, однако, что внешняя политика думских правых ориентировалась на мир любой ценой - во всяком случае до тех пор, покуда не завершена в империи драконовская русификация всех ее народов.Естественно, что такое откровенное имперское хамство крайних правых отталкивало национал-либералов. Но еще меньше вдохновляла их бесхребетная официальная политика Извольского. Совершенно очевидно было, что правительство неспособно предложить внешнеполитический эквивалент столыпинских реформ. Как раз напротив, оставаясь в русле геополитической схемы, выработанной режимом контрреформы Александра III, оно медленно, неохотно, но неотвратимо дрейфовало по направлению к войне. Куда же было в такой ситуации податься бедным национал-либералам, если ни
внешнеполитическую индифферентность думских правых, ни бесславный дрейф правительства принять они не могли?
Вот тут-то и подходим мы к реальному выбору, который встал перед ними после пятого года, когда с одной стороны, стало совершенно ясно, что одной лишь политической революцией дело в России не ограничится, а с другой, что никакой Столыпин не русский Бисмарк. Хотя бы потому, что не оказалось в его реформах той внешнеполитической компоненты, которую Бисмарк как раз и ставил во главу угла своей стратегии. Короче говоря, ситуация национал-либералов после 1905-го была в известном смысле неотличима от той, в которой оказалось второе поколение славянофилов после Великой реформы. Тогда тоже ведь в стране, с одной стороны, назревала гражданская война, а с другой, внешняя политика князя Горчакова, т.е. реванш любой ценой, пусть хоть ценою дружбы с Турцией, представлялась славянофилам безнравственной и отвратительной.Читатель помнит, надеюсь, что сделали тогда славянофилы. Они попытались переключить энергию бунтующей молодежи в русло борьбы за освобождение угнетенных братьев-славян и развернули агрессивную кампанию за Балканскую войну. Им казалось, что одним ударом решит такая стратегия все их проблемы. Во-первых, вновь обретут они благодаря ей свое место в стремительно менявшемся политическом спектре; во-вторых, преодолеют в собственных рядах разочарование провалом своей традиционной внутриполитической стратегии. И, в-третьих, наконец, погасят пламя политических страстей в обществе волной патриотической истерии. В этом смысле совпадение полнее. Ничего хорошего, впрочем, тогда из этого славянофильского маневра не получилось. Кончилось все, как помнит читатель, предательством Бисмарка, позорным Берлинским миром и убийством царя.Проблема лишь в том, что, в отличие от вырождающихся славянофилов, скомпрометированных своим эпохальным поражением 1870-х, у национал-либералов начала XX века реальный выбор был. Они ведь могли встать и на сторону альтернативного плана Витте- Розена, предложив таким образом стране внешнеполитический эквивалент столыпинской реформы. Тем более могли национал- либералы встать на позицию Витте, что в этом случае на их стороне были бы после русско-японской войны и генеральный штаб, и вообще все военные профессионалы, работавшие над оборонной стратегией России.
Могли встать на позицию Витте, но не встали. Вместо этого они, в точности повторяя славянофилов, выбрали курс на новую войну. Более того, опирались они при этом на тот же славянофильский миф о «пожирателях славян», которые, говоря словами Скобелева, «сами должны быть поглощены». И даже кампания, которую развернули они в 1900-е, тоже организована была по славянофильским лекалам 1870-х- в преддверии Балканской войны.В апреле 1908 г. в Москве открылось общество Славянской культуры, а затем в Петербурге общество Славянской учености. Среди основателей были, конечно, и Струве, и Милюков. Позднее в Петербурге открылось еще и общество Славянской взаимности. В июле того же года состоялся Славянский конгресс в Праге, в 1910-м еще один в Софии. В оборот был пущен даже термин «неославизм». И разочарование в «братьях-славянах» оказалось столь же непомерным, как и в 1870-е. Выяснилось, например, что славянские депутаты, составлявшие теперь большинство в австрийском парламенте, проголосовали за аннексию Боснии и Герцеговины, ту самую аннексию, что была окрещена в России «дипломатической Цусимой». Даже панславист Григорий Трубецкой сказал в декабре 1909-г0, что зарубежные славяне вспоминают о славянской солидарности лишь когда им это выгодно, преследуя исключительно эгоистические интересы и не пренебрегая закулисными интригами друг против друга. Он, впрочем, объяснял это коварством, унаследованным ими от турок. Но разве это меняло дело? Повторялось-то и вправду все до деталей.Вопрос, который эта «неославистская» вакханалия ставит перед историком, словно бы очевиден. Почему те же люди, которые так безоговорочно стояли за европейские реформы во внутренней политике России, столь же неколебимо встали на контрреформистский и вдобавок еще самоубийственный для страны путь в политике внешней?
По непонятной причине Хоскинг, выдвигая свою версию про-
исхождения «неославизма», даже не заметил этого рокового повторения славянофильской эскапады 1870-х, предлагая взамен нечто разочаровывающе тривиальное. Вот его объяснение. «Октябристы, прогрессисты, кадеты и часто даже умеренные правые националисты искали основание для своей политической позиции, отличное от самодержавного и бюрократического, которые они атаковали. И конечно же нашли они его в русском народе как в источнике авторитета... Настойчивые обращения к народу заставили их во внешней политике и в национальном вопросе занять националистические и панславистские позиции. Они-то и помогли создать такой общественный климат, при котором война против Германии и Австро-Венгрии выглядела приемлемым и даже необходимым инструментом внешней политики»61.
Но остается ведь вопрос, почему, собственно, конституционали- сты-западники были уверены, что «народ» непременно империалист и что Балканы с Константинополем для него «важнее, по словам Гучкова, любых вопросов внутренней политики», включая, стало быть, и вопрос о земле? Откуда они это взяли? И почему усвоили именно славянофильскую версию того, чего «хочет народ», а не, допустим, версию Витте и Розена? К сожалению, Хоскинг этих вопросов даже не ставит.
I Глава девятая
Версия Базарова I КакП^илипегровскуюРоссию
Владил^ир Базаров (Руднев) был одним из самых одаренных идеологов меньшевизма. В двух статьях, опубликованных журналом Современник уже во время войны, в 1915-м, он предложил свою версию происхождения неославизма, прямо противоположную версии Хоскинга. Не в противостоянии самодержавию и бюрократии пришли, по его мнению, либералы-западники к славянофильскому империализму, но империализм обратил их в славянофильство. Вот его логика.
«В настоящий момент либеральная позиция становится явно
61 Ibid.
недостаточной для философского оправдания наших национальных задач... Империализм требует иной санкции, иной модели, иной веры. Философия империализма может быть построена только на убеждении, что именно данный народ, мой народ, есть носитель вселенской правды, что он преимущественно перед всеми прочими призван осуществлять в мире высшие ценности... Вера в исключительную миссию родного народа, в его всемирно-миссионерское, если уж не мессианское призвание - таков должен быть фундамент философии империализма»[130].
Кто же в России, спрашивается, исповедывал подобную веру? Естественно, полагал Базаров, «прочную почву под ногами чувствует теперь только славянофильское течение нашей общественной мысли... Выступая наследником старого славянофильства, подновленного задолго до войны трудами небольшой, но энергичной группы московских философов и публицистов, оно встретило идейные запросы войны на заранее подготовленных и хорошо укрепленных позициях... Внушительно, величаво, с нескрываемым торжеством приветствовал патриарх школы С.Н. Булгаков военную катастрофу как начало конца новоевропейской культуры. Истинность старовизантийского мировоззрения, призванного обновить гибнущую Европу, была давно уже провозглашена - историческая миссия русского народа как единственного носителя этой истины, давно уже поставлена вне сомнения. Для того чтобы довершить метафизическое оправдание войны, оставалось сделать очень немногое, а именно: объявить французов и англичан кающимися европейцами или, по крайней мере, способными приблизиться к покаянию под благодетельным воздействием союза с нами, - а в германизме, наоборот, усмотреть самое законченное и непримиримое выражение новоевропейского духа»[131].
Тут, конечно, ошибка. Ибо эту операцию по отлучению германизма от лика «белого человечества» проделали, как помнит читатель, еще в конце 1880-х, т.е. задолго до войны, в разгар контрреформы Сергей Шарапов и его Русский голос. Так что тут речь могла идти
лишь о подведении московским кружком «национально ориентированных» философов (т.е.веховцами) метафизического, так сказать, фундамента под милитаристский энтузиазм третьего поколения славянофилов.
И потом вовсе не был в ту пору империализм монополией России. Он был тогда феноменом общеевропейским. Почему же в таком случае не породил он ничего подобного славянофильствующему мессианизму в других воюющих державах? К этому вопросу Базаров, был, впрочем, готов. И ответил на него хоть и пространно, в духе времени, но с исчерпывающей полнотой.
«Вовсе не обязательно, - пишет он, - видеть в своем народе носителя своеобразной культуры... И немецкие, и французские, и английские империалисты считают себя детьми общеевропейской цивилизации. Но немец убежден, что его народ единственный жизнеспособный представитель Европы, тогда как англичане и французы уже выродились; англичанин смотрит на немецких империалистов как на задорных выскочек, неспособных к усвоению элементарных начал здравой общественности и разумной колониальной политики; француз думает, что все прочие народы, каковы бы ни были их внешние успехи, все же более или менее варвары, что подлинный дух европейской цивилизации обитает только во Франции, в ее сердце - Париже, откуда и должен излучаться по всему миру. Для нас аналогичная точка зрения неприемлема»64.
Почему неприемлема? Потому, полагает Базаров, что «не будучи ни в какой области первосортными представителями европейской цивилизации, мьидля обоснования своего наступательного национализма, естественно, должны поискать другие мотивы. Если у нас есть какая-нибудь всемирно-историческая миссия, оправдывающая наши империалистические притязания, то она может заключаться лишь в осуществлении таких духовных ценностей, которые нам присущи несмотря на нашу всестороннюю отсталость от Европы и, быть может, именно благодаря ей. Наше национальное призвание должно состоять в культивировании начал, Европе чуждых, Европой обойденных или незамеченных или даже прямо ей враждебных»[132].
Вот почему никакая другая постановка вопроса, кроме славянофильской, не может привести к построению удовлетворительной философии русского империализма, «славянофильство есть единственное теоретическое решение задачи... Я говорю, конечно, не о частных взглядах тех или иных славянофилов, а лишь об основном принципе их национальной философии, об их общей вере в существование и величие антиевропейской миссии русского народа. Под это знамя рано или поздно вынужден будет стать всякий русский национал-либерал, способный философски обосновать свою программу». Практически говорит здесь Базаров то же самое, что Грамши, разве что не называет это «идеей-гегемоном».
Но «когда для него [т.е. для русского национал-либерала] выяснится, заключает Базаров, бесплодность попыток защитить «правду» русского империализма в стиле западноевропейских образцов, его западнические симпатии потускнеют сами собой, традиционная враждебность к родному византизму растает, как дым, а идея культурной равноценности всех наций покажется такой же «банальной» и «плоской», такой же безжизненной и надуманной, как и космополитизм «безнародной русской интеллигенции»[133].
Это, конечно, замечательно остроумный анализ. И Базаров безусловно прав, указывая на шаткость, неустойчивость постниколаевского русского западничества, его податливость соблазну «национальной ориентации». Тем не менее страдает его версия той же странной для историка внеисторичностью, если можно так выразиться, что и версии Хатчинсона и Хоскинга.
Как всякий социал-демократ, Базаров имел в виду под «империализмом» период конца XIX - начала XX века, когда не иметь колоний считалось столь же неприличным для европейского государства, как сегодня для американского дантиста не иметь, скажем, автомобиль марки «мерседес». Именно в такую эпоху и именно в связи с невозможностью рационально оправдать империализм, полагает
он, западничество в России обречено капитулировать перед славянофильством как единственно последовательной философией империализма.
Чем же, однако, назвать попытку Наполеона завоевать Европу еще за столетие до социал-демократического «империализма»? Или крестовый поход Николая 11853 года, целью которого был не только насильственный раздел наследства «больного человека Европы», как царь именовал Турцию, но и установление российской гегемонии над той же Европой? Что это было, если не империализм? А завоевание Кавказа и Средней Азии во второй половине XIX века? Чем было оно? Короче, начиная с 177°-*, с раздела Польши, Россия жила практически непрерывно в ситуации империализма. Императрица Екатерина даже пошутила однажды, что не знает другого способа защитить границы империи, кроме того, чтобы их расширять.
И что же? Ну, допустим, декабристы не могли капитулировать перед славянофильской философией просто потому, что в их время ее еще не существовало. Но ведь не капитулировали же перед славянофильским империализмом ни Чаадаев, ни Белинский, ни Герцен, ни целые поколения воспитанной ими российской молодежи. Так почему, спрашивается, оказались русские западники столь беспомощны (в философском, конечно, смысле) именно в начале XX века? Почему капитулировали они перед славянофилами именно теперь - накануне роковой для России войны?
Дело не в том, что нет на это ответа у Базарова, а в том, что сам вопрос даже не пришел ему в голову. Если он хотел сказать, что патриотизм в России, а следовательно западничество, еще со времен поражения декабризма и диктатуры Официальной Народности был уязвим для националистического соблазна, то ведь Владимир Соловьев это уже сказал - и сказал притом, как мы слышали, с куда большей силой - еще за три десятилетия до войны. А если Базаров привязывает эту уязвимость русского западничества именно к условиям мировой войны, то следовало бы объяснить, каким образом открыл ее тот же Соловьев еще во времена, когда войны этой
16 Янов
и в помине не было? Как видит читатель, противоречий хватает и у базаровской версии происхождения неославизма - при всей ее проницательности и остроумии.
Глава девятая
Версия Кожинова губилиw^w*
В.В. Кожинов, подобно Дугину сегодня, был одним из самых неутомимых - и плодовитых - популяризаторов евразийства. И в то же время своего рода связующим звеном между евразийством и черносотенством. В том, собственно, и состояла, надо полагать, его жизненная задача, чтобы помирить две эти враждовавшие между собою ветви постсоветского национализма. И задача эта была непростая: расхождения между ними серьёзные. Например, для евразийцев «еврейский вопрос» третьестепенный, а для черносотенцев - центральный.
Однако для опытного конспиролога, как Кожинов (или Дугин), найти точку соприкосновения между ними - не проблема. Ведь во всем, что в мире происходит, и те и другие видели одно и то же: заговор против России. Вопрос лишь в том, кто этот заговор возглавляет. Кожинов предложил на эту должность масонов - и все тотчас встало на своё место. Ибо, по его мнению, «черносотенцы осознавали присутствие и мощное влияние масонства в России»67. А для евразийцев именно масонство, почему-то олицетворявшее всю предательскую, «объевропеившуюся» послепетровскую элиту, и было центральной причиной крушения петербургской России.
На этом Кожинов и играл, объясняя, почему как раз «российское масонство XX века явилось решающей силой Февраля» (т.е. февральской революции 1917, которая избавила, наконец, Россию от «сакрального» самодержавия и с момента которой числит он, как все черносотенцы, «гибель Русского государства»68. Потому, оказывается, что «скрепленные клятвой перед своим и, одновременно, высокоразвитым западноевропейским масонством, эти очень разные, подчас, казалось бы, совершенно несовместимые деятели - от
Кожинов В.В. Черносотенцы и Революция. М., 1998. С. 13 Там же. С. 138
октябристов до меньшевиков - стали дисциплинированно и целеустремленно осуществлять единую задачу. В результате был создан своего рода мощный кулак, разрушивший государство и армию»69. И дальше: «так называемое двоевластие после Февраля было весьма относительным, в сущности, даже показным: и в правительстве и в Совете заправляли люди одной команды»70.
То, что утверждает здесь Кожинов, без сомнения повергло бы в шок и Хатчинсона, и Хоскинга, и вообще всякого, кто хоть сколько- нибудь причастен к изучению Катастрофы. Выходит ведь, что министры-капиталисты, как Гучков или Коновалов, ратовавшие за конституционную монархию, вместе со своими непримиримыми оппонентами, республиканцами и социалистами, как Керенский или Чхеидзе, дружно занимались «разрушением государства и армии» своей страны. И разрушали они их вовсе не бессознательно, не ведая, что творят, подчиняясь императивам общей идейной атмосферы тогдашней России (что было бы согласно с теорией «идеи- гегемона» Антонио Грамши), но сознательно, «дисциплинированно и целеустремленно». Временное правительство и Совет рабочих депутатов, яростно оспаривавшие друг у друга власть в Петрограде, работали, оказывается, «в одной команде».
Остается совсем простой вопрос: зачем? Зачем, спрашивается, все эти умные и честные люди, всю жизнь служившие интересам России, как они их понимали (добавим сюда и крупнейших историков Василия Ключевского, Павла Щеголева, Николая Павлова- Сильванского, которые, согласно Кожинову, тоже, оказывается, приложили к этому руку), принялись вдруг разрушать свою страну?
У Кожинова есть на это исчерпывающий ответ. Затем, что «российские масоны были до мозга костей западниками. При этом они не только усматривали все свои общественные идеалы в Западной Европе, но и подчинялись тамошнему могучему масонству»71. Вот как просто всё оказалось. Могучие западные хозяева распорядились разрушить единственный залог жизнеспособности «Русского госу-
Там же. С. 139
Там же. С. 140
дарства», его становой хребет - самодержавие. А туземные их подручные, естественно, взяли под козырёк. И приступили к делу.
Но народ не позволил разрушить свою главную святыню. Потому- то, развивает свою мысль Кожинов, и проиграли масоны в октябре большевикам, возрождавшим в России самодержавие: они «представляли себе осуществляемый ими переворот как нечто вполне подобное революциям во Франции или Англии, но при этом забывали о поистине уникальной русской свободе»72. Заключалась она, эта уникальная свобода, в частности в том, что «после разрушения веками существовавшего [самодержавного] Государства народ явно не хотел признавать никаких иных форм государственности»73. Забастовал, так сказать. Ибо «власть западноевропейского типа, о коей грезили герои Февраля, для России заведомо и полностью непригодна»74.
Вот и встретились мы опять со старым орвеллианским парадоксом, на протяжении полутора столетий преследующим, как мы видели, рыцарей российского особнячества: уникальность «русской свободы» состояла, по Кожинову, в том, что жить могла эта «свобода» только в условиях диктатуры. Так вдруг и превратились вчерашние «бесы» в бессознательное орудие Провидения, на глазах воссоздававшего в России эту вожделенную диктатуру.
И чтобы уж никаких в этом не оставалось сомнений, Кожинов подтверждает столь удивительную метаморфозу «бесов» , цитируя одного из самых красноречивых идеологов черносотенства Бориса Никольского. Большевики, говорит Никольский, «неудержимые и верные исполнители исторической неизбежности... и правят Россией Божиим гневом и попущением... Они власть, которая нами заслужена и которая исполняет волю Промысла, хотя сама того не хочет и не думает»75.
Ни один евразиец не отказался бы подписаться под этими словами. И если задача Кожинова действительно состояла не только в том,
Там же. С. 154 (выделено мною. - АЯ.).
Там же.
Там же. С. 157.
чтобы реабилитировать черносотенство, но и ввести его в, так сказать, mainstream националистической оппозиции, то она была выполнена. Евразийство примирилось с черносотенством. По крайней мере, в его книге.
Честно говоря, версия Кожинова не кажется мне сколько-нибудь серьезной. Уж очень легковесно она выглядит по сравнению с основательными исследованиями Хатчинсона, Хоскинга или Базарова. Тем более что ни единого документального свидетельства, даже намёка на свидетельство Кожинов в её подтверждение не привёл. Одни фантастические спекуляции, откровенно рассчитанные на то, чтобы объединить две фракции националистов в борьбе против постсоветского режима. Я, однако, обязан был рассказать о ней читателю, поскольку без нее спектр объяснений Катастрофы был бы неполон.
| Глава девятая
ПаТрИОТИЧеСКаЯ I К™ губили петровскую Россию
истерия. Век XX
Если мы попробуем теперь обобщить все кратко очерченные здесь версии великого русского парадокса начала XX века, в соответствии с которым культурная элита России из «патриотических» соображений губила свою страну, получим мы, похоже, такую картину: эти люди почему-то свято верили, что «народность» в России естественно предполагает империализм и агрессию. Вот посмотрите.
Ха*тчинсон пришел к выводу, что октябристы хитрили. Что весь их империалистический ажиотаж был не более, чем гигантским отвлекающим маневром, предназначенным, с одной стороны, отвлечь «народ» от социальной революции, которой они смертельно боялись, а с другой, идеологически разоружить самодержавие, отняв у него монополию на патриотизм. Иначе говоря, пытались они установить через голову самодержавия непосредственный контакт с «народом», навести, если угодно, мост через пропасть между ним и конституционной элитой - и по какой-то причине именно империалистический «патриотизм» представлялся им единственно подходящим для строительства такого моста инструментом.
Выйди Хатчинсон на минуту за пределы своего октябристского «гетто», как сделал, например, Хоскинг (или ирландский историк Реймонд Пирсон в прекрасной книге «Российские умеренные и кризис царизма»), он тотчас убедился бы, что все либеральные думские партии, зажатые, по словам Пирсона, «между красной революцией снизу и черной революцией сверху»76, следовали точно такой же стратегии. Свидетельств тому у нас сколько угодно.
Ну вот вам Василий Маклаков, один из самых красноречивых - и откровенных - лидеров думских кадетов. «Народность, - писал он в 1908 году, - всегда была в России фундаментом режима». Перехватив эту национальную идею, либералы вырвут из рук правительства «его флаг, его единственный психологический ресурс»77. Во имя этого, полагал Маклаков, мы, национал-либералы, должны сделать что? Дать народу землю, о которой он страстно мечтает? Нет, должны мы, оказывается, всемерно поощрять сербов, обещая им безусловную поддержку России в достижении их мечты о Великой Сербии, час которой раньше или позже пробьет, пусть и «ценой большой крови и слез»78.
Я не могу передать читателю всю неизмеримую глубину различия между этой циничной «народностью» кадетского златоуста и действительным, т.е. в моем понимании, декабристским патриотизмом иначе, нежели словами Владимира Соловьева. «Согласно действительно русскому патриотизму, - писал он, - у целого народа не только есть совесть, но иногда эта совесть в делах национальной политики оказывается более чувствительною и требовательною, нежели личная совесть в житейских делах». Нетрудно поэтому представить себе, что сказал бы Соловьев о славянофильском маневре, предложенном Маклаковым, доживи он до преддверия последней войны. А, впрочем, сказал же он по поводу чего-то подобного: «честь России чего-нибудь да стоит, и эта честь решительно не позволяет делать из
Pearson R. The Russian Moderates and the Crisis of Tsarism. London, 1997. P. 174.
Cited in D. Lieven. Op. cit. P. 126.
Ibid. P. 125.
мошеннической аферы предмет государственной политики»79. И добавил: «Бессмысленный и лживый патриотизм, выражающийся в делах злобы и насилия, - вот единственный практический результат, к которому привели пока славянофильские мечтания»80.
Усугубляется все еще тем, что ни октябристы, ни Маклаков вовсе не были тогда исключениями в лагере «национально ориентированной» интеллигенции. Разве сам Милюков, главный страж чистоты риз кадетского либерализма, не сказал высокомерно по поводу лишения парламентской неприкосновенности думских коллег, социал-демо- кратов, протестовавших против войны: «весь народ снизу доверху стоит за войну, пораженцы никаким влиянием не пользуются, они могут быть наказаны без всяких осложнений»?81Поразительные, конечно, для опытного политика цинизм и близорукость, но не это ведь здесь нас волнует. Просто вышли мы с этим наблюдением уже на версию Хоскинга, согласно которой, как помнит читатель, именно борьба с царской бюрократией за доверие «народа» и обусловила накануне войны агрессивность национал- либералов. Базаров, правда, пытается объяснить «эволюцию западничества к славянофильству» влиянием эпохи империализма. Кожинов добавляет, что «народ» - стихийный поборник самодержавия и никакими политическими маневрами не удастся навязать ему «власть западноевропейского типа». В том, однако, что «народ» империалист и «величие державы» безусловно важнее для него раздела помещичьих земель, убежден он был ничуть не меньше любого «масона».Коцоче, несмотря на все различия рассмотренных здесь версий, едины все они в одном. Накануне «последней» войны российская интеллигенция - от крайне правых до национал-либералов - была по какой-то причине неколебимо уверена, что народ - «патриот» (т.е. в их представлении готов пожертвовать всем ради «величия державы).
Нечего и говорить, что с самого начала была эта карта безнадеж-
Соловьев B.C. Сочинения: в 2 т. Т. i. С. 328.
Там же. С. 327.
Pearson R. Op. cit. P. 23.
но проигрышной. Ибо, как очень скоро выяснилось, хотел на самом деле народ земли и мира, а вовсе не «большой крови и слез» во имя Великой Сербии, как думал Маклаков. И, вопреки Гучкову, земля и мир были для него несопоставимо важнее «роли России как Великой Державы». И не забудьте еще и о тех « мартирологах страшных злодейств» и о той бродившей в душе «кровавой и беспощадной мести», о которых предупреждал в свое время Герцен.
Я допускаю, что с точки зрения черносотенной охотнорядской шпаны, люмпенской пены, бродившей на поверхности городского общества, на которую опирался в свое время Шарапов и которую воспевал уже в наши дни Кожинов, тогдашние национал-либералы и были правы. Но 8о-миллионное крестьянство, т.е. собственно народ, к которому пытались они перебросить мост, был к их славянофильским фантазиям вполне безразличен, что во время войны очень убедительно доказал.В результате этой роковой ошибки, как говорит Пирсон, «к февралю 1917-го умеренные в России оказались столь же изолированы, как любая эмигрантская колония в Париже или в Женеве... не более, чем воплощение в политической форме традиционного феномена лишних людей»82. Не это важно для нас, однако. Важно понять, откуда взялась эта странная, погубившая Россию вера в патриотический империализм «народа», охватившая, подобно лесному пожару, в начале XX века национально ориентированную интеллигенцию страны, включая отнюдь не только циничных политиков, но, как мы видели, и поэтов, и философов, и генералов.Признавался же впоследствии генерал Брусилов в «Записках солдата», изданных в 1930 году в Лондоне, что был убежден: только патриотический пыл народа заставил царя согласиться на войну. «Если б он этого не сделал, народное негодование обернулось бы против него с такой яростью, что сбросило бы его с трона и революция, поддержанная всей интеллигенцией, состоялась бы в 1914-м вместо 1917-го»83.
Так откуда это националистическое наваждение? Откуда слепая
Ibid. Р. 179.
вера, что если Россия не обнажит меч в защиту сербов, народ растерзает свое правительство?
|/ /лоао девятая
ГхТО КО ГО · Как губили петровскую Россию
Да оттуда же, откуда взялась патриотическая истерия 1863-го, сокрушившая Колокол Герцена. И тогдашняя слепая вера, что если мы не раздавим Польшу, Польша раздавит нас? Что, как писал тогда редактор Московских ведомостей Михаил Катков, игравший в те годы роль Струве, «независимая Польша не может ужиться рядом с независимой Россией». Не может, потому что «между ними вопрос не о том, кому первенствовать, [но] кому из них существовать»84. И тогда ведь последним и решающим аргументом был все тот же миф о «народе», который спит и видит победу русского оружия над окаянными супостатами. «Они собраний не имеют, - торжествующе писал Катков в передовой Московских новостей 28 марта 1863 года, - они речей не говорят и адресов никаких не посылают. Они люди простые и темные... Но они русские люди и они заслышали голос отечества... Тысячи их собирались в храмах молиться за упокой русских солдат, убитых в боях против польских мятежников, молиться о ниспослании успехов русскому оружию»85.
Вся и разница-то, что в XX веке «народу», по представлению национально ориентированной интеллигенции, положено было молиться о торжестве русского оружия не над польскими «мятежниками», а над 1евтонскими «смутьянами». Да и вопрос стоял теперь не о том, уживется ли независимая Польша с независимой Россией, но о том, может ли стерпеть Россия сверхдержавный статус Германии.
Вот как описывает это внезапное возрождение в предвоенные годы катковской формулы «кто кого?» британский историк Орландо
figes О. Op. cit. Р. 251.
Цит. по: Янов А. Альтернатива. Молодой коммунист. 1974. № 2. С. 71.
Там же.
Фигес: «Боялись, что Drang nach Osten представляет собою часть широкого германского плана уничтожить славянскую цивилизацию и заключали, что если Россия не займет твердую позицию в защиту своих балканских союзников, она впадет в эру имперского упадка и подчинения Германии»86. И Ричард Пайпс, которому любой ценой нужно доказать, что война была неизбежна, понятное дело, поддакивает: «Если только Россия не готова отказаться от имперского величия, не готова свернуться до границ Московской Руси XVII века и превратиться в германскую колонию, ей следует координировать свои планы с планами других западных стран»87.
Надо полагать, американский историк в ужасе отшатнется от аналогичных заявлений сегодняшних трубадуров сверхдержавного реванша в России. И когда, допустим, Геннадий Зюганов формулирует единственную, по его мнению, альтернативу, стоящую перед страной, в таких терминах: «либо мы сумеем восстановить контроль над геополитическим сердцем мира, либо нас ждет колониальная будущность»88, Пайпс без сомнения найдет, что большую беду предвещает России эта агрессивная формула.
Между тем Зюганов вполне мог позаимствовать её у самого американского историка, который, как мы только что видели, тоже приравнял утрату Россией «имперского величия» к «превращению ее в колонию». А если не у Пайпса, то у Данилевского, который, как помнит читатель, тоже был уверен, что не ввяжись Россия в войну с Европой из-за Царьграда, останется ей лишь «перегнивать как исторический хлам, распуститься в этнографический материал».
На самом деле все они, похоже, заимствовали её - одни бессознательно, другие вполне осознанно - у Каткова и его единомышленников. Как бы то ни было, важно здесь для нас лишь одно: формула «кто кого?» (подразумевающая, что если Россия не раздавит «гадину» - будь то Польша или Германия, или жидомасонский заговор, или американский империализм - «гадина» непременно раздавит Россию) появилась на свет еще в 1860-е, едва началась деградация
Figes О. Op. cit. Р. 284.
Пайпс Р. Цит. соч. С. 221.
Зюганов ГА. Уроки истории и современность// НГ-сценарии. 1997, № 12.
славянофильства. И что стала она с той поры штандартом каждой последующей патриотической истерии.
Вот почему в 1914-м, как и во времена Каткова, даже и не задумалась русская культурная элита над альтернативами войне. Тут гамлетовский вопрос стоял, понимаешь, - быть иль не быть России, а какие-то чудаки, да вдобавок еще масоны и инородцы, вроде Витте или Розена, крутятся под ногами со своими мирными альтернативами. Гони их в шею, изменников, трусов, «клеветников России»!«Россия глуха», - сказал, как мы помним, в аналогичных обстоятельствах Герцен. И ничего не оставалось нам, как возразить: не глуха она, а больна - сверхдержавным соблазном и наполеоновским комплексом. И потому судороги патриотических истерий не только возможны здесь, но при определенных условиях и неизбежны. Другое дело, что на этот раз такая судорога оказалась смертельной.
Как видит читатель, я не столько возражаю Хатчинсону или Хоскингу, Базарову или Пирсону, сколько сочувствую им. Они сделали всё, что могли - элегантно и изобретательно, порою блестяще. Просто задача, которую они перед собою поставили, была неразрешима на выбранном ими для исследования маленьком историческом пятачке. Все они невольно вырвали патриотическую истерию XX века из контекста вековой истории русского национализма. И по этой причине на главный вопрос, почему в 1908-1914 годах очарованная «неославизмом» культурная элита, без всяких к тому оснований поверившая в империалистический патриотизм «народа», столкнула свою страну в пропасть, ответить, естественно, не смогли.
Глава девятая
ВОвННдЯ Как гУбили петровскую Россию
контроверза
И еще одно все они упустили из виду. А именно, что, кроме одиноких дипломатов, как Розен, политиков, как Витте, Столыпин или Коковцов, высокопоставленных полицейских командиров, как Дурново, и вообще «людей, не потерявших человеческого здравого смысла», как писала впоследствии Зинаида
Гиппиус, была еще одна сильная группа культурной элиты, которая дольше других сопротивлялась войне. Во всяком случае войне, как задумана она была Александром III. Помните, «сговориться с французами и, в случае войны между Францией и Геманией, тотчас броситься на немцев, чтобы не дать им времени разбить сначала Францию, а потом наброситься на нас»? Так вот изо всех сил сопротивлялись этой контрреформистской догме военные. Я имею в виду профессионалов и планировщиков Генерального штаба.
Остановиться на их сопротивлении очень важно для нас по нескольким причинам. Прежде всего потому, что именно на этой догме, которая, конечно же, легла в основу франко-русского военного альянса 1894 года, и покоилось самоубийственное убеждение национал-либералов об императивности «продолжать войну до победного конца», чтобы не подвести союзников. Демонстрирует сопротивление военных, между прочим, что подвести союзников готова была Россия еще задолго до войны (так же, впрочем, забежим вперед, как готовы были союзники подвести Россию). И вовсе не лояльностью союзникам объяснялась капитуляция военных в последнюю минуту, но все той же славянофильской идеей выручить Сербию, перед которой, в отличие от Франции, никаких формальных обязательств у России не было, но которая тем не менее оказалась для её культурной элиты важнее заранее очевидного для военных поражения своей страны.Началась эта контроверза, по-видимому, с опубликованной в 1910 году книги А.Н. Куропаткина, бывшего главнокомандующего на Дальнем Востоке, под названием «Задачи русской армии» (перепечатанной после революции в Красном архиве). Основной тезис генерала состоял в необходимости общей переориентации оборонных приоритетов России с европейского театра в район Тихоокеанского побережья. Ибо Япония, как он был уверен, базируясь в Порт- Артуре и в Корее, намерена перерезать транссибирскую магистраль с тем, чтобы отрезать Владивосток и заставить Россию отступить к Байкалу89. Это казалось ему намного опаснее франко-русского альянса и любых угроз со стороны Германии.
Впрочем, так бы и осталась, наверное, книга Куропаткина курьёзом, если бы неожиданно не поддержали его тезис начальник Генерального штаба Палицын и председатель Совета обороны великий князь Николай Николаевич. Первым делом решили они практически обнажить западные границы. Издан был указ: «Все государственные военные организации, обслуживающие армию, должны быть расположены в центральных районах. Место для них бассейн Волги»90. Затем последовал приказ о передислокации войск. Вильненский округ должен был лишиться 20 батальонов, Варшавский - 44, Киевский - 48. Американский историк Уильям Фуллер деликатно заметил по этому поводу, что столь резкая передислокация «серьезно затруднила бы способность России выполнить свои обязательства по отношению к Франции»91. Французы, естественно, протестовали. Столыпин с ними согласился. Совет Обороны был расформирован и отозванные было батальоны остались на месте.На этом, однако, история не закончилась. Новый начальник Генерального штаба Сухомлинов и его фаворит «главный стратег русской армии» полковник Ю.Н. Данилов успели преобразовать несколько легкомысленную затею генерала Палицына, продиктованную, как и книга Куропаткина, шоком японской войны, в стройный стратегический план, опирающийся на исторический опыт России. Проблема была лишь в том, что план этот сводил ценность франко-русского альянса практически к нулю. Во всяком случае для французов.
Прежде всего план Данилова был не наступательный, а оборонительный. Исходил он из того, что фронтальное столкновение с тевтонскими державами обрекало Россию на неминуемое поражение. Просто потому, что западная её граница, считал Данилов, незащитима. Фланговые удары с территории Австро-Венгрии и Восточной Пруссии по польскому выступу в границе привели бы к тому, что главные силы русской армии в Польше оказались бы отрезаны от коммуникаций и окружены. Выражаясь современным языком, в «котле». Разумно поэтому, полагал Данилов, уступить в начале войны неприя-
89 Красный архив. № 8. М.-Л., 1925.
'90 Fuller W.C Strategy and Power in Russia. 1600-1914. NY., 1992. P. 424.
91 Ibid. P. 426.
* in телю десять западных провинций с тем, чтобы выиграть время, спокойно провести мобилизацию и сконцентрировать силы для нанесения сокрушительного контрудара в направлении по нашему выбору.
И все было бы с этим планом (скопированным со стратегии Кутузова), хорошо, когда бы не два спорных пункта. Во-первых, он рушил надежды французов на то, что в момент начала войны Россия немедленно атакует Восточную Пруссию, вынуждая немцев отвлечь силы с западного фронта на защиту Берлина («тотчас бросится на немцев», что, как мы помним, обещал им Александр III).Именно в немедленности этой атаки на Восточную Пруссию и состояла для Франции ценность русского альянса, а вовсе не в том что несколько месяцев спустя будет нанесен сокрушительный конрудар по вторгшимся в Россию австрийцам. Во-вторых, план Данилова предусматривал ликвидацию всех десяти оборонительных крепостей на западной границе, что, по мнению его патрона Сухомлинова, к этому времени уже военного министра, должно было вызвать в Петербурге бурю «патриотических» страстей.Заметьте, что ожидал он этой бури не из опасения подвести союзников, но лишь из-за разрушения крепостей. И он, конечно, не ошибся. Только еще большую бурю вызвал план Данилова во Франции. Французская националистическая пресса открыто обвиняла Россию в предательстве. В особенности после того, как специальный посланник Генерального штаба Франции подполковник Жамин сообщил в Париж, что пересмотр русской стратегии и впрямь на полном ходу и новая стратегия действительно «строится по модели Петра Великого и Александра I»92, т.е. заманивания неприятеля вглубь страны.
Странным образом, однако, на этот раз негодование французов не произвело никакого впечатления ни на Сухомлинова, ни на «патриотическую» публику в Петербурге. Никто не испугался гнева союзников. И Столыпин, к тому времени уже впавший у царя в немилость, был бессилен. По этой причине символом стратегической переориентации России стал вовсе не вопрос, подводить или не подводить союзников, но судьба западных крепостей. И тут Сухомлинов
92 Ibid. Р. дзз.
предъявил возмутителям спокойствия в Думе козырного туза - доклад генерала Витнера, самого выдающегося тогда в России военного инженера, имевшего репутацию нового Тотлебена93.
Витнер был не только на стороне плана Данилова, он шел значительно дальше. Его рекомендации сводились к следующему.
Содержать десять крепостей на западной границе бессмысленно, не говоря уже о том, что их фортификации безнадежно устарели. Разумно их ликвидировать и сэкономленные деньги употребить на строительство железных дорог.
Прекратить дорогостоящую программу строительства новых дредноутов, употребив эти деньги на покупку подводных лодок, торпедных катеров и аэропланов.
Заранее примириться с потерей Польши и организовать оборону к востоку от Вислы.
И главное, вовлекать страну в европейскую войну лишь ради того, чтобы помочь кому-то еще, - верх безрассудства (сколько я знаю, Витнер был первым, кто употребил относительно позиции России в случае европейского конфликта выражение «спокойный нейтралитет»).
Возможно, Витнер ошибался, утверждая, что вето России было бы достаточно, чтобы удержать Германию от нападения на Францию. Он опирался на прецедент: в 1875 году российское вето действительно, как мы помним, удержало Бисмарка от нападения на Францию. Как бы то ни было, однако, Данилов принял поправки Витнера, Сухомлинов счел, что авторитное свидетельство её величества Науки способно наткнуть рот «патриотической» общественности, и издал знаменитый План-19. Царь его подписал. Даже очень благосклонный к детищу Александра III, франко-русскому альянсу, Фуллер должен был заметить по этому поводу, что «не будет преувеличением описать эту новую оборонительную стратегию как попытку радикальной ревизии традиционной внешней политики России, поскольку она совершенно очевидно подрывала союз с Парижем»94. Хороша, право, «традиционная внешняя политика», которой не исполнилось еще и двадцати лет. И совершенно уже нелепы в этом контексте спе-
Ibid. Р. 429.
Ibid. Р. 432.
куляции советской историографии, апеллировавшей, как мы видели, к предпочтениям неких «помещичьих кругов». Речь-то у нас все- таки о Генеральном штабе российской армии...
Торжествовать, однако, Данилову и Витнеру (и России) было рано. Они упустили из виду главное действующее лицо - Сербию. Точнее, мощную панславистскую идею, безраздельно царствовавшую все эти годы над «патриотической общественностью» России. Идея требовала защиты «родной по крови и по вере» Сербии (но почему-то не Болгарии, столь же, казалось бы, родной и по крови и по вере) любой ценой. Пусть хоть ценой возвращения к первоначальной наступательной стратегии Александра III, обрекавшей, как и предвидели стратеги Генерального штаба, страну на эпохальное поражение (и на все, что за ним последовало).
Так кончилась военная контроверза 1910-1911 годов. Дальше произошло то, что и предсказывал Данилов и видел во второй книге читатель. План-19 тихо умер. Отменили ли его официально и, если отменили, то когда, не знаю, не нашел упоминания об этом в источниках. Может быть, читатель окажется счастливее. Не это, впрочем, важно, ибо так или иначе с политической сцены план этот исчез, словно никогда его и не было.
До сих пор, говоря о предвоенной вакханалии «неославизма» и об угрозе, которую представляла она для будущего России, имел я в виду в первую очередь опасность выродившейся славянофильской идеи, не раз уже, как мы видели, предпочитавшей интересы Сербии интересам своей страны. Нет слов, наряду с нею бесспорно сыграли свою роль и другие факторы. И то, что шок японской войны оказался палкой о двух концах (если Куропаткин или Палицын так никогда от него не избавились, то у националистической публики вызвал этот шок, напротив, очередной неодолимый порыв «подняться с колен»). И подчеркнутая, как мы видели, всеми серьезными исследователями предвоенной патриотической истерии «наивная», как признался впоследствии Керенский, национал-либеральная вера в империалистический энтузиазм «простого народа» (опять-таки заимствованная у Каткова и славянофилов). И растерянность Верховного Главнокомандующего, ровно ничего не смыслившего в мировой политике. И бешеная антигерманская пропаганда, развернутая третьим славянофильским поколением, о которой мы так подробно говорили. И, конечно же, сверхдержавное хамство Германии. Все это мы теперь уже знаем.
И все-таки обращение к опыту планировщиков тогдашнего Генштаба и вообще военных профессионалов помогло нам высветить две не тривиальные вещи. Во-первых, военные точно знали, что в случае, если Россия вступит в войну с тевтонскими державами, отказавшись от оборонительной стратегии Кутузова, зафиксированной в Плане-19, она неминуемо пойдет навстречу катастрофе. Знали - и тем не менее, когда в июле 1914-го пробил час решения, не только не посмели сопротивляться политической буре, но и сами подбрасывали хворосту в огонь. Во всяком случае поведение одного из авторов Плана-19 Сухомлинова в этом роковом июле и в особенности его публичное заявление, в котором обещал он, как мы помним, что «из войны произойдет [для России] только хорошее», было сознательной ложью.
Во-вторых, и это еще более важно, выяснилось, что императивность «войны до победного конца», чтобы не подвести союзников, на которой до конца настаивали после Февраля национал-либералы, тоже оказалась фикцией. Во всяком случае в 1910-1911 годах, когда решалась судьба Плана-19, ни в грош не ставили интересы союзников ни военные, ни «патриотическая» публика в Думе, ни уж тем более «простой народ»..
Нельзя, впрочем, сказать, чтобы так уж близко к сердцу принимали интересы России и союзники. Вот потрясающий пример. i августа 1914-го князь Лихновский, немецкий посол в Лондоне, телеграфировал к^зеру Вильгельму, что в случае русско-германской войны Англия не только готова оставаться нейтральной, но и гарантирует нейтралитет Франции. Обрадованный Вилли, как называл его кузен Никки (Николай II), тотчас приказал начальнику Генерального штаба Мольтке перебросить все силы на русский фронт. Мольтке ответил, что поздно, машина уже заведена, германские дивизии сосредоточены на бельгийской границе и ровно через шесть недель, согласно плану Шлиффена, они будут в Париже. Выходит, как видит читатель, что от соблазна оставить Россию наедине с германской военной машиной спасла союзников вовсе не лояльность «роковому альянсу», но лишь догматизм немецкого фельдмаршала[134].
А относительно отмены Плана-19 (если он был отменен), можно предположить, что произошло это после октября 1912 года, когда Сербия неожиданно оккупировала Албанию и была вынуждена убраться оттуда две недели спустя после жесткого австрийского ультиматума. Европа, как легко себе представить каждому, кто помнит 1999-й, была возмущена агрессивностью Сербии, а «патриотическая» публика в Думе - ультиматумом Австрии. По чести говоря, ультиматум этот действительно был из ряда вон. Британский дипломат Айр Кроу очень точно заметил тогда, что он предвещает беду. «Австрия отбилась от рук, - писал он, - взяв на себя решение вопроса, который в компетенции концерта держав»96.
Конечно, уже несколько месяцев спустя Сербия компенсировала свой позор беспрекословного подчинения чужой воле, напав в союзе с Турцией и Грецией на Болгарию и отняв у нее кусок Македонии. Но дело было сделано: в глазах «патриотической» публики в Петербурге Сербия опять предстала вечной жертвой тевтонской агрессии. Славянофильская фантасмагория снова торжествовала над здравым смыслом, предвещая роковой июль 1914-го.
Такова была еще одна существенная деталь контекста вековой истории русского национализма, в игнорировании которой состояла, как я это вижу, ошибка западных исследователей первого в России XX века конституционного проекта. Пора, однако, хотя бы вкратце, суммировать этот контекст (пусть не посетует читатель на повторения, как суммировать не повторяясь?).
Декабризм. Несостоявшееся начало
Итак, о контексте. Складываться он начал, как мы уже говорили, давно, еще при Петре, когда после полутора столетий московитского застоя и изоляции Россия вдруг сделала головокружительный военно-административный и технологический скачок на европейскую орбиту, сохранив при этом средневековую социально- политическую систему. Страна внезапно оказалась разодранной надвое. Патрицианская элита, перепрыгнув через столетие, включилась в европейскую жизнь с ее входившими тогда в моду идеями Просвещения. А плебейская масса осталась в средневековье. И единственной вдохновлявшей ее Русской идеей была мечта о добром царе, который в один прекрасный день отнимет у помещиков землю и отдаст ее крестьянам.
С этого момента противоборство двух Россий - европейской и средневековой - пребывавшее со времен самодержавной революции Грозного царя и введения крепостного права в подсознании, если можно так выразиться, российской политической элиты, вырывается на поверхность. И до самого 1929 года, когда Сталин сломал хребет «мужицкому царству», а его наследники практически «раскрестьянили» Россию, становится оно постоянным подтекстом российской политики. Начиная от страха перед пугачевщиной, ни на минуту не отпускавшего патрицианскую элиту на протяжении столетий, и кончая великой драмой патриотизма, которую и пытаюсь я здесь описать.
Первыми поняли эту фундаментальную - и смертельно опасную для будущего - несообразность социально-политического строения российского дома, как мы уже знаем, декабристы, дети Отечественной войны, прошедшие после нее под знаменами победоносной армии всю Европу. С этим их открытием и родилось в России то, что называл Соловьев национальным самосознанием.
Глава девятая Как губили петровскую Россию
В отличие оттого, что впоследствии - искаженное могущественной идеологией Официальной Народности и увековеченное славянофильством - стало называться патриотизмом, национальное самосознание декабристов ни в малейшей степени не было замутнено и
встревожено знаменитым вопросом Данилевского: «почему Европа нас не любит?». Вместо этого они, по словам Соловьева, полагали, что на повестке дня другой, более близкий и насущный вопрос: «чем и почему мы больны?»97
В этом рациональном отношении к своей стране, в этой мучительно самокритичной любви к ней и заключался, собственно, пафос декабристского патриотизма, знамя которого пронесли через XIX век Герцен и Соловьев. Главной для декабристов была пропасть между двумя Россиями. И соответственно первоочередной своей задачей считали они воссоединение своей страны. Совершенно так же, как отцы-основатели Соединенных Штатов, решение проблемы видели они в свободе, в равновесии всех перед законом, в независимом суде и в просвещении. Пушкин был первым из них, кто четко сформулировал эту мысль: «свобода есть неминуемое следствие просвещения»98. Самодержавие, однако, делало просвещение невозможным.
Таким образом, то, чем больна Россия, было для декабристов очевидно: самодержавием, крестьянским рабством, средневековой темнотой народа и имперской унитарностью. Методы лечения вытекали из диагноза сами собою. Оба законченных конституционных проекта декабристов, Никиты Муравьева и Сергея Трубецкого (конкурирующая с ними «Русская правда» Павла Пестеля осталась незавершенной, из десяти ее глав дописаны были, как известно, лишь две) дают нам о них совершенно ясное представление.
Прежде всего надлежало уничтожить оба главных препятствия воссоединению России: самодержавие и крепостное рабство. «Опыт всех народов и всех времен доказал, - писал Трубецкой, - что власть самодержавия равно губительна и для правителей и для народов... Нельзя допустить основанием правительства произвол одного человека... Ставя себя выше закона, государи забыли, что они в таком случае [оказываются] вне закона, вне человечества»99. Русский историк комментирует: «В силу равенства перед законом и по соображе-
Соловьев B.C. Т. 1. С. 395-396.
Цит. по: Эйдельман Н.Я. Герцен против самодержавия. М., 1973. С. 76.
Глинский S.S. Борьба за конституцию. 1612-1861 гг. Спб., 1908. С. 188.
ниям христианской морали автор конституции [речь идет о проекте Муравьева] совершенно упраздняет крепостное право; все люди равны между собою и братья перед Богом, ибо рождены по воле Его для блага, и все перед Ним слабы»100.
Остальное, полагали декабристы, довершит просвещение. Разумеется, для этого печать должна быть свободна, суд независим и личность неприкосновенна. («Никто не может быть взят под стражу без того, чтобы в 24 часа ему были объявлены причины его задержания».) Правосудие должно отправляться только судом присяжных. Свобода создания ассоциаций и союзов, того, что впоследствии стало называться гражданским обществом, должна стать полной. Граждане равны перед законом.Нет нужды пересказывать здесь содержание этих конституционных проектов, они широко известны. Достаточно заметить, что они поразительно напоминают конституцию Соединенных Штатов (только вместо института президенства предлагалась конституционная монархия и рабство было запрещено законом). В принципе совпадало практически все, начиная от религиозной терпимости («все вероисповедания свободны») и до принципа федеративного устройства страны (вместо унитарной империи). «Федеральное или союзное правление, - писал Сергей Трубецкой, - одно соглашает величие народа и свободу граждан»101. Проект Муравьева предполагал административное разделение федеральной России на 14 держав и две области, каждую со своим двухпалатным парламентом и «начальником державы». (В руках федеральной власти оставались внешние сношения и надзор за общим ходом судопроизводства и соблюдением конституции.)
Важнее всего для нас здесь, однако, что в декабристском варианте русской истории (даже в стоявшей особняком «Русской правде» Пестеля с ее пристрастием к республике и унитаризму, резко отличающим ее от проектов Муравьева и Трубецкого) пропасть между патрицианской Россией и плебейским «народом» исчезала напрочь. «Не может в России более существовать, - писал Пестель, - позволе-
Там же. С. 170.
Там же. С. 190. (Выделено автором).
ние одному человеку иметь и называть другого своим крепостным рабом. Рабство должно быть решительно уничтожено, и дворянство должно непременно навеки отречься от гнусного преимущества обладать другими людьми»[135].
Соответственно не было больше нужды ни в особой категории «народности», включенной в государственную идеологию, ни в самой такой идеологии, ни в вечных спекулятивных гаданиях по поводу того, что на самом деле думает «народ» о мире, о России и о самом себе. Каждые несколько лет народ свободно высказывал бы то, что он думает, на всеобщих выборах, точно так же, как на выборах волостных, уездных и «державных», не говоря уже о независимой от государства прессе и об «ассоциациях и союзах», в которых он должен был составлять большинство.Вместе с пропастью между двумя Россиями исчезала и нужда в противопоставлении России Европе, православия «еретическому» западному христианству, российской «духовности» европейскому «мещанству» и внутри страны - «русского нерусскому». Иначе говоря, исчезала нужда во всём, что, начиная от Ивана Аксакова и кончая Вадимом Кожиновым, представляет суть славянофильской традиции. Не было, одним словом, необходимости в истерическом подчеркивании уникальности России, очевидно проистекающем из комплекса неполноценности. Просто потому, что самого этого комплекса не было бы, как нет его сегодня у немцев или у англичан. Без злокачественного и агрессивного национализма откуда было бы взяться сверхдержавной болезни? И тем более фантомному наполеоновскому комплексу?А что было бы? Просто еще одна европейская великая держава, возможно, и более свободная и политически прогрессивная, нежели ее соседи. Повторилось бы, другими словами, то, что произошло с Россией в конце XV века в ее Европейском столетии, которое так подробно описано в первой книге трилогии.Разумеется, это не избавило бы страну от обычных в тогдашней Европе откатов, кризисов, политических драм и разочарований. Залогом тому служило хотя бы противоречие между конституционными проектами Муравьева и Трубецкого и «Русской правдой» Пестеля, их упорное подозрение, что он вовсе «не Вашингтон, а Буонапарте», И все-таки согласитесь, это была бы совсем другая русская история. К сожалению, однако, ей не суждено было состояться. Потенциальные отцы-основатели европейской России оказались, в отличие от отцов-основателей европейской Америки, насильственно изъяты из обращения. И началось двухвековое путешествие расколотой на непримиримые половины страны в средневековом пространстве.
Ибо разгром декабризма был вовсе не только несчастьем для нескольких сот великосветских и офицерских семей. Это была катастрофа для великой страны: она оказалась обезглавленной, прошла, можно сказать, через клиническую смерть. Удивительно ли, что очнулась она от смертельного сна, на три десятилетия накрывшего ее жандармской шинелью Официальной Народности, с совершенно другими представлениями о патриотизме?
Глава девятая Как губили петровскую Россию
Официальной Народности
Мы уже слышали это от Александра Пыпина, закаленного литературоведа, увековечившего свое имя введением в оборот этого самого термина. «Даже сильные умы и таланты сживались с нею, - объяснил он нам, - усваивали ее теорию. Настоящее казалось решением исторической задачи, народность считалась отысканною, а с нею указывался и предел стремлений»103. Владимир Соловьев тоже, как мы помним, указал нам на «внутреннее противоречие между требованиями истинного патриотизма, желающего, чтобы Россия была как можно лучше, и фальшивыми притязаниями национализма, утверждающего, что она и так всех лучше»104.
Фантасмагория
'103 Пыпин AM. Характеристики литературных мнений отго до 50-х гг. Сп6., 1909. С. 102. 104 Соловьев B.C. Сочинения: в 2 т. Т. 1. С. 444.
Вот это и случилось с Россией, покуда находилась она в состоянии клинической смерти, практически лишенная интеллектуальной
элиты. Патриотизм оказался подменен в ней национализмом. Если бы термин этот не был так безнадежно скомпрометирован своей связью с экономикой, можно было бы сказать, что русская интеллигенция оказалась «национализированной».
Отождествив «народность» с «патриотизмом», начальство приказало считать пропасть между двумя Россиями несуществующей. И новая поросль интеллектуальной элиты, выросшая под сенью государственного патриотизма, оказалась в плену у этой фантасмагории. С оговорками, с поправками, с исключениями, но она с нею согласилась. Здесь был первый и самый глубокий корень духовной трагедии, погубившей петровскую Россию в роковое десятилетие 1908 -1917 годов.
И когда Джеффри Хоскинг много лет спустя недоуменно замечает, что по какой-то причине «ни один член Временного правительства так никогда и не понял, почему крестьяне в солдатских шинелях покидали окопы и отправлялись домой»[136], объяснение этому поразительному феномену, не имевшему аналогов ни в одной другой воюющей армии, лежит именно в фантасмагории Официальной Народности. Просто члены Временного правительства, агитировавшие вместе со всей национально ориентированной интеллигенцией за «войну до победного конца», и крестьяне в солдатских шинелях жили, как и в прежние века, в разных странах, а думали, что живут в одной. Первых обуревал «патриотизм», а вторые шли делить землю. Удивительно ли в самом деле, что Ленин, проживший почти всю сознательную жизнь в эмиграции и совершенно чуждый патриотической фантасмагории, это понимал, а члены Временного правительства, плоть от плоти национально ориентированной интеллигенции,- нет?
Четырнадцать лет спустя после своего постыдного бегства из Петрограда , Керенский за ланчем в Лондоне со знаменитым магнатом британской прессы лордом Бивербруком, так ответил на его вопрос, могло ли Временное правительство остановить большевиков, заключив сепаратный мир с Германией: «Конечно, мы и сейчас были бы в Москве». И когда изумленный лорд спросил, почему же они этого не сделали, ответ был поистине потрясающим: «Мы были слишком наивны»[137]. Этот ответ (вместе с другими ему подобными) заставил британского историка Орландо Фигеса прийти к совершенно естественному заключению: «Основательней, чем что бы то ни было, летнее наступление [1917-го] повернуло солдат к большевикам, единственной партии, бескомпромиссно стоявшей за немедленный конец войны. Если бы временное правительство заняло такую же позицию и начало переговоры с немцами, большевики никогда не пришли бы к власти»[138].
Вот вам, кстати, и ответ на вопрос о действительной роли большевиков в убийстве петровской России. Нет, они не выиграли схватку за власть. Национально ориентированная интеллигенция ее проиграла. Большевики действительно были лишь пешками в этой фатальной игре. И пройти в ферзи смогли они лишь благодаря странной политической наивности, по признанию самого Керенского, «ладей» и «слонов», делавших в тогдашней России политику.
Но разве могло быть иначе, если две России, говоря на разных языках, просто друг друга не понимали? В 1910-е точно так же, как в 1830-е. Один эпизод того же лета 1917-го, когда Керенский скомандовал то самое фатальное наступление на юго-западном фронте, расскажет об этом лучше иных томов. Читатель, я полагаю, знает, что армия в то лето Керенского боготворила. Он был без всякого преувеличения национальным лидером России. Британская сестра милосердия с изумлением наблюдала, как солдаты «целовали его, его мундир, его автомобиль, камни, на которые он ступал. Многие вставали на колени, молились, другие плакали»[139].
Они ждали от него слова, что переговоры о мире начались, что сроки назначены и к осени они будут дома. Ясно было, что Керенский для них - тот самый «царь», которого ожидали они столетиями и который наконец-то пришел даровать им мир и землю. Потому-то и испарилось мгновенно все их благоговение, едва услышали они вместо этого стандартную речь о «русском патриотизме» и пламенный призыв воевать до победного конца. Он сам описал в
своих мемуарах сцену, которая за этим последовала (еще раз доказав, что и полвека спустя не увидел пропасти, отделявшей его и его соратников от другой, крестьянской России, которая жила совсем иными представлениями о мире, о себе и о начальстве).
А сцена была такая. Солдаты вытолкнули из своих рядов товарища, самого, видимо, красноречивого, чтобы задал он от их имени вопрос Министру-Председателю. Вопрос оказался на засыпку. «Вот вы говорите, что мы должны германца добить, чтобы крестьяне получили землю. Но что толку мне, крестьянину, от этой земли, если германцы меня завтра или через неделю убьют?» Не было у Керенского ответа на этот совершенно естественный для крестьянина вопрос. И тогда он приказал офицеру отправить этого солдата домой: «Пусть в его деревне узнают, что трусы русской армии не нужны». Ошеломленный офицер, не веря своим ушам, даже не нашелся, что ответить. Солдат от неожиданности потерял сознание109.
Затруднение офицера понятно. Он ровно ничего не смог бы сделать, покинь тем же вечером его часть окопы и отправься по домам (что, кстати, многие воинские части и делали - в самый разгар наступления). Фигес, ссылаясь на этот эпизод, не мог удержаться от замечания: «Керенский видел в солдате, задавшем ему вопрос, исключение, счел его уродом в армейской семье. Он явно не понимал, что миллионы других думают так же»110. Я вижу здесь ярчайшее свидетельство того, до какой степени не слышали, не понимали друг друга две России - даже столько десятилетий спустя после того, как николаевские идеологи впервые отождествили «народность» с патриотизмом.
I Глава девятая
Славянофильская ' фантасмагория
Но лиха беда начало. То, что по казенной своей бездарности не смогла вкоренить в подрастающую новую элиту Официальная Народность, увековечила конкурирующая националистическая
The Kerensky Memoirs: Russia and History's Turning Point. London, 1965. Figes 0. Op. cit. P. 415.
идеология, свободная, «хоровая», по выражению Герцена, Русская идея. Если государственный национализм с жандармской прямотой декларировал, что народность/«патриотизм» снимаете повестки дня вопрос о пропасти между двумя Россиями, то славянофилы, понимая фальшь казенного решения вопроса, перевернули проблему, поставленную декабристами, с ног на голову.
Да, признали они, пропасть существует, но происходит она из того, что образованная Россия, соблазненная Западом и изнасилованная Петром, изменила заветам «народного духа», отреклась от древнего национального предания, по сути, предала свой народ. И потому заполнить эту пропасть можно было отныне лишь одним способом. Образованной России предстояло раскаяться в своей гордыне и в западнической петровской ереси и преклониться перед предполагаемой «народною правдой». Не ей, изменнице, просвещать было «простой народ», а ему, «народу», в его московитской средневековой темноте просветить образованную Россию.
Ибо, как слышали мы уже от Константина Аксакова, «вся мысль страны пребывает в простом народе». И, как объяснил нам вполне серьезно Достоевский, «мы, то есть интеллигентные слои нашего общества, теперь какой-то уж совсем чужой народик, очень маленький, очень ничтожненький... это мы должны преклониться перед правдою народной и признать ее за правду даже в том ужасном случае, если она вышла бы отчасти из Четьи Минеи». И как поучал нас, вспомним, Бакунин, «народ наш, пожалуй, груб, безграмотен, но зато в нем есть жизнь, есть сила, есть будущность, он есть, а нас,
собственно, нет».
*
Разумеется, вся эта славянофильская фантасмагория была, как мы уже знаем, заимствована у германских тевтонофилов, противопоставивших в начале XIX столетия французскому рационализму и наполеоновским армиям мистическую концепцию «Volk» (по немецки простого народа) как носителя высшей первозданной мудрости, утраченной в иллюзиях века Просвещения. Мы помним, как талантливо адаптировали эту романтическую концепцию славянофилы к совершенно непохожей на немецкую российской реальности. Последствиям этой адаптации суждено было стать роковыми.
Генрих Гейне, на себе ощутивший её силу, предупреждал в 1830-е французов, что они недооценивают власть идей. «Философская концепция, зачатая в глухой тиши профессорских кабинетов, - писал он, - может разрушить цивилизацию». Вспоминая о предупреждении Гейне, сэр Исайя Берлин заметил, что «наши [современные] философы странным образом даже не подозревают об этом опустошительном эффекте идей»111. Историки, боюсь, тоже, добавлю от себя.
Так или иначе, уже полтора десятилетия спустя после интеллектуальной катастрофы, вызванной крушением декабризма и порожденным им идейным вакуумом, когда, как вспоминал Герцен, не только «говорить было опасно», но и «сказать было нечего», когда, другими словами, подрастающая культурная элита, оглушенная и растерянная, оказалась особенно уязвимой к любой фантасмагории, очутилась она под огнем разрушительной славянофильской парадигмы. Ей предложен был совершенно новый взгляд на мир и на свою страну. Согласно этому взгляду, Запад «гнил», а России, сохранившей свою уникальную веру, полагалось его спасать. Согласно ему, самодержавие оказывалось «самой свободной формой правления» (мы слышали, как запоздало повторил это уже в 1998 году Кожинов), а высшим расцветом личности предполагалось ее полное растворение в коллективе (общине). И судьба наших единоплеменников «братьев-славян», как и вообще «идея славянства должна быть высшею идеей, выше свободы, выше науки, выше просвещения»112. Словно бы не в Европе все это происходило, а в племенной Африке.
Опустошительный, по словам Исайи Берлина, эффект комплекса идей, который, по сути, увековечил государственно-патриотическую Официальную Народность, был в том, что он окончательно разрушил декабристскую естественность и цельность политического мировосприятия культурной элиты России, заменив ее племенной солидарностью.
Дал он также авторитетную интеллектуальную санкцию и оправдание фантасмагорическим средневековым представлениям о мире, о стране и - самое главное - о «народе». Представлениям,
The New York Times. 1997, Nov. 7.
Цит. по: Соловьев B.C. Сочинения: в г томах, т. 1. С. 327.
которые без такой санкции не приняли бы всерьез ни бюрократы, ни тем более серьёзные мыслители. Кончилось всё тем, и я постараюсь это еще раз сейчас показать, что, пусть по частям, по кусочкам, но проглотила славянофильскую наживку практически вся русская культурная элита. Включая постниколаевских западников, оказавшихся в конечном счете «националистами с оговорками».
Глава девятая Как губили петровскую Россию
реформаторы»
Первыми жертвами этой гремучей смеси из двух средневековых фантасмагорий, казенной и романтической, пали «молодые реформаторы», пришедшие в правительство в конце 1850-х, в годы надежд и очарований, когда все, чего так недоставало три десятилетия назад декабристам, вроде бы наконец в России сбывалось. Эта блестящая плеяда сорокалетних (братья Милютины, Сергей Зарудный, Андрей Заблоцкий, Александр Головнин, Константин Грот, Петр Семенов), выпускники лучших лицеев и университетов страны, вылетевшие из-под крыла самых либеральных членов императорской семьи, великого князя Константина и великой княжны Елены, принесла с собою неудержимый реформаторский порыв, административную энергию, принципиально новые идеи и свежую кровь, а главное, всеобъемлющий план реформы русской жизни.
Поначалу могло даже показаться, что декабристы воскресли. Или по меньше^ мере, что и впрямь явилось на российской сцене второе их поколение. Герцен в знаменитой статье «Через три года» пошел так далеко, что и самого Александра Николаевича причислил к молодым реформаторам113. Как сказал один из ораторов на банкете, организованном Кавелиным 28 декабря 1857 года: «Господа, новым духом веет, новое время настало. Мы дожили, мы присутствуем при втором преобразовании России!»114.
«Молодые
Глинский В.В. Цит. соч. С. 539. Там же. С. 547.
Да и сами вернувшиеся с каторги декабристы (их амнистировали в 1858 году, хотя и не разрешили жить в столицах) словно бы подчеркивая эту параллель с молодыми реформаторами, энергично включились в освободительную кампанию - Е. Оболенский в Калуге, М. Муравьев-Апостол в Твери, И. Анненков и А. Муравьев в Нижнем Новгороде.Конечно, «просвещенных бюрократов», как назвал их уже знакомый нам американский историк Брюс Линкольн, посвятивший им книгу «В авангарде реформ», тотчас и отдали под надзор бюрократических волков старого режима. Но все равно контраст с подагрическими николаевскими старцами, с этими, по выражению Герцена, «мозолями правительства», которые на протяжении целого поколения председательствовали над огромной молчащей страной, был так разителен, что публика молодых реформаторов обожала.
У них было, казалось, всё, без чего задыхались декабристы. В первую очередь общественное мнение страны, которое с наступившей гласностью сталомогущественным лобби реформ. Если помнит еще читатель «Московские Афи-ны» конца 1480-х, о которых говорили мы в первой книге трилогии (повторившиеся, кстати, на наших глазах ровно четыре столетия спустя, в конце 1980-х), то ему нетрудно будет представить себе, что именно происходило тогда в России. Напомню лишь уже знакомую нам реплику совсем не сентиментального Льва Николаевича Толстого: «Кто не жил в 1856 году, тот не знает, что такое жизнь, все писали, читали, говорили, и все россияне, как один человек, находились в неотложном восторге».
Д.А. Милютин
Никакой больше не было нужды в подпольных диссидентских кружках, в конспирации, в секретах. И жандармов опасаться не приходилось. Без всякого офицерского пронунциаменто могли теперь вершить политику наследники декабристов. Могли, если бы захотели
реализовать многое из того, о чем лишь грезили в своих конституционных проектах Никита Муравьев и Сергей Трубецкой, по крайней мере, ввести это в политический, как теперь говорят, дискурс.
Предводитель тверского дворянства Алексей Унковский писал в поддержку таких проектов: «Лучшая, наиболее разумная часть дворянства готова на значительные, не только личные, но и сословные пожертвования, но не иначе как при условии уничтожения крепостного права не для одних лишь крестьян, но и для всего народа»115. «Крестьянский вопрос касается не только уничтожения крепостного
права, но и всякого вида рабства», - вторил ему депутат от новгородского дворянства Косаговский[140]. Это был уже, согласитесь, действительно язык декабристов.
Но лучше всех, пожалуй, описал тогдашнее состояние умов главный покровитель «молодых реформаторов» в правительстве, министр внутренних дел Сергей Ланской, делясь в письме императору своими впечатлениями от беседы с одним из дворянских депутатов: «Он положительно высказал, что помышляет о конституции, что зта мысль распространена повсеместно в умах дворян и что, если правительство не внемлет такому общему желанию, то должно будет ожидать весьма печальных последствий»117.
Что же сделали со всем зтим бесценным капиталом наши «новые декабристы»? Нечто прямо противоположное тому, чего от них ожидали еще живые их предшественники. Такой проницательный наблюдатель, как Бисмарк (который был в ту пору, если помнит читатель, прусским посланником в Петербурге), лично знакомый с «молодыми реформаторами», разгадал их раньше других. «Николай Милютин, - писал он, -
115 Цит. по: Иорданский Н.И. Конституционное движение бо-х годов. Спб., 1906. С. 69 (выделено мною. — А.Я.).
самый умный и смелый человек из прогрессистов, рисует себе будущую Россию крестьянским государством - с равенством, но без свободы»118.
И тот же Брюс Линкольн не без удивления замечает, что в то время, как «европейцы практически единодушно видели в самодержавии тиранию, за разрушение которой они боролись в революциях 1789,1830 и 1848 годов... русские просвещенные бюрократы приняли институт самодержавия как священный»119. Всякая параллель с конституцией Соединенных Штатов, на которой так страстно настаивали три десятилетия назад декабристы, сознательно отвергалась. Как бы пародируя знаменитую фразу своего современника президента Линкольна «Power of the people, for the people and by the people» (власть народа, для народа и через посредство народа), Николай Милютин воскликнул однажды по-французски «Tout pour peuple, rien par le peuple» (все для народа, ничего через посредство народа)120.
И вообще не только призыв к конституции, но даже к любому ограничению самодержавия представлялся им невыносимой ересью, подозрительным смутьянством, заговором дворянских Робеспьеров, т.е. точно тем же, чем казались декабристы Николаю. «Никогда, никогда, никогда, пока я стою у власти, - говорил Милютин, - я не допущу каких бы то ни было притязаний дворянства на роль инициаторов в делах, касающихся интересов и нужд народа. Забота о них принадлежит правительству, ему и только ему одному...»121 Удивительно ли в этом случае, что, как замечает русский историк, «при благосклонной поддержке Милютина славянофилы получают значительное влияние в губернских комитетах»?122
Вот заключения двух русских историков о результатах этой трагической метаморфозы. «Даже самые прогрессивные представители правящих сфер конца пятидесятых годов, - говорит Н.И. Иорданский, - считали своим долгом объявить непримиримую войну обще-
Там же. С. 65 (выделено мною- АЛ.).
W. Bruce Lincoln. In the Vanguard of Reform. Northern Illinois University Press, 1982. P. 174 (Выделено мною-АЛ..)
Иорданский Н.И. Цит. соч. С. 64.
Цит. по: Глинский S.S. Цит. соч. С. 572.
ству»123. А вот Б.Б. Глинский: «догматика прогрессивного чиновничества не допускала и мысли о каком-либо общественном почине в деле громадной исторической важности, где был поставлен вопрос о всех интересах отечества. Просвещенный абсолютизм - дальше этого бюрократия не шла... Старые методы управления оставались в полной силе и новое вино жизни вливалось в старые мехи полицей- ско-бюрократической государственности»124.
Но как понять эту метаморфозу, как объяснить, почему «новые декабристы» оставаясь реформаторами и западниками, более того, архитекторами Великой реформы, оказались тем не менее такой полной, такой безнадежной противоположностью старым? Что случилось с русской культурной элитой конца 1850-х за одно поколение, отделявшее их от конфронтации на Сенатской площади? Если верить Грамши, для того чтобы ответить на такой вопрос, надо сперва спросить, какие идеи руководили в это время умами. Спросим - и ответ окажется очевидным.
Старые декабристы руководились европейскими идеями свободы и просвещения. Новые - славянофильской интерпретацией немецких романтиков, восставших против рационализма XVIII века. Разве не отсюда убеждение Милютина, угаданное Бисмарком, что Россия должна быть крестьянской страной с равенством, но без свободы? Разве не отсюда апофеоз самодержавия и убеждение, что дворянство, презренная «публика» в славянофильской интерпретации, может лишь испортить дело, ибо «вся мысль страны в простом народе»? Разве не отсюда предпочтение общинного землевладения обычному в Европе землевладению частному?
Заметьте, уто Унковский уже тогда понимал это точно так же, как десятилетия спустя поймёт Столыпин. «Крестьяне, - писал он императору вместе с четырьмя другими дворянскими депутатами (харьковскими Хрущовым и Шретером и ярославскими Дубровиным и Васильевым) только тогда почувствуют быт свой улучшенным, когда они ... сделаются собственниками, ибо свобода личная невозможна без свободы имущественной»125.
Иорданский ИМ. Цит. соч. С. В6.
Глинский Б. Б. Цит. соч. С. 572-573-
Иорданский ИМ. Цит. соч. С. 86.
17 Я нов
А вот «новые декабристы» почему-то оказались к этой элементарной идее глухи. И мысль о федерации вместо унитарной империи, дорогая, как мы помним, старым декабристам, была им так же чужда, как мысль о конституции или о крестьянине-собственнике. До такой степени чужда, что совет Николая Милютина во время польского восстания 1863 года оказался прямо противоположен совету Герцена (и, заметим в скобках, твердому убеждению старых декабристов, что Польше должна быть предоставлена независимость). Необходимо немедленно и любой ценой, писал он царю, покончить с польскими волнениями, «иначе мы не только потеряем Польшу, но нам придется иметь дело со всей Европой»126.Короче, все три роковые «мины» замедленного действия, которым суждено было полвека спустя взорвать монархию в России, «разрушить цивилизацию», по словам Гейне, заложены были в основание Великой реформы именно ими, молодыми реформаторами, в которых либеральное дворянство 1850-х так страстно хотело видеть наследников декабризма. И заложены совершенно очевидно под влиянием гремучей смеси из двух «патриотических» фантасмагорий - славянофильства и Официальной Народности.Эти люди не только не использовали уникальный исторический шанс уничтожить пропасть между двумя Росиями, в чем, собственно, суть декабризма и состояла, они углубили и расширили ее до размеров катастрофических. И понимал это тогда вовсе не один Герцен, подчеркнувший в открытом письме императору, что Великая реформа «не распутав окончательно старого узла, навязала к нему столько новых петлей, что если теперь не поспешить распутать их общими народными силами, узел в скором времени затянется до того, что его разве мечом или топором перерубишь»127. О том же писали царю и пятеро уже цитированных смельчаков, пророчествуя, что Россия встала «на путь насилия, борьбы и печальных последствий»128.
Да ведь никакой особой проницательности и не надо было тогда, чтобы все это понять. Это било в глаза каждому, не потерявшему
Bruce Lincoln W. Op. cit. С. 176.
Иорданский Н.И. Цит. соч. С. 124.
«человеческого здравого смысла», говоря словами Зинаиды Гиппиус. Ну подумайте, в момент, когда образованной России дарован был суд присяжных, крестьянин становился «мертв в законе», вообще лишался статуса субъекта права. В момент, когда городская Россия устремилась к капитализму, Россию крестьянскую сознательно погружали во тьму средневековья. В момент, когда во Франции и в Германии вводилось всеобщее избирательное право, а в Англии даже консерваторы агитировали за его расширение, в России торжественно подтверждалась чугунная незыблемость самодержавия. Право, работа просвещенных бюрократов странным образом выглядела бессознательным «разрушением цивилизации».
И никак, согласитесь, невозможно объяснить эту разрушительную работу, нежели ослеплением молодых реформаторов славянофильской мистификацией, идеологическим искажением реальности в умах вполне прагматичных и замечательно талантливых администраторов. Попробуйте, если сможете, предложить другое объяснение, кроме того, что в решающий, в поворотный в истории России моменту руля ее оказались «национально ориентированные» интеллигенты. Я не сумел...
Не пройдет и десятилетия, как обожаемое ими самодержавие хамски вышвырнет «молодых реформаторов» из правительственных кабинетов. И станут они недоумевать, что произошло с их детищем, Великой реформой и с Россией - и с ними самими. Предпоследний из плеяды «просвещенных бюрократов» Александр Головнин, министр народного просвещения, устраненный из правительства в середине 186о-х^один лишь Дмитрий Милютин усидел в военном министерстве до следующего кризиса), печально, как мы помним, сетовал: «мы пережили опыт последнего николаевского десятилетия, опыт, который нас психологически искалечил»[141].
Головнин оказался единственным из молодых реформаторов, кто хоть в такой туманной форме признал мощь идеи, перевернувшей их жизнь - и жизнь России. Беззаветно доверившись самодержавию, они (точно так же, заметим в скобках, как полвека спустя Столыпин) никогда не искали общественной поддержки, которая
одна могла обеспечить им независимую политическую базу - и защиту от придворных интриганов. Более того, они сделали все, чтобы растоптать либеральное дворянство и его конституционные устремления. В результате они, едва пропала в них нужда, подверглись остракизму, оказались изолированными и безжалостно вышвырнутыми из политического истеблишмента. Кавелин, который так ничего и не понял, жаловался недоуменно: «Нас больше не слушают, мы «изменники родины», мы тайные враги самодержавия, жалкие утописты и опасные мечтатели»[142].
Таков был конец несостоявшихся «новых декабристов», первых «национально ориентированных» интеллигентов в русской истории, жертв средневековой идеи, искалечившей, по признанию Головни- на, их судьбу и судьбу их страны. Старые декабристы хоть ушли в каторжные норы с достоинством, оставив по себе светлую память, став навеки заветным и священным воспоминанием европейской России. А этих просто забыли...
Глава девятая
Второе поколение какгубили
Они, однако, оказались далеко не последними жертвами славянофильской идеи. Куда более знаменитые имена следовали за ними, многие из тех, кто вошел в непременную обойму учебников истории и энциклопедий, имена блестящих мыслителей и оппозиционеров, счастливо избежавших ловушки, в которую угодили молодые реформаторы. Они так же безоговорочно отвергли самодержавие, как те его приняли. Но от загадочной и бесконечно интригующей «народности», завещанной им идеологией этого самого самодержавия, и от крестьянской общины, которая по догадке славянофилов составляла ядро этой таинственной «народности», отказаться они не смогли. И от славянофильского презрения к обществу и его «болтливым парламентам», увы, тоже. И в священную миссию России, которой предстояло, как думали те же славянофилы, спасти Европу от этих парламентов, одарив ее своей исконной «народной» мудростью, верили они свято.
Список этих всем известных имен включал и Бакунина, и Герцена, и Чернышевского, и Добролюбова, и Михайловского, и воспитанное ими мощное народническое движение, и выросшую из него партию эсеров/трудовиков, и, конечно же, лидеров этой партии Керенского и Савинкова. Все они, каждый по-своему, пытались разгадать секретный код николаевской «народности», добраться до сути того, что так и осталось для постдекабристских поколений русской культурной элиты тайной за семью печатями - по другую сторону пропасти, в той, темной для них, неизвестной им России. Ключевое слово здесь разгадать.
Переходной фигурой тут выступил, наверное, Бакунин, который, как мы видели, с одной стороны, бунтарем был неисправимым, а с другой, так никогда и не смог побороть в себе слабость к славянофильской версии самодержавия. Мучительное недоумение сквозит по этому поводу у русского историка, когда он цитирует письмо Бакунина из сибирской ссылки Герцену, где «знаменитый анархист с восторгом отзывается о программе генерал-губернатора Муравьева-Амурского, четвертый пункт которой гласил: народное самоуправление с уничтожением бюрократии, а в Петербурге не конституция и не болтливый дворянский парламент, а железная диктатура под эгидой самодержавия»131.
У Чернышевского уже и следа от этой бакунинской слабости к самодержавию не осталось, а славянофильская вера, преобразованная во «врожденный социализм народа», - по-прежнему там. К концу столетия дело дошло до того, что, как писал в 1895-м Плеханову Энгельс: «Положительно стало невозможно разговаривать с нынешним поколением русских. Все они верят в коммунистическую миссию России, якобы отличающую ее от всех прочих варварских [infidel] наций»132. Благодаря контексту истории русского национализма, читатель теперь знает, откуда произошла эта вера.
■31 Там же.
132 Cited in Pipes R.. Struve. Liberal on the Left. 1870-1905. Cambridge, 1970. P. 97.
Третье поколение Как губили петровскую Россию
Еще более драматично сложилась судьба третьего поколения «национально ориентированной» интеллигенции, того, которому суждено было завершить процесс «разрушения цивилизации», начатый Официальной Народностью. Тут самой блестящей и представительной фигурой безусловно был Петр Струве, голубой воды западник (по свидетельству Пайпса, он писал: «Я люблю европейскую культуру, как солнце, как тепло и воздух... я не стану обсуждать свое западничество, как любой приличный человек не станет [публично] обсуждать свою нравственность»133. По свидетельству В. Базарова, еще в 1890-е Струве говорил о выражении «Святая Русь» как о «славянофильской мякине»134.
Петр Бернгардович уже беспощадно отвергал и священное для «молодых реформаторов» самодержавие, и священную для народников крестьянскую общину. Более того, он был самым ярким либералом российского западничества - и в борьбе против самодержавия, и в борьбе против народничества (и в том и в другом Ленин перед революцией пятого года был решительно на вторых ролях по сравнению со Струве).
Но и он в конечном счете проглотил славянофильскую наживку. Отчасти случилось это, надо полагать, под влиянием Ивана Аксакова, который был кумиром его юности, отчасти из-за общей интеллектуальной ситуации 1900-х, которая - со своим Цусимским позором и разочарованием в революции - словно повторяла, как мы видели, ситуацию 1870-х после крымской катастрофы и разочарования в Великой реформе.
И конечно же, как и в 1870-е, когда впервые встала перед славянофильством проблема собственной геополитики, едва лишь столкнулась с этой проблемой «национально ориентированная» интеллигенция в 1900-е, на первый план тотчас и всплыло, что бы вы думали? Разумеется, то самое, что запрограммировано было в контексте истории русского национализма со времен Погодина: судьбы брать-
Ibid. Р. 64.
Бюллетени литературы и жизни. 1915-16» ноябрь*!!, N 6. С. 285.
ев-славян, Константинополь, проливы. Это значит, задним числом заключает Пайпс, что «прежде, чем он [Струве] был чем бы то ни было другим - либералом ли, социал-демократом или, как он сам себя позже называл, либеральным консерватором - он был монархистом, славянофилом и панславистом». Странная, согласитесь, характеристика для безусловного западника и «русского европейца», каким рисовал его сам же Пайпс, посвятившей Струве целую книгу[143].
Путаница, впрочем, не удивительная. Не поняв феномена «национально ориентированной» интеллигенции, Пайпс просто капитулировал перед сложностью проблемы. Ну как в самом деле объясните вы удивительное соседство двух таких полностью противоположных по духу заявлений Струве: «Меня, старого западника, на славянофильской мякине не проведешь» и «Я западник и потому - националист»?[144]
Но ведь точно так же, едва пренебрежем мы идеями Грамши и Соловьева, невозможно станет объяснить мировоззрение не только Струве, но и вообще всех западников пореформенной России. Ведь и Милютин, и Бакунин, и Чернышевский, и Бердяев тоже, как Струве, были западниками и тоже словно бы отвергали весь славянофильский антураж - кроме одного какого-нибудь его ключевого аспекта, который неожиданно оказывался для них столь же священным, как для самих славянофилов, практически сводя на нет всё их западничество. Такова, как видим, оказалась мощь идейного наследства николаевской Официальной Народности, увековеченная славянофильством.
Я не берусь объяснить, по какой причине пренебрегла этим словно бы очевидным обстоятельством западная историография России и каким образом не нашлось в ней места ни сверхдержавному соблазну, терзающему, как мы видели, российскую элиту вплоть до сегодняшнего дня, ни даже замечательным прозрениям Соловьева. Мне странно, конечно, что в почти тысячестраничном опусе Орландо Фигеса Соловьев упомянут вскользь, да и то лишь как религиозный философ, а в двухтомнике Пайпса и вовсе не упомянут.
Какой-нибудь совершенно ничтожный Саблер присутствует, даже с именем-отчеством Владимир Карлович, как положено, а Соловьева нету. Не знаю почему. Знаю лишь, что покуда западные историки России будут игнорировать роль славянофильской фантасмагории и ее решающее влияние на постниколаевскую культурную элиту, так и будут они, подобно Пайпсу, блуждать в трех соснах, рисуя ее лидеров как западников и славянофилов одновременно.
Что касается Струве, то никаким, конечно, исключением из правила он не был. Просто тот аспект славянофильской идеи, которым соблазнилось его поколение русской интеллигенции, касался войны. Той самой, которой, какточно предвидел Соловьев, суждено было оказаться последней.
Глава девятая
{{ Рзз п VШ е Н И е Как г^или петровскую Россию
цивилизации»
Впрочем, и начиналась-то вся эта история, как помнит читатель, тоже с войны. Но тогда, в середине XIX века, главным двигателем «военной партии» выступала крестоносная одержимость самодержца и имперская мечта его идеологов о Царьграде. В ту пору Россия была «физически еще довольно крепка», по словам Соловьева, чтобы выдержать катастрофу, проистекшую из крымского поражения, и ответить на нее полуевропейской полуреформой. Но уже и тогда ведь ясно было, как сказал тот же Соловьев, что «недуг наш нравственный... Россия больна»137. Я назвал этот недуг сверхдержавным соблазном. Полуреформированная, остановившаяся на полдороге, повернутая лицом к прошлому, жила страна в ожидании беды. Следующей войны во имя славянского дела она могла и не выдержать.
Надо отдать должное Александру II, он не хотел новой войны. Ни следа крестоносной горячки его отца в нем не наблюдалось. Но под боком у него был Аничков дворец, резиденция наследника, который целиком стоял на славянофильской позиции и соответственно больше заботился о судьбе сербов и о Константинополе, нежели о судьбах своей страны. И панславистская пропаганда «партии войны» Ивана Аксакова неистовствовала (до такой степени, что, как мы помним, императору лично пришлось убеждать английского послам том, что он панславистских идей не разделяет и чужой земли не нужно ему ни пяди).
Тем не менее напор «партии войны» и новая патриотическая истерия, обуревавшая элиту страны, уже и тогда, как помнит читатель, оказались непреодолимы. Несмотря на сопротивление императора, Россия ввязалась-таки в Балканскую войну - и опять закончилось все бесславным поражением, которое безусловно назвали бы «дипломатической Цусимой», случись оно тремя десятилетиями позже. Расплатилась страна за него в тот раз мини-гражданской войной, убийством царя, «роковым альянсом» и контрреформой, которые неотвратимо влекли ее к Катастрофе.
И все-таки оба этих грозных предзнаменования и даже прямое предупреждение Соловьева ровно ничему русскую элиту - и правительственную, и оппозиционную - не научили. Болезнь, увы, оказалась неизлечимой. Начиная с января 1908 года, со статьи Струве о «Великой России» (в 1914-м напишет он еще и восторженную статью о «Святой Руси», которую, как мы помним, случалось ему не так уж и давно обзывать «славянофильской мякиной»), страна вступила в полосу новой, последней - патриотической истерии. Только роль Аничкова дворца исполняла на сей раз Государственная дума, а роль старой гвардии Ивана Аксакова - конституционные партии «национально ориентированной» интеллигенции.
Так вот же она перед нами - разгадка парадокса самоубийственного поведения русской культурной элиты, в безумном порыве милитаристского энтузиазма «разрушившей цивилизацию». Историки, как мы видели, пытались его разгадать, исходя из реалий рокового десятилетия 1908-1917 годов. Не получилось. И теперь мы понимаем почему. Окопавшись на своем историческом пятачке, они лишили себя возможности увидеть ретроспективу почти целого столетия националистического развращения русской культурной элиты, столетия, сделавшего этот парадокс неизбежным.
Глава девятая Как губили петровскую Россию
Почти столетие уходила Россия от свирепой диктатуры Николая I, от его сверхдержавных амбиций, от его агрессивного государственного патриотизма, на три десятилетия овладевшего страной. Но вот, судя по вынесенным в эпиграф словам профессора Рязановского, никуда она от этого режима так и не ушла. Вернулась, как говорит Экклезиаст, на круги своя. Рязановский - историк очень осторожный, по его учебнику знакомятся с Россией американские студенты. И если он думает, что за столетие между подавлением декабризма и приходом к власти большевиков политическая модернизация страны не продвинулась ни на шаг, есть, казалось бы, смысл прислушаться к его суждению.
Мы, однако, не хотим прислушиваться. По многим причинам. Но главным образом потому, что даже в отсутствие политической модернизации, даже в том полуевропейском состоянии, в котором жила страна после Великой реформы, даже с отчаянно нищим, как мы видели, крестьянством и жесточайшим полицейско-чиновничьим произволом, все равно оказалась способна Россия на беспримерный культурный прорыв. Она создала всемирно известные школы - литературную, музыкальную, историографическую и художественную. Великие имена Толстого, Достоевского, Чехова, Чайковского, Репина, Ключевского не позволяют нам думать о постниколаевском столетии как об ущербном, тупиковом, обреченном. И тем не менее, как свидетельствуют последующие события, относительное его благополучие и впрямь ведь построено было на песке.
Акт за актом
История беспощадно продемонстрировала нам, что, несмотря на великолепный культурный прорыв XIX века, Россия, лишенная политической модернизации, оказалась действительно обречена повторить весь этот страшный цикл - от Николая до Сталина, от «выпадения» из Европы до полуевропейского перепутья. Причем повторить его в несопоставимо более трагическом варианте, с несопоставимо большими жертвами, серьезно подорвавшими саму жизненную силу народа.
Вот почему теперь, когда Россия снова на том же роковом перепутье и её глухие к истории государственные патриоты снова задумывают очередное «выпадение» из Европы, необыкновенно важно понять столетие, о котором говорит Рязановский, как гигантскую трагедию, обрекшую страну в финале - на самоуничтожение. Ибо перед нами бесценный урок, преподнесенный историей, жестоко «проучившей», как объяснил нам Василий Осипович Ключевский, страну, не желавшую её слышать. Восьми актам этой трагедии и посвящены две последние книги трилогии.
Я постараюсь предельно сжать каждый из этих актов, чтобы драматургия её стала совершенно ясна читателю. Конечно, нынешние реалии совсем не похожи на те, что пройдут сейчас перед нами. Только вопрос, который они ставят, остается прежним: суждено ли сегодняшнему перепутью стать первым актом новой трагедии или многократно «проученная» страна на этот раз все-таки выберет путь политической модернизации? И преследующая ее на протяжении четырех столетий цивилизационная неустойчивость, - наконец, завершится?
Но вот как разворачивалась трагедия постниколаевского столетия акт за актом.
Акт первый. Поколение декабристов, готовое - и способное - уничтожить пропасть между двумя Россиями, дать им возможность снова заговорить на одном языке, воссоединив таким образом страну, разгромлено. В стране образуется интеллектуальный вакуум.
Акт второй. Николаевская диктатура вводит в оборот категорию «народности» -«в качестве кодового обозначения той второй России, что осталась по другую сторону пропасти. Из бездны интеллектуальной катастрофы поднимается чудовище - тёмная националистическая идея, способная «разрушить цивилизацию». Отныне народ превращается для русской культурной элиты в «великого немого», в сфинкса, гигантскую загадку которого «умом не понять» и которую каждое новое поколение будет стараться разгадать по-своему, вкладывая в нее свои, преобладающие в его время стереотипы. Хуже того, связав в уваровской триаде загадочную «народность» с православием и самодержавием, диктатура начинает процесс деевропеи- зации или, если угодно, «национализации» культурной элиты.
Логика тут была простая. Поскольку ни в одной другой великой европейской державе нет ни православия, ни самодержавия, ни вообще государственной идеологии, Россия начинает выглядеть в глазах своей культурной элиты страной ни на кого непохожей, уни- · кальной, неевропейской. Беда усугубляется еще иллюзией военного всемогущества, вирусом сверхдержавной болезни. Деградация патриотизма началась. Еще не поздно преодолеть ее, есть еще время вернуться к рациональной декабристской самокритике, но...
Акт третий. Конкурирующая националистическая идеология, славянофильство, довершает вместо этого процесс деградации патриотизма. Перехватив из рук угасающей Официальной Народности знамя православия и самодержавия как системообразующих структур государства российского, славянофилы добавляют к ним еще два элемента: крестьянскую общину и беззаветную преданность общеславянскому делу, отождествленные ими с Русской идеей. То есть с сакральной миссией России на этой земле. Поскольку ни одно другое европейское государство никакой такой миссии не имеет, а крестьянской общины и подавно, Россия окончательно превращается для своей культурной элиты в страну неевропейскую, в единственный сосуд истинного христианства в мире. Именно это и назвал Соловьев национальным самодовольством (начальной формой того, что именуем мы «национальным эгоизмом»).
Второе поколение славянофилов сделает следующий, ставший теперь логически неизбежным маневр, объявив Россию устами Данилевского и Леонтьева страной антиевропейской. И войну с Европой - единственным инструментом реализации ее сакральной миссии. Все это, не забудем, говорили они вовсе не от своего имени, но от имени «великого немого», полагая именно свой ответ на его вековую загадку последним и окончательным (что, впрочем, не помешало третьему славянофильскому поколению предложить свою собственную разгадку таинственной «народности»: по их мнению, «народ» был на самом деле не столько антиевропейцем, сколько антисемитом).
Акт четвертый. Крымская катастрофа, сокрушившая николаевскую диктатуру, дает России уникальный исторический шанс покончить со всеми этими опасными гаданиями о «народности». Другими словами, довести до ума то, что еще в 1820-е пытались сделать декабристы: дать, наконец, народу возможность заговорить самому. Увы, для архитекторов Великой реформы, молодых реформаторов, очарование декабризма уже безнадежно померкло. Они вышли, по их собственному признанию, из николаевской шинели. Темная идея их уже «психологически искалечила».
Будучи вполне безразличны ко всей сложной мифологической архитектонике этой идеи, они тем не менее твердо усвоили два важнейших догмата славянофильской «народности»: незыблемость в России самодержавия и крестьянской общины. Таким образом, оставаясь русскими европейцами, западниками, оказались они в то же время первым поколением «национально ориентированной» интеллигенции - и пропасть между двумя Россиями стала в результате Великой реформы непреодолимой.
Вот тогда и становится совершенно ясной природа «нравственного недуга», поразившего, по словам Соловьева, страну. Судорога массовой патриотической истерии в 1863 году потрясает ее культурную элиту. Нет больше сомнений в том, что «Россия больна».
Акт пятый. Смутно чувствуя назревающее «разрушение цивилизации», оппозиционная молодежь и ее лидеры пытаются сузить пропасть, отделяющую их от «народа». Сначала ограничиваются они просветительством, а затем яростно атакуют самодержавие как бастион средневековья и народной темноты. Ничего, казалось бы, не остается к этому времени от священных некогда атрибутов «народности»: отвернулись оппозиционеры и от самодержавия, и от православия. И все-таки полностью отречься от разрушительного наследства темной идеи не смогут и они. Средневековая догма славянофилов - крестьянская община как символ уникальности России - по-прежнему начертана на их щите. По-прежнему верят они в ее сакральную миссию, пусть и состоит она теперь для них в том, чтобы спасти Европу светом социализма. Таким образом и оказались народники лишь вторым поколением «национально ориентированной» интеллигенции.
Акт шестой. Пытаясь выжить в ситуации крушения своей внутриполитической стратегии, второе поколение славянофилов обращается к геополитическому аспекту утопии, написав на своем знамени пламенный призыв к крестовому походу против «гнусного ислама» во имя освобождения славянства (а заодно, конечно, Царьграда и проливов). Полувековая теперь уже мистификация продолжается. Соратники Ивана Аксакова по-прежнему уверены, что говорят от лица «великого немого», который, хоть умом его и не понять, должен тем не менее переживать славянскую драму в полном с ними согласии.
После Берлинской конференции 1878 года, истолкованной ими как поворот Европы против России, их неистовство достигает апогея и привычное национальное самодовольство окончательно переходит в национальное самообожание (т.е. в «национальный эгоизм» b его законченной, самоубийственной форме). Вторая судорога массовой патриотической истерии, потрясшая Россию в середине 1870-х, не оставила сомнений, что без новой Великой реформы страна обречена. Вот в такой ситуации и бросает Владимир Соловьев свой одинокий вызов русскому национализму. Поскольку никто не услышал его и не поддержал, в ретроспективе его безнадежная борьба может показаться и донкихотством. Но ведь не закончилась еще покуда история России...
Акт седьмой. Тем временем самодержавие деградирует в свирепый полицейский террор, ввязываясь в совершенно уже никчемную авантюру на Дальнем Востоке. Японская война заканчивается, естественно, Цусимой. Чем ответит теперь страна на этот очередной позор? Реформой, как в бо-е, или контрреформой, как в 8о-е? Страна ответила революцией, последней отчаянной попыткой европейской России остановить свой марш к пропасти. Благодаря Витте, самодержавие себя ограничило, открыв, наконец, пусть с полувековым опозданием, двери Государственной думе. Благодаря Столыпину, началось освобождение крестьян от рабства общинам. Два важных ингредиента славянофильской триады были, казалось, убраны с дороги.
И либералы тоже вдруг обнаружили затянувшуюся на десятилетия славянофильскую мистификацию. Оказалось, что после всех уверенных рассуждений о том, как беззаветно предан «народ» самодержавию и крестьянской общине, и о том, как заключена в нём «вся мысль страны» (по Аксакову), и, наконец, о том, как «просветился он уже давно, приняв в свою суть Христа» (по Достоевскому), ровно ничего мы о нем не знаем. Кроме того, что страшна ярость народная. Страшна именно своей полной, безоговорочной непонятностью.
Самое яркое свидетельство этого жестокого открытия «национально ориентированной» интеллигенции - паническая тирада Гершензона в Вехах: «Народ не чувствует в нас людей, не понимает и ненавидит нас ... Мы для него - не грабители, как свой брат, деревенский кулак; мы для него даже не просто чужие, как турок или француз: он видит наше человеческое и именно русское обличие, но не чувствует в нас человеческой души, и потому он ненавидит нас страстно... Тем глубже ненавидит, что мы свои. Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, - бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной»138. Душераздирающее, согласитесь, открытие.
Акт восьмой. Практически говоря, оставляла эта печальная констатация русской культурной элите два возможных выхода. Один - встать на путь декабристов, начать все сначала. Признать, что целое столетие блуждала Россия темными проселками Русской идеи, избегая магистральной европейской дороги, указанной ей еще в 1820-е. Признать, другими словами» что все цитированные выше гадания о том, чего «хочет народ», гроша ломаного на самом деле не стоили. Что настало, наконец, время новой Великой реформы, целью которой может быть лишь то самое завещанное декабристами воссоединение России.
Для того чтобы встать на этот путь воссоединения, однако, нужно было раз и навсегда отречься от всех славянофильских фантазий, самим себе честно признаться, что ничуть не более уникальна Россия, говоря словами В.В. Путина, которые мы цитировали во вто-
138 D
вехи, м., 1990. с. 89,92.
рой книге трилогии, нежели любая другая европейская страна - разве что слишком уж много времени, энергии и воображения потратила на блуждание по темным имперским проселкам. И согласиться нужно было с Соловьевым, что есть принципиальная разница между «истинным патриотизмом и национализмом, представляющим для народа то же, что эгоизм для индивида»139. Что, повторим, хотя «национальное самосознание есть великое дело, но когда самосознание народа переходит в самодовольство, а самодовольство доходит до самообожания, тогда естественный конец для него есть самоуничтожение»140.
Соловьев указал России этот путь. Столыпин позвал на него страну, не обещая, однако, ничего в случае, если не гарантировано ей для новой Великой реформы двадцать лет мира. Вот чего, однако, не взял он в расчет: оставался еще третий, решающий ингредиент славянофильской триады - лихорадка сверхдержавного соблазна.
Благодаря контрреформам Александра III оказался в распоряжении русской культурной элиты в роковое десятилетие 1908-1917-го и альтернативный выход из положения. Обманный, конечно, выход, гибельный. Тот самый, что уже в середине 1870-х испробовали славянофилы второго поколения. Заключался он в апелляции к империализму «народа», исходя из очередного славянофильского гадания, что столь свято предан «народ» заботам о судьбах единоплеменников, что готов ради их блага забыть и о земле и о мире. И более того, в единодушном порыве пойти умирать за сербов и Константинополь.
Контрреформаторский курс внешней политики Александра III подталкивал именно к такому фантасмагорическому решению вопроса. Добавьте к этому, что трепетали либеральные сердца при мысли о том, что в кои-то^веки не против Европы « во всей ее общности и целостности» станет теперь, вопреки завещанию Данилевского, воевать Россия, но в союзе с либеральными ее державами - против необузданной «тевтонской расы пожирателей славян»141. И если уж готовы на такую войну - в наших, славянских, патриотических инте-
Соловьев B.C. Сила любви. С. 51.
Соловьев B.C. Сочинения: в 2т.Т. i. С. 282.
Апушкин В. Скобелев о немцах. Пг., 1914. С. 27.
ресах - либеральные западные союзники, то России и сам Бог велел на это идти. А там, глядишь, благотворное влияние союзников образует «в духе европейского просвещения» и царскую камарилью. На этом пути, как мы знаем, и ожидала Россию пропасть самоуничтожения.
Глава девятая Как губили петровскую Россию
парадокс
Вот же чего не смогли разглядеть со своего
пятачка цитированные нами историки. Того, что, хотя между 1908 и 1917 годами русская культурная элита действительно стояла на перепутье, но выбор её был практически предопределен. Если молодые реформаторы в 1850-е, когда славянофильская традиция еще не полностью запала в сознание, не отвердела в нём как «идея-геге- мон», оказались решительно неспособны от нее отречься, если не смогли этого сделать даже крутые оппозиционеры 1870-х, то не было, увы, ни малейшего шанса, что окажется на это способным третье поколение «национально ориентированной» интеллигенции. Никак иначе самоубийственное его поведение нам, боюсь, не объяснить (разве что объявив их, подобно Кожинову, масонами, изменниками родины и «агентами влияния» коварного Запада).
Парадокс-то тут был неоспоримый. Либералы, ничего больше, кроме реформы, в домашних делах не искавшие, вдруг безоговорочно встали на сторону контрреформистского курса во внешней политике, уе желая и слышать ни о какой его реформе. Политики, прославлявшие Столыпина как «русского Бисмарка», начали вдруг отчаянно бороться против его установки на двадцать лет мира. Философы, клявшиеся именем Владимира Соловьева, заняли позицию, прямо противоположную тому, чему он учил. Интеллигенты, преклонявшиеся перед декабристами и презиравшие славянофилов, без колебаний предали декабристскую традицию и последовали за теми, кого презирали.
Ну как, право, объясните вы все эти бьющие в глаза противоречия, окопавшись на пятачке одного десятилетия? Можно ли вообще
объяснить их, не отдав себе отчета, что могли все они возникнуть лишь как финальный, заключительный - и смертельный - аккорд векового процесса деградации патриотизма? Того, что начался с возникновения темной националистической идеи в 1830-е и чей уничто- жающий эффект почувствовала страна лишь на исходе мировой войны в следующем столетии?
Вот так и сгубили петровскую Россию.
Нет, прав был сэр Исайа Берлин, не представляют себе наши философы (и историки) убийственного эффекта идей. И даже когда находится человек, в нашем случае Владимир Сергеевич Соловьев, который на пальцах нам этот эффект объясняет, по-прежнему не хотим мы его слушать, и, слушая, не понимаем...
глава первая ВВОДНдЯ
глава вторая У истоков «государственного патриотизма»
глава третья Упущенная Европа
глава четвертая Ошибка Герцена
глава пятая Ретроспективная утопия
Торжество национального эгоизма Три пророчества глава восьмая На финишной прямой глава девятая Как губили петровскую Россию
нализма
ия бешеного
нацио
глава
глава шестая глава седьмая
ДЕСЯТАЯ
Агон
Одиннадцатая Последний СПОр
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Агония бешеного национализма
Даже самые великие политические успехи наши в Азии и в Европе таят в себе нечто трагическое и жестокое... Не повторяем ли мы в новой форме историю старого Рима? Но разница в том, что под его подданством родился Христос, под нашим скорее родится антихрист. Ч Константин Леонтьев
В Англии нет антисемитизма просто потому, что англичане не считают евреев умнее себя.
Уинстон Черчилль
Мы попытались здесь найти ответ на одну из величайших загадок современной истории. Загадка эта, разумеется, не в том, почему практически без выстрела рухнула в одночасье в 1917 году четырехсотлетняя российская империя. В конце концов развалились, не выдержав напряжения мировой войны, и соседние, даже более древние континентальные империи - Оттоманская и Австрийская. Вопрос в другом: почему их имперская история на этом и завершилась, тогда кац в России агония средневековья затянулась еще почти на столетие? Почему, в отличие от Турции и Австрии, не научил её опыт Катастрофы и осталась она после 1917-го такой же кнутобойной милитаристской империей, какой была до него?
Более того, повинуясь велению терзавшего её фантомного наполеоновского комплекса, Россия, как мы знаем, опять устремилась к тому же гибельному для нее сверхдержавному статусу, который однажды погубил - на глазах, можно сказать, ее новых лидеров - постниколаевскую империю. И даже добилась на этот раз гигантских территориальных «дополнений», напророченных ей, как мы помним, Тютчевым, Данилевским и Шараповым.
Нет, конечно, не прошли и после того, как она в очередной раз «встала с колен», границы царства русского по Гангу и Ефрату, как было завещано. Но Восточную Европу, славянскую и неславянскую, «со свежим населением» в in миллионов душ, вспомним бухгалтерию Данилевского, проглотить она все же умудрилась, не поперхнувшись.
Пусть и не стала советская Россия той, единственной и «первой в мире», о какой мечтали накануне Катастрофы её бешеные националисты, но все-таки оказалась она способна снова, как при Николае I, противопоставить себя человечеству. И все лишь затем, чтобы три поколения спустя, не выдержав напряжения еще одного мирового конфликта, снова рухнуть в одночасье и практически без выстрела? Точно так же, как в 1917-м? Так зачем же, спрашивается, было калечить еще три поколения живых - и родных притом - душ?
Вопрос, однако, остается: как удалось России то, что не удалось соседним империям? И почему?
I Глава десятая
В 03 D О Ж Д 6 Н И 6 Агония бешеного национализма
империи или агония?
Это судьбоносные, согласитесь, для будущего России вопросы. Первостепенно важны они и для её соседей. И, в конечном счете, для мира в целом. Ибо если наполеоновский комплекс России действительно неизлечим и её очередная попытка «присоединиться к миру», говоря словами Чаадаева, в 1989-2002-м была всего лишь, пусть и затянувшимся по сравнению с тем, что произошло с февраля по октябрь 1917-го, но все-таки коротким в масштабах истории интермеццо в вековой имперской симфонии, то холодная война на самом деле и не кончилась вовсе. И противостоянию России с миром предстоит возобновиться, как, собственно, и мечтают ее сегодняшние бешеные националисты, наследники Шарапова и Данилевского.
Я исхожу, как знает читатель, из точки зрения противоположной. Из того, что присутствуем мы сегодня при агонии русского средневековья, сохранявшегося все эти столетия благодаря обстоятельствам
исторически неповторимым. Из того, короче говоря, что перед нами сегодня и впрямь интермеццо, но интермеццо агонии.
Эта глава посвящена описанию своего рода репетиции такой агонии - после крушения первой империи. Как увидит читатель, проходила она тяжело, порою страшно. Но при всём том имели мы и тогда уже дело не с возрождением вековой «политической мутации», но с её последним жестоким спазмом. Нет, не суждено было России родить антихриста, как опасался Леонтьев - в еще одном знаменитом пророчестве, вынесенном в эпиграф этой главы.
Сперва, однако, придётся нам все-таки попытаться объяснить, благодаря каким историческим обстоятельствам не рухнула после Т1ервой мировой войны, в отличие от соседних континентальных империй, и Российская. Атакже почему оказалась ее советская эпопея лишь отложенным финалом.
Глава десятая Агония бешеного национализма
очередной реставрации
Не спрашивайте об этом, впрочем, сегодняшних бешеных националистов. Для них никакой загадки тут нет. Как и их предшественники после краха первой империи, они совершенно убеждены, что виною всему происки врагов России. Постаралась пятая колонна внутри страны - вкупе, конечно, с врагами внешними. Одни склоняются к тому, что главную роль здесь сыграли предатели, будь то либералы, как уверен кающийся либерал Михаил Леонтьев, или масоны, которых решительно, как мы помним, проталкивал на эту роль Вадим Кожинов, или и вовсе жидомасоны, как настойчиво убеждает нас Михаил Назаров.
Энтузиасты
Александр Проханов, однако, затрудняется определить, какой именно категории предателей отдать пальму первенства в разрушении Российских империй (поскольку уверен, что прародительницей России была чуть ли не Вавилонская империя, то насчитывает он не два, а четыре таких крушения). Хоть и клеймит он позором «предате- лей Горбачева и Ельцина» и вообще всяких «мстительных карликов»
и «улюлюкающих лилипутов», но все-таки склоняется к тому, что больше виноваты их западные хозяева. Геополитик и конспиролог Александр Дугин тем более не сомневается, что злодеи - американцы. Ибо в качестве ведущих «талассократов» они жизненно заинтересованы в разрушении самой могущественной в мире «теллурокра- тии» (под этими вычурными терминами фигурируют у Дугина традиционные для всякого манихейства Зло и Добро).
Так или иначе, всё это нисколько не мешает упомянутым выше пропагандистам энергично добиваться реставрации империи (третьей по общепризнанному счету и пятой по прохановскому). Проблема здесь, как понимает читатель, только одна: крах каждой империи неминуемо связан с национальной катастрофой. Соответственно приносит он народу неизмеримые бедствия, в некоторых случаях даже кровавые гражданские войны, в которых, бывало, брат шел на брата и сын на отца. Как же, спрашивается, следует нам относиться к тем, кто в здравом уме и твердой памяти желает своему народу еще одну такую беду?
Заранее ведь ясно, что, исполнись заветная мечта энтузиастов новой империи, и в ней непременно заведутся свои «мстительные карлики», не говоря уже об «улюлюкающих лилипутах», назови их хоть либералами, хоть жидомасонами. И «талассократы» на Западе тоже ведь не дремлют. А вместе они с такой же неотвратимостью обрушат новую империю, как обрушили старые. И повторится все сначала: и бедствия народные, и, не дай Бог, гражданская война - и поиски новых «предателей»...
Борис Никольский, самый блестящий из интеллектуалов последнего предреволюционного поколения имперских националистов, понял это еще в 1918 году: «На реставрацию не надеюсь, - писал он, - страшно то, что происходит, но реставрация была бы еще страшнее»[145].
Так ли уж, право, мало двух (и тем более четырех, если послушать Проханова) разрушительных взмахов русского «маятника», чтобы
усвоить простую истину, что нежизнеспособны, обречены на вымирание в современном мире имперские ихтиозавры? И попытки их реставрировать равносильны тому, чтобы вернуть допотопные времена?
w Глава десятая
[/| СТВ О Агония бешеного национализма
и реставрация
Но к делу. Причин самоубийства постниколаевской
элиты и реставрации империи в XX веке было, как мы видели, немало. Главные из них подробно рассмотрены в двух последних книгах трилогии. Мы видели, например, как прахом пошли все попытки воссоединить страну, расколотую в начале XVIII века петровской реформой. Видели, как на полстолетия опоздала Россия с отменой крестьянского рабства и на целое столетие с возможностью стать конституционной монархией.
Да, история не прощает таких опозданий и полуевропейская петровская Россия была поэтому обречена. Но за плечами у нее, как мы знаем, всегда маячила (стояла, так сказать, на запасном пути) воспетая славянофилами другая, антиевропейская, московитская Русь, веками ждавшая своего часа. В 1917-м этот час наступил. Ничего подобного не было ни в Австрийской, ни в Оттоманской империях.
Дело усугубилось еще и тем, что именно в XIX веке возродился в сознании российской элиты наполеоновский комплекс, дремавший в её коллективном, если можно так выразиться, подсознании еще со времен Грозного царя под именем претензии на «першее государст- вование». Из-за этого Россия острее, нежели соседние империи, переживала потерю статуса континентальной сверхдержавы после Николая I (просто потому, что как Австрия, так и Турция расстались с этим статусом еще в XVII веке и давно успели смириться с его потерей).
По всем этим причинам деградация патриотизма зашла в Российской империи дальше, чем в них. И грань между национальным самосознанием и национальным самодовольством практически стерлась, как мы помним, в ее культурной элите. Уже после револю-
ции пятого года патриотизмом, как мы видели, считалась мечта о «великой России», которая вкупе с архаической племенной солидарностью сделала практически неизбежным вмешательство в смертельную для страны мировую войну.
Представляется, что эти соображения достаточно убедительно объясняют как самоубийство постниколаевской элиты в 1917 году, так и реставрацию (под другим именем) московитской империи в XX веке. Добавлю лишь, что ничего подобного славянофильской Московии не стоит на запасном пути сегодняшней России.
w Глава десятая
Тяжелый ДИаГНОЗ Агониябешеногонационализма
Самый замечательный из учеников Соловьева и единственный, кто подхватил эстафету борьбы с имперским национализмом (к сожалению, уже в эмиграции, где мало кто его услышал), Георгий Петрович Федотов так это, напомню, объяснял: «Почему русская интеллигенция в XIX веке забыла, что живет не в Руси, а в империи?.. После Пушкина, рассорившись с царями, [она] потеряла вкус к имперским проблемам... Темы политического освобождения и социальной справедливости завладели ею всецело, до умоисступления. [В результате] почти все крупные исследования национальных и имперских проблем оказались предоставленными историкам националистического направления. Те, конечно, строили тенденциозную схему русской истории, смягчавшую все темные стороны исторической государственности. Эта схема вошла в официальные учебники, презираемые, но поневоле затверженные и не встречавшие корректива... Так укрепилось в умах не только либеральной, но отчасти и революционной интеллигенции наивное представление о том, что русское государство, в отличие от государств Запада, строилось не насилием, не завоеванием, а колонизацией»2.
Другими словами, оказалось, как и предположили мы во вводной главе, что будущее страны действительно принадлежало тем, кто овладел её прошлым: новая, советско-московитская Россия впитала
Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Спб., 1991. Т. 1. С. 316-318.
старые имперские схемы, можно сказать, с молоком матери.
Начиная с XIX века российским прошлым овладело выродившееся славянофильство с его неутихающей, как мы видели, ностальгией по сверхдержавности, с его имперским национализмом и средневековым утопическим мифом. И во что же могло всё это вылиться в веке XX, если не в уродливого и, как выяснилось, неконкурентоспособного в современном мире монстра советской империи, вдохновлявшегося всё тем же сверхдержавным соблазном, который так подробно и ярко описали еще за десятилетия до возникновения СССР Тютчев, Данилевский или Шарапов? Неважно, что руководилась советская империя другим утопическим мифом. Важно, что по-прежнему мифом. И по-прежнему утопическим.
Были, конечно, и другие причины деградации патриотизма в России. Например, ни Австрийская, ни Турецкая империи не были отравлены древней и соблазнительной идеей избранничества среди наций, мессианским представлением о себе как о «Новом Израиле». Наконец, - и это на мой взгляд главное - ни одна из них не породила ничего подобного славянофильству. В результате и не возникла в них мощная ретроспективная утопия, как бы собравшая в одно целое, сфокусировавшая и мессианский синдром избранничества, и средневековую имперскую ментальность, и связанную с наполеоновским комплексом неутихающую ненависть к каждой из сменявших, начиная с 1850-х Россию на опасной должности сверхдержав - сначала к Франции, потом к Германии, потом к Англии. В наши дни, разумеется, к Америке.
Просто н§ образовалась у других континентальных империй «идея-гегемон», способная не только вдохновить националистических историков, о которых писал Федотов, но и вызывать массовые пароксизмы патриотических истерий. Не было, короче говоря, могущественного мифа, изначально предрасположенного, как объяснил нам Соловьев, к вырождению в бешеный национализм, в оправдание завоевательных войн и в Черную сотню.
Но опаснее всего в этой средневековой утопии была ее способность воспроизводить себя, подобно Протею, в самых неожиданных формах - не только в черносотенстве и даже не только в евразий-
стве, но и в самом большевизме (в «революционной интеллигенции», по словам Федотова). Странным образом жила она - и более того, чувствовала себя дома - и в безбожном, поправшем все её святыни антиподе. В конце концов большевики с их коллективистской догмой, с их пролетарским мессианством, с их презрением к правовому государству и сверхдержавной «третьеримской» менталь- ностью оказались плотью от плоти той же средневековой утопии, что и породившее их славянофильство.
Вот это, собственно, и следовало в порядке «политического воспитания» разъяснить российской интеллигенции её веховским - или хотя бы уже после Катастрофы - сменовеховским критикам. К сожалению, оставаясь «национально ориентированными» интеллигентами, критики ни о чем таком и не подозревали. Вместо этого продолжали они настаивать на своем славянофильстве, противопоставляя его другим, славянофильским же, впрочем, порождениям - большевизму и черносотенству. Но о большевизме мы еще поговорим. Пока что о черносотенстве.
Глава десятая Агония бешеного национализма
соблазн
Черносотенный
О нем понял все один Федотов, да и то когда было уже слишком поздно. Вот что писал он в конце 1930-х: «Национальная мысль стала монополией правых партий, поддерживаемых правительством. Но что сделали с ней наследники славянофилов?.. Читая Блока, мы чувствуем, что России грозит не просто революция, а революция черносотенная. Здесь, на пороге катастрофы, стоит вглядеться в эту последнюю антилиберальную реакцию Москвы, которая сама себя назвала по-московски Черной Сотней. В свое время недооценивали это политическое образование из-за варварства и дикости ее идеологии и политических средств. В нем собрано было самое дикое и некультурное в старой России, но ведь с ним было связано большинство епископата. Его благословил Иоанн Кронштадтский. И царь Николай II доверял ему больше, чем своим министрам. Наконец, есть основания полагать, что его идеи победили в ходе русской революции и что, пожалуй, оно переживет нас всех»3.
Могут сказать, что заключение Федотова, пожалуй, излишне пессимистично. Ведь всё-таки нашла в себе в конце концов силы Россия, пусть лишь десятилетия спустя после его смерти, не только разрушить коммунистическую диктатуру, но и сбросить иго империи, отвергнув при этом с презрением новый черносотенный соблазн, который внушали ей словно возродившиеся из праха бешеные националисты, подобные Владимиру Жириновскому или Игорю Шафаревичу. Все это правда. Но правда и то, что действительно пережил черносотенный соблазн и Катастрофу семнадцатого года, и советскую власть, и крушение империи. Одному Богу известно, что еще способен он пережить.
Замечательным подтверждением его долгожительства служит хотя бы та же опубликованная двумя изданиями уже в постсоветской России апология Черной сотни, о которой мы уже говорили. «Федотов, - писал Кожинов, - несмотря на свои гимны «великой России», постоянно вонзал жало в действительную, реальную Великую Россию с ее могущественной государственностью»4. Это о сталинской диктатуре, которую Кожинов трижды на протяжении семи строк называет именно так: «реальной Великой Россией». Беспощадная критика сталинизма с несомненностью свидетельствует, по мнению автора, что «сознательно или бессознательно Федотов выполняет заказ тех мировых сил, для которых реальная Великая Росси^всегда являлась нестерпимым соперником»5.
Не спрашивайте, о каких таких «мировых силах» речь. Конечно же, об очередной стране, взвалившей на себя, к собственному несчастью, бремя сверхдержавности, за которое ей еще долго придётся расплачиваться, как расплачивались в своё время Франция, Германия или Англия. И как до сих пор расплачивается Россия.
Мы уже знаем, как опустошительна эта ненависть к «мировым силам», ставшим поперёк дороги российской сверхдержавности. Мы
Там же. С. 258, 296-297.
Кожинов S.S. Черносотенцы и революция. М., 1998. С. 48.
Там же. С. 49.
слышали её гром еще в 1860-е от Николая Данилевского (в ту пору, впрочем, относилась она к Франции). В страстных тирадах Сергея Шарапова в 1900-е направлена была она уже против Германии. В 1920-е по всем заводам и фабрикам СССР прокатилась организованная волна ненависти к Англии (тогда это называлось «нашим ответом Чемберлену»). Ясное дело, против кого должна быть направлена она в наши дни.
Мы уже цитировали по этому поводу Александра Проханова. Его, как мы видели, ненависть эта буквально сжигает (как сожгла она Кожинова). Ни один американец не избежал его праведного гнева. Надеюсь, читатель простит мне, если я, пусть в сокращении, напомню здесь его диатрибу: «Америка отвратительна... Её солдаты - трусы... Её политики - развратники и хулиганы... Её актёры - содомиты... Тексты её литераторов дышат СПИДом».Но Проханов (как до него Шарапов или объявленный сегодня «великим патриотом» М.О. Меньшиков) всего лишь черносотенный журналист. Его ненависть явно нуждается в новом, специально антиамериканском теоретическом обосновании. И обоснование это рождается на наших глазах. Его легко обнаружить, в частности, в замечательной дискуссии «Западники и почвенники: возможен ли диалог?»6.Самыми в этом, теоретическом, смысле интересными показались мне две публикации Михаила Назарова, бывшего антисоветского диссидента и невозвращенца, прожившего двадцать лет в Германии, а по возвращении на родину основавшего издательство под названием «Русская идея». Кожинов отзывался о нём с почтением: «Интереснейший и в высшей степени основательный исследователь»7.
Нельзя сказать, что Назаров ненавидит Запад. Как и его моско- витские предшественники он просто считает его «апостасийным (отходящим от христианства и этим раскрепощающим действие сил зла)», расчищающим тем самым, как очень скоро выяснится, путь антихристу8. Ненависть прорывается у него лишь по отношению к
Западники и почвенники: возможен ли диалог? М., 2003.
Кожинов В. В. Цит. соч. С. 163.
Назаров М.В. Письмо второе. С. 1.
, 2001.
Америке. «Добавлю, что в слово Запад я вкладываю не географический смысл, а духовный, ибо эта цивилизация лишь формально возникла в Западной Европе... а основной свой оплот создала из денационализированных осколков разных народов на американском континенте, кроваво расчищенном от аборигенов и обустроенном трудом завезенных из Африки рабов»9.
Разумеется, именно эта преступная по самому своему происхождению «дехристианизированная» цивилизация насильственно навязывает теперь миру «тайну беззакония, которая ведет к царству антихриста, в их терминологии - к Новому Мировому Порядку»10. Назарову доподлинно известно, что «электронные средства для этого [т.е. для царства антихриста] уже готовы, осталось только убедить население принять «начертание» (микрочип) в целях собственной и общественной безопасности и «защиты от террористов». (А для убеждения, например, нетрудно взорвать у себя пару небоскрёбов, заодно обвинив в этом противников Нового Мирового Порядка для расправы с ними и для силового передела богатств нашей Евразии)»11.
Противостоять этому «демократическому тоталитаризму»12, к которому «тендирует» Запад-Америка, могут лишь «православная монархия» и Истина (с заглавной буквы), выраженная, естественно, «в православном церковном учении». Ибо, «вникнув в него, человек открывает для себя единственную возможность именно этой - и никакой иной! - Божией Истины, а также ограниченность или ложность всех неправославных религий»13.
Лишь в это/у пункте возникает у нашего теоретика расхождение с другим, всемирно сегодня известным идеологом разрушения Запада-Америки как воплощения мирового зла. Я имею в виду, конечно, Осаму бен Ладена. Тот ведь тоже проповедует единственную Божию Истину. Только усматривает он её не в «православном
Там же.
Там же. С. 2.
Там же. С. з-
Там же. С. 16.
церковном учении», которое он нисколько не отличает от неправославных, но в учении своего Пророка, в Коране. И не в «православной монархии» видит Осама, естественно, оплот истинной веры, но в мусульманском Халифате. В остальном они с Назаровым единомышленники абсолютные.
В том числе, разумеется, и по поводу «настоящей тайны Америки». Мало того, что это - государство, «украшенное масонской символикой и поклоняющееся капиталистическому золотому тельцу», оно еще, оказывается, и «под еврейским контролем»1*. Вследствие чего и является «прообразом всемирной империи антихриста... подготовка к воцарению которого как раз и происходит в современном западном мире, подпавшем под иудейские деньги и идеалы»[146]. Запомним это выражение, мы еще с ним встретимся - в устах черносотенных идеологов давно минувших дней.
Впрочем, совпадение Назарова с Осамой легко было предсказать заранее. В конце концов черносотенство, будь то арабское или русское, не было бы черносотенством без обличения еврейского авангарда «Великого Сатаны» (или по-русски антихриста). Можно сколько угодно утешать себя мыслью об откровенном провинциализме наших теоретиков или о том, что договориться между собою они никогда не смогут, поскольку Истины их непримиримы. Не следует забывать, однако, что враг у них общий. А я ведь ничего больше сказать этим сравнением и не хотел. Кроме, пожалуй, того, что Федотов был, боюсь, прав в печальном своём заключении: черносотенный соблазн и впрямь выглядит бессмертным.
Глава десятая Агония бешеного национализма
большевизма
Вернёмся, однако, к проблеме долгожительства славянофильской утопии, наследниками которой стали и черносотенство и большевизм. Можно с уверенностью сказать, что не возьмись большевики
тотчас после своей победы за «собирание империи», т.е. не исполни они роль бешеных националистов, они недолго удержались бы у власти. Хотя бы потому, что у них в этом случае просто не было бы боеспособной армии. Не стали бы иначе создавать её для них ни единственный в России герой мировой войны А. Брусилов, ни бывший генерал-квартирмейстер царской армии Н. Потапов, ни бывший помощник военного министра А. Поливанов.
Любопытная статистика на этот счет есть, кстати, у того же Кожинова. Оказывается, что «из Белой армии в Красную перешло гораздо больше офицеров, чем наоборот». И «почти половина лучшей части, элиты русского офицерского корпуса [речь о Генеральном штабе] служила в Красной армии ... из юо командиров армий у красных в 1918-1922 годах 82 были царскими генералами»16. А постсоветские историки и вовсе подсчитали, что «общее количество кадровых офицеров, участвовавших в гражданской войне в рядах регулярной Красной армии более, чем в два раза превышало число кадровых офицеров, принимавших участие в военных действиях на стороне белых»17.
Может ли быть хоть малейшее сомнение, что именно эти кадровые офицеры и генералы выиграли для большевиков гражданскую войну? Или в том, что пошли они за большевиками всё по той же причине, ибо видели в них наиболее перспективных и решительных «собирателей империи»? Более того, не одно лишь «собирание империи», но и новая сверхдержавность была у некоторых из них на уме с самого начала - и именно в связи с размахом «всемирной пролетарской революции». Например, у крупнейшего из русских геополитиков XX века Андрея Снесарева, бессменного начальника советской Академии Генерального штаба с 1919 года, неустанно повторявшего: «Если вы хотите разрушить всемирную капиталистическую тиранию - разбейте англичан в Индии»18.
Снесарев, между прочим, предложил даже подробный план вторжения в Индию через Афганистан и ему принадлежит популярное в тогдашнем Генштабе изречение: «Тот, кто владеет Гератом, контролирует Кабул, тот, кто правит в Кабуле, контролирует Индию»[147].
Кожинов S.S. Цит. соч. С. 174 -175.
Вопросы истории. 1993. №6. С. 189.
Hauner Milan. What is Asia to Us? Boston, 1990. P. 7B.
Правда, злые языки утверждали, что проект Снесарева всего лишь перелицованный план генерала Скобелева «пройти в Индию путем Тимура», предложенный еще в 1878 году.
Но ведь большевистские командиры не только планировали, они и действовали. Едва завоевав в феврале 1920 года ханство Хивинское (тотчас переименованное в Народную республику Хорезм), Туркестанская комиссия во главе с Фрунзе высадила десант в иранском порту Энзели, провозгласив там, разумеется, Советскую Социалистическую республику Гилян. Короче говоря, у англичан в 1928 году были основания утверждать, что «сегодняшняя политика Советской России по отношению к Индии идентична политике императорской России»[148].
Как бы то ни было, в конфликте между двумя средневековыми утопиями, молодая, динамичная и лишенная предрассудков утопия большевизма просто не могла не победить старую, выдохшуюся и отягощенную реакционной политической базой утопию постниколаевского национализма. В момент, когда одновременно взорвались все «мины», заложенные в основание пореформенной России, бешеным оказалось нечего предложить своему народу. Их политические ресурсы были исчерпаны. Едва отняли у них большевики имперскую мечту, ничего практически не осталось в их идейных закромах, кроме яростного черносотенства.
С ними, по сути, случилось то же самое, что и с их прародителями славянофилами, которые, по выражению Федора Степуна, «от Шеллинга перешли к Жозефу де Местру, от Петра Великого - к Ивану Грозному»[149]. Как деликатно объяснял эту жестокую эволюцию Владимир Варшавский, автор замечательной книги о судьбе эмигрантской молодежи после Катастрофы, «к жертвенному и героическому вдохновению Белого движения постепенно всё более примешивались чувства другого цвета - человеконенавистничество Черной сотни»22. И цитировал в доказательство популярнейшую офицерскую частушку;
Смело мы в бой пойдём За Русь святую И всех жидов побьём Сволочь такую!
Так или иначе, не смогли они предложить ни мира народам (из- за славянофильской веры в русский Царьград), ни земли крестьянам (из-за помещичьей политической базы), ни национального самоопределения меньшинствам (из-за имперского национализма «единой и неделимой»), ни даже однопартийной диктатуры (из-за славянофильской же ненависти к любым политическим партиям). То есть в буквальном смысле ни-че-го.
И потому, когда большевистская утопия все это России предложила и, пусть ненадолго (кроме диктатуры), осуществила, бешеные были обречены. Прибавьте к этому очарование мессианской идеи мировой революции и стремительный темп того, что социологи называют вертикальной мобильностью, т.е. практически неограниченную возможность для легендарного славянофильского «простого народа» продвигаться вверх по внезапно опустевшим в ходе тотального террора служебным ступеням нового государства, и вы тотчас увидите, что не было у бешеных ни малейшего шанса противостоять кавалерийской атаке большевизма.
Другое дело, что средневековая милитаристская империя не перестала с победою большевиков быть средневековой милитаристской империей. Разве что роль Официальной Народности исполнял в ней теперь атеистический марксизм, а роль самодержца - генеральный секретарь^артии. Нам, однако, важно другое. А именно, что, как всякая средневековая утопия, большевизм тоже был обречен на вырождение. Он тоже одряхлеет, как николаевская Официальная Народность, и тоже окажется в плену у политического идолопоклонства. Он тоже даст в своих рядах приют черносотенству.
Не зря же Москва 1951-го напоминала, скорее, о пророчестве Шарапова, нежели о видении Ленина. Короче говоря, не мог большевизм при всем своем догматическом интернационализме стать альтернативой Черной сотне. «А это значит, - говорит Федотов, - что опять, как и в царские времена, на окраинах скопляются центробежные силы, готовые взорвать мнимофедеративную империю. И чем более они сдавлены прессом НКВД, тем эффективнее должен быть взрыв после освобождения»[150]. Напоминать ли, что сбылось пророчество?
Более того, точно так же, как бешеный национализм видел все беды России в смутьянстве инородцев, «для всех меньшинств отвращение от большевизма сопровождается отталкиванием от России, его породившей». И точно также, как евреи были для черносотенцев в большевистских рядах воплощением мирового зла, большевистская Россия выглядела абсолютным злом в глазах многих евреев. «Великорусе не может этого понять. Он мыслит: мы все ответственны в равной мере за большевизм, мы пожинаем плоды общих ошибок. Но хотя и верно, что большевистская партия вобрала в себя революционно-разбойничьи элементы всех народов России, но не всех одинаково. Русскими преимущественно были идеологи и создатели партии. Большевизм без труда утвердился в Петербурге и в Москве, Великороссия почти не знала гражданской войны; только окраины оказали ему отчаянное сопротивление»[151]. Не напиши Федотов даже ничего, кроме этих строк, читатель всё равно признал бы в нем ученика Соловьева.
Несправедливо, да и ни к чему отнимать у большевизма его заслуги перед русской историей. Всеобщая грамотность, урбанизация страны, замена унитарной империи пусть формальной, но федерацией, и победа в великой войне против Третьего Рейха навсегда останутся памятниками этой диктатуры, несмотря даже на чудовищную цену, которую пришлось заплатить за них России.
Тем не менее когда пробил час большевизма, его идейные и политические ресурсы оказались так же исчерпаны, как ресурсы постниколаевского самодержавия в 1917-м. Продлить свои дни мог он теперь, лишь обратившись все к тому же дряхлому славянофильскому мифу о незыблемой «народной ментальности» и николаевскому государственному патриотизму.
Коварна все-таки ирония истории. Придя к власти на костях Русской идеи, ничего лучшего, уходя от неё в августе 1991-го, нежели поднять на стяг все ту же побитую им когда-то Русскую идею, придумать большевизм оказался не в состоянии.
Заметим, однако, что, в отличие от выродившегося славянофильства, коммунистические элиты (во всяком случае какая-то их часть) нашли в себе все же силы для жестокой самокритики. По крайней мере, для открытого разрушения собственного культа политического идолопоклонства. Значит что-то от декабризма хоть в некоторых из них все-таки сохранилось. Благодаря чему и отбыли они с исторической сцены с некоторым достоинством. Во всяком случае без гражданской войны, которой так страшился Федотов. Но это уже другая тема, и мы к ней еще вернемся.
^ Глава десятая
Реакция бешеных IАгония6ешеногонационализма
Сейчас предстоит нам завершить нашу печальную повесть о первом столетии имперского национализма в России. Как сделать это, однако, не рассказав читателю о реакции его уцелевших в гражданской войне бешеных пророков на их эпохальное поражение? Ничто не даст нам более полного представления о средневековом характере их мышления, нежели близкое знакомство с этой реакцией. Ну и кроме того, в любом споре всегда полезно выслушать аргументы обеих Јторон. Мы слышали доводы Федотова, послушаем теперь его оппонентов.
Читатель знает, хоть из цитированных нами пламенных тирад и манифестов Скобелева, Шарапова и Н.П. Аксакова, с каким оптимизмом и уверенностью шли бешеные националисты навстречу мировой войне. Они предвидели близкую и окончательную победу над пожирателями славян, вдохновляемых, полагали они, исключительно «идеалами, заимствованными от еврейства». Их идеологическим мотто было, как мы помним, «Россия против еврейства». Именно евреи представлялись им, как и сегодняшним их наследникам, хоть тому же Назарову, последним препятствием на пути России к восстановлению ее статуса как единственной и «первой в мире» сверхдержавы.
И вот они проиграли эту миродержавную схватку, оказались в изгнании, выброшенными из своей страны, ненужными ей. Как могли они воспринять такое оглушительное поражение? Конечно, оно должно было представляться им апокалиптической катастрофой, предвестием конца света. Но самое горькое - торжеством смертельного врага. Вот почему первая же книга, задавшая тон всей дальнейшей реакции бешеных, так и называлась «Новая Иудея или разоряемая Россия».
Суть ее сводилась к следующему: «Сейчас Россия в полном и буквальном смысле этого слова Иудея, где правящим и господствующим народом являются евреи и где русским отведена жалкая и унизительная роль завоеванной нации, утратившей свою национальную независимость. Месть, жестокость, человеческие жертвоприношения, потоки крови - вот как можно характеризовать приемы управления евреев над русским народом... Резюмируя все вышеизложенное, можно смело сказать, что еврейская кабала над русским народом - совершившийся факт, который могут отрицать и не замечать или совершенные кретины или негодяи, для которых национальная Россия, ее прошлое и судьба русского народа совершенно безразличны»[152].
Но брошюра В. Михайлова, которую мы цитировали, оказалась лишь первым раскатом грома, прозвучавшим из эмигрантского лагеря бешеных. На подходе были куда более серьезные двухтомные работы Н.Е. Маркова, Г. Бостунича и Ю.М. Одинзгоева, подробно обсуждавшие подтем же углом зрения как историю русской революции, так и темное прошлое еврейского народа и исконную его связь с коварной идеологией масонства. И, конечно же, мрачное будущее, ожидающее человечество в результате завоевания России этими сатанинскими силами.
Попутно объяснят нам откровения лидеров дореволюционного черносотенства действительно ли подлежит оно реабилитации, как пытался доказать Кожинов, и почему в наши дни необходимо сегодняшним черносотенцам новое, специально антиамериканское обоснование, над которым, как мы видели, трудятся не покладая рук Назаров, Проханов и их единомышленники.
w I Гяава десятая
«Еврейская IАгония 6ешеиого национализма
революция» по Н.Е. Маркову
Так и называется двухтомник: «Войны темных сил». Главная тема сформулирована уже во вступлении: «Существование темных тайных сил столь же несомненно, как существование незримых глазу бактерий и бацилл. Это факт реальной действительности. Изучение темных сил необходимо для того, чтобы уметь избегать их вредного, гибельного для человечества влияния. Известный писатель Гюисман писал, что высшее достижение Сатаны в том, что он сумел убедить человечество в своем небытии. Поразительно, но это так». (Теперь читатель понимает, откуда взялись у современного историографа и апологета Черной сотни мировые, они же темные силы, которым, по его мнению, служил Федотов.)26
Конечно, оппонент мог бы возразить Маркову, что бактерии и бациллы все-таки отчетливо видны под микроскопом, тогда как относительно существования «темных тайных сил» нам приходится верить Маркову - и Кожинову - на слово, но едва ли они сочли бы такое возражение убедительным.
В конце концов было же время, когда люди не знали и о бактериях. Тем более, что у черносотенцев, во всяком случае у Маркова, есть неопровержимые, по его мнению, свидетельства, лучше любого микроскопа доказывающие, что революция и впрямь изобретение сатанинское и специфически еврейское. Он посвящает этой предыстории русской революции больше сотни страниц, начиная с низвержения в бездну «высшего ангела Сатанаила-Денницы», с каковой поры «падшие сверху вниз духи света превратились в духов тьмы и Сатанаил стал Сатаной»27 и кончая подлинным письмом Гарибальди, не оставляющим ни малейших сомнений, что и национальный герой Италии оказался на поверку «истинным иудо-масоном»2\ Курсив Маркова).
Марков Н.Е. Войны темных сил. Париж. 1928. Т. 1. С. 1. Там же. С. 3. Там же. С. юб.
Я не говорю уже о том, что «цареубийство i марта было подготовлено тайным сообществом, организованном евреями», так как «еще за год до преступления в секретном циркуляре министерства внутренних дел от 6 апреля 1880 г. за № 1460 было изложено, что по полученным III отделением собственной Его Величества канцелярии сведениям, в члены всемирного еврейского кагала, учрежденного с целями вполне враждебными для христианского населения, поступили все евреи-капиталисты... что евреи имеют в своих домах кружки для сбора пожертвований в пользу кагала и оказывают материальную поддержку революционной партии»29.
А если мало вам «секретного циркуляра», в котором цареубийство, впрочем, упомянуто не было, то вот, пожалуйста, и самое несомненное доказательство: «после цареубийства i марта повсеместно по стране прокатилась волна еврейских погромов». Кто посмеет после этого усомниться в существовании темных сил, если, как достоверно известно Маркову, «народное чутье никогда не обманывалось»?30
С.Ю. Витте |
На странице 131 добираемся мы, наконец, и до революции пятого года. Тут уж мне ничего не остается, кроме как пространно цитировать, в надежде, что текст говорит за себя сам. «Множество русских деятелей сознавали тогда и громко исповедовали свое твердое убеждение в чрезвычайной опасности и в несомненной вредности для России всякого подобия конституции и парламентаризма. Образовавшийся в конце 1905 года Союз Русского Народа явился мощным и всенародным выразителем этих здоровых, истинно русских, глубоко национальных убеждений. Построенный на тех же основаниях, на которых 17 лет спустя построился италианский фашизм, Союз Русского Народа сыграл крупную историческую роль
и действенно помог ослабевшей в борьбе с темной силой власти осилить совсем было разыгравшуюся революцию»31.
В этом современный историограф черносотенства совершенно со своим духовным наставником согласен. Разве что, в отличие от Маркова, о связи между Черной сотней и фашизмом Кожинов, естественно, не упоминает. Но вернемся к Маркову. Оказалось, что «сто- восьмидесятимиллионный русский народ невозможно покорить простым насилием» и что «для достижения этой цели его необходимо обмануть, одурманить и хитростью заманить в такие ловушки, из которых ему не было бы иного выхода, как в темницы всемирного
интернационала»*.
Конечно, Марков «далек оттого, чтобы преуменьшать геройские подвиги некоторых воинских частей Императорской Армии и доблестных военачальников» по подавлению революции, но «я должен определенно заявить, что все эти действия фактически проявились тогда, когда началось общенародное движение против евреев, когда в Петербурге стали сознавать, что массы народные стоят за царя и против еврейской
[H.E. Марков
1 революции»33.
Короче говоря, вот в чем состоит историческая заслуга Союза Русского Народа: ^он на деле показал правительству и обществу, что с затеянным евреями «освободительным» движением можно и должно бороться силою». И тут, заметим в скобках, Кожинов тоже с Марковым согласен34. Несмотря, однако, на эту заслугу, несмотря даже на то, что «Государь Император весьма благоволил Союзу Русского Народа, справедливо видя в нем надежную опору монар-
Там же. С. 131 (выделено мною. - А Я.).
Там же.
Там же. С. 132. * Там же.
хии», он почему-то оказался «одинок в этом отношении и, встречая постоянное противодействие со стороны почти всех своих министров и приближенных, не настоял на своевременной и надлежащей государственной поддержке и развитии организованной народной самообороны»[153].
Более того, «обманутый министром Витте и либеральными петербургскими советниками, уступил домогательствам крамольников и, издав манифест 17 октября 1905 года, дал право утверждать, что народу дарована конституция и что, следственно, Царь перестал быть самодержавным»[154].Нечего и говорить, что «сам Государь понимал дело иначе и ряду патриотических депутатов отвечал - Самодержавие мое остается, как было встарь. И при начертании новых основных законов 1906 года Государь собственноручно восстановил прежнее определение императорской власти, вписав слово «Самодержавный», которое уже было выпущено услужливыми клевретами масона Витте»[155].Тем не менее, «как только наступило успокоение, т.е. разрушительная работа иудо-масонства ушла в Государственную думу и в подполье, Союз Русского Народа стали определенно теснить, принижать и вести его к разложению. Даже крупные государственные люди, как П.А.Столыпин, думали, что мавр сделал свое дело и что мавру время уйти. Либеральная же министерская мелочь, вроде Коковцова, Фи- лософова, Тимирязева, князя Васильчикова, барона Нольде и им подобных, злобно шипели на Союз Русского Народа и в своих ведомствах учиняли на членов Союза формальное гонение»38.Такое странное, чтобы не сказать предательское, поведение бюрократической элиты империи должно иметь какое-то объяснение. И автор не колеблется предложить его читателю. «Этим, - говорит он, -достигалась двоякая цель: устранялись из ведомств непрошенные наблюдатели и обличители противогосударственной подпольной работы и одновременно заслуживалось одобрение и благоволение высших сфер иудо-масонства и еврейских банкиров»39. Выходит, согласитесь, что благоволение высших сфер иудо- масонства оказалось для бюрократической элиты империи почему- то важнее, чем благоволение ее государя. Впрочем, «большинство министров и начальников действовали так по непониманию и по узости своего государственного кругозора. Но такие, как Витте или Коковцов, те действовали с разумением, для них важнее всего было угодить настоящему своему господину - международному еврейству»40.
Справедливости ради заметим, что, комментируя полвека спустя эти невероятные обвинения Маркова, мог бы всё-таки Кожинов сообщить читателю, что могли быть и другие объяснения брезгливости, с какой относились высшие бюрократы империи к черносотенству. Например, то, что были они всё-таки людьми интеллигентными и открытое сотрудничество с воинством, в котором, как мы уже слышали, было «собрано всё дикое и некультурное в старой России», так же, как с его сотрудниками из «национально ориентированной» интеллигенции, им претило. Или то, что логика массового движения, «построенного, по словам Маркова, на тех же основаниях, на которых построился италианский фашизм», неизбежно вела в конечном счете к подмене традиционного самодержавия черносотенной диктатурой какого-нибудь русского Дуче. Или, наконец, попросту то, что от этих людей дурно пахло.
Пусть и не понимал этого по недостатку образования Марков, но ведь Кожинов был всё-таки доктором наук. И, взвалив на себя такую ответственную задачу, как реабилитация черносотенства, должен он был хоть попытаться объяснить то ожесточение, с которым сопротивлялась Черной сотне имперская бюрократия. К сожалению, ничего подобного он не сделал, позволив Маркову спокойно продолжать свою драматическую повесть о том, как правительство самодержавной России на содержании у «международного еврейства», поставило единственно лояльную опору самодержавия в стране в совершенно двусмысленное положение.
39 Там же. Там же. С. 136-137-
«Выходило так: либо - во имя восстановления поврежденной полноты царского самодержавия - ослушаться самого Царя, стать на путь восстания против правительства и силою вернуть Царю исторгнутую у Него интеллигентским обманом и революционным устрашением полноту власти... либо покориться и признавать новые законы, пока Государю-Самодержцу не благоугодно будет их изменить или заменить настоящими, полезными народу»41. Разумеется, «верноподданный Союз Русского Народа вынужден был стать на второй путь»42. Ибо «бунт против царских властей - во имя царской власти - был невозможен. Приходилось отказываться от наступательной госу- дарственно-строительной деятельности, иначе - фашизма, и отступить в глубокий тыл для сбережения святыни и знамен самодержавия»43.А это означало конец Черной сотни: «полки превратились в академии»44. Хуже того, это означало конец России: «фактически идея конституции - в образе Государственной Думы - победила идею Самодержавия - в лице Союза Русского Народа... Темная сила погубила Российскую Империю»45.Теперь для полной победы ей требовалась сущая малость: втравить человечество в мировую войну «для разгрома крупнейших ее противников - России в первую голову - и для последующего захвата власти над пораженными христианскими народами»46. Естественно, международное еврейство - оно же «темная сила»- именно это и сделало. Что доказывается документально пространной цитатой из речи фельдмаршала Людендорфа, незадолго перед тем шагавшего рядом с Гитлером в рядах мюнхенских путчистов.
Печальная истина заключалась, другими словами, в том, что не оказалось во всей России никого, способного противостоять темной
Там же. С. 135.
Там же.
Там же. С. 137 (выделено мною. - АЯ.). там же.
Там же. С. 137,139.
силе, кроме «простонародной организации». Интеллигенция? Да она с темной силой с удовольствием сотрудничала, подрывая христианскую веру, с энтузиазмом отдаваясь сатанизму. «Мережковский - типичный представитель интеллигентского антихристианства, но он далеко не один. Имя им - легион. Того же темного духа профессор Бердяев ... Но особенно вредна и опасна для христианства деятельность протоиерея С. Булгакова». Тут, однако, Марков решительно расходится с историографом, посвятившим несколько страниц как раз доказательству «черносотенства» Булгакова[156].
«В деле совращения душ и всяческого развращения ученые писатели и мыслители достигли чрезвычайных успехов... Христианская власть Императоров Всероссийских не допускала явного отправления сатанинского культа. Поэтому изнывавшие, вместе с прочей интеллигенцией, от отсутствия «свобод» сатанисты проявляли себя... в литературе.
Кто ты зельями ночными Опоившая меня, Кто ты, Женственное имя В нимбе красного огня? -
истерично вопрошал поэтА. Блок [явно же взывал, негодяй, к революции!], а философ В. Соловьев так и умер, не успев толком размежевать христианство и гностицизм, а от гностицизма до сатанизма рукой подать... Андрей Белый... этот enfant terrible российского сатанизма»[157]. В список «разлагателей русского духа» неожиданно угодили, как видим,^аже самые откровенные критики российской интеллигенции.
В отличие от историографа, Марков не устает подчеркивать именно «простонародный» характер Союза русского народа и ничуть не скрывает презрения к интеллектуалам, даже сочувствующим, даже «национально ориентированным», которыми так гордился Кожинов. Что вождь черносотенцев терпеть не мог Соловьева, зто понятно. Он был костью в горле и для Кожинова, но Булгаков...
Ничуть не лучше, впрочем, обстояло дело с чиновной бюрократией. «Если б тогдашнее правительство доросло до понимания того, что впоследствии понял в Италии Муссолини... история России была бы совсем иной. Но рожденные ползать - не могут летать?.. Неизменно - до самого рокового конца ухаживали они за смутьянами и унижали вверенную им свыше власть перед выскочками и наглецами антигосударственной Государственной Думы и всячески открещивались и отплевывались от общения с Черной Сотней»[158], этой единственной надеждой России.
Глава десятая Агония бешеного национализма
II* ^ · 1*1 ^Д кУ I \ w U |
и русский консерватизм
Я думаю, довольно цитировать. Общая схема рас-
суждений Николая Евгеньевича, одного, кстати, из самых пламенных трибунов «антигосударственной государственной Думы», закончившего свои дни консультантом гестапо по русским делам, ясна. Нет сомнения, что схема эта славянофильская. «Простой народ», в котором, как мы помним, сосредоточена «вся мысль страны», противостоит в ней развращенной европеизмом «публике» - интеллигенции и бюрократам - совершенно так же, как у Константина Аксакова. Только там, где у Аксакова некий абстрактный «народ», у Маркова - вполне конкретные погромщики - охотнорядцы, деятельность которых он сам и рекомендует как фашистскую. У Аксакова была утопия, а у Маркова - практика. Я не говорю уже, что аксаковская утопия вдохновлена была мечтой о свободе, а реминисценции Маркова, как мог убедиться читатель, пронизаны отчаянной тоской по «итали- анскому фашизму». Но как, скажите на милость, выглядит в свете этой драматической метаморфозы позиция Кожинова, умудрившегося взять себе в духовные наставники одновременно и Аксакова, и Маркова?
Он-то силился доказать, что разница между ними «обусловлена вовсе не неким «вырождением» идеи [камешек в огород
Соловьева - и в мой], но существеннейшим изменением самой исторической реальности: невозможно было мыслить в России и о России 1900-1910-х годов точно так же, как в 1840-1850-х»[159]. Правильно, невозможно. Только почему-то не пришло историографу в голову, что еще невозможней представить себе Аксакова, посвятившего жизнь борьбе с «душевредным деспотизмом», тоскующим по фашизму.
Это, впрочем, лишь одна сторона дела. Попросту нельзя вообразить ситуацию, при которой благородный романтик оказался бы погромщиком. И никакие «изменения исторической реальности» не заставили бы человека чести упрекать правительство России в непонимании «того, что понял в Италии Муссолини». Нет, ни при каких обстоятельствах не стал бы Аксаков Марковым.
Но, с другой стороны, не аксаковская ли консервативная утопия, утверждающая ту самую «внеевропейскую, по выражению B.C. Соловьева, или противоевропейскую искусственную самобытность России», породила Маркова?
Достаточно ведь просто спросить, кому обязан погромщик самим противопоставлением «простого народа» интеллигенции, чтобы не осталось сомнений, что вышел Марков из славянофильской шинели. У кого еще мог он заимствовать странную, согласитесь, идею, что именно в этом простом народе «сосредоточена вся мысль страны»? Откуда, если не от Достоевского, его воинствующий антиинтеллектуализм, представление о том, что интеллигенция не более, чем «чужой народик, очень маленький, очень ничтожненький»? Откуда химера, что управляться Россия может лишь посредством прямого общения простого народа с самодержавным хозяином - без «бюрократического средостения»? Разве всё это не ключевые, не фундаментальные основы той самой консервативной утопии, которая строилась в России на протяжении всего XIX века - сначала Аксаковым (как внеевропейская), потом Данилевским (как антиевропейская), потом Шараповым и Никольским (как антиеврейская)?
Мои консервативные критики откровенно намекают, что само уже рассмотрение философии Маркова в одном ряду с такими паладинами идеологии национального эгоизма, как Аксаков или Данилевский, дисквалифицируют тезис Соловьева о неминуемом вырождении этой идеологии51. Как иначе, однако, объяснили бы эти критики происхождение идей Маркова? Из каких других источников могла проистекать идеология черносотенного Союза русского народа? Даже Кожинов был честнее, предположив, что просто в «изменившейся исторической реальности 1900-1910 годов» невозможно было защищать русское самодержавие иначе, нежели методами «италианского фашизма».
Другое дело, что в реальной жизни альтернатива «италианскому фашизму», конечно, была, но состояла она, как мы сейчас увидим, в откровенном признании, что консервативная утопия, краеугольным камнем которой была вера в императивность самодержавия, окончательно выродилась и защищать её порядочному человеку больше невозможно. Как иначе истолковали бы критики, скажем, признание Л.А. Тихомирова после революции пятого года, что «Россия... прямо находится в гибели и царь бессилен её спасти»?[160]Или аналогичное признание Б.В. Никольского, что «царствующая династия кончена и на меня её представителям рассчитывать [больше] нечего»53.
В любом случае, однако, обозначился ли конец выродившейся консервативной утопии решением Маркова продолжать за неё борьбу, опираясь на гестапо, или отказом от борьбы, как в случаях Тихомирова и Никольского, ясно одно: идеология национального эгоизма обанкротилась безнадежно. Разве не в этом действительный урок вырождения благородной консервативной утопии XIX века?
См. например: РепниковА.В. Современная историография российского консерватизма. ,0RG
'Зпплтмыа
Глава десятая Агония бешеного национализма
«жидо-масонского заговора»
«Италианский фашизм» оказался, однако, лишь первой вехой на пути ее дальнейшего вырождения. Знаменосцем следующего ее шага по справедливости следует признать Григория Бостунича, дослужившегося до генеральских чинов в СС и ставшего, согласно американскому историку, «доверенным лицом Гиммлера и Гейдриха», свого рода «живым воплощением родства между черносотенной идеологией и нацистской мыслью»54.
Бостунич, в отличие от Маркова, полагал себя профессиональным историком. Потому и не ограничился ссылкой на подавление Господом восстания Сатанаила-Денницы, а тщательно исследовал генезис «еврейской революции» на протяжении всей мировой истории. Высшим его достижением в глазах нацистов была графическая схема движения этой революции в виде карты Европы, оплетенной змеей. Называлась она «Путь символического Змия, долженствующего поработить весь мир под жидовское иго».
Комментарий к этой знаменитой в нацистском Берлине карте был такой: «Так как тайное жидовское правительство для осуществления своих планов пользуется своим подручным - масонством, то порабощение мира жидами изображается применительно к масонской символике в виде Змия, который, замыкая магическое кольцо, сам жалит себя^ хвост... Политический план мирного завоевания для Сиона вселенной составлен был царем Соломоном еще за 929 лет до Р. Хр.»[161].
Технология реализации этого плана была довольно проста: «Проникая в недра встречаемых им на пути государств, Змий подтачивал и пожирал все государственные, нееврейские силы, по мере их роста. Это же должен он делать и в будущем до тех пор, пока цикл
Walter Laqueur. Russia and Germany: A Century of Conflict. Weidenfeld & Nicolson, 1965. P. 122, 125.
пройденного им пути не сомкнётся возвратом главы его на Сион и пока, таким образом, Змий не сосредоточит в сфере своего круга всей Европы, а через нее и остальной мир»56.
Вот этапы этого большого пути, «i-й этап - 429 год до Р. X. - Греция в эпоху Перикла...Что пресловутая «демократия» вершила во времена Сократа, нам хорошо известно... 2-й этап - последние годы перед R X. - Рим в эпоху Августа. В это время жиды разрушили Римское государство изнутри, как тысячу девятьсот лет спустя государство Российское... использовав юное христианство, раввинисти- чески извратив его. Мы совершенно неправильно представляем себе римские гонения на христиан как преследование веры»57.А как правильно? Бостунич объясняет, а я только воспроизвожу его текст (включая умопомрачительные орфографию и стилистику): «Так называемые первые христиане были жидовский пролетариат, ухватившийся за проповедь Христа вовсе не с точки зрения отречения от мира сего, а с точки зрения чисто по жидовски извращенного осуждения скопидомства, что было жидами истолковано в стиле столь знакомого нам «грабь награбленное», то эти первые христиане стали на практике - нечто вроде первых коммунистов, которые под управлением жидов Ленина (Ленин был усыновленный русскими недотепами жидок) уничтожали на святой Руси все честное и порядочное, главным образом заботясь набивать свои карманы»58.
В том, что перед нами антихристианство почище «Кода да Винчи», сомнения нет. Нацисты это поощряли. Но сочувствующие им православные иерархи -они-то как же? Тоже сочли мучеников христианства «жидовским пролетариатом»? Бостунич, однако, идет в своём языческом рвении дальше. «Не за то Нерон и прочие бросали первых христиан (жидов) на растерзание зверям, что они во Христа верили, а за то, что они государство подрывали и чернь на лучших людей натравливали. Довольно, наконец, повторять глупости, что втемяшили в наши детские головы - пора, наконец, узнать историю,
Там же.
Там же. С. 132.
Там же.
какой она была, а не как ее расписали жиды, масоны и мракобесы»59.
Вернемся, однако, к этапам. Итак, «з-й этап - 1552 год - Мадрид в эпоху Карла V. 4-м этапом я считаю 1648 год, местом - Лондон, когда фанатик Кромвель (который, к слову сказать, был масон)... стал орудием жидов! Ибо он в их интересах преступил даже масонские заповеди, послав на плаху короля Карла Стюарта, который тоже был масон! От совершенной Кромвелем революции выиграли одни жиды, получив давно желаемое равноправие, приведшее в наши дни к тому, что жиды управляют этой подлейшей из стран мира ... 5-м этапом я считаю эпоху французской революции (1789-1801), местом - Париж, когда жиды-масоны, свергнув монархию, разорили Францию, но добились равноправия»60. Ну и так далее, в том же духе, покуда Змий не прибывает, наконец, в Россию.
Само собою разумеется, что «осуществить заветную мечту жидов - завоевать весь мир - невозможно без порабощения i/б его части». Отсюда «1881-й год - Петербург, убийство императора Александра II жидо-масонами. Когда Желябовы смеются - Россия плачет [и народовольцы оказались, как видим, жидо-масонами]. Далее путь Змия: Москва - Киев - Одесса, и мы воочию видели, как этот страшный путь совершился... вся русская «великая и бескровная» революция, как по нотам, была разыграна по планам интернационального воинствующего жидовства и является осуществлением их заветной мечты - поработить весь мир, а нас, христиан, сделать своими рабами... Вся революция - жидовское дело». Самое страшное, предрекал Бостунич, разыграется, однако, в ближайшее десятилетие (его двухтомник вышел в 1928 г.), когда развернется «последний этап перед победоносным возвращением головы Змия в Константинополь»61.
Всякому, кто имеет хоть первоначальное представление о европейской истории, путешествие вышеозначенного Змия безусловно покажется бредом. Что, впрочем, не помешало деятелям «арийской» науки в нацистском Берлине воспринять его как первостепенное открытие. Оно, собственно, и послужило ключом к карьере Бостунича в интеллектуальных кругах СС. В его безумии они несо-
Там же.
Там же. С. 132-133.
мненно усмотрели систему. Две вполне прагматические цели во всяком случае просматриваются в нем ясно. Во-первых, представить «жидовскую революцию» в России как одно из заключительных звеньев гигантского глобального плана завоевания мира. И притом не какой-то абстрактной «темной силой», как у Маркова, но уходящим в глубь веков «жидо-масонским» заговором - сточной хронологией его триумфов и вытекающими из них историческими нравоучениями.
Вторая цель заключалась в том, чтобы представить большевизм агентом этой древней каббалы, отождествить его с вековой кровожадной мечтой еврейства. Так, собственно, Бостунич и говорит: «Большевизм - это стремление жидов всего мира к уничтожению христианских государств»[162]. Или еще лучше: «Экскремент вывороченных мозгов жида Карла Маркса разбудил дремавшие низменные инстинкты несчастных гоев на радость жидам ... стал средством внутреннего душевного разложения арийцев»[163].Гитлеру нужен был тезис, способный объединить все консервативные силы Германии так же, как и все фракции его собственной партии. Вот почему в его руках средневековый бред Бостунича станет инструментом мощного пропагандистского наступления на ценности современной цивилизации. И обойдётся он в конечном счете человечеству в шестьдесят миллионов жизней. Следует, однако, и Бостуничу отдать должное. Разыграется мировая трагедия действительно в ближайшее после выхода его книги десятилетие.
Эсхатологическая истерика
Глава десятая Агония бешеного национализма
Но самая любопытная фигура в этой компании бешеных пророков все же не Бостунич, а Ю.М. Одинзгоев. Любопытен он прежде всего тем, что мы ровно ничего о нем не знаем - ни года и места издания его книги, ни даже настоящего его имени. По какой-то причине человек этот не пожелал открыться ни современникам, ни потомкам. (Может быть, кто-нибудь из читателей окажется счастливей меня и разгадает эту тайну.) Ясно лишь, что Одинзгоевявно означает «один из гоев». Из текста следует также, что вышла его книга после поражения Врангеля в 1920-м, но до Генуэзской конференции 1922-го, следовательно, скорее всего в 1921 году.
Более того, это, похоже, единственная из работ наследников выродившейся утопии, преследующая совершенно конкретную политическую цель: напугать христианско-демократические, консервативные и антисемитские круги в Европе с тем, чтобы предотвратить именно эту конференцию, на которой западным политикам предстояло впервые сесть за стол переговоров с большевиками.
Поэтому Одинзгоев, в отличие от Маркова и Бостунича, обращен не в прошлое, а в будущее. Его пророчество можно, пожалуй, назвать эсхатологической истерикой.
Опирается автор совершенно очевидно на еще одно знаменитое пророчество К.Н. Леонтьева, вынесенное в эпиграф этой главы (приправленное, разумеется, рутинной в этом славянофильском поколении истерической антисемитской риторикой). Да, утверждает Одинзгоев, антихрист родился. И, как предсказал Леонтьев, родился в России, которая и стала соответственно его плацдармом в сердце Европы - накануне финального штурма истерзанного войной континента. И означает его рождение предвестие Апокалипсиса.
Что русская революция есть «действие антихриста в лице Израиля, - пишет Одинзгоев, - не подлежит ни малейшему сомнению, как не подлежит сомнению и грядущее жесточайшее отрезвление после воцарения антихриста в лице Всемирного Деспота из Дома Давидова, предсказанного нам Апокалипсисом и явно ныне подготавливаемого к выступлению на сцену иудо-масонами, при всемерной поддержке и пособничестве «христианских правительств», на 3/4 состоящих из представителей «избранного народа» и его наймитов-христиан, ставленников франкмасонско-жидовского тайного союза!»[164]. Узнаете стиль Михаила Назарова? Как же они все-таки однообразны, все эти пророки. И как легко угадать, что будет дальше...
Дальше речь пойдет само собой уже не о России, но о мире, «так
как буквально нет ни одного государства, где за спиной официальных представителей власти не скрывались бы жиды, истинные руководители международной политики и вдохновители интернационального социалистического войска, в лице представителей всех без исключения социалистических партий и рабочего класса - орудия франкмасонско-жидовских властителей»65.
За этим следует, скорее, поток сознания с бесконечными повторениями одного и того же. Очень похоже на речи Гитлера. Вот послушайте: «Европе уготован тот же путь... Час расплаты за безумную податливость извергам рода человеческого приближается, и обманутые собственными вождями народы на собственном опыте не замедлят убедиться в уготованном им кошмарном грядущем в социа- листически-болыиевистском эдеме, под властью еврейского Совнаркома, не замедлящего, без сомнения, выявить свою истинную сущность человеконенавистнического и антихристианского сверхправительства, стремящегося всех привести к одному знаменателю, обратив в рабов «избранного народа» и его царя-деспота сионской крови. Катастрофа близка, при дверях»66.
Странным образом неотразимо напоминает это исступленное заклинание уже цитированный нами прогноз, сделанный полстолетия спустя (разумеется, без совершенно уже в ту пору неуместной антисемитской орнаментировки). Помните, «коммунисты везде уже на подходе - и в Западной Европе и в Америке. И все сегодняшние дальние зрители скоро все увидят не по телевизору и тогда поймут на себе - но уже в проглоченном состоянии»?67.
Впрочем, разве и в наши дни не предупреждают новые пророки - все стой же одинзгоевской уверенностью, - что «на подходе» НАТО и кошмарные цветные революции, вдохновленные и «проплаченные» Америкой. В 1920-е, однако, роль Америки во всем этом ужасе оставалась совершенно неясной. Ни Марков, ни Бос- тунич, ни даже Одинзгоев её даже не упомянули. Секрет, похоже, прост. Сверхдержавой была тогда Англия, она и присутствовала в этих диатрибах в качестве, естественно, «подлейшей из стран мира». Америка была ни при чем. Вот это непростительное упущение постреволюционных бешеных пророков и пытаются восполнить сего-
Тамже. С. 225. Там же. С. 213,207. Вече. №5.1982. С. 12.
дняшние одинзгоевы.
Как бы то ни было, в том, как спасти мир от наступающего Апокалипсиса, постреволюционные пророки легкомысленно соглашались с Бостуничем, что «наступление остановит только восстановление законной монархии в России. Заминка, которая произойдет в жидовских рядах в этот момент, будет началом их отхода с передовых позиций, а там мы спасем гнилую Европу (хотя и не следовало бы этого делать). Спасем просто потому, что этим мы себя навеки обезопасим от повторения жидовского нашествия»68.
ды оппонентов, которые мы только что цитировали. То же самое, вероятно, что ответили бы, будь они живы, декабрист Никита Муравьев или философ Владимир Соловьев: давайте разберемся, что мы знаем, а чего не знаем. Мы знаем, например, что победа большевистского правительства Ленина-Троцкого в октябре 1917-го и впрямь была для России великим несчастьем. Но мы не знаем - и, слава Богу, никогда уже не узнаем - меньшим или большим несчастьем была бы для нее победа правительства, скажем, Маркова-Пуришкевича.
Разве сумело бы оно без жесточайшего террора подавить крестьянскую пугачевщину и вернуть землю помещикам? Разве мыслимо было для него без железной диктатуры сохранить единую и неделимую, когда побежали от нее, как от чумы, этнические меньшинства? Разве удалось бы им «спасти гнилую Европу от повторения жидовского нашествия», не объявив ей, подобно Николаю I, войну - крестовый поход? Разве смогли бы они без газовых камер осуществить «окончательное решение еврейского вопроса» или, выражаясь языком Бостунича, «отрубить хвост жидо-масонскому Змию» в России, а тем более в мире?
6*БостуничГ. Цит. соч. С. 125.
Не знаем мы, другими словами, чем отличалось бы правительство Маркова от фашистского. Ведь не случайно же Бостунич так высоко продвинулся в иерархии СС. И не случайно так горько оплакивал Марков - и уже в наши дни Кожинов - Черную сотню, которая была в конце концов не более, чем «русским изданием национал- социализма»[165]. А в том, что победи эти люди, «не Струве, а Марков будет править Россией именем царя»[166], и что именно поэтому «монархия из нейтральной политической формы становится огромной политической опасностью для России»[167], не было у Федотова никаких сомнений.
Короче говоря, если и по сию пору не знаем мы ровно ничего ни о «франкмасонско-жидовском тайном союзе», ни о «политическом плане, составленном царем Соломоном», ни тем более о падшем ангеле Сатанаиле-Деннице, которых звали в свидетели цитированные выше пророки, то ведь очень хорошо мы знаем, что нес России и Европе фашизм. А именно - рабство и смерть. И как же в таком случае назвать тех, кто с ним по собственной воле и с большим даже, как мы видели, энтузиазмом сотрудничал?
Никаких других комментариев и не требовалось бы, собственно, к их безумным иеремиадам, когда бы не жестокий факт, что совершенно серьезно приходилось с ними спорить Федотову. Когда бы, иначе говоря, не жила значительная часть русской эмиграции идеей смены «одного тоталитаризма другим»[168]. «Многие скажут: фашизм придет на смену сталинизму и это уже огромный шаг вперед».[169] Он отвечал, что «сталинизм есть одна из форм фашизма, так что этот исход равнозначен укреплению выдыхающегося фашизма с обновлением его идеологии»[170]. Или что «фашистский проект представляется наиболее утопическим и вредным вариантом русской диктатуры»75.
Но о чем же еще могло свидетельствовать мнение этих «многих»,
предпочитавших тогда фашизм, если не о том, что агония бешеного национализма, которую мы здесь наблюдали, отражала вовсе не безумие нескольких осатаневших идеологов, но была явлением важным, массовым, отражавшим, по выражению Владимира Варшавского, «дух времени - могучее притяжение фашистской революции»?76 Вот же еще почему так страшно и трудно агонизировало в 1920-е русское средневековье. Это мы знаем.
Чего мы не знаем, это действительно ли ушло оно уже в небытие вместе с поколением Маркова и Бостунича. Или усилия Кожинова с Назаровым сулят ему еще одну - на этот раз последнюю - вспышку. Как бы то ни было, одно знаем мы, я думаю, теперь точно. Не дай нам Бог увидеть когда-нибудь у власти в России людей, подобных героям этой главы.
Глава десятая
ПрИ Ч6М ЗДбСЬ Агония бешеного национализма
нечистая сила?
Остается еще, однако, вопрос о происхождении Катастрофы. Марков, как мы слышали, полагал, что «темная сила погубила Российскую империю». Бостунич уверял нас - и свое эсэсовское начальство - что Катастрофа, «как по нотам была разыграна по планам интернационального воинствующего жидовства и является осуществлением его заветной мечты - поработить весь мир, а нас, христиан, сделать своими рабами». Ю.М. Одинзгоев, а в наши дни Назаров, приплели сюда еще и «антихриста в лице Всемирного деспота из дома Давидова». Логично предположить, что Федотов ответил бы на все это так же, как знаменитый астроном Лаплас на вопрос Наполеона о существовании Бога: «Мне в моих занятиях не случалось нуждаться в такой гипотезе».
При чём здесь в самом деле антихрист или интернациональное жидовство, если «наша великолепная реакция-даже в Достоевском и Леонтьеве - всегда несла в себе разлагающее зерно морального порока»?77 Если «для Польши Россия действительно была тюрьмой,
Варшавский В. Цит. соч. С. 57. Федотов Г.П. Цит. соч. С. 183.
для евреев гетто»?[171] Если на первые же признаки пробуждения национального самосознания в этнических меньшинствах империи «русские националисты... ответили травлей инородцев, издевательством над украинцами, еврейскими погромами», и «два последних императора, ученики и жертвы реакционного славянофильства, игнорируя имперский стиль России, рубили его под корень»?79 Если подавляющая масса населения страны, ее крестьянство, было не только ограблено в ходе Великой реформы, но и вообще обитало совсем не в том измерении, не в той, можно сказать, реальности, что ее культурная элита? Если имперская бюрократия до последнего вздоха свято верила архаическим славянофильским мифам о «славянском братстве» и Царьграде и понятия не имела, чем дышит ее собственный народ?
Ну какое, спрашивается, могла иметь ко всему этому отношение нечистая сила? Вот что действительно имело к этому отношение: в отличие от всех других великих европейских держав, кроме Германии, русская политическая элита не сумела создать защитные механизмы, предохраняющие страну от национальных катастроф.
Именно поэтому, когда в воздухе запахло грозой, не оказалось в России ни гарантий от произвола власти, ни сильных и пользующихся доверием общества институтов, воплощающих эти гарантии, ни идей, способных мобилизовать культурную элиту на защиту гибнущей страны. Не мифические происки антихриста предотвратили в России формирование этих гарантий и защитных механизмов, а вполне реальное сопротивление самодержавия политической модернизации. И объяснялось его сопротивление вовсе не одними лишь помещичьими классовыми интересами, как нас учили, но вполне определенной совокупностью идей, которыми это самодержавие жило и дышало. Ядром этой роковой для страны идеологии было, как мы видели, то самое карамзинско-уваровское представление о внеевропейской «самобытности» отечественной культуры.
Между тем «национальная культура, - объяснил нам Федотов, - не есть завещанный предками мертвый капитал, а живая творческая
сила, создающая новое, еще небывалое, еще не расцененное ... Национальная душа не дана в истории. Нация не дерево и не животное, которое в семени несет в себе все свои возможности. Нацию лучше сравнить с музыкальным или поэтическим произведением, в котором первые такты или строки вовсе необязательно выражают главную тему. Эта тема иногда раскрывается лишь в конце»80.
Другое дело - и в этом главная ценность реакции бешеных, в которой я так подробно пытался разобраться, - что в их фантасмагорических гипотезах о происхождении Катастрофы, отразилась, как в капле воды, средневековая природа этого карамзинско- уваров- ского консервативного мифа, в той или иной форме управлявшего умами русской культурной элиты на протяжении почти двух столетий.
Вот почему, когда настал грозный час расплаты, оказалось, что просто неспособны прямые наследники этого мифа ответить на Катастрофу ничем, кроме эсхатологической истерики, кроме беспомощной - и нелепой в современном мире - ссылки на нечистую силу. Да еще, конечно, тем, что нашли себе новое отечество в идущей к новому взрыву средневековья Германии, которую сами не так уж и давно проклинали как «главного врага и смутьяна среди остального белого человечества».
И поскольку не суждено им было «спасти гнилую Европу» от грозившего ей, по их убеждению, Всемирного деспота из дома Давидова, единственная оставшаяся им практическая функция состояла в том, чтобы помочь Гитлеру добиться победы в Германии, натравить его ^на «франкмасонско-жидовских властителей Европы» - и на свою бывшую родину. Обагрив при этом руки кровью народа, в любви к которому клялись они со всех амвонов.
Как, подумайте, трагично, что именно этой жалкой в своей средневековой ярости когортой, единственным аргументом которой оказалась, как мы видели, нечистая сила, завершилось первое столетие благородной, но безнадежно утопической попытки русского национал-либерализма спасти Европу и Россию от исторической катастрофы. Они стали орудием этой катастрофы.
Глава десятая
ОПЯТЬ предчувствия. Агония бешеного национализма
Другой путь
Также, как его учитель, предчувствовал Федотов, что «крушение русского средневековья будет особенно бурно и разрушительно»[172]. И так же, как Соловьеву, не дано ему было дожить до дня, когда крушение это и впрямь началось. Мне хотелось, чтобы читатель увидел нарисованную в этой трилогии документальную картину трагического торжества средневекового мифа в России - от его затерявшегося в древних летописях иосифлянского начала в 1480-е (вспомните хотя бы свирепый поход против «жидовствующих») до промелькнувшего сейчас перед нашими глазами совершенно прозрачного при всей его умопомрачительности полуфинала в 1920-е (пылавшего, как мы видели, ненавистью ко все тем же «жидовствующим») - не только как печальный исторический урок, но и как подхваченную эстафету.
Просто потому, что были у меня, как знает читатель, предшественники в этой четырехвековой борьбе против русского средневековья. Их судьба сложилась плохо, чтобы не сказать трагически. Их предостережений не услышали, не поняли. Да и чувствовали они, что не удивительно, по-разному. Затянулось дело: четыре столетия - длинный перегон. Объединяло их всех, начиная от Михаила Салтыкова и до Георгия Федотова, собственно, одно лишь горькое прозрение, точно сформулированное Соловьевым. На простом русском языке звучало оно, как мы помним, так: «Россия больна» и «недуг наш нравственный»[173].
На сегодняшнем ученом жаргоне равносильно это, наверное, утверждению, что насильственно лишенная политической модернизации, одержимая навязанной ей искуственной неевропейской «самобытностью» страна обречена быть неконкурентоспособной в современном мире. А поскольку большинство российской публики этого прозрения не услышало, дурные предчувствия были, согласитесь, естественны.
Например, Никита Муравьев, который со своим проектом конституции поднял грандиозную проблему воссоединения страны, был,
несмотря на опьяняющие романтические настроения декабристской эпохи, человеком трезвым. Живи он в другие времена и в другой стране, быть бы ему, вероятно, тонким и проницательным лидером политической партии. В России начала XIX века ему пришлось стать заговорщиком, идеологом военного пронунциаменто. Так ведь и Чаадаев, объявленный в Петербурге сумасшедшим, как слышали мы от Пушкина, в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес...
Как сказал жандармский генерал Леонтий Дубельт выдворяемому из Петербурга Герцену втом самом году, когда Муравьев умирал на каторге в Сибири: «У нас не то, что во Франции, где правительство на ножах с партиями, где его таскают в грязи, у нас управление отеческое»[174].
Вот Муравьев и предчувствовал, что, если болезнь «отеческого управления» (по латыни патернализм) срочно не излечить, бедствия из этого проистекут для отечества неисчислимые. И лекарством полагал он конституцию.
Соловьев, в отличие от него, был мыслителем, доктором философии. И жил он в постниколаевской славянофильской России. Ему было уже вполне понятно, что болезнь зашла куда глубже государственного патернализма, проникла в самые интимные ткани общества. Он предчувствовал смертельную опасность нового сверхдержавного соблазна и пытался погасить пока не поздно воинственные настроения «национально ориентированной» публики, яростно полемизируя с их глашатаями.
Федотов пришел уже после конца. Вокруг него бушевало море эмигрантской ненависти и эсхатологической истерики, эскиз которой попытался я набросать в этой главе. Зрелище было жуткое: эмигранты - несчастные, обездоленные, перебивавшиеся в чужих странах случайными заработками, и все-таки неутомимо строившие планы грандиозного и непременно сверхдержавного реванша. Георгий Петрович предчувствовал, что все это - и государственный патернализм, и националистический миф, и идея «смены одного тоталитаризма другим», и апелляции к нечистой силе - опять воскреснет в стране после распада CCCFJ только в масштабах гигантских, национальных, чреватых новым, на этот раз, быть может, окончательным самоуничтожением России. Во всяком случае предвидел он, как мы помним, что «когда пройдет революционный и контрреволюционный шок, вся проблематика русской мысли будет стоять по- прежнему перед новыми поколениями»[175].
А это между прочим означало, что и «после большевиков» не уйти будет новым поколениям от старого славянофильского мифа, который однажды - у него на глазах - уже погубил Россию. Более того, опасался Федотов, что как раз когда откроются все шлюзы и гигантская волна дореволюционной и эмигрантской мысли, со всеми ее гибельными иллюзиями и зловещими пророчествами, захлестнет страну, неподготовленные умы окажутся бессильны сохранить от этого поистине библейского потопа главную для него - декабристскую, муравьевско-соловьевскую - тему. И мощная славянофильская нота о «силе и призвании России» опять заглушит для новых поколений тему ее «болезни».
Тем более что ни минуты не сомневался Федотов: окончательное крушение русского средневековья будет эпохой трагической. «Нет решительно никаких оснований, - повторял он, - представлять себе первый день России после большевиков как розовую зарю новой свободной жизни. Утро, которое займется над Россией после кошмарной ночи, будет скорее то туманное «седое утро», которое пророчил умирающий Блок... После мечты о мировой гегемонии, о завоевании планетных миров, о физиологическом бессмертии, о земном рае -[оказаться] у разбитого корыта бедности, отсталости, рабства, может быть, национального унижения... Седое утро»85.
И со всей неизбежной при крушении вековой империи грязью и кровью, с предательством наивного и не понимающего, с чем он имеет дело, Запада, со всепроникающей коррупцией и невыносимым чувством национального унижения неминуемо вдохнет это «седое утро» новую жизнь в старые мифы.И может случиться так, что даже величайшее из достижений советского инобытия Московии, победа - в союзе с Западом - над фашизмом, окажется, как и констатировала много лет спустя одна из колеровских «производителей смыслов» Екатерина Дёготь, лишь «реминисценцией глубинной нелюбви к Западу. Потому что на протяжении многих поколений это подавалось как победа не просто над фашизмом, а именно над Западом. Для значительной части населения Запад - это общий враг, который еще со времен Никейского собора сумел нас облапошить и выбрать какой-то более выгодный исторический путь развития. А мы, с нашей глубиной и достоинствами, оказались в ж...»86
Да и могло ли случиться иначе, покуда по-прежнему господствует над умами все тот же карамзинско-уваровский консервативный миф внеевропейской «самобытности» отечественной культуры? Разве не он сокрушил в 1917-м Россию? И разве не был он снова на устах путчистов в августе 1991-го? Такой ли уж фантазией звучит после этого другое - вполне федотовское - предсказание Екатерины Дёготь, что «борьба с тем фашизмом, к несчастью, может стать знаменем нового фашизма в России»?87
По всем этим причинам предчувствия Георгия Петровича были, если угодно, еще трагичнее, еще безнадежнее соловьевских. Больше всего, впрочем, опасался он как раз того, что произошло в сербской мини-империи, известной под именем Югославии. Того, что « в общем неизбежном хаосе... произойдет гражданская война приблизительно равных половин бывшей России. Если даже победит Великороссия и силой удержит при себе народы империи, ее торжество может быть только временным. В современном мире нет места Австро-Венгриям... Ликвидация последней империи станет вопросом международного права и справедливости»88.
Страшен сон^да милостив Бог. Пронесло. Навсегда ли, однако? Кто знает, кончилась ли уже для России эпоха крушения средневековья, принесшая Югославии море человеческих страданий и неисчерпаемую, похоже, взаимную ненависть народов бывшей империи? «Большевизм умрет, как умер национал-социализм, - говорил в конце 1940-х Федотов, - но кто знает, какие новые формы примет русский... национализм?»89
Общественная реакция на путинский «поворот на Запад» после 11 сентября 2001 года свидетельствовала, что не зря мучила Федотова
Цит. по: Колеров МЛ. Новый режим. M. 2001. C.99
Там же.
Федотов Г.П. Цит. соч. С. 326.
как ученика Соловьева эта жестокая дилемма. Вот как сформулировала её два поколения спустя, уже в мае 2002 года, московская газета Аргументы и Факты: «Одни говорят, что Россия стала колоссом на глиняных ногах... Но есть и другое мнение: страна затаилась и копит силы для перехода в новое качество - геополитического и экономического лидера если не всего мира, то уж Европы точно»[176].
При всей неряшливости этой журналистской формулировки смысл вопроса прозрачен: окончательно ли признала себя в 2001 году Россия устами Путина одной из великих европейских держав или поворот её, как и в 1860-е, был лишь тактическим маневром, не миром, а перемирием? Покуда у руля страны последнее советское поколение, да еще и выпестованное Андроповым, окончательного ответа на этот роковой вопрос мы не получим.Тем более что, как и в роковое десятилетие Великой реформы, по- прежнему опасно слаба в стране европейская, декабристская традиция.К чести России, однако, традиция эта никогда в ней не умирала, даже посреди эмигрантской ненависти и эсхатологической истерики. Именно тогда, в самую мрачную пору позднего сталинизма в начале 1950-х и писал ведь Владимир Вейдле: «Задача России заключается в том, чтобы стать частью Европы, не просто к ней примкнуть, а разделить её судьбу»[177]. Увы, голосу его суждено было остаться, как и голосам его предшественников, одиноким воплем а пустыне.Нет сомнения, сталинская эпоха была для Вейдле, как и для Федотова, чем-то вроде нового татарского ига, поставившего страну на колени. С порога отвергали они «официальное советское мировоззрение, [которое] проистекает из малограмотного западничества, приправленного дешевым славянофильством»[178]. Но свято верили, что вновь «не отатарится» Россия. И обосновывали свою веру в её европейскую судьбу тем, что ведь «и древняя Русь не отатарилась, от европейского наследства не отреклась и кончилась Петром, прорубившим окно не куда-нибудь в Мекку или в Лхасу»93.Более того, уже тогда, когда и просвета не было видно в тучах, убеждали они Европу, что «лишаясь России, она теряет источник
обновления, лишается единственной страны, своей отсталостью способной её омолодить, самой своей чуждостью напитать, потому что эта чуждость не такая уж чужая, потому что эта отсталость может ей напомнить её собственную молодость»94.
Всё это очень глубоко и серьёзно, хотя эхо славянофильских грёз слышно и здесь (как, впрочем, и у всех постдекабристских западников). И всё-таки ярче чего бы то ни было свидетельствует исповедь Вейдле, что пережила декабристская традиция России и Катастрофу, и сталинизм, и эмиграцию.Это правда, не спасла она, как мы видели, страну в пору решающей - и последней в дореволюционной России - патриотической истерии 1908-1914 годов. Не только потому, однако, что оказалась несопоставима с мощью сверхдержавного соблазна и средневекового мифа, гласившего, что «Россия не может идти ни по одному из путей, приемлемых для других цивилизаций и народов». Не спасла европейская традиция страну в 1917-м еще и потому, что стояло тогда за плечами рушившейся петровской России другое, допетровское «мужицкое царство». Только оно, как мы уже говорили, и сделало возможной реставрацию московитской империи на развалинах петровской.Ничего похожего не стояло - и не стоит - за плечами разрушенной второй империи. И по этой причине путь реставрации ей заказан. Навсегда. Знаменитая деревенская литература, оплакавшая исчезновение «мужицкого царства» еще в 1970-е, самое красноречивое этому свидетельство. Приходится признать, что Великого немого, на протян^нии полутора столетий вдохновлявшего консервативный миф, больше нет.
Вот почему шансы европейской традиции в XXI веке, едва сойдет с политической сцены последнее советское поколение, несопоставимо выше, чем в начале - и даже в конце XX. Бесспорно, вера в сак- ральность верховной власти, возрожденная при Сталине, все еще работает. Но и ей нанес жестокий удар своей отставкой Путин. Если я прав, царская отставка неминуемо приведет к мощному сдвигу в
19 Янов
сознании - и даже в подсознании - городской России (и символом ее станет разброд и шатание в рядах экзальтированных «Наших»). Бесспорно и то,что историческая драма патриотизма/национализма, та самая, что привела к кровавой бане в Югославии, продолжает зловеще бурлить и в российском подсознании (и опять, как во времена Вех, глуха к ней близорукая элита, по-прежнему поглощенная мутной пеной повседневных политических баталий).
Всё верно. Только вот почва для возрождения старинного консервативного мифа искусственной «самобытности» стремительно размывается. И потому предчувствия, которые мучат меня так же, как терзали они моих предшественников, неизмеримо оптимистичнее. В отличие от них, я уверен в победе европейской традиции России. Другое дело, сколько времени это займет и сколько страданий - и тяжелых депрессий - еще принесет этот мучительно медленный исторический процесс распада консервативного мифа бедной русской интеллигенции. Конечно, я хочу, чтобы этих страданий было меньше. И потому выбираю другой путь.Предшественники мои видели лекарство от болезни в обращении к здравому смыслу своих читателей. Федотов, в частности, призывал их понять, что «для самой России насильственное продолжение имперского бытия означало бы потерю надежды на ее собственную свободу... Как при московских царях самодержавие было ценой, уплаченной за экспансию, так фашизм является единственным строем, способным продлить существование каторжной империи»95. И потому, убеждал он их, «потеря империи есть нравственное очищение, освобождение русской культуры от страшного бремени, искажающего ее духовный облик»96. Ибо «ненависть к чужому - не любовь к своему - составляет главный пафос современного национализма»97.
Также, как в случае Соловьева и Вейдле, всё это замечательно глубокие и серьезные аргументы, но... Но они не сработали. Вот почему не хотел я ограничиться аргументами. Хотел показать читателю, как происходила и почему никогда не прекращалась в России непримиримая борьба ее европейской и патерналистской традиций.
Федотов Г.П. Цит. соч. С. 326.
Там же. С. 327.
Акт за актом развернуть перед ним картину этой затянувшейся на четыре столетия драмы.
Явственно должно перед ним вырисоваться в трилогии и то, как все это начиналось - в XV веке, на самой заре русской государственности, в беспощадной схватке между иосифлянами и нестяжателями. И то, как принесла победа иосифлян стране крестьянское рабство и тотальный террор в веке XVI.
И то, как торжествовал в ней над Ньютоном Кузьма Индикоплов в Московитском столетии, институционализируя и тем самым увековечивая эту роковую победу.
И то, как, разворачивая страну в сторону Европы и просвещения, углубил вто же время Петр пропасть между двумя Россиями, разверзшуюся еще при Иване Грозном. И то, как прахом пошли в Новое время все попытки воссоединить страну - от Сперанского и декабристов до Витте и Столыпина. И то, наконец, почему пошли они прахом: карамзинско-уваровский консервативный миф внеевропейской «самобытности» России оказался сильнее здравого смысла.
Все остальное было предсказуемо. И «последняя война», о которой пророчествовал Соловьев. И эсхатологическая истерика её инициаторов, пытавшихся свалить свое злодеяние на чужие плечи. И растерянность вполне вроде бы либеральной, западнической публики, которую тот же консервативный миф превратил, едва оказалась она его пленницей, в смертельный инструмент «разрушения цивилизации», поуже известному нам выражению Гейне.
Я не знак^ сработаетли картина там, где спасовали аргументы. Не знаю даже, действительно ли предстала со страниц трилогии перед читателем картина, которую я пытался нарисовать. Об этом судить читателю. Единственное, что я могу сказать в ее оправдание, это что я старался и вложил в эту картину полжизни.
В любом случае, однако, смысл ее совершенно ясен. Это совсем Другая история, не та, которой учили читателя в советской школе, и не та, которой учат сегодня в российских и западных университетах. Из этой истории следует: всё, что происходит сейчас в идейной жизни России, уже с нами было. Только в отличие от своих предшественников, пытаюсь я воевать с общим и Муравьеву, и Соловьеву, и Федотову предчувствием, обращаясь не столько к его, читателя, рефлексии, сколько к естественному человеческому желанию не дать одурачить себя снова.
глава первая ВвОДНЭЯ
глава вторая У истоков «государственного патриотизма»
глава третья Упущенная Европа
глава четвертая Ошибка Герцена
глава пятая Ретроспективная утопия
глава шестая Торжество национального эгоизма
глава седьмая Три пророчества
глава восьмая На финишной гфямой
глава девятая Как губили петровскую Россию
глава десятая Агония бешеного национализма
ОДИН
Поел
ГЛАВА
НАДЦАТАЯ
еднии спор
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Последний спор
Долгое рабство - не случайная вещь: оно, конечно, соответствует какому-нибудь элементу национального характера. Этат элемент может быть поглощен, побежден другими элементами, но он способен также и победить.
Александр Герцен
·4 ... Перемены Вашего духовного лица я старался понять.
Но вот к власти пришел Гитлер и Вы стали - 1 прогитлеровцем. У меня до сих пор имеются Ваши
/ прогитлеровские статьи, где Вы рекомендуете
русским не смотреть на гитлеризм «глазами евреев»... Как Вы могли, русский человек, пойти к Гитлеру?.. Категорически оказались правы те русские, которые смотрели на Гитлера «глазами евреев».
Роман Гуль Письмо И.А. Ильину, 1949 г.
Судя по сравнительно недавним публикациям, труднее всего, боюсь, будет мне убедить в том, что о русской истории можно судить и вне сложившихся за десятилетия стереотипов (outside the box, как любят говорить американцы) вовсе не имперских реваншистов, но своих политических единомышленников, либеральных культурологов. Конечно же, мои разногласия с ними не столь фундаментальны, как с певцами державного «особнячества» - скорее, тактические, нежели стратегические. Но все-таки они очень серьезны. И я не счел бы свои обязательства перед читателями выполненными, не обсудив эти разногласия публично, по крайней мере, в заключение трилогии.
Я понимаю, что, как всякий запоздалый «второй фронт», создаёт такое обсуждение массу формальных неудобств. В частности, мне
придётся оживить в памяти читателя множество персонажей, эпизодов и ссылок, уже известных ему из первой, из второй, даже из этой, заключительной книги трилогии. В принципе это все равно, как попытаться заново перевоевать, если можно так выразиться, уже законченную войну - только на новом фронте. С другой стороны, однако, имеет такая попытка и свои преимущества. Она даёт возможность вкратце обобщить, свести воедино все разнообразные аргументы, разбросанные по пространству трилогии, заново оценить их логику и проверить их интеллектуальную убедительность. Я хочу надеяться, что преимущества этого последнего спора перевесят в глазах читателя его неудобства (и вынужденные повторения).
Точнее всех, кажется, сформулировал наши разногласия с либеральными культурологами Андрей Анатольевич Пелипенко в статье «Россия и Запад: грани исторического взаимодействия»[179]. Впрочем, его формулировки до такой степени буквально отражают общепринятый среди них взгляд на русскую историю, что спорить с ним, по сути, все равно, что спорить с самим этим взглядом.
Например, Пелипенко решительно не верит, что Россия изначально страна европейская - и либеральные культурологи не верят. Он убежден, что в качестве деспотической империи Россия всегда противостояла Европе, была ее антитезой. И его коллеги в этом убеждены. Он считает, что «генеральной доминантой» европейской государственности был «процесс формирования национальных государств»[180], тогда как в России никогда такого процесса не было. И культурологи так считают. Он полностью игнорирует открытия советских историков-шестидесятников, документально доказавших бурный подъём национальной экономики в досамодержавной, докрепостни- ческой и доимперской России первой половины XVI века, тот самый экономический подъем, на который, собственно, и опирались либеральные реформы 1550-х. И коллеги эти открытия игнорируют.
Короче, совпадений не перечесть. Что до отечества, то «с эпохи Ивана Грозного Русь обозначилась для Европы в качестве внешней
имперской антитезы»3. А это, естественно, влекло за собою «отказ от либеральной альтернативы»4.
w Глава одиннадцатая
Хронологическии пос*дни«спор маневр
Здесь, однако, возникает проблема. Состоит она в том, что русская история не начинается с Ивана Грозного. И с империи не начинается она тоже. На самом деле от начала Киевско- Новгородской Руси до окончательной победы контрреформаторов - иосифлян (и вытекавшей из нее самодержавной революции Грозного царя) в 1560-е, прошло не меньше веков, чем от этой победы до наших дней. И все эти либеральные, если можно так выразиться по отношению к тому времени, века «генеральной доминантой» русской государственности как раз и был точно такой же, как в Европе «процесс формирования национального государства».
Неудавшийся на первых порах, это правда, как, впрочем, не удался он и в вестготской Испании, а потом и вовсе насильственно прерванный - в одном случае монгольским, в другом - арабским завоеванием - но во всяком случае ничего подобного самодержавию - оставим пока в стороне вопрос о деспотизме - и в помине тогда на Руси (опять-таки как в вестготской Испании) не было. Более того, единственная известная нам попытка установить режим неограниченной власти окончилась для великого князя Владимирского Андрея Боголюбского в середине XII века, скорее, драматически: он был убит собственными боярами. Окончилась, иначе говоря, победой тогдашних противников самодержавия (о вестготской Испании говорил я потому, что вижу ее как, хоть и грубую, но все же самую близкую аналогию норманской Руси).
Европейский характер Киевско-Новгородской Руси признают, как мы видели, даже самые неколебимые из западных приверженцев теории «русского деспотизма» Карл Виттфогель или Тибор Самузли (надеюсь, Пелипенко извинит меня за то, что Ричарда Пайпса, на которого ссылаются культурологи, я авторитетным историком не считаю: в первой книге трилогии подробно обьяснено почему). Мало того, главная трудность для этих авторов состоит именно втом, чтобы объяснить роковой «перелом» второй половины XVI века, в результате которого европейская Русь превратилась вдруг в «антитезу Европе»[181]. Их неудачные, на мой взгляд, попытки объяснить этот драматический «перелом» тоже подробно рассмотрены в трилогии и нет надобности здесь их повторять.
Пелипенко, однако, предпочел, как мы видели, обойти эту трудность западных единомышленников своего рода хронологическим манёвром, попросту начав русскую историю с противостояния Европе во второй половине XVI века. Само собою пришлось ему для этого пойти на некоторые жертвы. Например, игнорировать эпохальную борьбу тогдашних либералов (нестяжателей) против идеологов империи (иосифлян) за церковную Реформацию. Междутем именно трагический исход этой борьбы, по сути, и предрешил судьбу России на четыре столетия вперед.
И не одну лишь нестяжательскую борьбу, продолжавшуюся, между прочим, на протяжении четырех поколений, пришлось ему игнорировать, но и, скажем, связанные с нею «Московские Афины» 1490-х. И «крестьянскую конституцию» Ивана III (Юрьев день). И вообще все его царствование, занявшее практически всю вторую половину XV века, на протяжении которого Россия не была ни империей, ни «антитезой» (скорее уж национальным государством). Не упоминает Пелипенко даже о Великой реформе «Правительства компромисса», вводившей в России 1550-х земское самоуправление и суд присяжных - за три столетия до реформ Александра II. Не упоминает даже о пункте 98 Судебника 1550 года, который назвал я в трилогии русской Magna Carta и который впервые юридически запрещал царю принимать новые законы единолично.
«Ах, если бы...»
Еще важнее, что даже и такой не совсем, согласитесь, корректный хронологический маневр не избавил Пелипенко от трудностей. Например, если уж не естественное для ученого историческое любопытство, то здравый смысл должен был, казалось, побудить его задать себе вопрос, откуда уже четверть века спустя после смерти Грозного возник в «имперской антитезе» первый среди великих держав Европы полноформатный проект Основного закона конституционной монархии. Я говорю, конечно, о конституции Михаила Салтыкова 1610 года, высоко, как мы видели, оцененной классиками русской историографии. Не мог же в самом деле столь подробно разработанный конституционный документ появиться на свет неожиданно, словно Афина из головы Зевса.
В трилогии, как помнит читатель, я попытался дать на это вполне недвусмысленный ответ. В принципе состоитон в двойственности русской политической культуры. Возникла эта двойственность, как я надеюсь, помнит читатель, не позже XII века, в период распада Киевско-Новгородской Руси, когда князья практически беспрерывно воевали друг с другом, и холопы, управлявшие княжескими доменами, насмерть враждовали с вольными дружинниками князя. Продолжалась эта непримиримая вражда столетиями. Отсюда и пошли, резонно предположить, в русской политической культуре две взаимоисключающие - и, примерно, равные по силе - традиции. Потому и назвал я одну из них холопской, а другую - традицией вольных дружинн^ов.
Так или иначе, в свете этой перманентной и беспощадной войны традиций становится, я думаю, понятным, что конституционный проект Салтыкова, конечно же, не родился на пустом месте. Он был лишь дальнейшим развитием того же пункта 98 того же Судебника 1550 года. Поскольку был тот Судебник первой попыткой русской аристократии, унаследовавшей традицию вольных дружинников XII века, законодательно ограничить власть государя.
Глава одиннадцатая Последний спор
Попытка, как мы знаем, не сработала (так же, заметим в скобках, как не сработала поначалу Magna Carta 1215 года и в Англии).
Результатом её провала и был конституционный проект Салтыкова. Иначе говоря, он стал бесспорным свидетельством того, что в докре- постнические и досамодержавные времена русская аристократия обнаружила замечательную способность учиться на своих ошибках. В ходе государственного переворота Грозного пришла она, естественно, к заключению, что пункт в Судебнике не может служить серьезной гарантией от царского произвола. Отсюда и полноформатный проект конституционной монархии 1610 года.
В отличие от В.О. Ключевского и Б.Н. Чичерина, однако, Пелипенко не только не задумывается над этой загадкой, но отбрасывает её с порога. «Восклицания типа «Ах, если бы!» - пишет он, - выглядят не менее наивно, чем примитивные детерминистские схемы вульгаризированного гегелевско-марксистского толка»6. Другими словами, рассматривает он конституционный проект Салтыкова, погибший в пламени гражданской войны и Смуты, не как упущенную возможность, способную возродиться на другом историческом перекрестке России, но как благое пожелание, ничего общего не имеющее с реальностью русской истории (несмотря даже на то, что три столетия спустя проект Салтыкова и впрямь возродился в Основном законе конституционной монархии 1906 года).
Пелипенко, как мы видели, думает иначе: ничего, мол, эти наивные либеральные поползновения не изменили - и изменить не могли - в курсе «теократической империи»7 с её «деспотической линией»8.
Допустим. Но ведь откуда-то этот проект должен был взяться. Он нисколько не похож на польскую выборную монархию. И ничего подобного ему не возникло в соседних с Россией континентальных империях XVII века - ни в Оттоманской, ни даже в Священной Римской империи германской нации. А в России почему-то возникло. Почему? Пелипенко этот вопрос не кажется серьезным. Верно, говорит он, «делаются попытки уравновесить имперско-теократиче- скую и либеральную линии в русской истории за счет переосмысле-
Пелипенко АЛ. Цит. соч. С.66.
Там же. С. 69.
ния масштабов и значения последней. Так поступает, в частности, А. Янов (от Ивана III к конституции Михаила Салтыкова, далее к верхов- никам и декабристам и т.д.). Однако вялый пунктир либеральных поползновений, объяснимых сначала отголосками раннесредневе- кового синкрезиса, а затем влиянием той же самой Европы... вряд ли может быть назван в полном смысле линией. Нет необходимости затевать споры по конкретным пунктам, например, о том, что если в феномене декабристов и можно говорить о какой-либо традиции, то это скорее традиция гвардейских дворцовых переворотов и т.д. Достаточно задать простой вопрос - почему в нашей истории деспотическая линия всегда побеждала либеральную? Никакими частными причинами этого не объяснить»9.
Глава одиннадцатая «СКаЧОК» Последний спор
Что же предлагает Пелипенко взамен «вялого пунктира либеральных поползновений»? Как, по его мнению, могла бы вырваться Россия из удушающих объятий всегда победоносной «деспотической линии», если возможность опереться на европейские корни её собственной политической культуры небрежно, как мы видели, раскассирована? Какова, короче говоря, её перспектива в XXI веке? Пелипенко уверен, что он знает. Состоит нарисованная им перспектива тоже из двух частей.
Первая заключается в том, что как была со времен Ивана Грозного Россия имперско-деспотической «антитезой» европейской национальной государственности, так и осталась. Потому-то «пронизанное метастазами средневековой ментальности сознание [сегодняшней российской элиты] остро неадекватно современной реальности».10 И главная причина этой неадекватности та же, что во времена Ивана Грозного - «синкретичность сознания»11.
Вторая часть перспективы, предложенной Пелипенко как, впрочем, и всем сообществом либеральных культурологов, предполагает
9 Там же.
Там же. С. 70.
неожиданный и головокружительный качественный «скачок» России к «национальной государственности». Конечно, качественные скачки не противоречат «детерминистским схемам гегелевско-марксист- ского толка», но там выступают они все-таки как результат критического накопления перемен количественных. Однако первая часть перспективы Пелипенко никаких таких количественных перемен не содержит. Напротив, сознание современной российской элиты остается, как мы только что слышали, «остро неадекватным современной реальности».
Глава одиннадцатая Последний спор
Тем не менее «скачок» постулируется. Более того, оказывается он императивом, единственным шансом на выживание России в современном мире. Вот пожалуйста: «Сейчас еще есть возможность, расставшись с имперской идеей, перейти к формированию национального государства. Иначе говоря, превратиться из имперского народа в национальный. Возможно, это последний шанс, который дан России».12
Странное совпадение
Непонятными здесь остаются лишь два вопроса. Во-пер- вых, с какой, собственно, стати совершит вдругтакой спасительный «скачок» страна, на протяжении столетий и до сегодняшнего дня совершенно чуждая конституционным ценностям Европы, в том числе национальной государственности? Многоэтническая, добавим, страна, чье сознание всегда, по мнению Пелипенко, было - и остается - синкретичным? Не выглядит ли такая ошеломляющая гипотеза еще более наивной, нежели «детерминистские схемы геге- левско-марксистского толка»?
Правда, Пелипенко мог бы указать, но почему-то не указывает, на один пример «превращения» бывшей восточно-деспотической империи в национальное государство. Произошло это в результате национальной революции Мустафы Кемаля (Ататюрка) в потерпевшей сокрушительное поражение в Первой мировой войне
Оттоманской империи. Проблема лишь в том, что привела революция Ататюрка вовсе не к установлению в Турции европейских либеральных ценностей, но к жесточайшей «национальной диктатуре». Другими словами, «превращение из имперского народа в национальный» обернулось для турок не свободой, но десятилетиями военной диктатуры. Может быть, поэтому и не упоминает Пелипенко турецкий пример? К сожалению, другими примерами формирования национального государства из бывших деспотических империй история не располагает. Это первое, что вызывает сомнение в предложенной им перспективе.
Второе - это её странное совпадение с перспективой, которой настойчиво добиваются для России самые оголтелые её националисты. Мы ведь еще не забыли, что первым, кто предложил отделение России от СССР был националист Валентин Распутин. И что даже ненависть к Ельцину не помешала в 1990-м националистам в Верховном Совете единодушно проголосовать за Декларацию о суверенитете России. Не забыли и того, как отчаянно добивался в нем националист Сергей Бабурин, чтобы страна называлась не Российская Федерация, а Россия.
Сегодня превращение РФ в национальное государство - клише в националистических кругах. Долой «Эр Эфию!» - их лозунг. Вот как, например, рассуждает об этом предмете рядовой националист Павел Святенков: «Россия, единственная страна СНГ, которая отказалась от строительства национального государства. Наша страна является лишь окровавленным обрубком СССР, официальной идеологией которого остается «многонациональное^»... По сути это означает сохранение безгосударственного статуса русского народа, которому единственному из всех народов бывшего СССР отказано в национальном самоопределении»13.
Ни Распутин, ни Святенков, ни их единомышленники, которых не перечесть, не станут скрывать, что этому преклонению перед «национальной государственностью» научил их общий наставник, необычайно сейчас популярный в Москве эмигрантский философ Иван Александрович Ильин. Нет слов, Ильину случалось, как видели мы
Святенков П. Россия как антипроект // APN. ру. 2006, 21 мая.
хотя бы в эпиграфе к этой главе, применять свое учение о «национальной государственности» и к оправданию гитлеризма. В 1933 - 1934 годах он жестоко обличал либеральную Европу в неспособности оценить в гитлеровском государстве такие его «положительные черты, как патриотизм, вера в самобытность германского народа и силу германского гения, чувство чести, готовность к жертвенному служению, социальная справедливость и внеклассовое братски-всенародное единение».
Нам, однако, важно сейчас то, чему учил Ильин своих наследников относительно будущего России, хотя, видит бог, никаких особенных отличий оттого, чем восхищался он в нацистской Германии, мы и тут не обнаружим. Нам опять объяснят, что диктатура это хорошо, ибо «только национальная диктатура способна сформировать в России национальную государственность»1А (курсив Ильина), а демократия, наоборот, плохо (поскольку «если что-нибудь может нанести России после коммунизма новые тягчайшие удары, то это именно... демократический строй»15.
Тут все понятно. Странным представляется лишь то, каким образом затесались в эту мрачноватую компанию либеральные культурологи. И еще непонятно, что же такое знают о перспективе, предложенной Пелипенко, русские националисты, чего не знает он?
w Глава одиннадцатая
О «деспотической последний«.<* линии»
К счастью, по ряду причин, детально рассмотренных в трилогии, Россия вовсе не стоит перед драматическим выбором между китайской и турецкой историческими моделями. Прежде всего потому, что, вопреки Пелипенко, она, в отличие от Китая и Турции, никогда не была деспотией. Вся теоретическая часть трилогии, по сути, посвящена очень подробному и, хочется думать, убедительному опровержению этого исходного тезиса либеральных культурологов.
Ильин И. О грядущей России. М., 1993. С. 149. Там же. С. 158.
Сколько я знаю, в русской историографии еще не было попыток специальной верификации распространенного утверждения, что Россия когда-либо принадлежала к семейству деспотических империй, будь то в его монгольской ипостаси, как уверен был Карл Виттфогель, или византийской, как полагал Арнольд Тойнби, или эллинистической, как думает Ричард Пайпс. Я опирался в своей проверке этих гипотез на исследования Аристотеля, Жана Бодена, Юрия Крижанича, Монтескье, Гегеля, Маркса, Виттфогеля и Валлерстайна.
Итог верификации, как мог убедиться читатель, не оставил ни малейших сомнений, что Россия никогда не принадлежала к семейству деспотических империй в какой бы то ни было его ипостаси (я, конечно, понимаю, что в повседневном обиходе слова «деспотический» и «самодержавный» друг от друга недалеки, но культурологи все-таки претендуют на теоретический анализ). Точно так же, впрочем, как ~ после роковой победы иосифлян и Грозного, т.е. после того, как угасло ее Европейское столетие - никогда больше не принадлежала Россия и к семейству абсолютистских монархий Европы.
Здесь нет смысла пересказывать подробности науки Деспотоло- гии, как назвал я совокупность всех этих исследований. Обращу внимание лишь на две особенности деспотизма как «системы тотальной власти», по выражению Карла Виттфогеля. Во-первых, в этой системе не существовало - и не могло существовать - альтернативных моделей политической организации общества. Причем по самой простой причину ничего подобного не возникало даже в головах подданных деспотических государств. Задушить султана или свергнуть падишаха, это пожалуйста. Но изменить политическую систему - такого мятежники представить себе не могли. В результате все без исключения новые богдыханы и падишахи неукоснительно воспроизводили старый режим с точностью до мелочей.
В этом согласны и Аристотель, и Монтескье, и Виттфогель. Но если так, даже то, что Пелипенко презрительно именует «вялым пунктиром либеральных поползновений», просто не могло бы при русском деспотизме возникнуть. Но ведь возник же.
А во-вторых, «система тотальной власти» в принципе исключала частную собственность на землю, что, естественно, делало невозможной наследственную аристократию, которая, как мы знаем, существовала в России с начала ее государственности. Более того, в XV-XVI веках, например в период самой жестокой борьбы между нестяжателями и иосифлянами, церкви принадлежало больше земель, нежели великому князю. На самом деле в основе всей русской истории в эти столетия, как документально доказано в первой книге трилогии, лежала борьба за землю, факт немыслимый ни в какой деспотии, где бесспорным - и единственным! - собственником всей земли в государстве был султан (или падишах). Короче говоря, получается, что, вопреки утверждению Пелипенко, никакой «деспотической линии» в русской истории просто не было.
Попробуем, однако, для верности подойти к делу с другой стороны. Как знаем мы из всемирного исторического опыта, любое правительство стремится к «тотальной власти», как магнитная стрелка к северу. И, как правило, ее добивается, если не встречает на своем пути мощные ограничения, будь то институциональные, как в современных демократиях, или - в прежние века - в «нравственно обязательной», по выражению В.О. Ключевского, традиции. Так что же, спрашивается, помешало добиться «тотальной власти» русскому самодержавию? Почему, иначе говоря, никогда не смогло оно избавиться ни от наследственной аристократии, ни от альтернативных моделей политической организации (причем неизменно европейских), которые, как мы тоже в трилогии видели, регулярно возникали в России в каждом столетии?
Спросим далее вместе с Владимиром Вейдле, почему «не отата- рилась и не отреклась от европейского наследства» Россия за два с половиной века степного ига? Почему «не отатарилась» она даже в огне тотального террора Грозного или Сталина, хотя и уподобилась на четверть столетия ее государственность «тотальной власти», как в XVI веке, так и в XX? Уподобилась, но не стала. Хотя бы потому, что после каждого из российских тиранов неизменно следовала либеральная «оттепель» - после Ивана IV «деиванизация», после Павла I «депавловизация», если можно так выразиться, после Николая I
«дениколаизация» и так далее вплоть до десталинизации после Сталина? Ничего подобного никогда не было ни в одном деспотическом государстве? Почему?
Если и эта регулярная либерализация режима после каждой диктатуры, сколь бы относительной она ни была, не свидетельствует о принципиальной двойственности политической культуры, я уж и не знаю, что еще могло бы об этом свидетельствовать. Разве лишь то обстоятельство, что ни при Екатерине II, ни при Александре I, ни при Александре II Европой Россия тоже не стала, хоть и уподобилась в те поры европейскому абсолютизму. Опять-таки уподобилась, но не стала. Хотя бы потому, что за «либеральным» царствованием Екатерины следовала диктатура Павла I, за царствованием Александра I - диктатура Николая , за царствованием Александра II - диктатура Александра III. Вот таким цивилизационно неустойчивым, в отличие от деспотизма, скользким, «хамелеонским», если хотите, режимом было русское самодержавие.
И это обстоятельство ставит нас перед выбором: либо ничего из только что перечисленного не существовало, либо доморощенная теория «Русской власти» (или «Русской системы») А.И. Фурсова и Ю.С. Пивоварова, отождествившая самодержавие с деспотизмом, теория, на которую так доверчиво положились либеральные культурологи, обманула их с самого начала. И размышляют они о русской истории, исходя из ложной предпосылки.
t w \Глава одиннадцатая
Дворцовый переворот? I noa^c™»
Правда, можно еще объяснить Европейское столетие 1480- 1560 годов, как делает Пелипенко, неким «раннесредневековым синкрезисом». Но уж слишком очевидной натяжкой было бы отнести XVI век, эпоху Возрождения, к раннему средневековью. Не меньшей, впрочем, натяжкой, чем объяснение декабризма «традицией гвардейских дворцовых переворотов». Слышали ли вы когда-нибудь о дворцовом перевороте, а в России XVIII века их и впрямь было много и все они были гвардейскими, участники которого разработали бы
три проекта вполне европейской конституции (впрочем, в 1730 году таких проектов, как помнит читатель, было тринадцать)?
Да вспомним хотя бы открытое письмо Герцена Александру II от 1 октября 1857 года. «Много ли сил надо было иметь Елизавете I при воцарении, Екатерине N для того, чтобы свергнуть Петра III?» - спрашивал Герцен. И отвечал: «заговорщикам 14 декабря хотелось больше, чем замены одного лица другим, серальный переворот был для них противен... они хотели ограничения самодержавия письменным уложением, хранимым выборными людьми, они хотели разделения властей, признания личных прав, словом, представительное правительство в западном смысле... Оттого, что император Александр, понимая многое - ничего не умел сделать, неужели можно назвать преступлением, что другие понимали тоже, но, совсем обратно ему, считали себя способными сделать? Люди эти были прямым ответом на тоску, мучившую новое поколение: «Мы освободили мир, а сами остались рабами»[182].
Самодержавная
И этот «ответ на тоску, мучившую поколение», ответ, в котором «участвовали представители всего талантливого, образованного, знатного, благородного и блестящего в России»[183], Пелипенко обьяс- няет традицией дворцовых переворотов? А ведь было, как мы уже говорили, еще за три столетия до декабристов поколение Алексея Адашева, решившееся на столь же невероятно дерзкий по тем временам - и ничуть уж не внушенный, как мы видели, «влиянием той же самой Европы» и тем более «раннесредневековым синкрези- сом» - вызов самодержавию, внеся свой знаменитый впоследствии пункт 98 в «письменное уложение, хранимое выборными людьми».
Iлава одиннадцатая Последний спор
революция
Речь здесь о целых поколениях либеральной элиты, добивавшихся политической модернизации России. А ведь
были еще, пусть преходящие, но все-таки массовые, взрывы вполне либеральных устремлений, такие, как октябрьская 1905 года всеобщая забастовка, принесшая России то самое «письменное уложение», о котором мечтали декабристы, или как революция февраля 1917, освободившая страну от «сакрального» самодержавия, или, уже у нас на глазах, события 1989-1991 годов, освободившие её от ярма империи. Это, однако, вплотную подводит нас к заключительному - и убийственному, по мнению Пелипенко, - его вопросу: «почему в нашей истории деспотическая линия всегда побеждала либеральную?»[184]. Во-первых, как мы видели, не всегда (если, конечно, не предположить, что русская история и впрямь начинается с победы иосифлян и Ивана Грозного). Во-вторых, никакой «деспотической линии» в России, как мы только что выяснили, никогда не было. Была самодержавная, холопская. В-третьих, мы достаточно точно сегодня знаем основные даты, причины и последствия того драматического «перелома» в соотношении сил между традицией вольных дружинников и холопской, который внезапно и резко изменил траекторию исторического движения страны на столетия вперед, лишив её способности сопротивляться произволу государства и его холопов (или на ученом языке - способности к политической модернизации).
Согласитесь, что траектория эта должна была измениться и впрямь неузнаваемо, если, как доказал замечательный русский историк Михаил Александрович Дьяконов, при Иване Ш искали себе убежища в России богатые и влиятельные западные вельможи, а после революции Грозного побежали они от неё, как от чумы[185]. И с этого момента и на века слыла она в Европе символом произвола. Читатель, я надеюсь, извинит меня, если именно на этом решающем в русской истории событии (и на всем, что с ним связано) мне придется остановиться подробней.
А конкретно случилось тогда, как мы помним, вот что. Четвертое поколение либеральной партии нестяжателей, боровшееся за церковную Реформацию в России - сначала под покровительством
Ивана Ш, а потом самостоятельно - потерпело окончательное поражение. Означало его поражение, что так называемое «второе издание» крепостного права вводиться будет в России не за счет конфискации монастырских земель, как произошло это у её североевропейских соседей, в Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, не говоря уже об Англии или Исландии (Россия тоже, как мы знаем, была тогда североевропейской страной), но за счет экспроприации земель боярских и крестьянских. А это в свою очередь предрекало и государственный переворот Ивана Грозного, и политический разгром боярской аристократии и тотальное закрепощение крестьянства (в Северной Европе крепостничество так никогда и не вышло за пределы конфискованных церковных земель. Соответственно уцелели как политическое влияние аристократии, так и мощный массив свободного крестьянства).
Другую судьбу обещала России сокрушительная победа иосифлян. Да, они сумели отстоять монастырские земли, но цена уплаченная ими за это - благословение неограниченной и вдобавок «сакральной» власти царя в стране, где не успели еще после степного ярма окрепнуть ограничения власти, - оказалась чудовищной. Они создали монстра. В ходе самодержавной революции Грозный царь разгромил и церковь, и аристократию, и, отменив «крестьянскую конституцию» Ивана III, закрепостил подавляющее большинство населения страны.
Нет печальнее чтения, нежели вполне канцелярское описание этой национальной катастрофы в официальных актах, продолжавших механически крутиться и крутиться, описывая то, чего уже нет на свете. « В деревне в Кюлекше, - читаем в одном из таких актов, - лук Игнатки Лукьянова запустел от опричнины - опричники живот пограбили, а скотину засекли, а сам умер, дети безвестно сбежали... Лук Еремейки Афанасова запустел от опричнины - опричники живот пограбили, а самого убили, а детей у него нет... Лук Мелентейки запустел от опричнины - опричники живот пограбили, скотину засекли,сам безвестно сбежал...»[186]
И тянутся и тянутся бесконечно, как русские просторы, бумажные версты этой летописи человеческого страдания. Снова лук (участок) запустел, снова живот (имущество) пограбили, снова сам сгинул безвестно. И не бояре это все, заметьте, не «вельможество синклита царского», а простые, нисколько не покушавшиеся на государеву власть мужики, Игнатки, Еремейки да Мелентейки, вся вина которых заключалась в том, что был у них «живот», который можно пограбить, были жены и дочери, которых можно изнасиловать, земля, которую можно отнять - пусть хоть потом запустеет.
...Преподавал в конце XIX века в Харьковском университете легендарный реакционер профессор К. Ярош, стоявший на страже исторической репутации Ивана Грозного столь свирепо, что даже такие непримиримые современные её защитники, как В. Кожинов или А. Елисеев, решительно перед ним бледнеют. Но и Ярош ведь вынужден был признать, познакомившись с Синодиком (поминальником жертв опричнины, составленным по приказу самого царя), что «кровь брызнула повсюду фонтанами и русские города и веси огласились стонами... Трепетною рукою перелистываем страницы знаменитого Синодика, останавливаясь с особенно тяжелым чувством на кратких, но многоречивых пометках: помяни, Господи, душу раба твоего такого-то - сматерью и зженою, и ссыном, и сдочерью»[187].
Замечательный поэт Алексей Константинович Толстой тоже признавался, что перо выпадало у него из рук при чтении Синодика. И не столько оттого, писал он, что могло существовать на русской земле такое чудовище, как царь Иван, сколько оттого, что существовало общество, которое могло смотреть на него без ужаса. Большинство русских ист<уэиков XIX века с ним соглашалось. Н.М. Карамзин негодовал по поводу того, что «по какому-то адскому вдохновению возлюбил Иван IV кровь, лил оную без вины и сёк головы людей славнейших добродетелями»[188]. М.П. Погодин был еще непримиримее: «Злодей, зверь, говорун-начетчик с подьяческим умом... Надо же ведь, чтобы такое существо, потерявшее даже лик человеческий, не только высокий лик царский, нашло себе прославите- лей»[189]. Итог подвел С.М. Соловьев: «Он сеял страшными семенами -
и страшна была жатва... Да не произнесет историк слова оправдания такому человеку»[190].
Добавьте, что человек этот резко изменил традиционную стратегию страны, «повернув, - по его собственным словам, - на Германы» и открыв тем самым её южные границы для крымских разбойников. Удивляться ли, что те сожгли Москву на глазах у изумленной Европы? Такого пожара страна еще не видела. В огне погибло, как помнит читатель, почти всё население города. Те, кто спрятался в каменных подвалах, задохнулись от дыма, в том числе главнокомандующий московскими войсками Иван Петрович Вельский. Улицы были завалены обгоревшими трупами. Их сбрасывали в реку, но так много их было, что «Москва река мёртвых не пронесла». Город пришлось заселять заново.
Вдобавок еще увели в полон крымчаки по позднейшим подсчетам около 8оо тысяч беззащитного населения центральных областей России, положив начало их вековому запустению. Добавьте также, что вместе с бессмысленно загубленными полками, полегшими на полях Ливонии, и с никем несчитанными тысячами Еремеек и Мелентеек, сгоревших в пламени опричного террора, жизнью каждого десятого заплатила Россия за «адское вдохновение» своего царя.
. . \Глава одиннадцатая
Наследство Грозного I последн-йсор царя
Но все это лишь о стратегических ошибках царя Ивана и о первом в русской истории тотальном терроре, ^ез которого оказалось, как мы видели, невозможно сломать либеральный для своего времени государственный строй докрепостнической и досамодер- жавной России. Историки XIX века еще не знали о замечательном хозяйственном подъеме страны в первой половине XVI столетия. Это раскопали в провинциальных архивах их советские коллеги в 1960-е. И лишь тогда стало в полной мере понятно, что на самом
деле сотворил с растущей, процветающей страной Грозный царь. Он ее разорил. Дотла. Втравив ее в бесконечную четвертьвековую войну против всей Европы, закончившуюся вдобавок позорной капитуляцией России, он отбросил ее экономику по меньшей мере на столетие назад, превратив ее в самое отсталое государство Европы, в «бедный, - по словам С.М. Соловьева, - слабый и почти неизвестный народ»[191]. Именно с той поры и обречена была Россия «догонять» Европу.
И сделал Грозный царь все, что было в человеческих силах, чтобы она никогда ее не догнала. Ибо несопоставимо страшнее оказались последствия его самодержавной революции для будущего страны. Я говорю об институциональных и идейных нововведениях Грозного, сделавших эту революцию необратимой - на столетия. Основных нововведений было четыре.
Первым стала отмена Юрьева дня. Для русского крестьянства эта потеря обернулась катастрофой, от которой оно так никогда и не смогло оправиться. Прикрепление к земле навечно неминуемо должно было перерасти в вековое рабство, включая распродажу крепостных семей в розницу. Не менее страшно для будущего страны было лишение крестьян, наряду с собственностью, и элементарного просвещения. Они оказались оставлены наедине с архаическими представлениями о мире, по сути, законсервированы в средневековье. До такой степени, что, по выражению М.М. Сперанского, даже «чтение грамоты числилось [у них] между смертными грехами»[192]. Россия заплатила за это злодейство своего царя не только церковным расколом пугачевщиной, но в конечном счете и советской властью, руководящее ядро которой составили после самоуничтожения петровской Росии не в последнюю очередь выходцы из того же искусственно архаизированного «мужицкого царства».
На следующее, пожалуй, самое долговечное нововведение той поры впервые, кажется, обратила внимание американский историк Присцилла Хант. То была придуманная теми же иосифлянами специально для Ивана IV теория сакральности верховной власти. Согласно
ей, обладал верховный властитель, подобно Христу, двумя телами - земным и небесным. В повседневной жизни мог он и согрешать как всякий земной человек, но как воплощение Господней воли ошибаться он не мог. Поскольку оказывался каким-то образом царь даже не наместником Бога, как всякий абсолютный монарх его времени, но в известном смысле и самим Богом. Будучи ответственным не только за благоустройство страны, но и за готовность душ человеческих к вечной жизни - во всем христианском мире, - обязан он был «очистить этот мир от скверны и греха». Хант назвала эту теорию «персональной мифологией царя Ивана»[193].
Так оно поначалу и было. Но идея прижилась. И постепенно оказалась центральным мифом самодержавия. Впоследствии распо- странился миф, как выяснилось, и на власть атеистическую, а при Сталине и вовсе словно бы воссиял прежним неземным светом. Можно предположить, что и в наши дни именно на обломках этого иосифлянского мифа и держатся запредельно высокие рейтинги верховной власти.
Третьим нововведением Грозного царя как раз самодержавие и было.. Благословение иосифлян, легитимизировавшее неограниченную и сакральную власть (читай произвол) царя, обернулась катастрофой для русской аристократии. Даже та ее часть, что уцелела в огне тотального террора опричнины и вызванной им великой Смуты, довольно скоро - и надолго - оказалась политически бесплодной. Просто потому, что превратилась в рабовладельческую и, следовательно, полностью зависимую от власти.
Коварство этого плана, обеспечившее ему столь невероятное долголетие, заключалось помимо всего прочего в том, что он вовлекал в орбиту холопской традиции одновременно и «низы» и «верхи»
ч>
общества. Если крестьянство было отныне в рабстве у землевладельцев и средневековой архаики, то землевладельцы в свою очередь оказались в рабстве у власти и патологической грезы Ивана Грозного о «першем государствовании» (о мировом первенстве на современном политическом сленге), намертво переплетенной с четвертым, и почти столь же долговечным, как миф о сакральности верховной
власти, его нововведением - агрессивной экспансионисткой империей. Если, как писал впоследствии Георгий Петрович Федотов, «самодержавие было ценой, уплаченной за экспансию, то для России... продолжение ее имперского бытия означало бы потерю надежды на ее собственную свободу»28.
IГлава одиннадцатая
Перерождение I ·*>««,...■ о**
Гигантская историческая ловушка, выстроенная по иосифлянскому плану, захлопнулась. Россия стала другой страной - на века. У подданных Грозного царя не осталось никакой защиты от произвола власти. Если не считать, конечно, русского бунта бессмысленного и беспощадного, как окрестил его в «Капитанской дочке» Пушкин (мы привыкли, что ударение в этой знаменитой фразе обычно делается на «беспощадности» бунта, для Пушкина, надо полагать, важнее была именно его «бессмысленность»29.
Трудно, пожалуй, найти где-либо более яркое отличие этой идеологии самодержавия, очень точно зафиксированной в посланиях царя князю Андрею Курбскому, от идеологии европейского абсолютизма, чем в «Республике» Жана Бодена. Воден был современником Грозного и автором классической апологии абсолютной монархии, оказавшей огромное влияние на всю её идейную традицию. Точно так же, как царь Иван, был он уверен, что «на земле нет ничего более высокого после Бога, чем суверенные государи, поставленные Им как Его лейтец^нты для управления людьми». И не было у Бодена ни малейшего сомнения, что всякий, кто, подобно Курбскому, «отказывает в уважении суверенному государю, отказывает в уважении самому Господу, образом которого является он на земле»30.
Более того, вопреки Аристотелю, главным признаком цивилизованного человека считал Воден вовсе не «участие в суде и совете», а совсем даже наоборот - безусловное повиновение воле монарха.
Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Спб., 1991, т. i. С. 326
ПушкинА.С. Поэзия и проза. Предисл. С.Петрова, М., ОГИЗ: Гослитиздат. С. 634.
Цит. по: Kapeee Н.Н. Западноевропейская абсолютная монархия XV, XVII, XVIII веков. Спб., 1908. С. 330.
До сих пор впечатление, согласитесь, такое, что хоть и был Воден приверженцем «латинской» ереси, Грозный, пожалуй, дорого бы дал за такого знаменитого советника.
И просчитался бы. Ибо оказалось, что при всём своем монархическом радикализме имущество подданных рассматривал Воден как их неотчуждаемое достояние. Ничуть не менее неограниченное, чем власть государя. Мало того, он категорически утверждал, что подданные столь же суверенны в распоряжении своим имуществом, сколь суверенны государи в распоряжении страной. И потому облагать их налогами без их добровольного согласия означало, по его мнению, обыкновенный грабеж (легко представить себе, что сказал бы Воден по поводу разбойничьего похода Грозного на Новгород).
Но и Грозный в свою очередь несомненно усмотрел бы в концепции Бодена нелепейшее логическое противоречие. И был бы прав. Ибо и впрямь, согласитесь, нелогично воспевать неограниченность власти наместника Бога на земле, жестко ограничивая его в то же время имущественным суверенитетом подданных. Но именно в этом противоречии и заключалась суть европейского абсолютизма. Он действительно был парадоксом. Но он был живым парадоксом, просуществовавшим столетия. Более того, именно ему, как мы знаем, и суждено было сокрушить неограниченность монархии, безраздельно властвовавшей до него на этой земле.
Естественно, иосифлянство никаких таких парадоксов не допускало. Оно было плоским, как доска: произвол царя сакрален, поскольку сакрально всё, что исходит от царя. Беззаветная защитница иосифлянства в наши дни НА Нарочницкая видит в этом освящении произвола не только отличительную черту самодержавия, но и Главное его достоинство по сравнению с «латинской» ересью. Она уверена, что, не понимая этого, «несерьезно в научном отношении судить о сущности московского самодержавия»[194].
В научном-то отношении, однако, сущность самодержавия понимал еще Боден. Недаром же приравнял он Москву Ивана Грозного к главному в тогдашнем европейском сознании оплоту восточного деспотизма, Оттоманской Турции. Только вот, похоже, не взяла в расчет
Нарочницкая, что в практическом отношении иосифлянское освящение произвола оказалось, между прочим, оправданием тотального террора Грозного. Того самого, по поводу которого и предупреждал С.М. Соловьев: «Да не произнесет историк слова оправдания такому человеку».
Впрочем, и тотальный террор, и разорение страны, и порабощение соотечественников с лихвой искупаются, по мнению защитников иосифлянства, торжеством имперской мечты о Москве как о III Риме, мечты, ставшей после самодержавной революции Грозного официальной идеологией Московии.
Крупнейший историк русской церкви А.В. Карташев, всей душой симпатизировавший торжеству иосифлянства, не оставляет в этом ни малейшего сомнения, когда сообщает нам, что в результате самодержавной революции «сама собою взяла над всеми верх и расцвела, засветилась бенгальским огнем и затрубила победной музыкой увенчавшая иосифлянскую историософию песнь о Москве - III Риме»[195]. Не забудем также, что писалось это не в XVI веке, а в XX, когда «победная музыка» иосифлянства оглушала тоталитарную сталинскую империю.
В итоге произошло то, чего не могло в таких обстоятельствах не произойти. Я назвал это перерождением русской государственности, которое обозначил за неимением лучшего термина как «политическую мутацию» (смысл её именно в том и состоял, чтобы лишить страну способности сопротивляться произволу власти). Впрочем, у Владимира Сергеевича Соловьева было для этого перерождения, как мы помним, и другое название. Он именовал его «особняче- ством»,т.е. отречением России от её европейского прошлого.
Глава одиннадцатая Последний спор
«долгого рабства»
Читатель знает, чем отличается моё определение оттого, что предложил Соловьев. Тем, в первую очередь, что принимает всерьез то, во что Соловьев, как и большинство дореволюционных интеллектуалов, никогда не верил. А именно грозное предостережение Герцена, вынесенное в эпиграф этой главы. То, другими словами, что отречение от европейского прошлого чревато и отречением от европейского будущего. Короче говоря, что традиция «долгого рабства» (холопская, в моих терминах, традиция) может и победить в России - если не будет вовремя «поглощена» другими, либеральными элементами её политической культуры.
Традиция
Тем более реальной представляется такая перспектива, что страна уже трижды в своей истории пережила грандиозные попытки полного подавления своих нестяжательских элементов, своего рода репетиции, если хотите, абсолютного отторжения от Европы, когда, по выражению известного русского историка А.Е. Преснякова, «Россия и Европа сознательно противопоставлялись друг другу как два различных культурно-исторических типа, принципиально разных по основам их политического, религиозного, национального быта и характера»[196]. Их, эти попытки, длившиеся порою много десятилетий, и назвал я в трилогии «выпадениями» из Европы.
Разумеется, мнения по поводу того, хороши или плохи были для страны эти «выпадения», расходятся и по сию пору. Современные иосифляне по-прежнему горой стоят как за московитское «выпадение» XVII века, так и за николаевское во второй четверти XIX, и уж тем более за сталинистское в XX. Другое дело, что на практике вопрос этот давно уже перестал быть лишь предметом интеллектуальных разногласий. Роковые для России результаты всех этих «выпадениий» доказаны, можно сказать, экспериментально. Хотя бы тем, что все без исключения приводили они к катастрофическому отставанию страны от современного им мира, к историческим тупикам, если угодно, не говоря уже о неизменном «оцепенении духовной деятельности», по известному выражению И.В. Киреевского. Тем, наконец, что после каждого из таких «выпадений» стране приходилось заново, словно очнувшись от смертельного сна, начинать жизнь с чистого листа, опять и опять адаптируясь к реалиям современного мира - как материальным, так и психологическим.
В трилогии я старался, чтобы у читателя не осталось по этому поводу ни малейших сомнений. Здесь достаточно примера первого (самого продолжительного и лучше других исследованного в русской историографии) московитского «выпадения», в результате которого процветающая, как мы видели, Россия первой половины XVI века, слывшая центром балтийской торговли и одним из центров торговли мировой, превратилась вдруг, как слышали мы от С.М. Соловьева, в «бедный, слабый, почти неизвестный народ».
Впрочем, и задолго до Соловьева соратники Петра I и Екатерины II тоже нисколько не сомневались в том, что московитская эпопея была для страны временем исторического «небытия» и «невежества», когда русских «и за людей не считали». Например, 21 сентября 1721 года канцлер Головкин так сформулировал главную заслугу Петра: «Его неусыпными трудами и руковождением мы из тьмы небытия в бытие произведены»34. Четыре года спустя, уже после смерти императора русский посол в Константинополе Иван Неплюев высказался еще более определенно. «Сей монарх научил нас узнавать, что и мы люди»35. Полвека спустя подтвердил это дерзкое суждение руководитель внешней политики при Екатерине граф Панин: «Петр, выводя народ свой из невежества, ставил уже за великое и то, чтобы уравнять о^ный державам второго класса»36. Ну, не сговорились же все эти люди, право!
Верно, есть читатели, принципиально не доверяющие в таких вопросах суждениям деятелей послепетровской эпохи, считая их предубежденными в отношении Московии. Но вот, пожалуйста, свидетельства непредубежденных современников, наблюдавших московитскую жизнь собственными глазами. Послушаем, что сказал московский
Цит. по: Ключевский В.О. Сочинения. М., 1958. Т. 4. С. 206.
Там же. С. 206-207.
Там же. Т. 5,. С.340.
генерал князь Иван Голицын польским послам: «Русским людям служить вместе с королевскими людьми нельзя ради их прелести. Одно лето побывают с ними на службе, и у нас на другое лето не останется и половины лучших русских людей... Останется, кто стар и служить не захочет, а бедных людей ни один человек не останется»37. Как видим, даже много лет спустя после Минина и Пожарского и изгнания «лати- нов» из Кремля, которое так шумно празднуют сейчас в Москве, всё еще, оказывается, неудержимо бежали православные к «ляхам».
А вот самый надежный и авторитетный свидетель. Я говорю о том, как видел московитский быт русский европеец XVII века Юрий Крижанич. В другое время другой русский европеец назвал аналогичные наблюдения «сердца горестными заметами». Но вот они. «Люди наши косны разумом, ленивы и нерасторопны. Мы не способны ни к каким благородным замыслам, никаких государственных или иных мудрых разговоров вести не можем, по сравнению с политичными народами полунемы и в науках несведущи и, что хуже всего, народ пьянствует - от мала до велика»38.Не могу не признать, что очень меня за эти «заметы» ругали, когда я процитировал их в какой-то статье. В таком примерно духе: «Нашел на кого ссылаться. Крижанич был известный русофоб и папский шпион». Но вот Николай Александрович Бердяев, уж точно не русофоб и тем более не шпион, описывал иосифлянский рай Московии в тех же, оказывается, терминах, что и Крижанич. Судите сами: «Московское царство было почти без-мысленно и без-словесно39. И словно этого мало, добавил в другой книге: «Московский период был самым плохим в русской истории. Киевская Русь не была замкнута от Запада, была восприимчивее и свободнее, чем Московское царство, в удушливой атмосфере которого угасла даже святость»40.
А академик В.И. Пичета, совсем не симпатизировавший идеям Крижанича, написал тем не менее о них целую книгу. И ударение в ней сделал отнюдь не на «шпионстве» или русофобии Крижанича, а
Соловьев С.М. Цит. соч. Кн. ю. С. 473.
Крижанич Ю. Политика. М., 1967. С. 191.
Бердяев НА. Истоки и смысл русского коммунизма. Париж, 1955. С. 5.
Бердяев НА. Русская идея. М., 1997. С. 6.
напротив, на том, что был он единственным в тогдашней России человеком Возрождения. «Это какой-то энциклопедист, он и историк и философ, богослов и юрист, экономист и политик, теоретик государственного права и практический советник по вопросам внутренней и внешней политики»41. В общем, как бы ни возмущались сегодняшние иосифляне, придётся нам все-таки признать «сердца горестные заметы» Крижанича за истинную правду.
Так же, как жалобу князя Голицына и скорбное письмо патриарха Никона царю Алексею: «Ты всем проповедуешь поститься, а теперь неведомо кто и не постится ради скудости хлебной, во многих местах и до смерти постятся, потому что есть нечего... Нет никого, кто был бы помилован: везде плач и сокрушение, нет веселящихся в дни сии»42.Тем более что помимо клеветы на Крижанича противопоставляют всем этим горьким свидетельствам современников сегодняшние иосифляне лишь откровенный вздор! Самый громогласный из них М.В. Назаров, больше прославившийся, впрочем, призывом поставить еврейские организации в России вне закона, утверждает, что «Московия соединяла в себе как духовно-церковную преемственность от Иерусалима, так и имперскую преемственность в роли Третьего Рима». Естественно, «эта двойная роль сделала [тогдашнюю] Москву историософской столицей всего мира»43. Тем более что «русский быт стал тогда настолько православным, что в нем невозможно было отделить труд и отдых от богослужения и веры»44. Доктор исторических наук Н.А. Нарочницкая, разумеется, поддерживает единомышленника, добавляя, пусть и слегка косноязычно, что именно в москов1Атские времена «Русь проделала колоссальный путь всестороннего развития, не создавая противоречия между содержанием и формой»45.
Проблема со всеми этими утверждениями лишь одна. Поскольку
Пичета В.М. Ю.Крижанич, экономические и политические его взгляды. Спб., 1901. С. 13.
Цит. по: Ключевский В.О. Т. 3. С. 261.
Назаров М.В. Тайна России. М., 1999. С. 488.
Там же.
Нарочницкая Н.А. Цит. соч. С. 130. 21 Янов
их авторы не могут привести в подтверждение своей правоты ни единого факта, читателю приходится верить им на честное слово. К несчастью для них, один единственный факт, приведенный В.О. Ключевским, не оставляет от их рассуждений камня на камне. Оказывается, что оракулом Московии в космографии был Кузьма Индикоплов, египетский монах VI века, полагавший землю четырехугольной46. Это в эпоху Ньютона - после Коперника, Кеплера и Галилея!
Какое уж там, право, «всестороннее развитие»? Какой Третий Рим? Какая «историософская столица мира»? Скорее уж, согласитесь, нечто подобное «небытию», упомянутому канцлером Головкиным. Мудрено ли, что так безжалостно отверг Петр эту «черную дыру» с ее четырехугольной землей?Результаты следующего «выпадения» (во второй четверти XIX века) были не лучше. Но поскольку «загадке николаевской России» целиком посвящена вторая книга трилогии, останавливаться здесь на них подробно нет, пожалуй, смысла. Я мог бы разве что сослаться на известную резолюцию тогдашнего министра народного просвещения Ширинского-Шихматова, запретившую в России преподавание философии (обоснование было вполне достойно Кузьмы Индикоплова: «польза философии не доказана, а вред от неё возможен»47.Но сошлюсь лишь на приговор, вынесенный николаевской России одним из самых лояльных самодержавию современников, известным историком М.П. Погодиным: «Невежды славят её тишину, но это тишина кладбища, гниющего и смердящего физически и нравственно. Рабы славят её порядок, но такой порядок поведет страну не к счастью и славе, а в пропасть»48. О конечных результатах последнего по счету «выпадения» говорить не стану: мои современники знают о них по собственному опыту.
А вывод из всего этого какой же? Нет, не жилось России без Европы, неизменно дичала она, впадала в иосифлянский ступор и
Ключевский В.О. Цит. соч. Т. 3. C.296.
Никитенко А.В. Дневник: в 3 т. Мм 1950. Т. 1. С. 334.
Погодин М.П. Историко-политические письма и записки. М., 1974. С. 259.
\
«тишину кладбища» (сегодня мы называем это стагнацией), будь то в XVII веке, в XIX или вXX. Увы, прозрение Герцена никого в его время не научило. Не научило и поныне. Во всяком случае не мешает оно какому-нибудь православному хоругвеносцу вроде Александра Дугина бросать в молодежную толпу самоубийственный лозунг «Россия всё, остальные ничто!».
Молодежь, конечно, не знает о страшных «репетициях» отторжения от Европы, которым посвящена трилогия, но Дугин-то знать обязан, интеллектуал вроде бы, на европейских языках читает. А вот не страшится, что в один несчастный день сбудется предостережение Герцена, традиция «долгого рабства» и впрямь победит своих соперниц, страна снова нырнет в трижды изведанную бездну - и не вынырнет. Не найдется у неё ни нового Петра, ни нового Александра II, ни даже нового Горбачева.
Я, впрочем, говорю здесь об этом лишь для того чтобы объяснить, почему в знаменитом споре 1859 года о будущем России между Герценом и Б.Н. Чичериным (который верил в линейный, европейский сценарий политического развития России) я безусловно на стороне Герцена. В отличие от оппонента, угадал он в роковой непоследовательности реформ Александра II в 1860-е угрозу очередного «выпадения» страны из Европы.
^ Глава одиннадцатая
Россиябез Стал и н а ?
Опять ведь уподобилась тогда она Европе - и опять не посмела стать Европой. Несмотря даже на то, что было это в ту пору так возможно, так естественно, как никогда, - и совсем другой дорогой могла бы в этом случае пойти российская история-странница. Просто потому, что не на улице разыгрались бы при таком повороте событий политические баталии, а на подмостках народного представительства, как по общепринятым в Европе 1860-х правилам, делалось это там.
И не состоялись бы в этом случае ни 1905-й, ни 1917-й. И разочарованный Ленин отправился бы себе в Америку, как намеревался он
еще за год до Октября. И не взяли бы в России верх коммунисты. И не пришел бы, стало быть, на антикоммунистической волне к власти в Германии Гитлер. И не возник бы Сталин. И не было бы ни великой войны между двумя тиранами, ни новой опричнины, ни нового исторического тупика столетие спустя.
Можете вы представить себе Россию без Сталина?
одна загадка
Глава одиннадцатая Последний спор
А ведь зависело всё в ту пору от малости. От того,
предпочтет ли тогдашняя Россия остаться единственным самодержавным монстром в сплошь уже конституционной Европе. Ведь даже такие диктаторы, как Наполеон III и Бисмарк, предпочли тогда конституцию. Самодержавие было окончательно, казалось, скомпрометировано николаевской «тишиной кладбища» и постыдной крымской капитуляцией. Под напором либералов рухнул первый и самый страшный столп наследия Грозного царя, трехсотлетнее порабощение соотечественников. Начиналась эра новой европеизации России. Как сказал один из ораторов на банкете, организованном К.Д. Кавелиным 28 декабря 1857 года: «Господа! Новым духом веет, новое время настало. Мы дожили, мы присутствуем при втором преобразовании России»[197].
Что же помешало ей тогда расстаться и с остальными столпами иосифлянского наследия? Ведь все козыри шли, казалось, в руки. И все-таки не сделала тогда решающего шага Россия, единственного, как оказалось, способного избавить её и от раскола страны на мос- ковитскую и петровскую, и от уличного террора, и от цареубийства. И от Сталина. Почему? Перед нами одна из самых глубоких загадок русской истории. (В трилогии я пытался очень тщательно в ней разобраться.)
Может, помешало упрямство императора? Но ведь Александр II в бытность свою наследником престола был одним из самых твердокаменных противников отмены крепостного права. И тем не менее в необходимости крестьянской реформы убедить его удалось. Нет
слов, главную роль в этом сыграла общественная атмосфера, созданная тем, что я называю «либеральной мономанией» (и о чем мы еще поговорим дальше). В той атмосфере выступить против отмены рабства было все равно, что публично объявить себя дикарём, наследником николаевской «чумы», как, по свидетельству Ивана Сергеевича Тургенева, воспринималось тогда в России «выпадение» из Европы. Суть, однако, в том, что императора всё-таки переубедили.
Тем более что, по свидетельству того же К.Д. Кавелина, который знал в этих делах толк, настроения высшего сословия коренным образом по сравнению с декабристскими временами изменились. «Конституция, - писал он, - вот что составляет теперь предметтай- ных и явных мечтаний и горячих надежд. Это теперь самая ходячая и любимая мысль высшего сословия»[198].
Да и сам Александр Николаевич, подписывая роковым утром 1 марта 1881 года представленный ему Лорис-Меликовым проект законосовещательной Комиссии, совершенно четко представлял себе, о чем идет речь. Как записал в дневнике Дмитрий Милютин, царь сказал в то утро своим сыновьям: «Я дал согласие на это представление. Хотя и не скрываю от себя, что мы идем по пути к Конституции»[199]. Короче, никакого святотатства в конституционной монархии Александр II, в отличие от отца, не усматривал.
И либералы, окрыленные своей эпохальной победой на крестьянском фронте, вроде бы не ослабили напора на правительство. Предводитель тверского дворянства Алексей Унковский писал, как мы помним, что «лучшая, наиболее разумная часть дворянства готова на значительнее, не только личные, но и сословные пожертвования, но не иначе как при условии уничтожения крепостного права не для одних лишь крестьян, но и для всего народа»[200]. И вторил ему депутат от новгородского дворянства Косаговский: «Крестьянский вопрос касается не только уничтожения крепостного права, но и всякого вида рабства»[201]. Ну как, право, еще яснее было сказать, что для
«лучшей, наиболее разумной части дворянства» идейное наследие Грозного царя уже умерло?
Вот что докладывал царю министр внутренних дел Сергей Ланской о беседе с одним из самых авторитетных дворянских депутатов: «Он положительно высказался, что помышляет о конституции, что эта мысль распространена повсеместно в умах дворянства и что, если правительство не внемлеттакому общему желанию, то должно будет ожидать весьма печальных последствий»[202]. И ведь даже в страшном сне не снились этому бедному анонимному смельчаку, насколько печальными будут эти последствия. Не могла ведь, согласитесь, прийти ему в голову мысль о расстреле царской семьи или о сталинской опричнине...
Так или иначе, в конце 1850-х сам воздух России напоен был, казалось, ожиданием чуда. Даже в Лондоне почувствовал это Герцен. «Опираясь с одной стороны на народ, - писал он царю, - с другой на всех мыслящих и образованных людей в России, нынешнее правительство могло бы сделать чудеса»[203]. Так разве не выглядел бы именно таким чудом созыв Думы (пусть поначалу и законосовещательной), если бы, как в старину, пригласил молодой император для совета и согласия «всенародных человек» (так называлось сословное представительство в досамодержавной Москве)? Другими словами, согласился бы в начале царствования на то, на что согласился в конце? И разве не пустила бы к началу XX века корни в народной толще такая Дума, созванная в обстановке всеобщей эйфории и ожидания чуда? И разве стали бы стрелять в такого царя образованные молодые люди, мечтавшие именно о том, что получила из его рук страна?
Увы, ничему этому не суждено было состояться. Одержав только что грандиозную победу на крестьянском фронте, либералы потерпели жесточайшее поражение на конституционном. Именно на том, иначе говоря, что было чревато Сталиным. И мы всё еще не знаем, почему.
Глава одиннадцатая
Рз С КОЛ Последний спор
Единственное решение этой загадки, которое представляется правдоподобным, состоит, как это ни парадоксально, в том, что именно отмена крестьянского рабства безнадежно расколола единый либеральный фронт, разрушила то, что назвал я «либеральной мономанией». Национал-либералы, сражавшиеся плечом к плечу с либералами старого, так сказать, стиля против крепостного права, немедленно предали своих союзников, едва согласился царь на его отмену, а они неожиданно оказались политической элитой постниколаевской России, архитекторами Великой реформы.
Вот тогда вдруг и обнаружилось, что действительной их целью была вовсе не «отмена всякого вида рабства», как полагали либералы, но сильная Россия, способная взять у коварной Европы реванш за крымский позор. Да, для такого реванша ей следовало стать страной свободного крестьянства - в этом были они с либералами едины. Но требовалась также для реванша и мощная государственность, немыслимая, с их точки зрения, без самодержавия - и тут их пути с либералами разошлись. Бывшие союзники оказались вдруг на противоположных сторонах баррикады - врагами.
Дореволюционные либеральные историки, пытавшиеся разгадать нашу загадку, не могли прийти в себя от изумления, обнаружив, что «даже самые прогрессивные представители правящих сфер конца пятидесятых годов считали своим долгом объявить непримиримую воину обществу»[204]. Недоумевали, почему «догматика прогрессивного чиновничества не допускала и мысли о каком-либо общественном почине в деле громадной исторической важности... Просвещенный абсолютизм - дальше этого бюрократия не шла. Старые методы управления оставались в полной силе и новое вино жизни вливалось в старые мехи полицейско-бюрократической государственности»[205].
Не меньше русских историков недоумевают и американские. Брюс Линкольн, написавший книгу об архитекторах Великой реформы, так и не смог объяснить, почему «европейцы практически единодушно видели в самодержавии тиранию, за разрушение которой они боролись в революциях 1789,1830 и 1848 гг., [тогда как] русские просвещенные бюрократы приняли институт самодержавия как священный»[206]. Ближе всех подошел к разгадке, кажется, Бисмарк, который был лично знаком с талантливейшим из «молодых реформаторов». Вот его отзыв: «Николай Милютин, самый умный и смелый человек из прогрессистов, рисует себе будущую Россию крестьянским государством - с равенством, но без свободы»[207]. Почему, однако, вчерашний либерал (пусть и националист) оказался вдруг противником свободы, не смог объяснить и Бисмарк.
Разгадка между тем лежала на поверхности. Идеология реванша, вдохновлявшая Милютина, превосходно объясняла как его «непримиримую борьбу с обществом», так и его пристрастие к «полицейско-бюрократической государственности». Подготовка к реваншу требовала не «свободы всего народа», а концентрации власти. И уж во всяком случае не ее ограничения. Бывшие союзники, либералы («общество») казались ему в лучшем случае наивными чудаками не от мира сего, а в худшем - отребьем, «демшизой», как принято говорить нынче.
Кто был прав в этом споре, рассудила русская история-странница: не только не добилось реванша за крымский разгром русское самодержавие, не сумело оно даже предотвратить «печальных последствий», о которых тщетно предупреждал министра Ланского его либеральный собеседник. Мечта Милютина о стране «с равенством, но без свободы» обрекла Россию на еще одну катастрофу, затянувшуюся на этот раз на три поколения.
Просто здесь перед нами дурная бесконечность имперского иосифлянства. Сначала ему не до свободы по причине, что зовет его в бой «победная музыка III Рима». А когда эта «музыка» доводит
страну до разгрома и унижения, ему уж и вовсе не до свободы, поскольку теперь живет оно жаждой реванша.
Глава одиннадцатая Последний спор
Такова, похоже, конструкция ментального блока иосифлянской политической элиты, не позволившего ей даже в разгар Великой реформы сделать следующий после освобождения крестьян шаг к разрушению идейного наследия Грозного царя. Кто же в самом деле мог тогда знать, что именно этот шаг окажется решающим для того, чтобы обеспечить стране будущее без Сталина? Об этом, впрочем, рассказано в трилогии очень подробно.
«Вялый пунктир»?
При всем том совершенно же очевидно, что первоначальный европейский импульс, заложенный в основание русской политической культуры (пусть и сильно испорченный «победной музыкой» иосифлянства), никогда не дал окончательно угаснуть тому, что Пелипенко презрительно именует «либеральной линией» русской истории. На самом деле по мере созревания этой «либеральной линии», в XIX и XX веках история её состояла, наряду с жестокими поражениями, также из серии замечательных побед. Как мы только что видели, крестьянское рабство и впрямь ведь не выдержало либерального натиска.
Следующей победой российских либералов стало сокрушение «сакрального самодержавия» в феврале 1917-го. Наконец, на излете «либерального пробуждения» 1989-1991-го пала еще одна цитадель грандиозной конструкции, созданной в XVI веке тандемом иосифлян и Грозного, - экспансионистская империя, снова и снова претендовавшая, несмотря на все свои эпохальные поражения, на мироде- жавность «першего государствования». Та самая империя, что на протяжении столетий служила, согласно А.В. Карташеву, сквозной темой «победной музыки III Рима».
И вместе с империей с треском и скрежетом зашаталась и вся хитрая ловушка «политической мутации». Во всяком случае структура ее оказалась бесстыдно обнажена. До такой степени, что не осталось сомнений: мы присутствуем при её мучительной агонии. Избавленная между 1861 и 1991 годами от всех, кроме одного, идейных и институциональных бастионов «особнячества» - от крестьянского рабства до самодержавной империи - Россия почти свободна от древнего иосифлянского заклятия (остается еще, конечно, вера в сакральность верховной власти, пусть и не самодержавной, эта «персональная мифология царя Ивана», но не лучшие времена переживает, похоже, и она).
Так или иначе, у кого повернется язык назвать эту серию эпохальных побед русской традиции вольных дружинников «вялым пунктиром»? И кто усомнится, что, если есть у России будущее, то это либеральное будущее? Просто потому, что только оно способно предотвратить новое катастрофическое «выпадение» страны из Европы. Восемнадцать поколений была она, в этом Пелипенко прав, антитезой Европы, но ведь всё на свете кончается. Во всяком случае никогда еще, начиная с Судебника 1550-го и подписанного Александром II 331 год спустя проекта Лорис-Меликова, не была она ближе к «звезде пленительного счастья», обещанной Пушкиным еще в 1818 году.
Да, оба раза по разным причинам сорвалось. И 90 лет назад Пушкин ошибся. И по-прежнему не видим мы вокруг себя тех «обломков самовластья», на которых, обещал он, напишут имена его товарищей, декабристов. Но ведь все это - и мечты о сокрушении самовластья, и многократные попытки его сокрушить, и, самое главное, сокрушение почти всех его основ - в русской истории было! И меньше всего, согласитесь, напоминало «вялый пунктир» Пелипенко, если в первый раз царь неожиданно оказался всего лишь председателем боярской коллегии, а во второй согласился с тем, что страна идет к конституции. Назовите хоть одну «теократическую» империю с «деспотической линией» (а их в мировой истории были десятки, если не сотни), где было бы возможно хоть что-нибудь подобное. Готов спорить, что не назовете. Я не говорю уже, что и в 1818-м, и в 1881-м все еще были в силе и славе как самодержавие, так и империя. Где они сейчас?
^ Глава одиннадцатая
Либеральные последний спор депрессии
При всем том я понимаю, что пишу всё это в пору, когда читатели склонны согласиться, скорее, с Пелипенко, нежели со мной, когда ликующие пушкинские строки могут, чего доброго, показаться насмешкой - в контексте сегодняшнего разочарования, чтобы не сказать отчаяния. Либеральных депрессий было, однако, в русской истории много (что, конечно же, неудивительно, имея в виду целую вечность, на протяжении которой бродила страна по своей Синайской пустыне - скорее, четыреста сорок лет, нежели сорок), но совсем не часто оказывались они индикаторами безнадежности будущего.
Вот лишь два примера. Первый: конец XIX - начала XX века. Время всемогущества спецслужб, этой «некомпетентной, по словам Джорджа Кеннана, подмены божественного Провидения»60. Даже бывший начальник департамента полиции А.А. Лопухин так это время описывал: «Всё население России оказалось зависимым от личных мнений чиновников политической полиции»61. Было оно также временем всепроникающей коррупции и разочарования, упоминая о котором даже лояльный режиму национал-либерал Константин Кавелин не мог удержаться от отчаяния: «куда ни оглянитесь у нас, везде тупоумие и кретинизм, глупейшая рутина или растление и разврат, гражданский и всякий, вас поражают со всех сторон. Из этой гнили и падали ничего не построишь»62.
Короче, то было время глубочайшей либеральной депрессии, от которого унаследовали мы горькую сентенцию: «бывали хуже времена, но не было подлей». Куда уж, кажется, безнадежней? Кто осмелился бы тогда предположить, что пройдет не так уж много лет - и падёт четырехсотлетнее «сакральное самодержавие» вместе со всеми его недавно еще всемогущими спецслужбами, и страна будет
Кеппап George. The Russian Police. The Century Illustrated Magazine. Vol. XXXVII. P. 892. Лопухин AA . Настоящее и будущее русской полиции. М., 1907. С. 26. Вестник Европы. 1909. № 1. С. 9.
бурно праздновать эту, пусть недолговечную, но все-таки замечательную либеральную победу?
Второй пример ближе к нам по времени. Начало 1980-х. Кагебешник Андропов - и с ним всё та же «некомпетентная подмена божественного Провидения» - у руля страны. Корейский авиалайнер, потопленный вместе с сотнями пассажиров. Конфронтация с Западом достигает пика. Сахаров в ссылке. На дворе «империя зла». Назовите мне смельчака, который отважился бы тогда предсказать «Московские Афины» 1989-го, не говоря уже об августе 1991-го. Я о таком не слышал. Пусть и это торжество традиции вольных дружинников было недолговечным: советская «подмена Провидения» отказалась признать своё поражение - и «персональная мифология царя Ивана» ее выручила.
Но это ведь последний резерв почти полутысячелетней «политической мутации». На что сможет она опереться в следующем кризисе? Как бы то ни было, единственное, что пытался я продемонстрировать этими примерами, очевидно: либеральные депрессии - не индикатор безнадежности будущего.
^ Глава одиннадцатая
Свободна, наконец? noo^,*™*
Между тем частичную реставрацию «особнячества» в начале XXI века не очень сложно объяснить. Прежде всего тем, что падение его имперского бастиона не было - да и не могло быть в советских условиях - подготовлено столь же серьезной и консолидировавшей культурную элиту страны идейной войной, как, скажем, сокрушение самодержавия, не говоря уже о крепостном праве. А если еще иметь в виду, что империя с самого начала была, как мы видели, переплетена с тоской по «першему государствованию», глубоко за четыре столетия укорененной в сознании поколений, то едва ли удивительно, что именно её крушение привело к еще одному расколу как во властной элите страны, так и среди либералов. И потом свобода означает лишь то,что страна свободна идти в любом направлении, в том числе и назад в ярмо - хоть к империи, хоть к самодержавию. Даже, если угодно, и к крепостничеству.
Мало ли в самом деле было в свое время крестьян, искренне сожалевших об отмене крепостного права? И какими, представьте себе, словами поносили они либералов, «освободивших» их не только ведь от барского гнева, но и от барской любви? А бывшие крепостники, они разве не тосковали отчаянно по утраченному раю дармового крестьянского труда? Так чего уж тут, право, удивляться, что немало нашлось и в наши дни плакальщиков по отпавшей, как сухой лист от древа страны, империи? Что точно так же, допустим, как во второй четверти XIX века, когда самым горящим был в России вопрос о крестьянской свободе, первую скрипку играли крепостники, в эпоху крушения империи заполонили политическую сцену именно реваншисты?
А чего еще могли мы ожидать? Мы видели в трилогии, что так было после каждой победы либералов - и после отмены крепостного рабства, и после падения самодержавия. Не забудем также, что и крепостники и фанатики «сакрального самодержавия» неизменно величали себя государственниками, патриотами, спасителями отечества. В том ведь и состоит в России драма патриотизма, что монополию на него неизменно присваивали себе самые оголтелые наследники холопской традиции - от иосифлян в XV веке до черносотенцев в XX и православных хоругвеносцев в XXI. И все эти «патриоты», начиная от непримиримого гонителя «жидовствующих» архиепископа Геннадия при Иване III и кончая столь же непримиримым епископом Диомидом при Путине,- всегда лучше всех знали, что хорошо для России (разумеется, конфронтация с еретическим Западом).
Ведь и в эпоху борьбы либералов против крепостного права только крепостники, как мы помним, знали, почему «свобода крестьянская пагубна для России». Вот как по поручению смоленского дворянства объяснял это императору их губернский предводитель князь Друцкой-Соколинский. Отмена крепостного права, говорил он, приведет лишь к тому, что «стремление к свободе разольется и в России, как это было на Западе, таким разрушительным потоком, который сокрушит всё ее гражданское и государственное благоустройство»63.
[208] Ключевский В.О. Цит. соч. Т. 5. C.389.
Убедительный аргумент? Правильный? И впрямь ведь разлился в России после отмены крепостного права «поток свободы, как на Западе». И уже на следующий день поставили, как мы видели, российские либералы вопрос об отмене самодержавия. Свобода опасна, говорил князь, и с архаическим «благоустройством» несовместима. Бесспорно, он был прав. Но что же из его правоты следовало? Что нужно держать в неволе большинство соотечественников до скончания века? Или что надо приспособить «гражданское и государственное благоустройство» к требованиям свободы?
Вот и подошли мы к главной особенности «особняческого» благоустройства, к особенности, из-за которой власть в России всегда опаздывала. И всегда предпочитала неволю адаптации к требованиям свободы. Мешал уже известный нам ментальный блок элиты, покоившийся все на тех же четырех иосифлянских нововведениях, которые мы так подробно обсуждали. Его, этого ментального блока, смертельно боялся даже такой, казалось бы, всесильный диктатор, как Николай I. Вспомните его ответ на скромное предложение графа Киселева обязать помещиков заключать договоры с крестьянами: «Я, конечно, самодержавный и самовластный, но на такую меру никогда не решусь»64.
Именно из-за этого ментального блока на полстолетия опоздала Россия с отменой крепостного права. Из-за него же на столетие опоздала она и с превращением в конституционную монархию. И причиной тому не был некий абстрактный «синкретизм», как думает Пелипенко, а вполне реальное «особнячество», имеющее точную дату возникновения и обратный адрес.
Причиной было преобладание в российской элите, начиная со второй половины XVI века, иосифлянской ментальности - с её «музыкой III Рима», с её готовностью смириться ради этой «музыки» с порабощением соотечественников и с произволом неограниченной власти, с её неспособностью адаптироваться к требованиям свободы. Одним словом, причиной был ментальный блок, одолевавший иосифлянское большинство российской элиты всякий раз, когда очередной вызов истории требовал такой адаптации.
Верно, что в XIX-XX веках история, инструментом которой выступали либералы, безжалостно этот блок ломала. Но, как правило, лишь в конечном счете. Лишь после того, как доводила российская элита дело до упора, до национальной катастрофы, до крови. Отменить крепостное право согласилась она лишь после крымской капитуляции. Ввести конституцию - лишь после позорной японской войны. Отказаться от «сакрального самодержавия» - лишь после эпохальных поражений в мировой войне. Отречься от империи - лишь когда рушилась советская власть и взяла её за горло угроза финансового банкротства.
Всё это было - когда Россия еще оставалась в ярме «особняче- ства». Но сейчас-то она, казалось бы, почти уже от него свободна. Нужно лишь последнее усилие. Потому-то главная задача сегодняшних реваншистов в том и заключается, чтобы не дать стране почувствовать, что она и впрямь свободна.
Глава одиннадцатая Последний спор
державности
Наивно было бы отрицать, что в пер-
вое десятилетие XXI века им это удаётся. Как удавалось крепостникам сохранить крестьянское рабство в первой половине XIX, как удавалось приверженцам самодержавия сохранить его в первом десятилетии XX. Сегодня они на коне. Они завоевали средства массовой информации?У них есть возможность денно и нощно убеждать публику, как убеждал когда-то императора князь Друцкой, в том, что свобода угрожает «гражданскому и государственному благоустройству» страны.
А власть что ж, она, как всегда, приспосабливается к ментальному блоку своей реваншистской элиты. Приспосабливается, но выходит у нее это сопротивление очередному вызову истории не очень-то складно. Если основоположник триумфа холопской традиции царь Иван был абсолютно уверен в своем праве на «першее государство- вание» (пусть по причине своего мифического происхождения попрямой линии от Августа Кесаря), то сегодняшние энтузиасты его древней традиции, объявившие Россию «энергетической сверхдержавой XXI века», вести её родословную могут разве что от «энергетической сверхдержавы XX века» Саудовской Аравии.
Нужны еще примеры? Совершенно ведь убеждена сегодняшняя властная элита, что Россия сама себе «цивилизация», но вот приходится признавать её еще и частью цивилизации европейской. Получается, конечно, монстр: неизвестная миру двойная цивилизация. Или возьмите термин из лексикона царей, который у всех сегодня на устах - держава. Ясное дело, имеется в виду империя. Проблема лишь в том, что империи-то больше нет! Вот и приходится заменять точное определение эвфемизмом. Короче, имитировать империю. Да, они по-прежнему мечтают о канувшей в Лету миродер- жавности, но в реальности способны лишь устрашать бывших клиентов навсегда утраченной державы. Одним словом, тешить национальное самолюбие вместо того, чтобы поднимать страну. Нечто подобное и назвал я в трилогии фантомным наполеоновским комплексом.
Г.П. Федотов]
Не только у Ивана Грозного, но и у Николая I не было, как мы видели, ни малейшей нужды оправдываться перед Европой, изобретать диковинные идеологические конструкции, вроде двойной цивилизации или «суверенной державности», и вообще устраивать Россию таким образом, чтобы всё в ней выглядело, по крайней мере, «как у людей». Сегодняшняя власть обойтись без этого уже не может. О силе ее зто говорит или о слабости?
/
Масштабы вызова
Я не хочу преуменьшать опасность ментального блока современной элиты. Агония переродившейся за четыре столетия государственности - грозная сила. Особенно, если вдохновляется ультрарадикальными идеями Ивана Ильина с его пристрастием к «национальной диктатуре» и презрением к демократии. И вдобавок еще не встречает сопротивления сильного гражданского общества. Трудно, согласитесь, понять, почему растущему влиянию Ильина не противопоставлены, например, идеи его антипода Георгия Федотова, куда более авторитетного в кругах эмиграции 1930-1940 годов, нежели Ильин с его гитлеровскими заскоками. Я не могу представить себе, чтобы перевелись вдруг в России серьезные философы и историки, способные сопоставить идеи этих мыслителей и вынести авторитетное суждение о том, какие из них на самом деле важнее для будущего страны.
Глава одиннадцатая Последний спор
Как в микрокосме, отразился здесь наш сегодняшний мир, в котором Ильина цитирует президент, архив его выкупают за границей и торжественно возвращают на родину, а о Федотове не вспоминают, словно его и не было. Впрочем, разве это не еще одно доказательство, что, несмотря на падение трех из четырех бастионов «особнячества», Россия до сих пор не почувствовала себя свободной?
И.А. Ильин
Потому, надо полагать, и не потребовала от власти интеллигенция взяться, наконец, за расчистку авгиевых конюшен гражданской и всякой прочей отсталости, которая накопилась за столетия «особнячества», лишившего страну способности сопротивляться произволу власти. Ни для кого ведь больше не секрет, что покуда Европа политически модернизировалась - пусть неравномерно, пусть с
22Яно«
откатами и рецидивами, но модернизировалась, - Россия всё еще вырывалась из ярма средневекового «особнячества».
Есть более или менее объективные цифры, дающие возможность измерить глубину накопившейся за эти столетия отсталости. Вот что говорят о ней независимые друг от друга международные организации, специализирующиеся на таких измерениях.
По защищенности граждан от коррупции сегодняшняя Россия занимает, согласно Transparency International, 147-е место в мире (из 159)- (Наравне с Новой Гвинеей, но опережая Бурунди.)
По независимости суда, согласно World Economic Forum, - 84-е место (из 102).
По защищенности политических прав граждан, согласно Freedom House, - 168-е место (из 192).
По защищенности частной собственности, согласно тому же World Economic Forum, - 88-е место (из 108).
Глава одиннадцатая
либеральная последний сп°р «мономания»
Проблема на самом деле в том, что
иосифлянская элита не замечает этого вызова. Никогда не замечала. Всегда отговаривалась от него высокопарной риторикой в духе «пятой империи» Александра Проханова. Это, впрочем, естественно. Ведь даже перед лицом столь вопиющего нарушения всех человеческих и божеских установлений, как порабощение соотечественников, просто некому было в иосифлянской элите из-за него волноваться. Все были заняты другими, более важными, с их точки зрения, делами.
Как видим, по всем этим показателям опередила «энергетическая сверхдержава» главным образом африканские страны. Иначе говоря, за столетия преобладания холопской традиции произвол в России достиг африканских п ропорций. Таковы масштабы вызова, который бросила нам сегодня эта традиция.
Православные хоругвеносцы, например, занимались тем же, чем и сейчас, яростной борьбой с «нерусью». Им было не до крестьянской свободы. Других вдохновляла все та же «победная музыка III Рима». Третьи, как мы видели, беспокоились о том, как бы ненароком не «разлилось в России стремление к свободе, как на Западе». Четвертые увлечены были традиционным на Руси занятием, воровали (не подействовал, как мы помним, даже громовой окрик Герцена «Кабинет его императорского величества - бездарная и грабящая сволочь!»). Пятые, наконец, настойчиво убеждали публику, что толку в России с ее «деспотической линией» все равно не добьешься, поскольку «из такой гнили и падали ничего не построишь». Такая уж страна, что поделаешь, всегда была такой, всегда такой будет.
Кому же, спрашивается, кроме либералов, русских европейцев, было в таких обстоятельствах волноваться о судьбе порабощенного крестьянства? В конце концов они были единственным на Руси сословием, чуждым великодержавному фанфаронству иосифлян, безразличным к истерическим воплям хоругвеносцев и глухим к вышеупомянутой «музыке». Они продолжали дело своих прародителей XV-XVI веков, нестяжателей. Так было в прошлом. И так в России будет всегда. Ибо кому же и завершить её очищение от вековой отсталости, если не тем, кто нашел в себе мужество это очищение начать? Тем, иначе говоря, кто сокрушил фундаментальную опору этой отсталости - порабощение соотечественников?
Всё это, впрочем, прямо вытекает иэ моей полемики с культурологами.
Чего, одн^о, я еще не сказал, это как удалось тогдашним либералам сокрушить крепостничество в эпоху, когда не было еще ни политических партий, ни профессиональных пропагандистов, ни тем более Интернета. Правда, не было у них и такого сильного и жестокого неприятеля, как казенное телевидение, несопоставимо более влиятельное, чем даже Третье отделение собственной е.и.в. канцелярии. Но им ведь и не приходилось убеждать массы в ужасах помещичьего и самодержавного произвола. Массы были неграмотны и о политических дебатах просто не подозревали.
Чего реально могли добиваться в таких условиях либералы, это решающего перелома в общественном мнении образованной России, создания в стране атмосферы нетерпимости по отношению к основе основ российской отсталости - крестьянскому рабству. Чтобы добиться такого перелома, требовалась открытая - и тотальная - идейная война против иосифлянской элиты с её ментальным блоком.
Мы видели в трилогии, что либералы своего добились. Отношение прогрессивной части дворянства и образованной молодежи к крепостному праву и конституции было во второй половине 1850-х прямо противоположным тому, каким оно было во второй половине 1820-х. Вот же где он, реальный опыт, от которого так легкомысленно отреклись наши культурологи, опыт столь же императивный сегодня для завершения борьбы против вековой гражданской отсталости, как был он в её начале. Присмотримся к нему внимательнее.
Первое, что бросается в глаза: замечательным образом сумели тогдашние либералы сфокусироваться на одной-единственной теме, подобно оркестру, играющему без дирижера, но так слаженно, словно бы дирижер у него был. Причем делали они это действительно тотально, всем либеральным сообществом - одинаково и западники и славянофилы. О чем бы ни говорили они, о чем бы ни писали, тема «разрушения Карфагена» обязательно звучала и в их стихах, и в их конституционных проектах, и в их пьесах и памфлетах, и в ихдиссер- тациях и даже в письмах. Вот смотрите.
Стыдно и непонятно, как мы можем называть себя христианами и держать в рабстве своих братьев и сестер (Алексей Кошелев).
Там, где учат грамоте, там от большого количества народа не скроешь, что рабство - уродливость и что свобода, коей они лишены, такая же неотъемлемая собственность человека, как воздух, вода и солнце (Петр Вяземский).
Покуда Россия остается страной рабовладельцев, у неё нет права на нравственное значение (Алексей Хомяков).
Восстаньте, падшие рабы! (Александр Пушкин).
Рабство должно быть решительно уничтожено (Павел Пестель).
Раб, прикоснувшийся к российской земле, становится свободным (из конституционного проекта Никиты Муравьева).
Андрей Кайсаров защитил (в Геттингенском университете) диссертацию «О необходимости освобождения крестьян». Николай Тургенев из ненависти к крестьянскому рабству ушел в пожизненное изгнание. Посторонний человек счел бы это, пожалуй, какой-то мономанией. Герцен так сформулировал ее основной принцип: «Все наши усилия должны быть сосредоточены на одном вопросе, собраны около одного знамени, in hoc signo vincetis!65 Современный историк подтверждает: «Отмена крепостного права становится приоритетной в русском либерализме». (Е.Л. Рудницкая).
Оказалось, однако, что только такая «мономания», только абсолютный приоритет одной темы, опиравшийся на безусловную уверенность в своей моральной правоте, и смог сломать ментальный блок тогдашней элиты. Достаточно сравнить эту пылкую либеральную «мономанию» пушкинского декабристского поколения с кисло- сладкими сентенциями современного либерального историка, чтобы убедиться, какая глубокая пропасть отделяет нас от предшественников.
Б.Н. Миронов, как помнит читатель, в солидном двухтомном труде, изданном на двух языках, утверждает, что «крепостничество являлось органической и необходимой составляющей русской действительности»66. И даже, что отменено оно было задолго до того, как стало «экономическим и социальным анахронизмом»67.
К нашему удивлению современный либеральный историк, как видим, горазд^ ближе к князю Друцкому, воплощающему в нашем случае ментальный блок николаевской элиты, нежели к Николаю Ивановичу Тургеневу или даже к Василию Осиповичу Ключевскому. Тот ведь тоже, как мы помним, писал, что «этим правителям доступна была не политическая или нравственная, а только узкая, полицейская точка зрения на крепостное право; оно не смущало их своим противоречием самой основе государства... не возмущало как нрав-
Колокол. Вып. 2. С. 275.
Миронов Б.Н. Социальная история России имперского периода. Спб., 1999. Та. С. 413.
4 . 67 Там же. T.2. С. 298.
ственная несправедливость, а только пугало как постоянная угроза государственному порядку»68.
Заметьте, что и князь Друцкой прекрасно понимал, что не было на его стороне моральной правоты. Потому и апеллировал исключительно к «государственному благоустройству». Потому и пугал «западной свободой». А национал-либерал Миронов и в 1999 году не понял, что в России «государственное благоустройство», опирающееся на нравственную несправедливость, проигрывает неминуемо. Дорого же обходится нам пренебрежение опытом наших предшественников.
Причем, дорого обходится оно не только либералам, но и власти. Сконцентрировавшись, как князь Друцкой, на «государственном благоустройстве» (и укрепляя тем самым ментальный блок своей элиты), она забыла, что в конечном счете решает в России дело моральная правота, вдохновлявшая полтора столетия назад Петра Вяземского и Никиту Муравьева, а не канцелярские сентенции князя Друцкого и Б.Н. Миронова. Нельзя оставлять страну в состоянии африканской отсталости, даже если это приносит баснословные нефтегазовые доходы. Даровой крестьянский труд тоже приносил огромные доходы помещикам и самодержавию. Но не остался ли он несмываемым темным пятном на совести народа?
Здесь уязвимость российской власти, её, если хотите, ахиллесова пята. На этом поле, как мы видели (для того и приводил я мнения либералов пушкинского поколения), как раз и добились они успеха в XIX веке. Таков опыт, оставленный нам предшественниками. Проблема лишь в том, дадим ли мы сбить себя с толку квазинаучными выкладками, вроде мироновских, и абстрактными рассуждениями, вроде тех, что слышали мы от культурологов, освоим ли, короче говоря, этот опыт и сумеем ли им воспользоваться.
68 Ключевский В.О. Цит. соч. Т.5. С.374
1/лово одиннадцатая I
Скептики I посл«н"йН и национал-либералы
Много ли, однако, шансов на то, что и впрямь возникнет в обозримом будущем либерализм XXI века, способный возглавить протест против африканской отсталости страны, как возглавили его предшественники протест против крестьянского рабства два столетия назад? Боюсь, не очень много. А если еще принять во внимание, что, судя по интернетовским сайтам, преобладает сегодня в либеральной публицистике настроение своего рода постмодернистского скептицизма, то шансов этих, похоже, ничтожно мало (во всяком случае в обозримом будущем). Проблема с этим скептицизмом в его неконструктивности, в том, что видит он Россию страной не только с непонятным будущим, но и с непонятным прошлым.
Мне нетрудно представить себе, например, как воспримут либеральные скептики мою работу даже в случае, если они попросту не раскассируют ее по ведомству какой-нибудь историософии. В том, что касается глубокой древности (а под эту категорию подпадает у них порою всё, что случилось до 1917 года), они, быть может, и найдут её любопытной (и даже попытаются выдрать из контекста утешительные для национального самолюбия цитаты). Но в том, что ровно никакого отношения к сегодняшней российской действительности она не имеет, сомнений у них не будет тоже. А самые честолюбивые из них, не устоят, возможно, и перед искушением опровергнуть меня моими собственными аргументами.
Допустим, скажут они, в истории старой России всё и происходило так, как описывает Янов. Николай I в самом деле боялся ментального блока своей крепостнической элиты. И тем более боялся его старший брат Александр I. И благодаря тому, что страх царей перед элитой был сильнее их страха перед пугачевщиной, Россия на столетие опоздала как с превращением в конституционную монархию, так и с освобождением крестьян. Допустим далее, что именно фантомный наполеоновский комплекс тогдашней элиты и славянофильский миф действительно толкнули Россию в ненужную ей мировую войну, которая привела страну к большевистской катастрофе.
и
Но катастрофа-то произошла. И полностью изменила всё, что дотех пор в России было. Порвалась связь времен, как сказал бы Гамлет. Так какое всё это имеет отношение к нашей постсоветской реальности?
Ведь с приходом советской власти вершителями судеб страны оказались совсем другие цари, а то, что прежде было аристократией, стало в руках власти глиной, из которой лепила она что хотела. И падение СССР ничего в этом новом соотношении сил, как выяснилось, не изменило. Вы говорите, что с развалом империи Россия почти свободна. Но какая уж тут свобода, если постсоветская власть так и осталась хозяйкой страны, а элита - всё та же глина?
Так чему же следует нам учиться у русской истории, если на самом деле началась эта история заново? Либеральные скептики охотно признают, что ментальный блок «особнячества» есть и у нынешней элиты. Только власти-то на все ее блоки наплевать. В отличие от прежних царей, она их не боится. Какой же тогда смысл их расшатывать, подобно либералам XIX века, если всё равно толку от этого чуть? Чему в таком случае нам у них учиться?
Убедительно? Вроде бы да. Но когда игрок смахивает с шахматной доски все фигуры и использует её, чтобы оглушить оппонента, это тоже ведь, согласитесь, убедительно. Проблема лишь в том, что история - не шахматная доска. И точно так же, как не может уйти от своего прошлого индивид, не может от него уйти и страна. Достаточно спросить, почему именно Россия, а не Европа, оказалась к XXI веку в глубокой яме гражданской и прочей отсталости или почему в Европе есть гарантии от произвола власти, а в России их нет, как тотчас и выяснится, что история наша по-прежнему с нами. И снова возникнут на доске только что сброшенные с неё фигуры крепостного права, «сакрального самодержавия» и имперской «музыки III Рима», обусловившие эту страшную и, честно говоря, неприличную в Европе XXI века сегодняшнюю отсталость.
Нам, впрочем, важно здесь,что вместе со старинными фигурами крепостничества, самодержавия и империи неминуемо возникнет на доске и фигура российского либерализма, ибо кто же, как не он, сокрушил между 1861-м и 1991-м почти все эти институциональные и идейные опоры российской отсталости (империю, между прочим,
уже на наших глазах)?
Спросим дальше: есть ли у постсоветской власти со всей её полуторамиллионной бюрократией хоть какой-то шанс вытащить страну из ямы отсталости, покуда, имитируя «суверенную держав- ность», третирует она «другую», либеральную Россию как оппонента, а не союзника? История отвечает: шанс есть. Но не больше того, который был, скажем, у Александра I. И вот все старые исторические фигуры опять на доске. Так зачем же спрашивать, чему нам учиться у либералов пушкинского поколения? «Либеральной мономании», вот чему.
Другое дело национал-либералы. Их послушать, так прошлое России было лучшим из всех возможных прошлых. И учиться нам у предшественников совершенно нечему, и Пушкин со своим «Восстаньте, падшие рабы!» выглядит чуть не городским сумасшедшим, а Герцен с его «долгим рабством» не более, чем пикейным жилетом. Ибо, если и было в русской истории крепостное право, то «мягкое- мягкое». И ни малейшей необходимости не было поднимать по такому пустячному поводу сыр-бор, тем более роняя в глазах мира престиж державы.
А что до самодержавия, то ведь по сравнению со зверствами Елизаветы I в Англии и сам Иван Грозный выглядит пай-мальчиком. Так примерно и говорится. А империя, что ж, без неё Россия ведь оказалась бы колонией. Если читатель заподозрит, что я преувеличиваю, пусть заглянет в первый за 2008 год номер журнала Эксперт, посвященный Российской империи. Уже из редакционной статьи мы узнаем, что «есль^какой-нибудь из великих мировых держав и стоит «каяться и исправляться», то России в последнюю очередь, и в российской истории светлых пятен куда больше, чем в любой другой»69.
Конечно, как мы уже говорили, редакторы Эксперта не снисходят до того, чтобы объяснить читателю, откуда взялась африканская отсталость страны, зафиксированная, как мы видели, всеми международными организациями, профессионально занятыми измерениями сравнительного статуса разных стран мира. И обратите внимание, что даже и не попыталась оспорить их приговор редакция
Эксперт Online. 2008. № 1.
*
журнала.
Впрочем, и авторы их, естественно, недалеко ушли от своих редакторов. Они тоже уверены, например, что «в любом случае у России не было выбора - быть империей или быть «нормальным демократическим государством». Был выбор - быть империей или быть колонией»70.
Вот единственная, выходит, альтернатива, перед которой стояла Россия. Декабрист Сергей Трубецкой почти два столетия назад предложил, между прочим, совсем иную альтернативу империи. Вот что сказано об этом в его проекте конституции: «Федеральное или союзное правление одно соглашает величие народа и свободу граждан»71.
Так вырисовываются перед нами контуры ментального блока самих сегодняшних либералов. Два полюса либерального мира - один, отрицающий европейское прошлое России, другой, воспевающий прелести ее «особнячества», - совершают в действительности одно и то же дело: не дают современному либерализму повторить подвиг пушкинского поколения.
Ведь если и найдется лидер, способный возглавить борьбу против вековой гражданской отсталости страны, его неминуемо ожидает судьба Александра I. Да и невозможно избежать этой участи без «либеральной мономании», которая, как мы помним, подставила плечо Александру II. Только ведь благодаря ей полтора столетия назад был положен конец крестьянскому рабству. Точно так же, казалось бы, могла бы она положить конец и гражданской отсталости России. Увы, вместо нее видим мы противоестественную, если хотите, коалицию скептиков и национал-либералов, которая ничего хорошего стране не предвещает.
Вот почему, я думаю, смысл трилогии в конечном счете в том, чтобы разбить эту коалицию. Напомнить национал-либералам, как это на самом деле было, а скептикам старую пропись, что те, кто овладел прошлым страны, владеет ее будущим. Выйдет ли что- нибудь из этого, знает лишь русская история-странница. Если не вый-
Там же.
Цит. по: Глинский Б.Б. Борьба за конституцию. 1612-1861 гг. Спб., 1908. С.190.
дет, что ж, пусть хотя бы останется следующим поколениям память о том, что кто-то понимал проблему в эпоху, когда все были заняты другими делами.
Если выйдет, однако, современники поймут, что последовательное расшатывание ментального блока элиты было бы, по правде говоря, намного более продуктивно, нежели издёвки над бюрократической неуклюжестью или хитрыми кадровыми интригами полуевропейской «полуособняческой» власти, в чем, кажется, и состоит главное занятие либеральных скептиков.Более продуктивной, подозреваю я, была бы такая же, как в XIX веке тотальная атака на «особняческие» ценности нынешней элиты, грозящие увести послепутинскую Россию в совсем другом, конфрон- тационном направлении. К очередному «выпадению» из Европы, говоря в моих терминах. В конце концов у сегодняшней власти при всём её кажущемся всесилии стратегии нет. Она бессильно топчется все на том же перекрестке, куда привела её несколько лет назад российская история-странница. Совершенно очевидно, что власть эта, умудрившаяся сочетать меркантилизм XVIII века с геополитикой XIX, не проевропейская, но она и не антиевропейская (она даже официально прокламирует принадлежность России к европейской цивилизации).Естественно, либералы, столетиями ратовавшие за то, чтобы сумма отсталости, накопившаяся в стране, постоянно сокращалась, предпочли бы, чтобы в послепутинскую зпоху антиевропейским идейным течениям, растущим сегодня, как грибы, был положен предел. Но ведь издёвками над ничтожеством власти этого не добьешься. Хотя бы потому, что националисты клянут её с еще большей убежденностью. А вот бросить им открытый вызов, да не походя, но как главное свое дело, было бы и впрямь поступком, достойным либерала XXI века. Также, как, перефразируя Хомякова, объяснить соотечественникам, что покуда Россия остается страной африканской отсталости, у неё нет права на нравственное значение.
Вот, собственно, и все, что мог бы я возразить либеральным культурологам и скептикам. Разве лишь еще напомнить, что им есть кем гордиться в той старой русско/европейской истории, актуаль-
и ность которой они с легким сердцем отрицают. Да и в новой, честно говоря, тоже. Как старался я показать в трилогии, немало в либеральном мартирологе невоспетых героев, начиная от Алексея Адашева, Андрея Курбского, Михаила Салтыкова и Юрия Крижанича до Георгия Федотова, Андрея Сахарова и Александра Яковлева.
Послесловие
Когда-то один очень остроумный советский исследователь, взглянув на современного литературоведа глазами скандинава XIII в., определил его как придурка, который сам рассказать сагу не может, но когда ее рассказывает кто-то другой, приговаривает: «Хорошо рассказано! Очень хорошо!» или — если этот придурок злой — «Плохо рассказано, очень плохо!». Именно в таком качестве волей- неволей оказывается всякий, взявшийся написать преди- или послесловие к труду своего коллеги.
Действительно, я, наверное, никогда не смогу создать обобщающий труд, подобный тому, что вы только что закончили читать. Труд, который освоить непросто уже в силу его объема — и множества идей, которые в него заложены. Хотя, перевернув последнюю страницу, понимаешь, что основная идея, которая вдохновляла автора, предельно проста и, вместе с тем, предельно глубока: Россия — европейское государство, и всякая попытка превратить ее в некое иное («азиатское»? «евразийское»?) состояние ведет к катастрофическим последствиям. Думаю, с этим согласятся многие. Все прочие мысли и исторические экскурсы лишь делают ее более объемной и живой, переводя из примитивной схемы в живую плоть истории, чем создают дополнительные — субъективные — основания для внедрения ее в сознание читателя. Однако читатели-единомышленники, кажется, и без того не будут возражать базовому тезису А. Янова. Что же касается противников... Боюсь, их не смогут убедить и десятки томов самых веских аргументов. Но что самое интересное: и те, и другие — искренние патриоты России. И те, и другие всею душой желают процветания своей стране и своему народу. И готовы за это сражаться друг с другом, что называется, не на жизнь, а на смерть. Вопрос лишь в том, кому от такого сражения станет легче...
Приблизительно такие вот рассуждения заставили меня взяться за послесловие к этой трилогии. Хочется, с одной стороны, объяснить
(прежде всего, самому себе), почему такие книги полезны, а с другой — «чего в супе не хватало».
Трилогия А. Янова — произведение, жанр которого трудно определить. Вряд ли его можно рассматривать как собственно конкретно- историческое исследование. Главный признактакового — прямые ссылки на документы, — как правило, отсутствуют: автор в подавляющем большинстве случаев опирается на чужие выводы и цитаты из источников, взятые из вторых рук (а это дело сомнительное; не потому, что цитаты могут быть искажены, просто их уже отобрали — до того). Историографические экскурсы при этом ограничиваются ссылками на историософские и социологические труды, а также на работы советских историков (преимущественно бо-х годов). Конкретно- исторические исследования последних лет присутствуют лишь в виде исключения — при этом вовсе не те труды, которые рассматриваются профессионалами как прорыв в изучении той или иной проблемы (самый яркий, пожалуй, пример — критика А. Яновым весьма поверхностных рассуждений В.Г. Сироткина о влиянии на историю России географического фактора, при полном игнорировании фундаментальной монографии Л.В. Милова1). Может быть, поэтому историки-«грядочники» (к коим относит себя и автор этих строк) столь скептически относятся к частным выводам автора трилогии (что его, кстати, очень задевает). И зря.
Скорее, перед нами историко-философское эссе о рациональных путях развития современной России, целесообразность которых опирается на исторические традиции нашей страны.
В свое время Т. Хейердал, рассуждая о науке в XX в., сравнил работу отдельных исследователей со старателями, каждый из которых копает свой шурф. Чем глубже становится яма — тем она у же, и тем хуже видно, что накопали соседи. Поэтому время от времени надо выбираться наверх и, забравшись на какую-нибудь горку повыше, смотреть, что творится на соседних участках. Без этого собственный труд в своем шурфе (или, если пользоваться образом А. Янова, на своей грядке) сплошь и рядом теряет смысл. Работа Янова и есть
1 МиловЛ.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. M., 1998.
такой взгляд сверху. Кому-то он покажется удачным, кто-то будет возмущаться: «автор не заметил», «не учел», «опирается на устаревшие данные», «стоит на неверных позициях» и т.д., и т.п.
К сожалению, для подобного возмущения автор подчас дает слишком много поводов. Начать хотя бы с того, что он «забывает» открытие одного из своих наставников, Василия Осиповича Ключевского: в лице Андрея Боголюбского «великоросс впервые выступает на историческую сцену»2 . При этом речь шла вовсе не об этнической принадлежности князя, а о создании им той самой системы государственного управления, приоритете формировании которой А. Янов почему-то приписывает Ивану Грозному, — деспотической монархии.
В.О. Ключевский пишет: «В первый раз великий князь, названый отец для младшей братии, обращался... не по-отечески и не по- братски со своими родичами. ...В первый раз произнесено было в княжеской среде новое политическое слово подручник, т.е. впервые сделана была попытка заменить неопределённые, полюбовные родственные отношения князей по старшинству обязательным подчинением младших старшему, политическим их подданством наряду с простыми людьми... Эта деятельность была попыткой произвести переворот в политическом строе Русской земли... Рассматривая события, происшедшие в Суздальской земле при Андрее и следовавшие за его смертью, мы встречаем признаки ...переворота, совершавшегося во внутреннем строе самой Суздальской земли. Князь Андрей и дома, в управлении своей собственной волостью, действовал не по-старому.. Желая властвовать без раздела, Андрей погнал из Ростовской земли вслед за своими братьями и племянниками и "передних мужей" отца своего, т. е. больших отцовых бояр. Так поступал Андрей, по замечанию летописца, желая быть "самовластием" всей Суздальской земли... От всей фигуры Андрея веет чем-то новым; но едва ли эта новизна была добрая. Князь Андрей был суровый и своенравный хозяин, который во всём поступал по-своему, а не по старине и обычаю... <...> Прогнав из Ростовской земли больших отцовых бояр, он окружил себя такой дворней, которая в благодар-
3 Ключевский B.O. Сочинения: В 9-ти т. М., 1987. Т. 1: Курс русской истории. 4.1. С. 323.
ность за его барские милости отвратительно его убила и разграбила его дворец... Современники готовы были видеть в Андрее проводника новых государственных стремлений. Но его образ действий возбуждает вопрос, руководился ли он достаточно обдуманными началами ответственного самодержавия или только инстинктами самодурства»3 .
Впрочем, чем Андрей хуже вполне европейского Хлодвига, который просто систематически истреблял своих «родичей» — Харариха с сыном, союзных самому себе Рагнахара, Сигебера и его сына Клодерика (последнего, кстати, за то, что тот помог Хлодвигу убить собственного отца!), своих братьев Рихара и Ригномера, — чтобы не делить с ними власть? Чем Варфоломеевская ночь хуже опричнины? Масштабы не те? Но где та формальная граница, переступив через которую, можно говорить о выпадении из европейского контекста зверств, направленных против иноверцев или бунтовщиков? Десятки тысяч замученных и убитых в ходе Крестьянской войной в Германии или религиозных войн во Франции — история европейская или азиатская? И, кстати, можно ли вообще деспотическую форму правления или государственный террор связывать с «азиатчиной»? Она, пожалуй, связана не с культурно-географической ориентацией, а со стремлением к неограниченной власти, которая не зависит ни от этнической, ни от территориальной, ни от конфессиональной, ни от какой иной принадлежности...
А ведь одна из исходных посылок автора трилогии и заключается втом, что «деспотический монстр» был привнесен в европейскую Россию взбалмошным внуком Ивана III.
Увы. Корни этого монстра — в домонгольской северо-восточной Руси, которая проходила тот же путь, что и многие европейские государства в период своего становления. Собственно, «татарская государственность» и прижилась здесь, на Северо-Востоке так хорошо именно потому, что была вполне «биологически совместима» с деспотической властью русских князей, установившейся здесь с XII в. Именно поэтому ордынское «иго» так надолго задержалось в русских землях (вспомним: даже безусловно азиатские Иран и Китай освободились от власти монгольских ханов на столетие раньше!). Так что и системы государственного управления вряд ли можно связать с определенным географическим регионом, культурой или, шире, цивилизацией. Гитлеровская Германия — вполне «нормальная» для Европы «азиатская» деспотия.
Из зтого следует очень важный вывод: целый ряд терминов в трилогии А. Янова зачастую используется в метафорическом смысле, не поддающемся точному определению. И требовать такового не следует. Лучше попытаться уловить мысль автора, стоящую за тем, что он написал.
Ну, не был Нил Сорский (как это бесспорно доказано исследованиями последних лет) борцом с монастырской земельной собственностью — он выступал только против того, чтобы ее обрабатывали зависимые от монастыря крестьяне, а не сами монахи. Не поддерживал он еретиков и сам еретиком не был — напротив, точно установлено, что древнейший и авторитетнейший список «Просветителя» Иосифа Волоцкого написан рукой самого Нила Сорского. Именно он написал самые острые разделы книги, в которых доказывалось отступничество («жидовство») еретиков, что дало Иосифу каноническое обоснование для их сожжения, даже если они покаются. Именно к Нилу и Паисию обращался новгородский архиепископ Геннадий Новгородский за помощью в своих спорах с еретиками4.
Ну, поражал «либерал» A.M. Курбский литовские власти своим деспотизмом по отношению к зависимым крестьянам, повторяя в оправдание традиционную «грозненскую» (а на самом деле — общую для XV—XVI вв.) формулу: «А жаловать своих холопей волны, а казнить волны же»...
Ну, выглядит «либерализм» Ивана III или Василия III таковым только по сравнению с массовыми казнями и садизмом их сына и внука. Атак, кого хотели — терпели, кого хотели — казнили. Это при
ТЛурье Я.С. Две истории Руси XV века: Ранние и поздние независимые и официальные летописи об образовании Московского государства. СПб., 1994. С. 7.
ТЛурье Я.С. Две истории Руси XV века: Ранние и поздние независимые и официальные летописи об образовании Московского государства. СПб., 1994. С. 7.
Иване III «придворные, которые плохо сориентировались и заняли не ту сторону в династической борьбе, оказывались в опале, а то и на плахе»5. Это его современники называли Грозным. Это о его сыне, Василии III Сигизмунд Герберштейн писал, что тот «всех одинаково гнетет... жестоким рабством», а его власть «далеко превосходит всех монархов целого мира»...
Конечно, можно сказать, что «ничего подобного» рассуждениям о «народе-богоносце» «не только не было», но и «не могло быть... у пушкинского поколения». Но как быть с тем, что, согласно «Русской Правде» лютеранина П.И. Пестеля, все народы, населявшие Россию, должны слиться в единый русский народ и потерять свои национальные особенности; при этом желательна христианизация нерусских народов, и вселение на земли русских колонистов других национальностей? «Непримиримые борцы с деспотизмом», декабристы (во всяком случае, наиболее радикальные из них — в отличие от далеких от реальной жизни романтиков, таких как Н. Муравьев) ратовали за физическое уничтожение царской семьи, включая женщин и детей, и жаждали получить неограниченную власть над обществом. К. Рылееву хватило одной беседы с П. Пестелем, чтобы заключить, что тот — «человек опасный для России и для видов общества», поскольку, как считал несостоявшийся диктатор С. Трубецкой, главное, к чему он стремится — установить личную диктатуру. «Какова его цель? Сколько я могу судить, личная, своекорыстная. Он хотел произвесть суматоху и, пользуясь ею, завладеть верховною властью в замышляемой сумасбродами республике... Достигнув верховной власти, Пестель... сделался бы жесточайшим деспотом», — напишет о Пестеле Н.И. Греч. Впрочем, прибрать к рукам неограниченную власть, судя по его собственным откровениям, не прочь был и другой декабрист — А. Бестужев. Естественно, каждый из потенциальных узурпаторов хотел приобрести в личную собственность всю полноту власти только с самыми благими намерениями — дабы ввергнуть (пусть даже насильно) несознательное общество в состояние всеобщего благоденствия. Но мы-то знаем, чем заканчиваются такие эксперименты...
Дело, повторю еще раз, не в «неточностях» в оценках тех или
иных личностей или периодов. В основе их, кстати, все те же «историографические Стереотипы» советских времен, с которыми борется сам А. Янов — и на которые он волей-неволей опирается в своих рассуждениях (что делать: каждый из нас — дитя своего времени). Суть трилогии — гораздо глубже.
Не сводится она и к ряду аналогий, которые предлагает А. Янов. Тем более что некоторые из них весьма сомнительны. Так, Реформация не представляла собой движение, связанное лишь с секуляризацией церковных земель, а потому аналогия с ней ситуации в Московском княжестве второй половины XV в. выглядит натянутой. Иван III напоминает, скорее, не европейских монархов конца XV - начала XVI в., а византийского императора Михаила II (820-829), который пытался урезать права и собственность монастырей в пользу императорской власти и поддержал иконоборчество — учение, которое, с ортодоксально-христианских позиций, отрицало культ икон как «идолопоклонство». Число не вполне удачных, с точки зрения «узкого» специалиста-историка, сопоставлений легко может быть продолжено.
Впрочем, давно и хорошо известно: в науке нет и не может быть одной, единственно правильной точки зрения6, с которой видно все — да к тому же и «объективно». Таковая может декларироваться (но не существовать реально) лишь в том случае, если мы — приверженцы «единственно верного, а потому истинного учения». Но тогда речь идет не о науке, а об исповедании некоей религии (или, сточки зрения сторонников другой веры, ереси).
Залогом объективности в гуманитарных науках стало осознание того, что всякий общественный процесс может — и должен — быть рассмотрен с разных сторон. В каждом из подходов есть нечто, позволяющее увидеть в этом процессе то, что принципиально незаметно с других позиций. Именно это позволило в свое время сформулировать П. Фейерабенду его теорию эпистемологического анархизма, включающую принципы пролиферации (необходимости создания и разработки самых разнообразных теорий, в том числе, несовмести-
6 Не обладает ею, естественно, и автор этих строк: его взгляд субъективен и может (если не должен!) быть оспорен. Монополии на истину в науке не существует.
мых с общепринятыми точками зрения) и контриндукции (предполагающему возможность выдвигать и разрабатывать любые гипотезы, даже несовместимые с хорошо известными фактами и общепризнанными теориями). Беда, правда, в том, что отказ в нашей стране от марксизма как «единственно правильного учения» привел к некоему теоретическому вакууму. За исключением весьма своеобразно понимаемых (причем, каждым по-своему) цивилизацион- ного подхода А.Д. Тойнби и пассионарной концепции Л.Н. Гумилева, сформулированной еще в советские времена, последние десятилетия не дали, пожалуй, ни одной сколь-нибудь серьезной попытки теоретического обобщения исторического процесса. И в этом плане представленная на суд читателей трилогия — вполне ощутимый шаг вперед. Пусть не вполне обоснованный, пусть не до конца убедительный — он будит мысль и направляет ее на новые обобщения, открывая новые, прежде незаметные стороны нашей жизни — как в прошлом, так и в будущем.
Именно этим, по-моему, и определяются смысл труда А. Янова и его роль в становлении общественного сознания современной России.
И.Данилевский
Письмо И.Н. Данилевскому
Дорогой Игорь Николаевчич, спасибо за послесловие. Поскольку публикация третьей книги трилогии только из-за него и топталась на месте, времени исправлять в нём что-либо нет: как оно написано, так и пойдет в печать. Но поскольку я с ним принципиально не согласен, и читатель должен об этом знать, приходится прибегнуть к столь экстраординарному выходу из положения: ответить Вам непосредственно в тексте последней книги трилогии. В двух словах ответ прост: я очень разочарован. Но объяснение, почему разочарован, требует подробностей.
* * *
Недоумение началось у меня с первой же страницы. В самом деле, если единомышленники и без этой трилогии согласны, как Вы пишете, с моим «базовым тезисом» (что единственно разумный путь России - в Европу), а противников «не убедят и десятки томов», то зачем трилогия? Гигантский труд, в который вложена целая жизнь, выглядит, если верить Вашему аргументу, вполне бессмысленным.
Проблем с этим аргументом две. Во-первых, кроме единомышленников и противников, есть еще и «неопределившиеся», если можно так выразиться. И их преобладающее большинство. В первую очередь молодежь, не готовая пока стать ни на одну, ни на другую сторону. Будущее страны между тем определит именно оно, это большинство. За его умы и сердца и идет сегодня идейное «сражение», заставившее Вас взяться за перо.
Во-вторых, и с единомышленниками не всё обстоит так благополучно, как Вы пишете. Многие из них «грядочники», как характеризуете Вы себя и коллег-историков. А это означает, что едва выходят они за пределы своей «грядки», в головах у них образуется устрашающая путаница.
Замечательный образец такой путаницы, как мог убедиться читатель, демонстрирует нам директор Института российской истории А.Н. Сахаров, с которым Вы к великому моему удивлению во многом согласны - несмотря даже на его «евразийство». И путаница эта вовсе не безобидна. Она напрочь лишает Россию европейской исторической традиции, на которой, собственно, и основан мой «базовый тезис». Просто потому, что не растет дерево без корней.
Так недолго договориться и до тезиса Изабел де Мадариаги, что политическая борьба в России XVI века попросту выдумана русскими историками - по причине извечного их комплекса неполноценности.
И это не всё. Многие единомышленники, главным образом культурологи, исходят из т.н. «ордынской» теории происхождения русской государственности (я подробно писал о них в трилогии, поэтому не буду повторяться, скажу лишь, перефразируя Ключевского, что история России и после свержения ига предстаёт в их писаниях так: всё Орда и Орда и ничего больше, кроме Орды). Другие, у кого «грядка» иная, уверены, как Вы, что «корни этого [ деспотического] монстра - в домонгольской Северо-Восточной Руси» с её «татарской государственностью». А третьи, главным образом либеральные политики, и вовсе с легкостью необыкновенной толкуют о «тысячелетней российской традиции рабства».
Во всех этих случаях, однако, исход один - значительная часть единомышленников пытается убедить «неопределившееся» большинство в стране (так же, как и антирусское лобби в Европе), что выросло российское древо без европейских корней. Иначе говоря, в Европе оно нежизнеспособно и делать России там нечего. И потому в «сражении» с противниками моего базового тезиса оказываются все эти единомышленники, пусть нечаянно, на стороне его противников.
★ * *
Так или иначе, к третьей странице послесловия недоумение моё усилилось. И неспроста. По сути повторяя А.Н. Сахарова, Вы неожиданно попытались доказать, что незачем связывать «деспотическую форму правления или государственный террор... с азиатчиной». Так же, как А.Н, Сахаров, Вы приводите множество примеров откровенных зверств в европейской истории и заключаете, что связан террор вовсе «не с культурно-географической ориентацией, а со стремлением к неограниченной власти, которое не зависит ни от этнической, ни от территориальной... принадлежности».
Если А.Н. Сахаров приравнял Москву Грозного к «восточной деспотии» в Англии Елизаветы I, но Ваш финальный аккорд еще выразительней: «Гитлеровская Германия - вполне нормальная для Европы азиатская «деспотия».
Слишком много страниц потратил я в трилогии на опровержение этого излюбленного аргумента противников моего «базового тезиса», чтобы повторять их здесь. Скажу лишь кратко, что мой критерий принципиально иной: не сравнением суммы насилия и террора измеряется разница между Европой с её раскинувшимися на полмира ответвлениями (США, Канада, Австралия, Израиль, Новая Зеландия), но способностью к политической модернизации.
В чем смысл этой модернизации сказано уже во «Вступительном слове к трилогии». Если отвлечься на минуту от всех её институциональных сложностей, вроде разделения властей или независимового суда, означает она в конечном счете нечто вполне элементарное: гарантии от произвола власти. В Европе и во всех странах, на чью государственность она сумела в решающей степени повлиять (в Индии, Японии, Южной Корее, на Тайване), такие гарантии есть. В других, включая Россию, — нету.
Случайно ли? Обусловлено ли это исторической традицией Европы, несмотря на все откаты и зверства, на которые Вы и А.Н. Сахаров ссылаетесь? Или зависитлишь от некоего аморфного «стремления к неограниченной власти», как Вы утверждаете? В конце концов и в Америке, и во Франции, и в Канаде есть сколько угодно политиков, обуреваемых этим нечестивым «стремлением». Но...руки коротки. Гарантии мешают. Вне европейского ареала не мешают. Вот как в современной историографии понимается «азиатчина».
Именно отсюда и вытекает мой «базовый тезис», как Вы сами его и описываете: «Россия европейское государство и всякая попытка превратить её в некое иное («азиатское»?» евразийское»?) состояние ведет к катастрофическим последствиям». Но так описываете Вы его лишь на первой странице, уже на третьей, как мы только что видели, Вы пытаетесь его опровергнуть. И начиная с этой третьей страницы, «сражаетесь», по сути, на стороне моих оппонентов. Даже тот простой факт, который понимали уже Чаадаев и Пушкин, что идти в Европу России нужно за гарантиями от произвола, -неожиданно
становится под Вашим пером совершенно темным.
* * *
Я ввожу понятие самодержавной революции, чтобы обозначить момент, когда в России была на поколения вперед окончательно сломлена её традиционная государственность, момент, начиная с которого политическая модернизация страны оказалась на четыре с половиной столетия невозможной. Патерналистская традиция страны победила свою европейскую соперницу, институционализировала свою победу и глубоко внедрила свои иосифлянские стереотипы в сознание масс. И последствия этой роковой победы до сих пор еще с нами.
Казалось бы, важность зафиксировать момент, с которого начинается как тотальное закрепощение русского крестьянства, так и трансформация некогда гордой русской аристократии в клан рабовладельцев, исчерпывающе подтверждается «Иванианой», этой печальной четырехсотлетней сагой о судьбе образа Грозного царя в российской историографии, что заняла так много места в первой книге трилогии.
Что делаете Вы? Первым делом отрицаете само даже представление о самодержавной революции (и тем более о Европейском столетии России). Ирония, однако, заключается в том, как Вы это делаете. Вы упрекаете меня в том, что я «забыл» отзыв Ключевского об Андрее Боголюбском и «почему-то приписываю приоритет в формировании деспотической монархии» «взбалмошному внуку» Ивана III (кстати, ничего подобного я не говорил. Загляни Вы в главу «Язык, на котором мы спорим», Вы тотчас и обнаружили бы: посвящена она доказательству того, что Россия никогда не была «деспотической монархией»).
Но что же доказывает Ваше возражение? Что еще и в XII веке был в Северо-Восточной Руси тиран с самодержавными замашками? Но это ведь вполне естественно, имея в виду, что патерналистская традиция, как много раз подчеркнуто в трилогии, с самого начала соперничала в ней с европейской. Другое дело, сумел ли Боголюбский добиться того, чего добился Грозный - поработить крестьянство, покончить с независимостью русской аристократии и внедрить самодержавные стереотипы в массовое сознание?
Не сумел. Потому и остался в русской историографии лишь темным пятном. Не стали русские историки четыре столетия спорить - ни об Андрее Боголюбском, ни о другом тиране с самодержавными замашками, о Василии III, отце Грозного. Не существует ни «Андреаны», ни «Василианы». А вот Иваниана была. И есть. Вы никогда не задумывались, почему?
На самом деле не только не «забыл» я о Боголюбском, но целую поглавку в Иваниане посвятил обсуждению того, почему именно Грозному удалась та самая самодержавная революция, которая не удалась ни Боголюбскому, ни Василию.
Причин успеха «взбалмошного внука» много. И каждая из них тщательно в трилогии рассмотрена. Но ни одна не имеет ничего общего с его «взбалмошностью». С этим аргументом покончено было в Иваниане еще в XVIII веке. Как странно, что Вы возрождаете его в XXI. Трудно, согласитесь, понять, как многовековой спор лучших из
лучших русских историков мог пройти мимо Вас.
* * *
Я понимаю благожелательный смысл Вашего послесловия: Вы попытались оградить меня от грядущих упреков коллег-«грядочни- ков» в том, что «автор чего-то не заметил», «чего-то не учел» и т.д. Не судите автора, как бы говорите Вы коллегам, по законам ваших «грядок». Ибо представлено вам не конкретно-историческое исследование, но историко-философское эссе, некий «взгляд сверху».
Что же такое неведомое «грядочникам» усмотрел автор, по- Вашему, в русской и европейской истории «сверху»? Может быть то, что знаменитый Юрьев день, который они привыкли считать первым шагом к закрепощению русского кретьянства, был на самом деле «крестьянской конституцией» Ивана III, на протяжении целого столетия охранявшей крестьян от этого закрепощения?
Или то, что у нас есть все основания считать Великую реформу 1550-х первой либеральной «перестройкой» в русской истории, а пункт 98 Судебника 1550 года своего рода русской Magna Carta?
Или то, что окончательный разгром при Грозном доблестного движения четырех поколений нестяжателей против «любостяжания» и «людодерства» иосифлянской церкви в значительной степени предопределил судьбу России?
Или объяснение успеха самодержавной революции в 1560 году неотложностью для тогдашней военно-церковной коалиции навсегда похоронить политическое наследие Ивана III, в первую очереди его «крестьянскую конституцию» и угрозу церковной Реформции?
Или гипотезу о Ливонской войне, позволяющую объяснить, почему реформистское правительство Адашева не сумело противостоять натиску этой военно-церковной коалиции?
Можно было бы длить перечисление долго (ибо все эти интерпретации и гипотезы лишь малая часть предложенных в первой книге трилогии идей). Только к чему его длить? Ни об одной из них не упомянули Вы в своём послесловии, даже мельком не упомянули. И в результате стало совершенно непонятно, что это за «историко- философское эссе», которое так ничего и не открыло бедным «гря- дочникам»? И зачем вообще нужен столь бесплодный «взгляд сверху»? Зато львиная доля послесловия посвящена очень подробному доказательству, что трилогия не является «конкретно-историческим исследованием», т.е. чем-то приемлемым для «грядочников».
Стоило ли, однако, тратить столько сил на такое доказательство, если в первой же главе трилогии («Завязка трагедии») совершенно недвусмысленно объяснено, почему она категорически неприемлема - ни для «грядочников», ни для «ордынцев»?
По многим причинам. Ну, хотя бы потому, что так и осталось для них недоступным, отчего, несмотря на все художества Боголюбского и «татарскую государственность» Северо-Восточной Руси, масса почтенных и преуспевающих людей неудержимо стремилась из
европейской Литвы в Москву на протяжении всего Европейского столетия России. И почему столь же неудержимо устремились они вон из Москвы после самодержавной революции ? (См. М.А. Дьяконов. «Власть московских государей», Спб., 1886) Или как случилось, что в первой половине XVI века, т.е. до самодержавной революции, Москва процветала - и побеждала - а во второй его половине, после этой революции, пала она под копыта татарских и польских коней? И почему на протяжении одной лишь четверти века превратилась Москва из «великой и могущественной» (см. «Английские путешественники о Московском государстве». Л., 1937. С. 55) в третьеразрядное государство, прозябающее на задворках Европы?
* * *
Это все о первой книге трилогии. Со второй и третьей дело обстоит, если это возможно, еще хуже. Ибо просто не заметили Вы там практически ни одной из тех идей, обсуждение которых и впрямь звучит вызовом современной истоиографии и требовало, следовательно, того самого мужества, с которым поздравили Вы меня в первом своём письме.
Не буду голословным. Вы не заметили жестокого спора с вполне современными и авторитетными профессионалами, вовлеченными в «восстановление баланса в пользу Николая I», — с выдающимся американским историком Брюсом Линкольном и с известным петербургским исследователем Б.Н. Мироновым. А ведь этому спору посвящена фактически вся вторая книга трилогии. На чьей Вы стороне в этом споре так и останется неизвестным читателям.
Не заметили Вы также главу «Язык, на котором мы спорим», где предложено совершенно новое представление об историческом генезисе европейской государственности. Не заметили и фундаментально важную главу «Метаморфоза Карамзина». Важную в том именно смысле, что вполне может претендовать на «прорыв в изучении проблемы». Тем более, что спор в этой главе идёт с крупнейшим современным культурологом Ю.М. Лотманом и не менее выдающимися российскими историками Ю.С. Пивоваровым и Е.Л. Рудницкой, * тоже нашими современниками.
И заметьте, всё это строжайше документировано. Никаких «цитат из вторых рук», в которых Вы меня упрекаете, ссылки только и исключительно на первоисточники. Другое дело, что первоисточниками этими оказались книги моих оппонентов, а не документы, которые Вы, подобно всем «грядочникам», почему-то рассматриваете как неотъемлемое свойство любого конкретно-исторического исследования. Кто, однако, сказал, что книги в качестве первоисточников менее важны и почтенны, нежели документы?
И ведь то же самое с заключительной книгой трилогии, в которой вмешательство России в ненужную ей и губительную для неё мировую войну, впервые, сколько я знаю, объяснено генезисом консервативного национализма, выросшего в «Национальную идею» императорской России. Что думаете по поводу этого «прорыва в изучении проблемы» Вы? Неизвестно так же, как и то, на чьей Вы стороне в моем споре с Б.Н. Мироновым и с А, Н. Сахаровым..
Короче говоря, читателю трудно было бы заключить из Вашего послесловия, что речь в нём идёт не о книге под названием «Европейское столетие России», но о трилогии «Россия и Европа. 1462-1921».
ACKNOWLEDGEMENTS
И все-таки я настоял на том, чтобы Ваше послесловие пошло в печать так, как оно было написано. Почему? Прежде, чем ответить, позволю себе объяснить заголовок этой заключительной подглавки. На русский он обычно переводится как признательность, благодарность. Предварять таким образом рукописи процедура в Америке обязательная. Искусство благодарить давно превратилось здесь, как я уже однажды писал, в своего рода академический спорт - кто кого переблагодарит. Выражать признательность принято всем - тем, кто читал рукопись (за то, что хватило терпения) и кто не читал (за то, по крайней мере, что не испортили автору настроение). Я не говорю уже о соседях (за то,что не особенно шумели) и о студентах, о близких друзьях и случайных знакомых.
Я, однако, не предваряю признательностью свои впечатления от Вашего послесловия, а заключаю ею. Специально, чтобы подчеркнуть нетривиальность, искренность моей признательности Вам, Игорь Николаевич. Не только за то, что Вы попытались, пусть и не совсем последовательно, защитить меня от будущих нападок Ваших коллег-«грядочников». Но и за то, что Ваше послесловие дало мне возможность еще раз окинуть общим взглядом свою трилогию - и «сверху» как историко-философское эссе, и «снизу» как конкретно- историческое исследование. И еще раз убедиться, что при всех её возможных огрехах, годы, которые я на неё потратил, потрачены не зря.
Оказалось, что и впрямь бездна принципиально новых, неконвенциональных и совершенно неожиданных идей предложена в ней «неопределившемуся» большинству - как в России, так и в Европе. Настолько неожиданных, что привели в замешательство даже такого благожелательного читателя, как Вы.
Согласитесь,что у меня и впрямь есть основания быть Вам признательным.
Искренне
Ваш Александр Янов
Именной указатель
д Абдул Азиз, султан Турции 320 Август Кесарь 624
Адашев, Алексей
596, 636 Аксаков, И.С. 157,229, 277, 292, 295, 297. 304-305» 327. 334-335, 346, Зб9, 373, 382, 387, 417, 420, 470, 473-474, 502, 518, 521,
526-527
Аксаков, К.С. 57, 118, 157, 218, 224-228, 230, 232, 234, 243-247, 254» 277, 285, 292, 299, 304-305, 315-316, 336, 358-359, 370, 387,413,437, 507,558-560 Аксаков, Н.П.
415, 549 Александр I 135, 139, 141, 177, 201, 2Ю, 309,402, 494, 595, 631, 633- 634 Александр II 62, 128, 154, 166, 177, 179, 183-184,190, 201, 265, 284, 322, 324, 328-329, 336, 345»
376-377, 401-403, 4Ю, 447,
509, 520, 563, 586, 595-596, 611-613, 618, 634 Александр Iff 36,174.176, 252, 286, 296, 334» 337» 347» 378, 384-385, 395» 397» 399» 40б, 455» 458,
460, 462, 464, 474» 492,
494-496, 528, 595 Александр Гессенский, принц 320
Алексей Михайлович, царь 609
Андрей Боголюбский, князь 585
Андропов, Ю.В.
576, 620 Аничков, Е.В.
36, 92,321, 520 Анненков, И. 510
Антоний, митрополит
28,427 Аристов, П. 366
Аристотель ·
593» 603 Архангельский, А.Н. 103,124,129
Б Бабурин, С.
591
Базаров, В.Д.
. 477*481,485,487,491. 518 Бакунин, М.А. 345» 348» 350-353. 355*359»
363,365,368-369, 376-378, 380, 385-387, 390, 417, 424, 507, 517» 519 Балуев, Б.П.
389
Безобразов, С.Д. 180
Бейлис, Мендель 423,430
Белинский, В.Г. 86, 88, 90, 97-98, юо, 159, 169, 257, 260,481 Белый, Андрей
415, 557 Вельский, И.П.
боо Бердяев, Н.А. 20, 26, 37. 50, 57. 262, 269- 270, 272-274, 269-274. 342, Зб7. 371. 392,397-398,431. 433, 443. 452, 455. 519. 557. 608 Берк, Э. 207
Берлин, Исайа 38, 112, 262, 272, 322, 333, 360,368,382,415, 508, 530 Бивербрук, Вильям, лорд 504
Бирон, Эрнст Иоганн 200
Бисмарк, Отго Фон 133. 175, 185, 308-309, 311, 313. 317-321, 323-327. 329. 333. ЗбЗ. 365, 383, 410-411.
428-429, 472, 475, 495, 511, 513, 529, 612, 616 Блок, А А 68, 386, 397, 540, 557, 574» 622-623, 629-630 Боборыкин, П.Д. 205
Боголепов, Н.И.
408 Боден, Жан
593» 603-604 Бостунич, Григорий
18,45,550,561-569 Боткин,С.С.
84
Боханов, А.Н.
182-184 Брусилов, А.А.
488, 545 Брут, МаркЮний 573
Булгаков, С.Н. 20, 36, 50, 368, 433, 438, 440, 478,557 Булгарин, Ф.
75» 98 Бурбон, Генрих 243
Бурнакин, А.А. 366
Буш, W. Джордж 146
В Валлерстайн, И.
Варшавский, Владимир
294,493,546, 546, 569 Василий, вел. кн. 268
Васильчиков, В.И., князь
554
Вашингтон, Дж.
503 Вебер, Макс
441
Вейдле, Владимир
67, 127, 235, 251, 274, 576,
578, 594 Величко, A.M.
279-280 Вергилий 236
Вильгельм, кайзер 497
Виноградов, В.Н.
156 Витнер, ген.
495-496 Витте, С.Ю. 55, 278, 337, 341, 407, 426, 454, 456-45Р, 461-462, 464, 466-467, 475-477, 491, 526, 552, 554-555, 579 Виттфогель, Карл
586,593 Владимир, св. 461
Волконский, М.Н.
180,427 Волошин, М.А. 89
23 Янов
Волтз, Кеннет 132
Врангель, П.Н. 565
Вяземский, П.А. 97, 628, 630
р Галактионов, А.А. 301-303 Галилей, Галилео 6 ю
Галковский, Д.Е.
429
Гарфилд, Дж.
180 Гаршин, В.М. 321
Гаспарини, Евель
368-369,374,378 Гегель, Ф.
136, 219, 247, 593 Гейдрих, Р. 561
Гейне, Генрих 508, 514, 579 Геннадий, архиепископ 621 Генрих III
137 ГенрихУИ
137 Генрих VIII 137,151 Герцен, А.И. 32, 35, 52, 60-61, 69, 71-74,
77-79, 88, 90-91, 94, 97-99, 102, 119, 159, 1бЗ, 168-169,
177-178, 187, 190, 194-198,
201-209, 211-212, 217-219, 222-223, 228-229, 242-244, 248, 251, 266, 228, 274, 288, 291, 329-330, 357-358, 368, 376, 440, 465, 481, 488-489, 491, 500, 507-510, 514» 517, 573, 583, 596, боб, 614, 627, 629, 633 Гершензон, М.О.
366,434» 440-441. 527 Гидиринский, В.И.
59
Гиммлер, Г. 561
Гиппиус, З.Н.
451,454-455.492, 515 Гитлер, Адольф 39. 136,138, 207, 273, 333, 422,564, 566, 571, 583, 612 Глинский, Б.Б.
500,509, 513,612,615 Гоббс, Томас
240-241 Гоголь, Н.В.
97-98,159,164,183 Голицын, Иван, князь
608-609 Головкин, Г.И.
607, 6ю Головнин, А.В
193,509,515 Гомер 236
Горбачев, М.С.
128, 535, 6и Горький, А.М.
45» 241 Горчаков, A.M. 159, 265, 306-314, 317-319. 324, 326-327,474-475 Готье, Ю.В.
397
Гофштадтер,Ричард 397
Градовский, А.Д.
331-332, 342 Грановский, Т.Н. 159
Грамши, Антонио 38-41, 56, 120-121, l8l, 342, 480,483,513,519 Громыко, А.А. 148
Гроссман, Л.П.
351» 353 Грот, К.Я.
84,509 Гувер, Герберт
272 Гулыга, А.В.
59» 98 Гуль, Роман
583 Гумилев. Н.С.
37» 451-452,455 Гучков, А.И.
453, 455» 4бо, 470,477,483,
488
Гюисман,Ж-К. 551
Д Данилевский, Н.Я.
25-26,57,89,192,199» 242,
294-303, 305» 327» 350, 369, 371-372, 379» 383, 385-389, 401, 411-412, 417» 419-420, 425, 474» 490, 500, 524, 528, 533-534» 539. 542, 559"5бо Данило,князь
315
Данилов, Ю.Н.
493-496 Данильченко, В.Я.
389 Даниэль Ю.М. 23
Декарт, Рене
217, 258 Дельвиг, А. 93
Дёготь, Е.
574-575 Державин, Г.Р
251
Джон, король 137
Джонсон, Сэмюэл
88-89 Диомид, епископ 621
Добролюбов, Н.А. 517
Долгоруков, Д.Н. 427
Достоевский, Ф.М. 17,18, 20, 24-26, 34» 45. 50, 53» 56, 6о, 62, 67, 69, 118, 129, 267, 273, 322, 328, 333, 336, 341, 344, 348-356,351- 355» 360-365, 369-370, 373- 378, 380, 382, 384-387, 390, 410-412, 414, 424, 448, 469, 507,522,527,559, 569 Друцкой-Соколинский, Д.В., князь
621,623,629-630 Дубельт, Л.В.
573 Дугин, А.Г. 46-47,119-120,142,148, 417, 425* 482,536, 611 Дурново. П.Н.
7, 443, 455. 454-459» 461, 463-464» 466-467,491 Дьяконов, М.А. 596
Евгения, имп. 315
Елена Павловна, вел. кн.
509
Елизавета I, имп.
151» 178, 596, 633 Елисеев, А.
599 Ельцин, Б.Н.
23,128,145, 207, 535» 59* Екатерина I, имп. 178, 463,481
Екатерина II, имп. 128, 377, 595-596, 607
Жириновский. В.В.
96,149,193,424, 541 Жуковский, Ю.Г.
97
Заболоцкий, А.
509 Загоскин, М.
75, 91 Зарудный, С.
509 Зюганов, Г.А. 47, 120, 228, 307, 343, 346, 348, 350, 377-378,442, 490 Зорин, А. 104-105,115-116,124
Иван III, вел. кн. 68-69, 173, 586, 589, 597- 598,621 Иван IV, Грозный 67, 136, 154, 173, 186, 240, 246, 251, 305, 343, 381, 388, 499, 546, 579, 584-585, 587- 589, 594, 597-599, 601-605, 612, 617, 623-624, 633 Иванов, Вячеслав 452
Иванов, Георгий
451 Ивашов, Л. '124
Иваск, Ю.П
373,349, 398 Игнатьев, Н.П.
7,275, 277-279, 321-322, 325,
334-337,404 Извольский, А.П.
436,460,474 Илларион, митрополит
234 Ильин, В.В.
59,156, 250, 591-591, 625 Ильин, И.А.
57, 591-592, 625 Индикоплов, Кузьма
579, 6ю Иоанн Кронштадтский, св. прав. 540
Иорданский, Н.И. 512
Итенберг, Б.С. 332
К Кавелин, К.Д.
168,178,194, 245, 320, 331-
332,342,399, 509.516,612- 613, 619 Кайсаров, А.
629 Кальвин, Жан
397 Кант, И.
152,452 Каподистрия, Иоаннис
Карамзин Н.М.
174, 599 Каратеодори Паша 326
Кардо-Сысоев В.В.
КарлУ
131,158, 563 Карл I, Стюарт 563
Карташев, А.В.
605, 617 Катков, М.Н. 59, 199, 201, 294, 489-491, 496 Квачков, В.В.
84,122-123 Кейган, Роберт
133 Кейнз, Дж.
Кемаль, Мустафа (Атарюк)
590-591 Кеннан, Дж.
404,462, 619 Кеплер, И. 6ю
Керенский, А.Ф. 483,496, 504-506, 517
Киреев, А. А.
295-296 Киреевский, И.В. 218, 234-235, 237, 277. 301- 302, 607 Киселев, П.Д., граф 179, 290, 622
Киссинджер, Генри
132,148 Кистяковский, Богдан
434,440
Клейнмихель, А.А. 204
Клыков, В. 95
Клюев, НА 451
Ключевский. В.О. 50, 73, 251, 471, 483, 522- 523, 588, 594, 607, 6ю, 621, 629
Ковалевская, С.В.
167,178 Кожинов, В.В. 59» 83-85,119,156,426-427, 429-432, 482-485, 487-488, 502, 508, 535» 541-542, 545» 550-551» 553» 555» 557-558, 560, 568-569, 599 Козырев, А.П. З67
Коковцов, В.Н.
454» 467» 49V 554*555 Колеров, М.А. 48, 6о, 72,103-105,109,113- 116, 119, 123-124, 144, 150, 575
Комаров, В.Л. 84
Кондаков, Н.П. 84
Коновалов, А.И.
Константин Павлович, вел. кн.
509 Коперник, Н. 6ю
Корнилов, В.А. 156
Короленко, В.Г.
430-431 Косаговский, П.П.
180, 511, 613 Кострикова, Е.Г.
30, 35» 466-467 Кочубей, В.П. 69
Кошелев, А.И.
218, 224, 265, 286, 628 Крижанич, Юрий
268, 593,608-609, 636 Крисп, Ольга 460
Кромвель, Оливер
137, 207,367, 563, 583 Кузмин, М. 84
Кукольник, Н. 75
Куняев, С.Ю. 294
Купер, Роберт
147» 153 Кураев, А. 120
Курбский, А.М., князь
603, 636 Куропаткин, А.Н. 492-593,496
Кутузов, М.И. 494»497
л Лагардель, Ю. 357
Ладен, Осама бен
543-544 Лазари, Анджей де
61-62 Ланской, С.С.
511, 614, 616 Лапкин, В.В.
188 Лаплас, П-С.
569 Лебедев, С.В.
29-30, 41-42, 69, 95 Лебедь, Александр
49» 171 ЛеБор, Адам 108
Лейбниц, Готфрид
86-87 Ленин, В.И. 20, 26, 45, 71-72, 89-90,150, 191, 248, 273-274» 289, 292, 294-296, 302-303,322, 341, 344» 348, 365. 39б, 398, 438, 465, 504, 518, 547» 5^2, 567» 611 Леонтьев, К.Н. 20, 26, 57, Ю2, 288, 292- 296,302-303,322, 341» 345» 348-350, 355» 365-387, 390- 391» 395-396,398,400-401,
411-414, 416-419» 421, 424-
425, 524, 533, 535, 565, 569 Леонтьев, М.
89-90,104,150,155, 398 Лермонтов, М.Ю. 159
Ливен, Доминик 462,464
Лимонов, Э. 46
Линкольн, А. 512
Линкольн, Брюс
510, 512, 616 Лихачев, Н.П. 84
Лихновский, Карл Макс, князь
497
Лобанов-Ростовский, А.Б.
308 Локк, Джон
241, 255
Лопухин, А.А.
404,410, 619 Лорис-Меликов, М.Т. 179, 183-184, 27^-279, 331, 402-403, 613, 618 Лукашенко, А.Г. 316
Людендорф, Эрих
М Мадзини, Д. 368
МакДаниел,Тим 56
Макиавелли, Николо 132
Маклаков, В.А.
486-488 Маковский, К.
84
Малеин, А.М. 202
Мамардашвили, М.К. 368
Мандельштам, Н.Я. Зб7
Мандельштам, О.И.
Зб7 Мао Цзэдун 207
Мария Александровна, имп.
320 Марков, Н.Е. 18, 45, 422, 428, 550-553,
555, 557-561, 565-569 Маркс, К.
259,261, 345,368, 564, 593 Мастере, Роджер
132-134 Менделеев Д.И.
23,83 Меншиков, А.С. 157,
Меньшиков, М.О. 408, 415, 423, 425-426, 432, 440,464, 542 Мережковский, Д.С.
452,557 Местр, Жозеф де 99-юо, 546
Меттерних, Клеменс
135,140-41 Мещерский, В., князь
294 Мигранян, А.
443 Милан, князь
322
Милошевич, Слободан
53,107-108, no-ill, ззз Милюков, П.Н. 37, 265, 387, 395» 442, 450, 455» 476, 487 Милютин, ДА 179,194, 266-267, 328, 403, 509, 512, 515, 519, 613 Милютин, Н.А.
509, 511-512, 514» 616 Минин, К.М.
608 Миронов, Б.Н.
170, 630 Митрофанов, А.
Михаил Федорович Романов
377 Михайлов, В.
550
Михайловский, Н.К.
289, 293,451, 517, боо Михалков, Никита 426
Мицкевич, Адам
Мольтке, Хельмут 497
Монтескье, Шарль де 241, 255, 398, 593
Мордвинов, Н.С. 286
Моргентау, Ганс
132,149 Мохатхир Моха мед
237 Муравьев, А. 5Ю
Муравьев, Н.М. 50, 225, 240, 500-501, 503, 511, 567, 572-573, 580, 629- 630
Муравьев-Амурский, Н. Н.
203, 517
Муравьев-Апостол, С.И.
Ю2,104, 225, 510 Мусоргский, М.П. 6 7
Муссолини, Б. 271-273,555,558-559
Н Надеждин, Н.И. 97-98 Назаров, М.В. 27-29, 259, 535, 542, 544, 549, 550, 565,570, 609 Найшуль. Е.А.
61-64,164, 229, 259 Наполеон Бонапарт 70, 131, 133, 135. 138, 140, 158, 207, 212, 228-229,419, 481, 503. 5б9
Наполеон III
175,185, 315,334. 337. 612 Нарочницкая, НА 59, 164, 173, 194. 604-605, 609
Немцов, Б.Е.
70, 72 Неплюев, И.И.
607 Нерон 562
Никитенко, А.В. 76, 93, 96,141.158-159.165- 166, 199-200, 202, 212, 217, 610
Николай Николаевич, в.к. 493
Николай I, имп. 90-92, 94.101,127,139. 141. 154,156,158,160,166,168, 170,181,184, 200-202, 210- 211, 220, 229, 249, 262, 290, 302,305, 328-329, 371, 377. 388, 396, 400, 449, 481, 512,
522, 534. 536, 567. 594-595. 622,624,631 Николай II, имп.
45, 85, 466, 497. 541 Никольский, Б.В.
84,425,484,536,559-560 Никон, патриарх
609 Нилус. С.А. 425
Нинчич, Мирослав
132 Ницше, Ф.
367-368,376,380,396 Новодворская, В. 350
Нольде, барон 554
Нострадамус
272, 368 Ньютон, И. 86, 579» 6ю
О Оболенский, Е.
5Ю
Огарев, Н.П. 205
Одинзгоев, Ю.М.
422, 550, 564-566, 569 Оман, Э.
399-400 О'Нил, Джим 155
Офросимов, М.А. 180
П Павел I, имп. 594
Павлов-Сильванский, Н.П. 483
Пайпс, Ричард 17,18, 45, 450-451» 455-456, 458, 460-462, 464, 490, 518- 520, 586, 593 Палицын, Ф.Ф.
493» 496 Панарин, А.С.
59, 69 Панин, Н.И.
607 Патен, Крис 242
Пелипенко, А.А. 584, 586, 588-597, 617-619, 622
Перикл
573 Пестель, П.И.
356,359,500-501,503,628
Петр I
68, 77-78,127, Мб, 154» 168, 173, 246-248, 251-253, 255- 257, 370, 377, 461, 494, 499. 546, 576, 579,607,610-611 Петр III
178, 596 Пивоваров, Ю.С. 595
Пирсон, Реймонд
486,488,491 Пичета, В.И.
608 Платонов, О А
59
Плеханов, Г.В.
62,386,517 Победоносцев, К.П.
320,336-337,349» 386,397- 400,403, 641 Погодин, М.П. 53, 120, 131, 1^8, 167-169, 173,192,208,220,268, 297, 305,343,369,385-388,463, 518,599» 6ю Подберезкин, А.И. 47, 61, 228, 307, 348, 373-
375» 377 Р
Пожарский, Д.М. 608
Покровский, М.Н. 367
Поливанов, А. 545
Половцов, А.А.
286 Потапов, Н. 545
Пресняков, А.Е. боб
Примаков, Е.М. 109
Проханов, А.А. 119-120, 123,155» 208, 302, 535, 542, 550, 626 Пуришкевич, В.М.
84,422 Путин, В.В. 122,128,146, 207, 527» 576- 577, 621 Пушкин А.С. 50, 97, юо, 159, 196-197, 206, 251, 274, 307, 538, 573, 603, 618, 628, 633 Пушков, Алексей
89-90, 303 Пуришкевич, В.М.
425. 567
Пшебинда, Гжетош 62-63, 195, 201 Пыпин, А.Н. 75, 92,98,119,165,503
Радищев, А.Н.
290 Разгон, Лев
344 Распутин, В.
415, 591
Редигер, А.Ф.
436 Рейтблат, А.
425-426 Репин, И.Е.
Рерих, Н
84
Рогозин, Дм. 142
Родзянко, М.В.
37» 437» 450, 469 Розанов, И.Н.
68, 90, 366, 380, 396, 432 Розен, А. Е. 460-464, 466-467, 475, 477, 491 Розенберг, А. 294
Ростовцев, Я.И.
94,185-186,511 Рощаковский, Михаил 344
Руговы, Ибрагим in
Рудницкая, ЕЛ.
629 Рылеев, К.Ф. 246
Рязановский, Н.В. 90, 103, 182, 443, 447, 522-
Саблер, В.К.
520 Савина, М.Г. 84
Савинков, Б.В. 517
Сазонов, С.Д.
37» 43б, 453,455 Салтыков, М.Е.
72, 241, 572, 587-589 Салтыков-Щедрин, М.Е. 400
Самарин, Ю.Ф.
157» 199, 218, 232 СамуэлиДибор
586 Сантаяна, Дж.
104 Сахаров, А.Д.
124,620, 636 Сахаров, А.Н.
59,620 Святенков, Павел 591
Севастьянов, А.
6о, 95 Семенов, Петр
509 Симеон,царь 326
Синявский А.Д. 23
Скатов, Н.Н. 425
Скобелев, М.Д.
415,476, 528,546,549 Случевский, К. 84
Снесарев, А.Е.
545-546 Соболевский, А.И. 84
Соколов, Максим 84,105-106,123 Сократ 562
Солженицын, А.И. 18, 44-45, 54-55, 57, 248, 395,427-428,430-431 Соловьев, B.C. 20-21, 24, 27-28, 30-32, 34- 39, 41-44» 49-52, 56, 58-63, 67-70, 73, 77, 79-85, 87-90, 94, 103, 105, 114, 119-120, 124,129,149,152,154,158, 163,165,181,193,196,232- 233, 243-244,258,281,289, 294-295,301,303,328, 330- 332, 341-342, 349, 367, 384, 387-389, 402, 414, 416, 430- 431, 433-434, 438, 441, 443, 447, 451, 453-455, 457, 461- 462, 464, 466, 468, 481, 486, 499-500, 503, 508, 519- 521, 524-525, 526, 528-530, 538-539, 548, 557, 559-560, 567, 572-573, 576, 578-580, 599» 605-606, 608, Соловьев, С.М.
81,166,199,601, 605,607 Сперанский, М.М.
128,187,, 579, 601, 605-606 Сталин, И.В. 138,184,191,228,241, 344, 419, 421-422, 499, 522, 577, 594-595,602,612,614, 617 Стасюлевич, М.М.
365 Степун, Ф. 546
Стерлигову. 228
Столыпин, П.А.
55, 184-185, 191. 278, 304, 332,436,454,457,459-460, 463-465,467, 470,472,475, 491, 493-494, 513, 515,526, 528-529, 544, 554, 579 Страхов, И.И.
301-303
Струве, П.Б. 57, 342, 350, 366, 404, 410, 434-437, 439-440, 453, 455, 460, 472-473, 476, 489, 518- 521,568 Сувчинский, Петр
368 Суслов, М.А.
124,150, 397 Сухомлинов, В.А.
493-495,497 Сытин, И.Д.
84
Сырокомский В. 21
Талейран, Ш. 312
Твардовская, В.А. 331
Тимирязев, К.А. 554
Тихомиров, Л.А. 560
Тихон, митрополит
427 Тойнби, А.
374, 593
Токвиль, А. де
443-444 Толстой, А. К.
599 Толстой, ДА
399-400,405 Толстой, Л.Н. 20, 67, 221, 367, 405. 510, 522,599 Тотлебен, Э.И.
325, 495 Троицкий, Е.С.
59
Троцкий, Л.Д. 567
Трубецкой, Г.Н.
453» 476 Трубецкой, Е.
68,453 Трубецкой, Н. 37, 40, 295, 453, 455, 464, 576, 500-501, 511 Трубецкой, С.
50,192,464. 503. 511» 634 Тургенев, И.С. 163,205, 613, 629
Тургенев, Н.И.
165
Тютчев, Ф.И. 26, 30, 39» 80-82, 86, 97, 156-157, 167, 192, 198, 202, 2Ю, 304, 316, 350, 362, 369, 380, 384-387,425, 533,539 Тяпкин, АА 426
у Уваров, С.С.
75, 91, 94-95. 98, Ю1, 124,
148,155,164.169, 2Ю, 330, 396
Унковский, A.M. 180-181, 511, 513, 613
Федотов, Г.П. 20, 392, 538-541, 544, 547" 549, 551, 567-570, 572-576. 578, 580, 603, 625, 636 Феоктистов, Е.М.
399-400
Фергюсон, Н. 468
Фигес, Орландо
490,505-506,519 Филарет, митрополит 202
Философов, Д.В. 554
Филофей, монах
268,273 Фихте, Иоанн Готлиб
230,234 Флоренский П.
68,432 Франк С.Л.
20,452 Франц-Иосиф, имп.
45,175 Фрунзе, М.В.
546 Фукидид 132
Фуллер. Уильям
493,495 Фурсов, А.И.
X Хантингтон, Сюмюэл
236
ХантПрисцилла
601-602 Хатчинсон 469-471. 473. 480,483, 485- 486,491 Холмогоров, Егор
121,164,194. 389 Хомяков, А.С. 57, 190, 218, 224, 233» 243, 246, 257, 268-269, 273, 277, 301-302, 371-372, 387. 628, 635 Хоружи С.С. 36
Хоскинг, Джеффри
471-474. 476-477. 48о, 483, 485-487,491, 504 Хрущев, Н.С.
166,181,184 Хрущов, П.Д.
181, 513 Худенко, И.Н. 22-23
Ц Цветков, К.Н. 197
Цзян Цземинь
145 Ципко, А.С.
443
Ц Чаадаев, П.Я.
6, 39. 56, 6о, 68, 73-74, 78, 88, 90,92,98,119,121,124,
127-129, 144, 146, 155, 159, 163,169,181, 217, 246, 254, 256,259-260,330,481, 573 Чаковский, А.Б.
20-21, 28, 44,63 Чайковский П.И.
35,522
Чемберлен, Невилл 542
Чернышевский, Н.Г.
190, 242, 517,519 Черняев, М.Г.
321-322 Чехов, А. П.
6о, 522 Чикин, Валентин 22
Чингизхан
449 Чичерин, Б.Н.
39, 157, 176, 189, 197, 257. 259-260, 332,399,401, 433, 588, 611 Чубайс, А.Б. 173
Чхеидзе, Н.С.
483
Щ Шарапов, Сергей
366, 412-41З, 415, 417-422,
424, 431-432, 437, 453, 478,
488,533-534, 539,542,547,
549, 559 ^иафаревич, H.R
99» 541 Шевырев, С.П. 75,80,96,150,157.202
Шеллинг, Ф.
247, 546 Шелохаев, В.В. 332
Шипунов, Ф.Я. 59
Ширинский-Шихматов, П.А.
164,171, 6ю Шлемин, П.И.
Шлиффен, Альфред фон
497 Шмитт, Карл
41
Шпенглер, Освальд
135,220, 271 Шретер, Ф.А.
181, 513 Шувалов, И.И. 326 Шуйский, В.
166, 241 Шушарин, Д.В. 113-117,119,129
щ Щеголев, П.
483
Э Эйнштэйн, А.
Экклезиаст
522
Энгельгардт, А.Н.
287 Энгельс, Ф. 345, 517
Эрн, В.Ф. 36,452
Я Языков, Н.М. 218,246 Яковлев, А.Н.
261,451, 636 Янов, А. Л. 589
Ярослав Мудрый, кн. 250
Ярославна, кн.
173 Ярош, К.
599
Научное издание
Россия и Европа 1462-1921
Александр Львович Янов
книга 3 Драма патриотизма в России. 1855-1921
Издатель Л. Янович
Вып. редактор Л. Янович
Корректор И. Кускова
Дизайн издания А. Байдина
Обложка А. Байдина
Верстка и оригинал макет: А.Янович
Налоговая льгота -
общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 3; 953000 - книги, брошюры
Подписано к печати 01.04.2009 Формат 60x90/16, усл. печ. л. 42 Бумага офсетная №1. Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Тип. зак. 4011.
НП издательство «Новый хронограф» 109052, Москва, ул. Верх. Хохловка, д. 39/47-132 Тел.: (495) 671-0095, E-mail: nkhronograf@mail.ru
Реализация: тел.: (495)466-1635, 6-917-547-8424 8-916-346-8273, 8-903-165-3839
Отпечатано ООО ПФ «Полиграфист», Вологда, Челюскинцев, 3, тел. (8172) 72-61-75, E-mail: forma@pfpoligrafist.com
Книги и монографии
Social Contradictions and Social Struggle in PostStalinist USSR: Essays by Alexander Yanov. Special double issue of the «International lournal of Sociology», vol. VI, Nos 2-3, SummerFall 1976.
Detente after Brezhnev: The Domestic Roots of Soviet Foreign Policy.
Berkeley: Institute of International Studies, 1977.
The Russian New Right Berkeley, Institute of International Studies, 1978.
La Nuova Destra Russa. Sansoni Editore, Firenze, 1981.
The Origins of Autocracy. University of California Press, 1981.
Le Origini Dell'Autocrazia. Edizioni di Communita, Milan, 1984.
The Drama of the Soviet 1960s: A Lost Reform. Berkeley: Institute of
International Studies, 1984.
The Russian Challenge. Basil Blackwell, Oxford, England, 1987. Русская идея и 2000 год. Liberty Publishing, New York, 1988. La Perestroika Mankata. Viscontea, Milan, 1989. Rosia NoChosen. Sairyusha, Tokyo, 1995. После Ельцина. M.: Крук, 1995.
Weimar Russia and WhatWe Can Do About It. Slovo/Word, New York, 1995.
Тень Грозного царя. M.: Крук, 1996.
Beyond Yeltsin. Sairusha, Tokyo, 1997.
Россия против России. 1825-1921: Очерки истории русского
национализма. Сибирский Хронограф, Новосибирск, 1999*
Россия: У истоков трагедии. 1462-1584: Заметки о природе
и происхождении русской государственности.
М.: ПрогрессТрадиция, 2001.
Патриотизм и национализм в России. 1825-1921.
М.: Академкнига, 2002.
Трилогия Россия и Европа. 1462-1921. М., Новый хронограф, 2007
Книга 1У истоков трагедии
Книга 2 Загадка николаевской России
Книга з Драма патриотизма в России
Заинтересованных в обсуждении проблем, затронуть» в трилогии Александра янова "Россия и Европа. 1462-1921". приглашаем на Форум ftttp:/newchronograf.iiye|ournei.CQm.
i
Вышли в свет:
В серии «Российское общество.
Современные исследования»
Пономарева В.В., Хорошилова Л.Б.
МИР РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ: семья, профессия, домашний
уклад.
М.: Новый хронограф, 2009.- 352 е., [250 тоновых ил.] ISBN
978-5-94881-079-9
Эта книга является первой попыткой целостного историко-культурного описания семьи в ее эволюции с конца XVIII вплоть до начала XX века. В центре внимания авторов — времена, когда в недрах патриархального общества появляется новая женщина. Рамки ее жизни раздвигаются, она начинает учиться и работать. Формируются и новые семейные отношения. Домашний уклад, его проза и поэзия, рассматриваются в книге с двух точек зрения - и как женское творчество, и как залог сохранения стабильности нации. Широкое привлечение личных документов, художественной литературы, образный язык помогают авторам воссоздать живую картину прошлого.
Особенностью этой книги является размещение под одной обложкой двух параллельных текстов - словесного и иллюстративного (более 2оо илл.), вступающих между собой в диалог.
Вышли в свет:
В серии «Российское общество.
Современные исследования»
Яковенко И.Г.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СУБЪЕКТНОСТЬ МАСС Культурологический аспект политической жизни в России.
М.: Новый хронограф, 2009. -178 е.: ISBN 978-5-84881-077-5
Монография посвящена исследованию проблемы участия масс в политической жизни страны. Исследуются культурные основания политической активности, закономерности периодической активизации и угасания массового участия в политической жизни. Ядро книги составляют два эссе - о русском человеке как антигреке и о дополитическом человеке в истории и современности России.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НОВЫЙ ХРОНОГРАФ» Вышли в свет: В серии «Социальное пространство»
Трейвиш А.И.
ГОРОД, РАЙОН, СТРАНА И МИР Развитие России глазами страноведа М.: Новый хронограф, 2009. - 372 с.
ISBN 978-5-94881-077-5
У географии есть свой «конек», который называют игрой масштабами и к которому автор этой книги относится весьма серьезно, как к принципу и дисциплинарному кредо. Его монография отражает результаты многолетних исследований России, страны с тысячелетней историей и молодого в его нынешнем виде государства, с его городами и регионами, крупными частями, странами-соседями и местом среди мировых гигантов. Чем важен их размер? Когда и насколько Россия отставала от стран-лидеров, какой ценой их догоняла? Как это сказалось на ее «ледовитом океане суши»? На сколько районов она делится и на сколько - никак? Сколько в нем уместится Германий? Как чередуются у нас централизация и регионализация? Где сосредоточены успешные и депрессивные города? Зачем нужны элитарные, высокомерные, космополитичные центры? На эти и другие вопросы автор пытается ответить с помощью полимасштабного подхода к географии социально-экономического развития.
Книга адресована географам, регионалистам и всем, кто интересуется связью исторической судьбы России с ее пространством, географическим положением, природными условиями, спецификой заселения и освоения территории.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НОВЫЙ ХРОНОГРАФ» Вышли в свет:
В серии «От первого лица: история России в воспоминаниях,
дневниках письмах»
Ненароков А.П.
В ПОИСКАХ ЖАНРА. В 2-х книгах.
Записки архивиста с документами, комментариями, фотографиями и посвящениями. Книга первая. Вдаль к началу. - М.: Новый хронограф, 2009. - 296 е., ил.: ISBN 978-5-94881-068-3
Эта книга интересна не только документально-исследовательской частью, представляющей «критическое осмысление документа, основанное на интуиции, размышлении, сознании, самопознании», как определял смысл всякой повествовательной конкретизации истории выдающийся итальянский мыслитель XX века Бенедетто Кроче. Не менее важны и интересны для понимания реалий прошлого и автобиографические свидетельства автора. В них воссозданы быт и общественная атмосфера Москвы конца 30-х гг. прошлого века. Обозначены точки отсчета, сыгравшие решающее значение в формировании взглядов и жизненной позиции «шестидесятников», т.е. той части поколения, которая почти с лермонтовской остротой восприняла легкое дыхание капризной «оттепели» и в горьком разочаровании назвала себя ее «пасынками».
Книгу сопровождают редкие фотографии из личного архива автора. Предназначается она как для исследователей истории России XX века, так и для широкого круга неравнодушных читателей.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НОВЫЙ ХРОНОГРАФ» Вышли в свет:
В серии «От первого лица: история России в воспоминаниях,
дневниках письмах»
Ненароков А.П.
В ПОИСКАХ ЖАНРА. В 2-х книгах.
Записки архивиста с документами, комментариями, фотографиями и посвящениями. Книга вторая. Свеча в доме - М.: Новый хронограф, 2009. -
368 е., ил.: ISBN 978-5-94881-069-0
Вторая книга «Записок архивиста» дает возможность познакомиться с тем удивительным, ни с чем не сравнимым ощущением погружения в документы, которое творит чудо. «Когда - по словам автора, - далекие и чуждые по началу события вдруг обретают свои очертания и становятся близкими. Когда глухой гул, в котором все лишь эхо, вторье, отголосок, - обретает некую индивидуальность и в огромном смешанном хоре, явно не ставящем целью согласное пенье, вдруг начинают проявляться отдельные голоса еще неведомых певчих, А затем, словно по дирижерской указке, возникает некий лад, и сквозь нарастающую стройность хора, всякий раз ошеломляюще неожиданно, прорывается соло тех, чьи голоса отныне больше никогда не спутать с другими. И любой рассказ о них, доверивших тебе свои горести и радости, потери и обретения, вдруг превращается в разговор о себе, заново обретающем в этом творческом озарении теряемые с возрастом слух и зрение, перерастает в рассказ о тех, кто подарил тебе жизнь, либо обогатил ее своей. В книгу включены эссе об П.Б.Аксельроде, И.Г.Церетели, Б.И.Николаевском, В.С Войтинском, публикуются письма и черновики рукописей, найденные в архивах.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НОВЫЙ ХРОНОГРАФ» Вышли в свет:
В серии «История создания и развития оборонно-промышленного комплекса России и СССР 1900-1963 гг.
Документы и материалы».
Военная промышленность России в начале XX века.
Том первый. 1900-1917 гг. Предлагаемый вниманию исследователей сборник документов открывает серию документальных публикаций, посвященных становлению и развитию оборонно-промышленного комплекса России в XX веке. В первый том серии вошли документы, хранящиеся в Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА), охватывающие период с 1901 по 1918 год.
2004. - 832 с. Переплет
Советское военно-промышленное производство.
Том второй. 1918-1926 гг. Второй том серии посвящен становлению и развитию советского военно-промышленного производства в 1918- 1926 гг. Документы в подавляющем большинстве ранее не публиковавшиеся и рассекреченные в последние годы, извлечены из архивных фондов учреждений, непосредственно руководивших военной промышленностью (Совнарком, СТО, ЦК РКП-ВКП(б), секретариаты В.И.Ленина, Ф.Э.Дзержинского, Л.Д.Троцкого, ВСНХ, Госплана, ЦСУ, Реввоенсовета, штабов и управлений РККА и РККФ и др.).
Сборник имеет приложения и обширный научно- справочный аппарат.
2004. - 768 с. Переплет
Готовятся к изданию:
В серии «Российское общество. Современные исследования»
Писарькова Л.Ф.
ГОРОДСКИЕ РЕФОРМЫ В РОССИИ И МОСКОВСКАЯ ДУМА.
1862-1917 гг.
М.: Новый хронограф, 2009. - 720 е., ил.
В книге на широком круге источников воссоздана полная картина жизни общественного управления пореформенной Москвы, Текст книги, по сравнению с первым изданием значительно расширен и дополнен новыми главами; изменена структура книги. Конкретно-исторический материал (о ходе выборов, составе избирателей и гласных, хозяйственно-финансовой и общественной деятельности Московской думы) рассмотрен в контексте городских реформ 1862-1917 гг. и в сравнении с общероссийскими данными. При таком подходе самостоятельное значение получает вопрос о реализации городской политики правительства на примере Москвы, где, в силу специфики российской столицы, сильные и слабые стороны городского законодательства получили наиболее полное выражении. Большое место в книге занимают биографические очерки о городских головах: кн. А.А.Щербатове, кн. В.А.Черкасском, С.М.Третьякове, Б.Н.Чичерине, Н ААлексееве, кн. В.М.Голицыне, Н.И.Гучкове и др.
В Приложении помещены сведения о доходности городских предприятий, краткие биографические данные о гласных и членах Управы в 1863-1917 гг.
Готовятся к изданию: В серии «Российское общество. Современные исследования»
Миронов Б.Н.
БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ИМПЕРСКОЙ РОССИИ:
XVII-началоХХ века М.: Новый хронограф, 2009. - 928 е., ил.
Первое в мировой историографии фундаментальное исследование по исторической антропометрии России за 1700-1917 гг. Мобилизовав огромный материал - 306 тыс. индивидуальных и около ю млн. суммарных данных о росте, весе и других антропометрических показателях мужского и женского населения из девяти архивов РФ - автор впервые показывает, как изменялся биологический статус россиян (в том числе по районам и губерниям) за 217 лет. Полученная картина проверяется на данных о сельскохозяйственном производстве, налогах и повинностях, ценах и зарплате, питании и демографии и делается вывод о динамике уровня жизни за весь период империи. В Заключении предлагается экономическая, социальная и политическая интерпретация полученных результатов и пересматриваются устоявшиеся стереотипы о казненном уровне, внутренней политике и эффективности реформ в имперской России. Использованная литература включает более тысячи названий отечественных и зарубежных исследований, В книге 213 таблиц и 27 графиков.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НОВЫЙ ХРОНОГРАФ» Готовятся к изданию: ПИХОЯ Р.Г.
Москва. Кремль. Власть. 1945-2005 гг. Эволюция политической системы. В 3-х томах
Книга посвящена политической истории России во второй половине XX - начале XXI века. В ней исследованы процессы эволюции власти в СССР, особенности организации ее функционирования, механизмы принятия решений во внешней и внутренней политике страны. Детально и последовательно проанализирована деятельность по государственному управлению Сталина, Берии, Маленкова, Хрущева, Брежнева, Андропова. Особое место в книге занимает проблема распада СССР, совокупность причин - правовых, экономических, социально-политических и психологических приведших к неожиданному финалу. В этой связи исследовано крушение советской системы, вызванное, в частности, противоречием между принципами «всевластия Советов» и разделения властей. В книге впервые обстоятельно исследована деятельность съездов и Верховного Совета Российской Федерации, особенности политико-конституционного кризиса 1993 года.
Книга написана на основе богатейшей архивной информации из архивов Секретариата, Политбюро ЦК КПСС, Верховного Совета РФ.
Эти и другие книги издательства можно заказать по
адресу:
109052 Москва, ул. Верхняя Хохловка, 39/47-132 Тел./факс (495) 671-0095
78 HR Вып. 22. С. 8.
45 Русский вестник. 1903. № 4. С. 642.
4 Цит. по: Николай Яковлев. i августа 1914. М., 1993. С. 20.
14 Назаров М.В. тайна России. М., 1999. С. 492.
[1] Русское обозрение. 1897. №3. С. 452.
[2] Назаров М. Тайна России. М., 1999. С. 519.
[3] Лебедев СВ. Русские идеи и русское дело. Спб.: Алетейя, 2007.
[4]
История России в XIX веке (далее ИР). Вып. 6. М. 1907. С. 464.
[5] Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci. New York, 1995. P. 404.
[6]llbid. P. 182.
[7] Чаадаев П.Я. Филосовские письма. Ардис, 1978. С. 84.
[8] Лебедев С.В. Цит. соч. С. 101.
[9] Там же. С. 46, 50.
[10] Я знаю, разумеется, что выходец из славянофильской среды Соловьев и сам не до конца освободился от усвоенного им в юности и разлитого в воздухе эпохи словоупотребления. Сегодняшние «национально ориентированные» академические энтузиасты пытаются даже представить его на этом основании своего рода крестным отцом Русской идеи (см., например, Гидиринский В. Русская идея и армия. M.f 1997. С. 50: «Философско-концептуальное обоснование Русской идеи осуществлено B.C. Соловьевым в 1888 году»). На самом деле, однако, даже прибегая к славянофильским терминам, употреблял их Соловьев в смысле прямо противоположном тому, в каком употребляли (и употребляют) их его национал-патриотические оппоненты. Вот его кредо: «Идея нации есть не то, что она о себе думает во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности», именно по этой причине национализм, т.е. самозванное присвоение смертными функции Бога, и полагал Соловьев смертным грехом гордыни, кощунством. Потому и пришел он к твердому убеждению, что «глубочайшею основою славянофильства была не христианская идея, а только зоологический патриотизм... делающий из нации предмет идолослужения» (Соч. в 2 т. М., 1989. T.i. С. 630-631). И предсказал,что «служение национальным идолам, как и идолам языческих религий, непременно перейдет в безнравственные и кровожадные оргии» (там же. С. 6ю).
[11] Соловьев B.C. Цит. соч. С. 444.
[11] Погодин М.П. Сочинения. Т. 4, 6. д. C.7.
[12] Вече. 1982. № 5. С. ю, 12.
[13] Любимов Н.А. Михаил Никифорович Катков и его историческая заслуга. Спб., 1889. С.7.
[14] Русский вестник. 1889, июнь. С. 76.
[15] Соловьев B.C. Цит. соч. С. 492.
[16] М., 1992.
[17] Мм 1992.
[18] М., 1991,
[19] М., 1992.
[20] И., 1995,
[21] М., 1997.
[22] М., 1998.
[23] НикитенкоАВ. Дневник: в 3 т. Т. 1. М., 1955. С. 266.
[24] НикитенкаА.В. Цит. соч. Т. 1. С. 172-173.
[25] Там же. С. 292.
[26] Там же. Т. 2. С. 324-325.
[27] Там же. С. 326.
[28] Там же. Т. 1. С. 419.
[29] Там же. Т. 2. С. 351.
[30] Толстой ЛМ. Собр. соч. Т. 3. М., 1979. С. 357.
[31]
[32] The Economist. 1997. January 4-10. P. 20.
[33] Srraus/r^he Interplay of National with Supranatio^
[34] Ильин В.В. Реформы и контрреформы в России. М., 1996. С. 21.
[35] Ключевский В.О. Курс русской истории. Т. 3. М., 1904-1910. С. 383.
[36] Вейдле В. Цит. соч. С. 87,12.
[37] Найшуль б. Мы еще не проиграли// известия, 2001, ю августа.
[38] Маркс К. и Энгельс Ф Собр. соч. Т. 1. М. С. 414.
[39] Цит. no: В новом свете. Нью-Йорк, 1997,3 января.
[40] Бердяев НА. Новое средневековье. Берлин, 1924.
[41] Герцен И.А. Былое и думы. Л., 1947. С. 294.
[42] Милютин Д.А. Воспоминания. М., 1999. С. 40.
[43] Цит. по: Бердяев НА. Pro et Contra. Спб., 1994. С. 248 (выделено мною - АЯ.)
[44] Бердяев НА.. Новое средневековье. Берлин, 1924. С. 50.
[45] Там же. С. 78.
[46] Там же. С. 28.
[47] Там же. С. 22.
[48] Schlesinger Arthur, jr. The Cycles of American History. Boston, 1986. P. 3B5.
[49] Бердяев H.A. Цит. соч. С. 53.
[50] Вейдле В. Задача России. Нью-Йорк. 1956. С. 164.
[51] .Величко AM. Философия русской государственности. Спб., 2001. С. 236.
[52] Там же.
[53] Там же. С, 237.
[54] Там же. С. 24 (выделено мною - А.Я.).
[55] Василенко ИЛ. Политическая глобалистика. М., 2003. С. 173.
[56] Смолин М. «...и Бог воззовёт прошедшее»//А/И. Величко, цит. соч.
[57] ВеличкоА.М. Цит. соч. С. 309.
[58] Там же. Вып. 10. С. 117.
[59] Там же. С. 118.
[60] Там же. С. 108.
[61] Там же. С. 85.
[62] Там же. Вып. 18. С. 86.
[63] Там же. С. 86.
[64] Там же. Вып. 17. С. 15.
[65] Леонтьев К.Н. Восток. Россия и славянство. М., 1886. Т. 2. С. 156.
московский сборник. 1887. С. 81.
[67] Соловьев B.C. Собр. соч. Спб., 1902-1907. Т. 5. С. 356 (выделено мною - АЯ.).
[68]
[69] варшавский дневник. 1880 г., ю апр..
[70] Данилевский И.Я. Россия и Европа. Спб., 1995. С. 341.
ss Там же. С. 327.
[72] Там же.
[73] Там же. С. 307.
[74] Там же. С. 364.
[75] Там же.
[76] Там же. С. 369.
[77] Аксаков И.С. Собр. соч. М., 1886-1В87. Т1. С. 5.
[78] Lobanov-RostovskyA. Russia and Europe: 1825-1878. Ann Arbor, Mich. 1954. P. 246.
[79] История XIX века. М., 1938. Т. 6. С. 97.
[80] Там же. С. 99.
[80]
[81] Pasha Karatheodory. Le Rapport Secret sur les Congres de Berlin addressed a la Sublime
Porte. Paris, 1919. P.5.
[83] Там же. С. 447.
[84] Соловьев B.C. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 226.
[85] Др0юевский Ф.Л1 Дневник писателя. Берлин, 1922. С. 631.
[86] Достоевский Ф.М. Полн. собр. художественных произведений. Т. XI. М.-Л., 1929. С. 256.
[87] Зайончковский ПЛ Цит. соч. С. 451-452.
[88] Зюганов ГА. За горизонтом. Орел, 1995. С. 75,74.
[89] Маркс К. и Энгельс Ф. Коммунистический манифест. М., 1969. С. 48.
[90] Русский Путь. Мм 1996. С. 5.
[91] Иваск Ю.П. Константин Леонтьев. Франкфурт, 1974- С- 319. Вот этой «ослепленности» своего героя совершенно, в отличие от иваска, не заметил Д.М. Володихин (Высокомерный странник: Философия и жизнь Константина Леонтьева. M., 2000), воспринявший экстравагантные идеи «высокомерного странника» в буквальном смысле как новое Евангелие.
[92] Спор о Бакунине и Достоевском. Сб. ст. М.» 1926. С. 8,24.
[93] Бакунин УИ.А Народное дело. Романов, Пугачев или Пестель. М., 1917. С. 39.
[94] Там же. С. 29.
[95] там же.
[96] Там же. С. 43.
· 23 Там же. С. 33.
[98] Достоевский ФЖ Дневник писателя. Берлин, 1922. С. 237.
[99] Там же.
[99] Вестник Европы. 1885. № 12. С. 909.
[100] Александров А.А. Памяти Леонтьева. 1915. С. 127.
[101] HR Вып. 18. С. 78.
[102] Бердяев Н.А. Sub specie aeternitatis. Спб., 1907. С. 405.
[103] Леонтьев К.Н. Pro et contra. Спб., 1995. Кн. 1. С. 417.
[104] Мандельштам Н.Я. Вторая книга. М., 1990. С. 399.
[105] Леонтьев К.Н. Т. 6. С. 189 (выделено мною. - А.Я.).
[106] Там же. С. 421.
[107] Соловьев B.C. Собр. соч. Изд. 2.1902-1907. Т. 5. С. 356.
[108] НГ-Сценарии. №12. 1997,12 ноября.
[109] Цит. по: ПайпсР.. Русская революция. Ч. i. М., 1994. С. 285.
[110] Цит. по: Orlando Figes. People's Tragedy. N.Y., 1996. P. 287.
[111] Ibid. Р. 252.
[112] Пайпс Р. Цит. соч. С. 238.
[113] Гиппиус 3. Петербургский дневник. М., 1991. С. ю.
[114] Михайловский Б.В. Русская литература в XX веке. М., 1939. С. 414.
[115] Cited in О. Figes, op. cit. P. 247.
[116] Ibid. P. 249.
[117] SazonoffS. How the War Began. London, 1925. P. 46-47.
[118] Гиппиус3. Цит. соч. С. 25.
[119] Соловьев B.C. Смысл любви. М., 1991. С. 60-61.
[120] На меморандум Дурново ссылаются все историки, писавшие о русской революции. Лучшее его описание в книге Dominic Leaven. Russia and the Origins of the First World War. N.Y., 1983.
[121] Ламздорф В.Н. Дневник. М-Л., 1934. С. 299.
[122] ПайпсР. Цит. соч. С. 221.
[123] Соловьев B.C. Цит. соч. С. 355-356 (выделено мною.- А.Я.).
[124] Olga Crisp in Cambridge Economic History of the World. Vol. 7. Part 2. P. 388.
[125] Rosen R.R. Forty Years of Diplomacy. Vol 2. London, 1922.
[126] Кеппап George. The Fateful Alliance. New York, 1984.
[127] Rozen R.R. Fifty Years of Diplomacy. London, 1922. P. 105-108.
[128] История внешней политики России, т. 5. М., 1999.
[129] Ibid. Р. 215.(выделеномною. - АЯ.).
[130] Бюллетени литературы и жизни. 1915-16 гг. нояб. II. № 6. С. 282-283 (выделено мною. —
АЛ).
[132] Там же (выделено мною - АЯ.).
[133] Там же.
[134] Gilbert Martin. First World War. A Complete History. NY, 1994. P. 30.
[135] Там же. С. 183-184.
[136] Hosking. Op. cit. P. 217.
[137] Figes О. Op. cit. Р. 409.
[138] Ibid, (выделено мной.- А.Я.).
[139] Ibid. Р. 414.
[140] Там же. С. 70 (выделено мною. - А.Я.).
[141] Lincoln W.Bruce . Op. cit. P. 209. (выделено мною. - А.Я.).
[142] Иорданский Н.И. Цит. соч. С. ю8.
[143] Pipes R. Op. cit. P. 15.
[144]
Струве /7.6. Patriotica. М., 1997. С. 74.
[144] Соловьев B.C. Сочинения: в 2 т. Т. i. С. 396.
[145] Письма Б.В.Никольского к Б.А.Садовскому// Звенья: исторический альманах (далее Альманах). Вып.2. М.-Спб., 1992. C.359.
[146] Там же. С. 493,57В.
[147] ibid. P. 192.
[148] Ibid. Р. 94-
[149] Цит. по: Варшавский В. Незамеченное поколение. Нью-Йорк, 1956. С. 37.
[150] Федотов Г.П. Цит. соч. С. 324.
[151] Там же.
[152] Михайлове. Новая Иудея или разоряемая Россия. Нью-Йорк, 1921. С. 9,15.
[153] Там же. С. 133-134 (выделено мною. - А.Я.).
[154] Там же. С. 134.
[155] Там же.
[156] Кожинов В.В. Цит. соч. С. 33-35.
Марков Н.Е. Цит. соч. Т 2. С. 148,152-153-
[158] Там же. т. 1. С. 136.
[159] Кожинов В.В. Цит. соч. С. 21.
[160] 25 лет назад (из дневников Л.Тихомирова)// Красный архив. Т.2. М.-Л., 1930. С. 63.
[161] Бостунич Г. Масонство в своей сущности и проявлениях. Белград, 1928. Т. i. С. 130.
[162]Тамже. С. 141.
[163] Там же. С. 140.
[164] Одинзгоев Ю.М. В дни царства Антихриста. Сумерки христианства. С. 219.
[165] Laqueur Walter. Ibid., p. 125.
[166] Федотов Г.П. Цит. соч. С. 297.
[167] Там же.
[168] Там же. С.263.
Там же. С. 197.
[170] Там же.
[171] Там же. С. 267.
[172] Там же. с. 276,181.
[173] Соловьев B.C. Цит. соч. 4.1. С. 396.
[174] Герцен А.И. Былое и думы. Л., 1947. С. 238.
[175] Федотов Г.П. Цит. соч. С. 27.
[176] Аргументы и факты. № 18-19. 2002, май.
[177] Вейдле В. Задача России. Нью-Йорк, 1956. С. 12.
[178] Там же. С. 14.
[179] Пелипенко АЛ. Россия и Запад: грани исторического взаимодействия// Россия: путь в
третье тысячелетие. М., 2000. С. 66.
[181] See Wittfogel Karl A. Russia and the East: A Comparison and Contrast in the Development of the USSR: an Exchange of Views, ed. by Donald W. Treadgold. Seattle, 1964. P. 352-353. See also SzamualyTibor. The Russian Tradition. London, 1976. P. 87.
[182] Колокол. Вып. г. м., 1962. С. 30,28.
[183] Там же. С. 29.
[184] Пелипенко АА. Цит. соч. С. 69.
[185] Дьяконов М.А. Власть московских государей. Спб., 1889. С. 187-193.
. ж:
[186] Цит. по: Смирнов И.И. Иван Грозный. Лм 1944- С- 99-
[187] Ярош К. Психологическая параллель. Харьков, 1898. С. 31.
[188] Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России. M., 1991. С. 25.
[189] Цит. по: Михайловский Н.К. Сочинения. Спб., 1909. Т. 6. С. 134.
[190] Соловьев C.M. История России с древнейших времен. М., 1963. т. JX. С. 560.
[191] Там же.
ч 26 Сперанский МЖ Проекты и записки. М.-Л., 1963. С. 45.
[193] Hunt PrisdUa. «Ivan IV's Personal Mythology of Kingship». Slavic Review (Winter 1993).
[194] Нарочницкая НЛ Россия и русские в мировой политике. М., 2002. С. 132.
[195] Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. Париж, 1959. С. 414.
[196] Пресняков А.Е. Апогей самодержавия. Л., 1925. Ч. 15.
[197] Цит. по: Глинский Б.Б. Борьба за конституцию. Спб., 1908. С. 574.
[198] История России в XJX веке. М., 1907. Вып. ю. С. 84.
[199] Милютин ДА. Дневник. M., 1950. Т. 4. С. 62.
\ 52 Иорданский Н.И. Конституционное движение бо-х годов. Спб„ 1906. С. 69 (выделено
ч мною. - А.Я.).
[202] Там же. С. 49.
[203] Колокол. Вып. 1. С. 14.
[204] Иорданский ИМ. Цит. соч. С. 86.
[205] Глинский Б. Цит. соч. С. 572-573*
[206] Lincoln Bruce. In the Vanguard of Reform. Northern Illinois Univ. Press, 1982. P. 174.
(Выделено мною. -А.Я.).
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


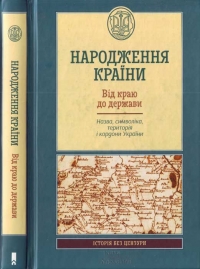

Комментарии к книге «Россия и Европа. Т.3», Александр Львович Янов
Всего 0 комментариев