Пётр Владимирович Рябов История русского народа и российского государства (с древнейших времен до начала XX века) в двух томах. Том 2
© Издательство «Прометей», 2015 г.
* * *
VI Петербургская Россия (1689–1917)
6.1 Рождение петербургской империи (1689–1725)
Историк XIX века Михаил Петрович Погодин так описывал результаты «революции сверху», проведённой Петром I: «Мы просыпаемся. Какой ныне день? 1 января 1841 года – Пётр Великий велел считать годы от рождения Христова, Пётр Великий велел считать месяцы от января. Пора одеваться – наши платья сшиты по фасону, данному Петром I, мундир по его форме. Сукно выткано на фабрике, которую завёл он, шерсть настрижена с овец, которых развёл он. Попадается на глаза книга – Пётр Великий ввёл в употребление этот шрифт и сам вырезал буквы. Вы начнёте читать её – этот язык при Петре I сделался письменным, литературным, вытеснив прежний, церковный. Приносят газету – Пётр Великий их начал. Вам нужно искупить разные вещи – все они, от шёлкового шейного платка до сапожной подошвы будут напоминать вам о Петре Великом… За обедом, от солёных сельдей и картофеля, который указал он сеять, до виноградного вина, им разведённого, все блюда будут говорить вам о Петре Великом. После обеда вы едете в гости – это ассамблея Петра Великого. Встречаете там дам, допущенных до мужской компании по требованию Петра Великого… Место в системе европейских государств, управление… судопроизводство, права сословий, «Табель о рангах», войско, флот, подати, ревизии, рекрутские наборы, фабрики, заводы, гавани, каналы… почты… аптеки… госпитали, лекарства, летосчисление… печать, типографии, военные училища, академии – суть памятники его неутомимой деятельности и его гения».
Петра Первого часто называют революционером на троне. «Первым большевиком» метко именовал его поэт Максимилиан Волошин, а «большевиком на троне» – называл философ Николай Бердяев. И в самом деле, его преобразования коренным образом насильственно изменили облик Российского государства и жизнь русского народа. Именно в его правление Россия была провозглашена империей (в 1721 году), вступила в борьбу за мировое господство и получила новую столицу – Санкт-Петербург.
Масштабы личности Петра I и его эпохи общеизвестны, но об их оценках ведутся ожесточённые споры, творятся бесчисленные мифы. Два наиболее распространённых и доживших до наших дней, полярных «образа» петровской России и личности первого императора таковы.
Первый миф – о «Петре Великом» – был создан ещё при его жизни льстивыми царедворцами. В соответствии с ним, великий самоотверженный царь-реформатор, прилагая титанические усилия, вывел отсталый, реакционный и упорно цеплявшийся за старину русский народ, не понимавший собственного счастья, на столбовую дорогу европейского прогресса и просвещения, создал могучую победоносную державу.
Второй миф также возник при жизни Петра I, но уже не в придворной, а в народной среде. Он говорил о «царе-Антихристе», погубителе русского народа, палаче и изувере, деспоте и злодее, оскорбившем и кощунственно растоптавшем народную культуру, залившем кровью Русь, отбросившем страну на многие столетия назад в угоду своему безграничному деспотизму.
Возможно, ближе всего к истине образ Петра и его эпохи, запечатлённый в гениальной поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Здесь мы видим великолепие дворцов Санкт-Петербурга, стихию Невы, закованную в гранит набережных, симметрию улиц «регулярного города», мощь империи и над всем – «кумира на бронзовом коне», попирающем своими копытами растоптанного «маленького человека», на чьих костях и крови и было воздвигнуто зловещее величие державы.
6.1.1. Накануне реформ
XVII век предрешил как неизбежность развития России по самодержавно-крепостническому пути, так и необходимость «модернизации сверху», обновления государства на европейский манер. Это было уже начато церковной реформой, созданием полков «иноземного строя», первых мануфактур, западными влияниями в культурной жизни, отменой местничества. Вопрос в конце XVII века стоял не о том: быть или не быть реформам в России, но об их направленности, радикальности, темпах и цене.
Провал политики правительства Софьи и Голицына, их курса на постепенные и умеренные реформы, мало болезненные для общества и постепенно европеизирующие русскую жизнь, породил временный период реакции 1689–1695 годов, вызванный приходом к власти партии Нарышкиных: гонениями на всё иноземное, стагнацией экономики, разворовыванием казны, усилением изоляционистских тенденций во внешней и внутренней политике.
Если В.В. Голицин больше думал, чем действовал, предлагал продуманную и неторопливую программу реформ, ориентированных на общественную поддержку и соучастие, то новый виток реформ, связанный с именем царя Петра, отличался спонтанностью, непродуманностью, насильственностью, произвольностью, торопливостью и хаотичностью. Сравнивая реформаторство Василия Голицына с реформаторством юного Петра I, П.Н. Милюков писал: «Пока Голицын окружал себя книгами, картами, статуями, Пётр с азартом предавался спорту. Книгу он допускал в минимальных размерах… Голицын ездил в Немецкую слободу для серьёзных политических бесед о солидным Гордоном… Пётр слышать не хотел ни о какой политике, тем более русской. Она неразрывно связывалась в его тогдашнем представлении с торжественными официальными аудиенциями, от которых он бежал, как от чумы. В слободу привёз его кузен Голицына, «пьяница» Борис, но не для политических бесед, а для балов и попоек… Голицын мечтал о «довольстве народном». Пётр исподволь принимал меры для обеспечения личной безопасности. Укрепив своё положение преданной ему военной силой, Пётр обнаружил полное пренебрежение к общественному мнению. Он издевался над ним в той же мере, в какой Голицын за ним ухаживал и его боялся. Голицын в походах только и думал, как бы скорее вернуться в столицу, чтобы разрушить козни врагов. Пётр рвался из столицы в походы, как бы чувствуя, что там, при войске, его сила… И тогда как Голицын высшей целью своей политики считал заключение «аллиансов», Пётр принялся во что бы то ни стало искать хорошего театра войны, где можно было разгуляться на воле его кораблям и пушкам». Разумеется, и черты личности государя, и обстоятельства его прихода к власти, наложили свой серьёзный отпечаток на весь характер начавшихся резких реформ.
Говоря о предпосылках петровских реформ и их сравнении с реформами XVII века, Б. Кагарлицкий отмечает: «Государство первых Романовых, испытывая возраставшую зависимость от западных технологий, пыталось компенсировать это культурным самоутверждением, противопоставлением «московского благолепия» западным нравам. Именно сочетание культурного изоляционизма с растущей интеграцией в формирующуюся мировую экономическую систему объясняет противоречивое, почти шизофреническое состояние, в котором находились правящие круги Москвы к моменту воцарения Петра Великого… Именно в силу того, что государство буквально не могло существовать без иностранных технологий, специалистов и даже военных наёмников, оно пыталось сохранить свою политическую самостоятельность и найти идеологическое обоснование в постоянном подчёркивании религиозного и морального превосходства над Западом… Чем больше «русский дух» стремились оградить от «иноземной заразы», тем в меньшей степени общество обладало иммунитетом по отношению к западным влияниям…
Пётр не изменил курса, которым шла Россия, но он обеспечил культурные и политические условия, без которых этот курс не мог успешно проводиться». Провозглашая на словах верность старой религии и дедовским обычаям, правящие круги Москвы всё более в своём быту проникались европейскими веяниями, использовали завозимые с Запада предметы роскоши (мебель, часы, кареты).
Для Петра, выросшего вдали от Кремля, в селе Преображенском под Москвой, Немецкая слобода стала символом прогресса, а все русские нравы а обычаи казались воплощением отсталости и суеверия.
До 1694–1696 годов юный царь, формально возглавив страну, не интересовался делами управления (пока не умерли его мать Наталья Кирилловна Нарышкина (1694), его болезненный брат и соправитель Иван V Милославский (1696) и не была заточена в монастырь по его приказу нелюбимая жена царя Евдокия Лопухина (1698)). Безудержные пьянки в Немецкой слободе, любовные шашни, игры в войну с «потешными» полками заменяли Петру систематическое книжное образование, занимали всё его внимание и кипучую энергию, формировали его личность. Нравы Немецкой слободы манили его, также как и море, увиденное им в Архангельске. В эти годы царя окружал «всешутейший и всепьянейший Собор», «служащий Бахусу и Ивашке Хмельницкому» – орава собутыльников, цинично пародировавшая русскую старину, неутомимая на богохульства и кощунственные выходки.
Для личности царя были характерны энергичность, решительность, беспощадность, утилитарное восприятие людей, как инструментов своей воли, любознательность, развратность, практицизм, сухой рационализм, грубость, бесцеремонность, жестокость, любовь к учительству и работе с техникой. На всю жизнь ключевой и определяющей для Петра стала идея «воспитательной диктатуры», «педагогики», основанной на личном примере, строжайшей регламентации и субординации и на всеобъемлющем насилии, причём роль нерадивых «учеников» он отводил русскому народу, а роль Учителя, знающего, что надо ученикам – исключительно себе. Человек с его личностью, душевной индивидуальностью не существовал для царя: люди были лишь орудием, материалом для здания империи, объектом для опеки и использования, а не субъектом. Вечная палка в руках, которой Пётр часто избивал окружающих, стала символом культивируемой им системы насилия, при которой любое (скрытое ила явное, активное или пассивное) сопротивление его воле следовало сломить не считаясь ни с чем. Пётр воспринимал общество, как огромный механизм, заводимый всесильной рукой механика – его собственной рукой (подобно тому, как европейские философы XVIII века считали «механизмом» весь мир, а «Механиком» – Бога-Творца).
Пётр неуклонно проповедовал «служение общему благу» (то есть благу державы, с которой он отождествляя себя), культ «регулярного государства» и часто повторял, что «полиция есть душа гражданства». Всю жизнь обучаясь различным навыкам и ремёслам, проходя всю лестницу чинов и рангов с низших да высших, государь хотел привить такие же навыки трудолюбия, чинопочитания и любознательности своим «несознательным» поданным. Однако, сталкиваясь с их нежеланием следовать его примеру, превращаться в его марионеток и ломать все свои ценности по его приказу, он всё больше убеждался в том, что насилие – универсальное и лучшее средство насаждения нового в полезного. Крупнейший современный исследователь и знаток петровской эпохи, историк Евгений Анисимов отмечает: «пожалуй, Пётр первый с такой систематичностью использовал принуждение для достижения блага, как он его понимал, и сформулировал идею «насильственного прогресса». Постоянно проводимая мысль о «педагогике дубинкой» зиждилась на уверенности в том, что он, царь, единственный, кто знает, что необходимо его народу, а, адекватно выражая это несомненное благо в своих указах, требует взамен беспрекословного подчинения». Роль субъекта исторического действия Пётр I отводил исключительно самодержавному государству, а народу – лишь роль объекта попечения и инструмента для приложения усилий.
Эта безграничная вера во всемогущество и вседозволенность власти, управления, рационального планирования, конструирования через насилие (когда на место «органики» живой традиции становится «механика» «регулярного государства») пронизывает всю многогранную деятельность царя. Характерно, что сухого технократа, рационалиста и прагматика Петра I всегда интересовало прикладное знание и работа с техникой, а не высокая теория и не искусство Европы, к которому он относился совершенно равнодушно.
Царь стремился посредством бюрократически-полицейского государства насилием привести народ к «общему благу», кощунствуя и глумясь, стереть всю старую культуру и с «чистого листа» (в духе идей века Просвещения) сконструировать новую державу, новую культуру и нового человека. Беда была лишь в том, что этот гениальный техник имел дело не с мёртвыми инструментами, а с живыми людьми! Ключевым понятием, без конца употреблявшимся Петром, было понятие «службы». В идеальном государстве Петра I все должны были служить монарху, чья власть становилась беспредельной. Эти не слишком сложные идеи Пётр I воплощал в жизнь со всей своей колоссальной энергией и необузданной жестокостью, со всей своей пылкой любовью к «западному» и ненавистью к «русскому».
Если поездки в Немецкую слободу, плаванье на ботике по Яузе, игры в войну с «потешными» войсками, строительство кораблей на Плещеевом озере в Переяславле-Залесском и поездки в Архангельск сформировали личность царя, то завершающей фазой этой затянувшейся эпохи, предшествующей реформам, стали Азовские походы 1695 и 1696 годов и «Великое посольство» в Европу 1696–1698 годов. Поскольку, начатая неудачными Крымскими походами князя Голицына война с Турцией продолжалась, молодой царь организовал и возглавил два похода на мощную турецкую крепость Азов. Второй из них завершился взятием крепости, которая не только контролировала Азовское море, но и давала ключ к вольному Дону и помогала подчинить казаков. Однако в одиночку, без союзников Россия не могла выиграть войну против более могущественной Османской Империи.
Поэтому в 1696–1698 годах в Европу было отправлено «Великое посольство», преследующее несколько явных и тайных целей. Первой целью было приглашение в Россию множества иноземных мастеров и инженеров, второй (скрытой) – поиск в Европе союзников для продолжения войны против Османской Империи. К посольству присоединился и молодой государь. Впервые в истории Московии монарх покинул страну, к ужасу населения (не случайно потом ходили упорные слухи, что «немцы» подменили царя за границей и прислали в Россию своего человека на погибель русским людям). Два года, проведённые в Европе, окончательно убедили Петра в мысли о необходимости учиться всему у иноземцев, Союзников для антитурецкой коалиции найти ему не удалось. Зато был заключён антишведский Северный союз с Данией и Саксонией с участием России. При помощи русских войск саксонский курфюрст Август II был посажен на престол Речи Посполитой. В разгар пребывания за границей Пётр получил тревожное известив о новом стрелецком восстании на родине, побудившее его спешно вернуться в Московию.
После взятия Азова стрельцов не вернули, как было обычно, в столицу, к их семьям и хозяйству, а отправили на далёкую западную границу под Вязьму. Возроптав, несколько полков стрельцов двинулись на Москву, но около монастыря Новый Иерусалим были расстреляны правительственными войсками из пушек и сдались. Усмиривший стрельцов воевода А.С. Шеин казнил 122 человека, а 140 приказал бить кнутом. Однако, срочно вернувшемуся в Россию Петру этого было мало. Он жаждал отомстить непокорным стрельцам за свои детские страхи и дать страшный урок всем непокорным. Пётр повелел начать следствие, стремясь особо доказать связь восставших с его сестрой Софьей. Эта связь не была доказана, но, тем не менее, Софью насильно постригли в монахини Новодевичьего монастыря. Пётр лично участвовал в пытках и казнях стрельцов, желая этой зверской расправой запугать общество и сломить всякое сопротивление народа. Лично царь отрубил головы пяти стрельцам, его любимчик и денщик Меншиков – двадцати. Всего были казнены 1091 человек. А вскоре стрелецкое войско, как ненадёжное и бунтарское, было распущено Петром. Ему нужна была армия покорных и вымуштрованных рабов.
Сразу по возвращении в Россию, царь предпринял несколько символических действий, свидетельствовавших о полном разрыве с русской религиозной и культурной традицией и о начале насаждения иноземных обычаев. Прежде всего, было запрещено носить бороды (всем, кроме крестьян и священников), на бородачей была наложена огромная подать. Борода была символом русской старины, благочестия и человеческого достоинства, и такой жест царя был весьма многозначителен. Чтобы оценить впечатление, произведённое петровским запретом бород на его современников, представим себе, что нынешнее правительство в одночасье повелело всем гражданам страны… ходить нагишом по улице, сурово штрафуя за ношение одежды и сурово преследуя одетых! Пётр запретил также изготовление и ношение в городах русской одежды, обязав жителей городов носить отныне венгерское и немецкое платье, европейские сапоги и башмаки (образцы новой одежды были выставлены на площадях).
Было изменено летосчисление и календарь: 7207 год от сотворения мира было теперь велено считать (как в Европе) 1700-ым годом от рождества Христова, отмечать начало года с первого января (а не с сентября, как раньше) и украшать ворота елями и соснами. В России, как в Англии, вводился юлианский календарь (тогда как в других европейских странах уже действовал более точный григорианский календарь). Пётр, ввёл ордена в качестве мер поощрения за заслуги, гербовую бумагу для составления всех официальных актов.
По словам С.Т. Жуковского и И.Г. Жуковской: «Быт знатных московских семей переворачивался вверх дном; то, что ещё вчера было недопустимым «срамом», становилось обязательным… Борьба со стариной продолжалась до конца петровского царствования. Гонениям подверглось множество обычаев: русский способ выделки кожи, традиционные конструкции кораблей, застройка городов деревянными зданиями и даже – обычай хоронить покойников в дубовых гробах».
Таким каскадом нововведений, воспринятых обществом, как вселенская катастрофа и символически совпавшим с началом XVIII века, началась эпоха петровских реформ.
Пётр I и Иван IV
В 1721 году голштинский герцог Карл-Фридрих, живущий в Петербурге, желая польстить императору, воздвиг арку в честь Петра I, украшенную портретами Ивана IV с надписью «Incepit» (начал) и Петра I с надписью «Perfecit» (усовершенствовал). Эта арка очень пришлась по душе самодержцу России. Пётр говорил об Иване Грозном: «Этот государь – мой предшественник и пример. Я всегда принимал его за образец благоразумия и храбрости, но не мог ещё с ним сравняться».
И в самом деле, очень многое роднит двух знаменитых самодержцев: общая философия власти (отождествление государства и своей персоны, восприятие всех подданных, как своих холопов), крайний деспотизм и жестокость, и даже многие сходные обстоятельства биографии. Иван IV вёл безуспешную борьбу за завоевание Прибалтики (Ливонская война), а Петру I в ходе Северной войны удалось осуществить эту задачу. Иван IV был первым московским царём, Пётр I – первым петербургским императором. Иван IV в приступе ярости убил своего сына Ивана, Пётр I – с расчётливой жестокостью приказал умертвить своего непокорного сына Алексея. «Опричное братство» Ивана IV – с его зловещим пародированием церковной жизни, кощунствами, зверствами, оргиями, «чинами», издевательски напоминающими церковные, и вызывающее у современников ассоциации с «воинством сатанинским», чрезвычайно напоминает «всешутейший и всепьянейший Собор» Петра I, с похожим беспредельным цинизмом и бесстыдством, изощрёнными глумлениями над русской культурой и православными обычаями, со своим шутовским «уставом» и «чинами», с пьяными оргиями и богохульными выходками. Этот «Собор» также воспринимался современниками, как сборище слуг Антихриста. Иван IV, стремясь сломить сопротивление общества и власть обычаев, создал опричное войско, а Пётр I со сходными целями – гвардию.
Подобно Ивану IV, Пётр I рано лишился отца и в детстве пережил страшные потрясения, дворцовые перевороты, поразившие его детское воображение и расшатавшие психику, и на всю жизнь затаил подозрительность, злобу, жестокость и недоверие к людям. И Иван I V, и Пётр I были великолепными «лицедеями», умевшими разнообразить творимые ими зверства комическими фарсами и артистическими выходками. Иван IV страдал психическими расстройствами; похожие признаки (приступы дикой ярости, подёргивания лица) часто наблюдались и у Петра I. Иван IV имел множество жён и любовниц, был склонен к разврату и оргиям, многих своих жён убивал и ссылал в монастырь; похожие черты были присущи и Петру I, заточившему в монастырь свою первую жену Евдокию Лопухину и имевшему несчётное множество «метресс».
В натуре Ивана IV были причудливо смешаны артистизм, одарённость различными талантами и палаческое изуверство, склонность к кровавым эффектам. Точно также и Пётр I – одарённый, талантливый, беспощадный и артистичный, не только сам любил пытать людей в застенках и рубить головы своим жертвам, но и проявлял изуверскую изобретательность и своеобразный изощрённый юмор в кровавых расправах. Так, он приказал после расправы над стрельцами в 1698 году, повесить 195 стрельцов прямо под окном кельи своей сестры и соперницы Софьи в Новодевичьем монастыре; а, раскрывши заговор стрелецкого полковника Цыклера в 1696 году, приказал извлечь из земли гроб давно умершего боярина Ивана Милославского (главу ненавистного Петру клана), поставить под плахой и открыть его, чтобы кровь казнимых капала прямо в гроб.
Если Иван IV казался Петру I близким по целям и духу правителем и образцом государя, чьё дело он старался в меру сил достойно продолжать, то вновь эти два самодержца причудливым образом «встретились» уже в жуткую эпоху Сталина, считавшего их наиболее замечательными государями в российской истории. Угождая Сталину, советские режиссёры снимали фильмы, прославлявшие «прогрессивных царей» Ивана IV и Петра I. А талантливый «придворный» писатель А.Н. Толстой в своих произведениях об Иване IV и Петре I проводил мысль о титанических усилиях этих славных царей, вопреки сопротивлению своего предательского окружения и многочисленным заговорам, продвигавшим «отсталый» и «реакционный» русский народ к «светлому будущему». Параллели, присутствовавшие в этих произведениях, с реалиями большевистского режима 20-ых – 30-ых годов XX века были достаточно прозрачны и очевидны.
6.1.2. Войны и завоевания петровской России
Большая часть царствования Петра I (32 года из 36) протекала в войнах России с Турцией и Швецией. Это и обусловило характер и цели реформ: государство перестраивалось под нужды армии и войны. Целью войн были завоевания, целью реформ – создание огромной боеспособной армии, а всё управление страной протекало под знаком «чрезвычайщины» и милитаризации жизни. Всеобщая мобилизация и насилие стали обычными средствами управления.
В ходе «Великого посольства» Петру удалось сколотить Северный союз из Саксонии (и Речи Посполитой), Дании и России против Швеции. Едва заключив мир с турками, Россия в 1700 году включилась в Северную войну со Швецией.
В то время шведский флот господствовал в Балтийском море, шведская армия была лучшей в мире, а на шведский престол только что сел юный король Карл XII – гениальный полководец и бесстрашный рыцарь по натуре. Быстро победив и выведя из войны Данию, Карл XII поспешил к Нарве, осаждённой русскими войсками. Пётр I бежал от своего войска, которое, будучи в четыре раза многочисленнее десятитысячного шведского, было наголову разбито и капитулировало 19 ноября 1700 года, сдав противнику знамёна и артиллерию. Эта позорная и сокрушительная «конфузия» продемонстрировала слабость русских войск и, с одной стороны, позволила Карлу XII перебросить силы против Саксонского курфюрста и польского короля Августа II, с которым он сражался до 1707 года (в итоге победив и его), а, с другой стороны, заставило Петра начать реорганизацию армии и обусловленные ею реформы всей жизни страны. Пока Карл XII громил саксонские и польские армии, Пётр I, имея колоссальный перевес сил, неторопливо захватывал шведские крепости в Прибалтике (Нотебург, Ниеншанц, Дерпт, Нарву), основал (в 1703 году) Санкт-Петербург и Кронштадт, ставшие опорными пунктами российской экспансии на Балтике.
Перелом в войне наступил в 1707–1708 годах, когда, выведя из «строя» последнего российского союзника – Августа II – и посадив на престол Речи Посполитой своего ставленника Станислава Лещинского, Карл XII взял Гродно и Минск и двинулся на Москву. Он заключил широкий союз с силами в России, недовольными кровавой политикой Петра I: на его сторону перешли запорожские и донские казаки (на Дону в это время как раз бушевало восстание под руководством атамана Кандратия Булавина) и украинцы во главе с гетманом Иваном Мазепой. Мазепа надеялся, что в столкновении Швеции и России Украине удастся вернуть свою утраченную свободу и независимость.
Однако эта коалиция оказывалась недолгой: действуя стремительно и невероятно жестоко, русские каратели уничтожили Запорожскую Сечь (вырезав там поголовно всех, включая женщин и детей) и разрушили резиденцию Мазепы город Батурин (перебив всех его жителей в устрашение непокорным украинцам), в котором хранилось продовольствие и боеприпасы, столь необходимые шведской армии. Четыре тысячи украинцев, пришедшие к Карлу XII вместе с гетманом, и десять тысяч донских и запорожских казаков не могли поправить дела. Тем более, что в 1708 году Пётр нанёс поражение у деревни Лесной шведскому корпусу генерала Левенгаупта, спешившему на соединение с армией короля с огромным обозом. Шведы голодали и остались без боеприпасов под осаждённой ими Полтавой.
В Полтавской битве 27 июня 1709 года сошлись 47 тысяч русских солдат при 102 пушках и 30 тысяч шведских солдат (считая казаков) при 39 пушках. Положение шведов ухудшало то, что, во-первых, их орудия фактически не имели боеприпасов и бездействовали в ходе сражения, а, во-вторых, герой и любимец армии непобедимый Карл XII был тяжело ранен незадолго до битвы и не смог лично возглавить свою армию. Тем не менее шведы отважно напали на русские укрепления, но после долгого, ожесточённого сражения, были отброшены, отступили к Днепру, где были вынуждены капитулировать. Восемь тысяч шведов погибло на поле боя, 16 тысяч сдались в плен. Непобедимая доселе армия перестала существовать, а Карл XII с Мазепой бежали к турецкому султану.
Полтавская битва изменила весь ход войны и соотношение сил в Восточной Европе. Если незадолго до этой баталии Пётр униженно просил Швецию о мире, обещая уступить ей почти всю завоёванную им Прибалтику, то теперь он перешёл к активным наступательным действиям, возглавив восстановленный Северный союз, в который вновь вступили Дания, Саксония, а также Ганновер. Со шведской империей было навеки покончено. Русские войска захватили всю Прибалтику, вступили на территорию Речи Посполитой и Северной Германии, нанесли поражение шведской эскадре в битве у мыса Гангут (1714 г.). При этом голландцы и англичане обучали и вооружали армию Петра I, английский флот оказывал ему активную поддержку (несмотря на наличие торгового и военного договора между Англией и Швецией), поскольку Швеция была стратегической союзницей Франции (их главного соперника), а английским и голландским купцам был нужен прямой доступ к русским рынкам и русское зерно.
Пребывая в эйфории от победы под Полтавой, Пётр I решил воевать на два фронта и неосторожно ввязался в новую войну с Османской Империей. В 1711 году русская армия вторглась в пределы Турции и устремилась к Дунаю, стремясь захватить Валахию и Балканы (Сербию и Грецию). Однако этот Прутский поход закончился катастрофой: русское войско во главе с царём было окружено в степи без воды и продовольствия втрое превосходящими силами турок и капитулировало. Только подкупив турецкого полководца (которого за это султан казнил по его возвращении в Стамбул), Пётр сумел спасти себя от гибели, а свою армию от полного истребления. По условиям мирного договора, туркам возвращался Азов, разрушалась русская крепость в Таганроге, Россия отказывалась препятствовать возвращению Карла XII на родину (в 1718 году отважный король погиб, воюя с Норвегией) и отказывалась вмешиваться в дела Речи Посполитой (последнее обещание, разумеется, не было выполнено).
В 1713–1720 годах русские войска захватили Финляндию, высадились в Швеции. Однако обе страны были обессилены и стремились к прекращению войны (на том же настаивали и великие державы: Англия и Австрия, встревоженные чрезмерной агрессивной экспансией России). В 1721 году в городе Ништадте был заключён мир, положивший конец страшной Северной войне. По нему к России отходили огромные земли в Прибалтике: Ингерманляндия, Лифляндия, Эстляндия и Карелия, города Выборг, Рига, Ревель, Дерпт и Нарва. Финляндия возвращалась Швеции, которой Россия выплачивала в качестве возмещения за отнятые земли фантастическую сумму в два миллиона талеров.
Итоги Северной войны радикально изменили как внешнюю, так и внутреннюю политику России. Внутри страны война (и колоссальная денежная контрибуция в пользу Швеции) породила не только реформы, но и полное разорение купечества и крестьянства, привело к колоссальным бедствиям народа, превратило Россию в большую казарму, живущую по законам «чрезвычайщины», обесценила человеческую жизнь. А во внешней политике победа в Северной войне означала начало имперской политики. Не случайно, в связи с подписанием Ништадтского мира, Пётр в 1721 году принял титул «императора». В то время в Европе была всего лишь одна Империя – Священная Римская Империя. Новый титул означал притязания России на мировое господство, начало интенсивнейшей внешней агрессии и борьбы за лидерство в Европе, выход за «исторические границы» России и захват земель и народов, никогда в состав России ранее не входивших.
Вот как оценивает последствия Северной войны для России Е.В. Анисимов: в ходе раздела завоёванных территорий Швеции «отчётливо проявились изменившиеся под влиянием блистательных побед на суше и на море претензии России. Во-первых, Пётр отказался от прежних обещаний союзникам ограничиться старыми русскими территориями, отторгнутыми шведами после Смуты начала XVII в. – Ингрией и Карелией. Занятые силой русского оружия Эстляндия и Лифляндия уже в 1710 г. были включены в состав России. Резко усилившиеся армия и флот стали гарантией этих завоеваний. Во-вторых, Пётр, начиная с 1712 г. стал активно вмешиваться в германские дела». Поддерживая тех или иных немецких князей штыками, выдавая русских царевен за немецких принцев (так, одну свою племянницу Анну он выдал замуж за герцога Курляндии, а другую – Екатерину – за герцога Мекленбурга, а своего сына Алексея женил на Вюртембергской принцессе), Пётр активно претендовал на контроль и постепенное подчинение Северной Германии (Голштинии, Курляндии, Мекленбурга и пр.).
В ходе Северной войны ослабевшая Речь Посполитая выступала уже не как мощная самостоятельная сила, а как разменная монета между Швецией и Россией. На её территории могучие соседи сражались между собой, навязывали ей марионеточных правителей. XVIII век станет веком заката Речи Посполитой, веком её всё возрастающей зависимости от Петербурга, и закончится её уничтожением, оккупацией и разделом. Сравнивая итоги Ливонской и Северной войны, можно заметить, что, если Ливонская война закончилась разгромом Руси, утверждением на Балтике Швеции и Речи Посполитой и во многом привела к Смутному времени в Московии, когда польский королевич едва не занял московский трон, то Северная война, напротив, завершалась упадком Речи Посполитой и ослаблением Швеции.
Подчинив Речь Посполитую и потеснив Швецию на Балтике, проникнув в Германию, Россия при Петре I окончательно превращается в «периферийную империю», встроенную в систему европейской политики, – империю, господствующую в Восточной Европе, снабжающую Западную Европу сырьём и хлебом и поставляющую для нужд европейской политики свою огромную армию (как не раз будет в XVIII и XIX веках). Играя роль имперского «жандарма» и метрополии для Азии и Восточной Европы, Россия, в силу своей социально-политической и экономической отсталости, в отношении Запада останется «полуколонией».
Захват земель в Прибалтике (в том числе, в нарушение всех договоров с союзниками, земель, никогда прежде не принадлежавших России), борьба за господство в Речи Посполитой и Германии, означало начало новой – имперской, агрессивной внешней политики России, вступившей в борьбу за мировое господство. Е.В. Анисимов отмечает: «Ништадтский мир 1721 г. юридически оформил не только победу России в Северной войне, а также приобретения России в Прибалтике, но и рождение новой империи – связь между празднованием Ништадтского мира и принятием Петром императорского титула прямая… Следствием уродливого слияния военно-политических и торговых интересов Российской империи стала русско-персидская война 1722–1723 гг., сочетавшаяся с попытками проникновения в Среднюю Азию. Знание конъюнктуры международной торговли убеждало Петра захватить транзитные пути торговли редкостями Индии и Китая. Завоевание южного побережья Каспия мыслилось Петром отнюдь не как временная мера. Русско-персидский мир 1723 г. привёл к присоединению значительных территорий Персии к России, строительству там крепостей». Персидский поход 1722 года и захват русскими войсками Дербента, Решта и Баку, южного и западного Прикаспия рассматривались Петром I как первый шаг к захвату Индии – поскольку без Индии не бывает мирового господства. В 1716 году был организован поход в Хиву – он закончился полным истреблением русской армии.
А в 1723 году император планировал отправить эскадру адмирала Д. Вильстера для овладения островом Мадагаскар, который должен был стать плацдармом для вторжения в Индию русских захватчиков. Однако, экспедиция не состоялась, а скорая смерть Петра I (и последовавшие за ней разрушение военного флота и полный финансовый крах России) отложили эти грандиозные замыслы на неопределённое будущее (следующая попытка захвата Индии будет предпринята лишь через 80 лет при Павле I).
Расплачиваться за имперское величие, мощь державы и непрерывные войны, разумеется, должен был народ России. По замечанию П.Н. Милюкова: «ценой разорения страны Россия возведена была в ранг европейской державы». Превращение Московского царства в Петербургскую империю означало не только рост внешнеполитических амбиций правителей России, но и новый виток их наступления на собственное общество (которое усиленно разграблялось и порабощалось под речи о необходимости завоеваний и всё более попадало под гипноз державного величия).
В.О. Ключевский отмечает, что на протяжении всей русской истории «внешнее территориальное расширение государства идёт в обратно пропорциональном отношении к развитию внутренней свободы народа». Однако эта имперская логика, столь обременительная и растлевающая для народа, была рискованной и для самодержцев, поскольку, если «слава, купленная кровью», (по словам М.Ю. Лермонтова) и мощь империи означали некую стабильность режима и давали ему оправдание в глазах подданных, то военные поражения вели к его дискредитации, реформам, революциям и взрывам общественного недовольства (что показали поражение в Крымской войне, вызвавшее «Великие Реформы» 1860-ых годов, поражение в русско-японской войне, вызвавшее революционный взрыв 1905 года, и поражение в Первой мировой войне, вызвавшее революцию 1917 года).
В середине XIX века А.И. Герцен так оценивал имперскую политику Петра I: «петербургский период не был продолжением исторической монархии – то было начало мощного, деятельного, не знающего узды деспотизма, равно готового и на великие дела, и на великие преступления. Одна-единственная мысль служила связью между петербургским периодом и московским – мысль о расширении государства. Всё было принесено ей в жертву: достоинство государей, кровь подданных, справедливое отношение к соседям, благосостояние всей страны».
Ценой чудовищных жертв и злодеяний, ценой усиления порабощения народа, Пётр I сумел захватить Прибалтику и земли Прикаспия. Своим наследникам он завещал продолжение наступления в Речи Посполитой и Германии, подчинение Дании, завоевание Константинополя, разгром Османской Империи и захват Причерноморья, Крыма и Балкан, проникновение в Среднюю Азию, завоевание Персии и Индии и, как итог, – создание всемирной империи. Лишь частично эти задачи оказались посильными для преемников императора, продолживших его дело и на протяжении двух веков пытавшихся осуществить эту программу.
6.1.3. Армия и флот
Армия была любимым детищем Петра I, а война – его любимым занятием. (И впоследствии самодержцы всегда были теснейшим образом связаны с армией – главной опорой их власти над завоёванным народом.) Постоянно воюющая страна непрерывно перестраивалась под нужды армии и войны (ибо нужны были огромные средства, люди, вооружения, техника, мощный бюрократический аппарат). Военные методы управления широко внедрялись в повседневную жизнь общества. Армия использовалась при переписи населения («ревизии»), сборе налогов, сыске и поимке беглых, административном управлении страной, принудительном сгоне населения на строительство новой столицы и рытьё каналов.
В каждой губернии и в каждом крупном городе размещался полк солдат, а военные власти контролировали и часто подменяли собой гражданские. Военный регламент стал основой всех других регламентов – столь любимого Петром жанра. В империи, созданной Петром, народ был при государстве, а государство – при армии. Именно армия стала для великого реформатора образцом при создании всех остальных «регулярных учреждений». Как отмечает Е.В. Анисимов: «Пётр был убеждён, что армия – наиболее совершенная общественная структура, что она – достойная модель всего общества… Простота военного устава, его очевидная эффективность на поле боя сеяли соблазн распространить военное начало и на гражданское управление, и на общество в целом. Внедрение военных принципов в гражданскую сферу проявлялось в распространении военного законодательства на систему государственных учреждений, а также в придании законам, определяющим работу учреждений, значения и силы воинских уставов…
Распространение воинского права на гражданскую сферу вело к применению к гражданским служащим тех же мер наказания, которым подлежали военные за преступления против присяги. В значительной степени поэтому ни до, ни после Петра в истории России не было издано такого огромного количества указов, обещавших смертную казнь за преступления по должности». Е.В. Анисимов подчёркивает «характерную для Петра-реформатора сознательную ориентацию на военные образцы, желание придать, государственной машине черты грандиозной военно-бюрократической организации, созданной и действующей как единый военный организм». По словам Е.В. Анисимова, военные регулярно использовались «в качестве эмиссаров царя, наделённых для исполнения своего срочного задания чрезвычайными полномочиями, что открывало им дорогу к применению репрессий и насилия в отношении как администрации, так и населения».
Таким образом, «механика» петровских реформ была следующей: нужды войны вели к военным реформам, а военные реформы, в свою очередь, «тащили» за собой все прочие модернизационные реформы и были для них образцом. Первые годы правления Петра I: неудача первого Азовского похода, катастрофа под Нарвой, стрелецкие восстания – ярко показали ему непригодность существующей армии для его великих завоевательных целей. Существовавшая армия была и недостаточно многочисленна, и мало боеспособна, и, самое главное, не вполне надёжна и лояльна самодержавию.
Зверски расправившись с вольнолюбивыми стрельцами и распустив стрелецкие полки, вскоре после нарвской «конфузии» Пётр начал полную реорганизацию армии, с тем, чтобы иметь в своём распоряжении огромную, обученную, дисциплинированную и вооружённую военную силу. К началу правления Петра русская армия насчитывала 115 тысяч регулярных солдат «иноземного строя» (25 рейтарских и 38 солдатских полков), 10 тысяч человек в дворянской коннице, а также вспомогательные отряды казаков, татар, калмыков и стрелецкие полки.
Помимо перевооружения, улучшения обучения и снаряжения армии, центральным моментом петровской военной реформы явилось введение нового принципа формирования армии – рекрутчины (введённая в 1705 году, она действовала до 1874 года). В соответствии с этим принципом солдаты пожизненно (точнее, на 25 лет, но так долго обычно никто не выживал!) набирались из крестьян (обычно один человек с двадцати дворов ежегодно). Рекрутская повинность идеально соответствовала крепостной системе, создавая рабскую армию с солдатами из крестьян и офицерами из дворян. Вырванные в молодости из своей родной среды, подчиняясь палочной дисциплине, рекруты, в отличие от стрельцов, были полностью зависимы от начальства, вполне покорны и могли с лёгкостью использоваться при подавлении народных восстаний. При рекрутском наборе вводилась круговая порука, основанная на коллективной ответственности закрепощённою населения.
Введение рекрутской системы легло невероятно тяжким бременем на крестьян и вызвало сильнейшее возмущение в их среде. Ведь раньше считалось, что крестьяне кормят «служилых людей» (дворян), которые защищают страну. Теперь же крестьяне должны были нести сразу тройную ношу: и кормить дворян, и нести государственные повинности, да ещё и служить сами, что противоречило всяким народным представлениям о справедливости. Провожая рекрутов в армию, родные с ними прощались, как с покойниками. Против массового бегства рекрутов правительство ввело драконовские меры. Рекрутов, забираемых в армию, заковывали в колодки, как преступников, а с 1712 года им, по указу Петра I, начали делать специальные наколки на левой руке в виде креста (эти наколки в народе называли «печатью Антихриста»). Было приказано ловить рекрутов, а человека, который видел беглого рекрута и не донёс властям, самого было велено истязать, забирать в армию, а его имущество конфисковывать в пользу казны. Кроме того, в случае побега рекрута, в армию забирали его родственников: действовала жесточайшая круговая порука.
К концу Северной войны удвоившаяся в численности петровская армия насчитывала 250 тысяч человек, став самой огромной армией в Европе. (При этом она не распускалась в мирное время, как прежде, но всё время содержалась за счёт казны.) 80 тысяч составляли пехотные полки, 42 тысячи – кавалерия, также имелось почти 500 орудий, инженерные и гарнизонные части и иррегулярные войска (казаки, татары, башкиры – всего до 70 тысяч человек). Полки объединялись в бригады, а те – в дивизии. Управление армией осуществляли Военная и Адмиралтейская коллегии, Генеральный штаб (во главе с генералом-фельдмаршалом).
Новой армии соответствовала и новая стратегия – не оборонительная, как раньше, а наступательная. Целью войны объявлялось теперь не взятие крепостей, но разгром армии противника. На смену редким смотрам армии, бывшим раньше, пришла непрерывная муштра, направленная на выработку автоматизма действий и беспрекословное исполнение приказов. Император стремился, вооружив армию новейшими достижениями военной науки и современным оружием, оторвав рекрутов от населения и поставив их под жёсткую власть начальства, воспитать прекрасных «машин» для выполнения поставленных задач: как борьбы с внешним неприятелем, так и для подавления внутренних восстаний.
За образец для перестроенной российской армии и её «Воинского устава» (написанного в 1716 году) Пётр I взял шведскую военную организацию. С 1705 по 1725 годы рекрутами были взяты более 400 тысяч человек (всего мужского населения в России тогда насчитывалось около шести миллионов, то есть каждый двенадцатый попал на эту службу, причём отбирали на неё самых здоровых и работоспособных). Созданная петровскими усилиями огромная «крепостная» армия могла дать лишь временный эффект, в перспективе грозя империи тем же тупиком, что и промышленность, основанная на крепостном труде. Ибо, как крепостные работники были не заинтересованы в результатах своего труда, пассивны и низко квалифицированы, так и рабы-рекруты позднее уже не могли противостоять профессиональным европейским армиям, более высоко мотивированным и, благодаря всеобщей воинской подготовке, обладающим более массовым мобилизационным резервом. Победы России в Северной войне прямиком вели страну к сокрушительному разгрому в Крымской войне. Однако эта стратегическая порочность петровской армии обнаружилась лишь сто лет спустя.
Важным нововведением Петра I явилось создание гвардии (напоминающей римских преторианцев и турецких янычар), основой которой стали его «потешные» полки – Семёновский и Преображенский. Состоящие из отборных дворян, приближенные ко двору, гвардейские полки активно использовались Петром при проведении различных мероприятий и стали важнейшим инструментом в его руках, а в дальнейшем они превратились в «ударную силу» бесчисленных дворцовых переворотов, став политическим и военным «авангардом» дворянского сословия, активно «лоббирующим» его интересы.
Любимым детищем Петра I стал созданный им флот. Е.В. Анисимов сравнивает создание флота в петровскую эпоху по своему значению и издержкам с современными космическими программами сверхдержав: безумно дорого было построить корабль, обеспечить его всем необходимым, обустроить гавань и подготовить экипаж. Заводы – парусные, канатные, лесопильные, металлургические – работали на флот; создавались многочисленные порты и морские учебные заведения.
В Россию ввозились корабельные мастера из Голландии, Венеции и Англии. Первый флот, построенный в 1696 году в Воронеже для взятия Азова, был уничтожен Россией по условиям мирного договора России с Османской Империей после неудачного Прутского похода. В 1702 году, закладкой Олонецкой верфи на реке Свирь и, чуть позже, Петербургской верфи, было положено начало строительству русского флота на Балтийском море. Всего за 20 лет при Петре I в России были построены 1104 корабля, созданы военные базы в Санкт-Петербурге и Кронштадте, начато рытьё нескольких каналов.
Однако этот, созданный второпях, флот был недолговечным, слабо маневренным, его экипажи были плохо подготовлены, и потому русские эскадры избегали крупных сражений со шведами, предпочитая атаковать галерами, брать противника на абордаж и побеждать числом, а не умением. Пётр I, стремясь к мировому господству, мечтал превзойти флотом не только Швецию, но и саму «владычицу морей» Британию. Конечно, этим амбициозным и фантастическим планам не суждено было пережить императора. Как замечает Б. Кагарлицкий: «Голландия, Британия и даже Испания с Португалией нуждались в мощном военном флоте для содержания и защиты флота торгового. Напротив, Россия, завоевав выход к морю, в кратчайший срок построила внушительные военно-морские силы, но значительный… торговый флот создать оказалась не в состояния вплоть до революции 1917 года… Русский флот на Балтике оказался вынужден охранять торговые пути для британских и голландских судов». В этом факте ярко видна вся парадоксальность созданной Петром I военно-полицейско-бюрократической империи, одновременно и претендующей на мировое военное господство, и экономически и социально зависимой от Западной Европы, предоставляющей своё сырьё и свою армию в распоряжение ведущих европейских держав!
Стремясь подготовить русские офицерские кадры, император отправил более тысячи юношей из дворянских семей учиться за границу. Благодаря этому к концу правления Петра I уже довольно значительную часть русского офицерского корпуса (две трети) составляли не иноземные наёмники (как раньше), а русские офицеры.
Создание военных заводов, строительство флота, двукратное увеличение численности армия, рытьё каналов, введение рекрутчины и постойной повинности тяжелейшим образом легли на плечи народа, разоряя его. По словам С.Т. Жуковского и И.Г. Жуковской: «Вооружение и снабжение этой армии (и одновременно строившегося флота) продовольствием и обмундированием требовало небывалых государственных расходов и небывалого же насилия над населением… Террор оставался главным средством, находившимся в распоряжении Петра. Борьба за исправное поступление денег в казну вылилась в настоящую войну царя против всей страны. Специальные прибыльщики изобретали всё новые прямые и косвенные налоги да казённые монополии, так что обыватели к концу Северной войны должны были платить чуть ли не за каждый свой шаг – и за рыбную ловлю, и за собственные бани, и за право носить бороду или исповедовать старую веру». Конечно, подобная тенденция существовала и в политике государства в XVII веке, но Пётр с немецкой педантичностью беспощадно упорядочил, развил её и приумножил, доведя до крайности. Если расходы на армию в XVII веке составляли меньше половины государственного бюджета, то к концу правленая первого императора они выросли до 80 процентов (!) – и это при троекратном (!) росте налогов!
Помимо рекрутчины особенно страдало население от жесточайших массовых трудовых мобилизаций на различные государственные работы (предвестники большевистских трудовых армий) и от «постойной повинности» – содержания у себя воинских частей за счёт местных жителей. Как пишет Е.В. Анисимов: «воинские части 200-тысячной армии размещались практически в каждом уезде страны… причём постойная повинность, ранее временная, становилась для большинства крестьян постоянной. Претворение в жизнь этой идеи Петра, заимствованной из практики «поселенной» системы Швеции и адаптированной к условиям России, стало тяжёлым бременем для народа. Недаром впоследствии наиболее эффективным средством наказания непокорных крестьян было как раз размещение в их домах солдат…» А «власть командира полка стала более полной, чем власть местной гражданской администрации. Военное командование не только следило за сбором подушной подати в районе размещения полка, в успехе чего оно было, разумеется, заинтересовано, но и исполняло функции «земской полиции»: пресекало побеги крестьян, подавляло вооружённой рукой сопротивление народа, а также осуществляло общий полицейский надзор за перемещениями населения, согласно введённой тогда же системе паспортов». Так, преодолевая упорное сопротивление своего «непонятливого» народа, Пётр I приблизился к своей желанной цели – превратить всю Россию в одну большую казарму.
6.1.4. Индустриализация по-петровски
С эпохи Петра I начинается систематическое и широкомасштабное вмешательство государства в хозяйственную жизнь. Первая в русской истории «индустриализация», проведённая в эти годы, диктовалась и обусловливалась, как и другие преобразования, логикой войны, милитаризации и чрезвычайщины. «Деньги суть артерия войны», – любил говорить Пётр I, а этих денег катастрофически не хватало.
По приказу императора были за четверть века построены более 200 мануфактур, обеспеченных трудом крепостных, работавших на государственный заказ, производивших обмундирование и вооружение для армии. Мощный экономический рывок позволил петербургской России одержать победу над шведами, но в перспективе вёл в тупик, поскольку рабский труд является малоэффективным и неквалифицированным, а военное производство, основанное на государственных заказах, было паразитическим наростом на общественном организме. Затраты на ведение непрерывных захватнических войн и на создание военной индустрии ложились непосильным бременем на плечи крестьянства, которое обеспечивало налоговые поступления в казну.
Пётр I указывал, что и где строить, что производить, с кем торговать и по какой цене. Так, запрещалось торговать с заграницей через Архангельск (можно было только через Петербург), строить каменные здания в старой столице Москве (возводить их можно было опять же лишь в Петербурге). Купцов Пётр приказал объединять в «кумпанства» – товарищества, действовавшие под полным контролем государства и осуществлявшие его цели.
Тенденция к созданию под эгидой государства промышленности, основанной на подневольном труде и ориентированной на военные нужды, появившаяся в XVII веке, при Петре I получила огромное развитие и была возведена в громадную и всеобъемлющую систему. По словам С.Т. Жуковского и И.Г. Жуковской: «Правительство оберегало мануфактуры от иностранной конкуренции, питало их казёнными заказами и не отягощало налогами, зато диктовало цены и щедро снабжало инструкциями и указаниями. Выращенные таким образом «капиталисты поневоле», пользовавшиеся крепостным трудом, могли обеспечить военные нужды государства, но не были способны обеспечить расцвет российской экономики».
Общими чертами «индустриализации по-петровски» было размещение новых мануфактур или возле источников сырья или рядом с театром военных действий, использование в качестве рабочей силы местных жителей, насильно прикреплённых к предприятиям, а в качестве мастеров – иностранных специалистов, закупка части нужной техники за границей (на деньги, вырученные за вывезенное из страны зерно). В ходе петровской индустриализации возникли новые отрасли промышленности: судостроение, производство шёлка, рафинада, цветная металлургия. Возникли несколько металлургических заводов на Урале, оружейные завода в Туле и Сестрорецке. На огромном Хамовном дворе в Подмосковье на реке Яузе – предприятии по производству парусины для кораблей, крупнейшем заводе России, – в 1719 году трудилось уже 1200 человек! В Москве были созданы Суконный двор и Канатный Двор. Выплавка чугуна выросла за 20 лет в пять раз (со 150 тысяч до 800 тысяч пудов в год) и почти достигла уровня Англии. Россия даже начала экспортировать металлы, парусину и полотно, хотя основными вывозимыми из неё на Запад товарами оставались древесина, лён, конопля, пенька и зерно.
Приглашаемым в Россию иноземным мастерам гарантировалось покровительство царя, высокое жалованье, свобода вероисповедания, освобождение от уплаты податей на десять лет. По приказу Петра было начато строительство нескольких каналов: Ладожского, Волго-Донского (который был завершён уже при большевиках – и также подневольным трудом заключённых лагерей).
По словам В.Я. Хуторского: «Движущей силой индустриализации явилась не предпринимательская инициатива, а государственное принуждение. Рабочая сила формировалась путём приписки к казённым и частным мануфактурам государственных, дворцовых и монастырских крестьян. Частные заводы должны были выполнять заказ правительства, купцов в принудительном порядке объединяли в компании, обременяли тяжёлыми налогами, заставляли переселяться в Петербург и вести через него торговлю. Продажа соли и табака, экспорт самых выгодных товаров – пеньки, дёгтя, смолы, поташа, конопляного семени, юфти, (дублёной кожи) – стали государственной монополией. Такие меры разорили половину богатейших купцов».
Впрочем, в конце своего правления Пётр I начал передавать кое-какие государственные заводы в частные руки, освобождать уцелевших купцов от ряда повинностей и давать им ссуды и сократил число государственных монополий. Частным лицам было дозволено отыскивать руды и строить предприятия по их добыче. В январе 1721 года особым указом дворянам и купцам было разрешено прикупать к своим предприятиям деревни, крестьян которых стали именовать «посессионными» (владельческими), Такие предприятия, впрочем, по-прежнему полностью контролировались государством, которое устанавливало им план производства и цены на продукцию. А для посессионных крестьян работа на заводах заменяла барщину и была столь же обязательной, что делало ненужным и маловероятным внедрение изобретений, заменяющих живой ручной труд механическим. Так называемые «частные» предприниматели, фактически, являлись лишь правительственными агентами, а работники промышленности оставались крепостными людьми.
Хотя тотальный государственный контроль был установлен в петровскую эпоху в основном над промышленностью и торговлей, это не означает, что сельское население полностью избежало отеческой опеки государства: рекрутские наборы, постойная повинность и втрое возросшие за двадцать лет налоги дополнялись для него многочисленными трудовыми повинностями – государственной барщиной: строительством Петербурга и различных крепостей, рытьём каналов, сооружением кораблей. Мобилизованные трудовые армии крестьян отрывались от своих хозяйств, и десятки тысяч людей погибали от кошмарных условий труда и болезней.
Петровские реформы выстроили в экономике колоссальную централизованную систему государственных монополий, повинностей, предписаний, откупов, заказов, принудительных мобилизаций. Административный диктат и насилие, милитаризация труда, коррупция, рабство и чисто экстенсивный путь развития – на этих основах создавалась российская промышленность. Естественно, что технические новшества в ней слабо развивались, а качество изделий российских мануфактур было намного ниже, чем у зарубежных. Продукция промышленности была рассчитана, в основном, не на потребление населением, а на военные нужды.
По указу Петра, было запрещено ввозить в Россию те виды товаров, которые производились в стране (на них были введены пошлины в 75 процентов, делающие такой ввоз невозможным). Благодаря введению государственной монополии на продажу соли, государство смогло увеличить цены на неё вдвое (получив сто процентов прибыли), а благодаря монополии на продажу табака – 800 процентов прибыли.
Сращивание государства с промышленностью и торговлей носило двухсторонний характер, идя «сверху» (через назначение государством своих агентов – откупщиков, введение монополий, раздачу предпринимателям крестьян, кредитов, заказов, сырья) и идя «снизу» – через подкуп чиновников купцами и промышленниками, их тесное переплетение. Созданную в России усилиями Петра I промышленность хорошо охарактеризовал Б. Кагарлицкий: «Правительство оказалось не только, по выражению Пушкина, единственным европейцем в России, но и её первым капиталистом. Двор управлял не только политической, но и деловой жизнью страны. Государственный грабёж – внутри и вне собственной страны – оказывался наиболее эффективной формой первоначального накопления капитала. Одновременно происходило и постоянное перераспределение средств с их частичной приватизацией в пользу петербургской элиты. Формы приватизации были самые разнообразные – от раздачи имений и крестьян, предоставления государственных контрактов до разворовывания казённых денег. Там, где государство грабит, – подданные воруют». Поэтому воровство стало не каким-то злоупотреблением в формирующейся экономике петербургской империи, а одной из форм её обычного повседневного существования.
Высокие налоги на купечество и принудительное сколачивание по приказу царя «кумпанств» (компаний), установление заниженных закупочных цен на товары, поставляемые купцами и промышленниками в казну (потом государство перепродавало их по сильно завышенным ценам), привело к тотальному разорению купечества в годы петровских реформ. Принудительно заставляя купцов переселяться в непригодный для жизни и торговли Санкт-Петербург (где отсутствовало жильё, торговые помещения, рабочие руки, инфраструктура) и запрещая торговлю через Архангельск, император нанёс смертельный удар по благосостоянию русского купечества и по всему населению русского Севера, подорвал традиционные источники их дохода. Купеческие капиталы нещадно высасывались бюрократическим государством посредством непрерывных монополий, налогов, переселений, искусственных ограничений торговли. В годы правления Петра из 226 богатейших купцов России в этом сословии остались лишь 104 человека; прочие разорились и были вынуждены сменить сословную принадлежность. Разорение городов, упадок купеческих родов, гибель остатков частной торговли и свободного предпринимательства – та часть цены, заплаченной за победу в Северной войне, которую купцы и ремесленники разделили с разорённым и порабощённым крестьянством.
Но и победа в войне со шведами ничего принципиально не изменила в экономической политике государства. Как подчёркивает Е.В. Анисимов, ранее (до конца Северной войны) «Россия не знала органов управления торговлей и промышленностью. Как раз создание и начало деятельности Берг-, Мануфактур-, Коммерц– коллегий и Главного магистрата составляло суть происшедших перемен. Эти бюрократические учреждения явились институтами государственного регулирования национальной экономики, органами осуществления торгово-промышленной политики самодержавия на основе меркантилизма», которая отличалась «необыкновенной интенсивностью промышленного строительства силами государства и на его средства, но прежде всего особенной жёсткостью регламентаций, разветвлённой системой ограничений, безмерной опекой над торгово-промышленной деятельностью подданных». А указ о посессионных крестьянах от 18 января 1721 года, по Е.В. Анисимову, «знаменовал собой решительный шаг к превращению промышленных предприятий, на которых зарождался капиталистический уклад, в предприятия крепостнические, в разновидность феодальной собственности…» Таким образом, заключает историк, «промышленность России была поставлена в такие условия, что она фактически не могла развиваться по иному, чем крепостнический, пути. Доля вольнонаёмного труда в промышленности после этих указов стала резко падать… Победа подневольного труда в промышленности определила нараставшее с начала XIX в. экономическое отставание России… В то время как в развитых странах Западной Европы буржуазия уже громко заявляла о своих претензиях к монархии и дворянству, в России шло попятное движение: став, душевладельцами, мануфактуристы стремились повысить свой социальный статус путём получения дворянства, жаждали слиться с могущественным привилегированным сословием, разделить его судьбу. Процесс превращения наиболее состоятельных предпринимателей – Строгановых и Демидовых – в аристократов – наиболее яркий из типичных примеров».
Начиная с петровских реформ, государство начинает систематически насаждать в России промышленность и буржуазию (в целях снабжения армии) точно также, как парой веков раньше оно «насадило» в России крепостное право и служилое дворянство. Пётр I своей экономической политикой решал две взаимосвязанные задачи: во-первых, создание военной промышленности, способной снабдить всем необходимым армию имперской России, а, во-вторых, встраивание страны в мировую экономику в качестве «периферийной империи», поставляющей на Запад дешёвое зерно и сырьё.
По мнению Б. Кагарлицкого, «капитализм в России развивался не столько в результате естественных процессов, сколько под давлением извне: страна должна была модернизироваться, стать капиталистической, чтобы удовлетворять потребностям мироэкономики». Все зародыши «свободного капитализма» (частное предпринимательство, свободные капиталы, свободные рабочие руки, инициатива, свободная конкуренция, технические усовершенствования) были окончательно задушены и заменены капитализмом государственным, порождённым государством, сращенным с ним, опирающимся на принудительный труд, государственные заказы и военные цели. Подобный путь развития экономики (как и армии) в перспективе вёл в тупик и в пропасть и был чреват страшными катастрофами, отбрасывая страну на века назад. Правда, в краткосрочной перспективе он позволял империи, чудовищными усилиями и за счёт неимоверных мук и страданий народа, решать свои агрессивно-экспансионистские задачи. Однако те же самые причины, которые позволили Петербургской Империи в начале своего существования победить в Северной войне, в финале с неизбежностью вели её (полтора-два века спустя) к катастрофическим поражениям в Крымской войне (1853–1856 гг.) и русско-японской войне (1904–1905 гг.) и к революционному взрыву невероятной силы. Осуществляя «чудо» своей индустриализации, Пётр I (как и во всех других своих преобразованиях) закладывал в фундамент Петербургской Империи мину замедленного действия чудовищной силы.
6.1.5. Реформы системы управления государством
Северная война показала Петру I не только низкую боеспособность русской армии и слабость промышленности, но и негодность системы управления. Взяв за образец шведскую модель государства и стремясь к максимальной централизации, специализации и регламентации управления, молодой император начал создавать своё «регулярное государство». На смену Земским Соборам, Боярской Думе и приказной системе шли новые учреждения. Как подчёркивает Е.В. Анисимов: «Пётр, исходя из концепций рационалистической философии… и традиционных представлений о роли самодержца в России, придавал огромное значение писаному законодательству, он искренне верил в то, что «правильный закон», вовремя изданный и последовательно осуществлённый в жизни, может сделать почти всё, начиная со снабжения народа хлебом и кончая исправлением нравов. Именно поэтому законодательство петровской эпохи отличалось ярко выраженными тенденциями ко всеобъемлющей регламентации, бесцеремонным вмешательством в сферу частной и личной жизни, выполняло функции назойливой «полиции нравов»… Закон реализовывался лишь через систему бюрократических учреждений. Можно говорить о создании при Петре подлинного культа учреждения, административной инстанции. Ни одна общественная структура – от торговли до церкви, от солдатской казармы до частного дома – не могла существовать без управления, контроля или наблюдения со стороны специально созданных органов общего или специального назначения».
Законодательство, которое регламентирует каждый шаг, каждый вздох подданных, и государственная машина, работающая как часы – таким был идеал Петра I, не устававшего реформировать бюрократические учреждения и плодить новые и новые регламенты для всех категорий населения на все случаи жизни. По словам Е.В. Анисимова: «Пётр последовательно стремился к созданию целой иерархии регламентов… Обобщив опыт шведской государственности и с учётом некоторых специфических сторон русской действительности, он создал не имеющий в тогдашней Европе аналогов своеобразный регламент регламентов – Генеральный регламент 1719–1724 годов, содержавший самые общие принципы работы бюрократического аппарата. Эти общие принципы применительно к отраслям развивались и детализировались в регламентах отдельных учреждений, а работа каждой категории чиновников, численность которых увеличилась в 3–4 раза за время реформ, определялась своей инструкцией».
Будет верным сказать, что Пётр создал не просто Российскую Империю, но империю военно-полицейски-бюрократическую, империю, в которой бюрократия многократно умножилась и стала играть ключевую роль, армия была признана образцом для подражания в повседневной жизни и стала оплотом режима, а полиция была, по яркому выражению Петра I, «душой гражданства». Комментируя эту мысль Петра I, Г. Флоровскнй поясняет её так: «Полицейское государство есть не только и даже не столько внешняя, сколько внутренняя реальность. Не столько строй, сколько стиль жизни. Не только политическая теория, но и религиозная установка. «Полицеизм» есть замысел построить и «регулярно сочинить» всю жизнь страны и народа, всю жизнь каждого отдельного обывателя, ради его собственной и ради «общей пользы» или «общего блага». «Полицейский» пафос есть пафос учредительный и попечительный». Стремление всё поставить под опеку и контроль со стороны самодержавия пронизывало все мероприятия императора, воодушевлённого полицейско-бюрократической утопией и обладающего невероятной властью и могучей энергией для её воплощения в жизнь.
Пётр стремился преобразовать государство с тем, чтобы оно, в свою очередь, преобразовало общество. Как констатирует Е.В. Анисимов, «в условиях российского самодержавия, когда ничем и никем не ограниченная воля монарха единственный источник права, когда чиновник не ответственен ни перед кем, кроме своего начальника, создание бюрократической машины стало и своеобразной «бюрократической революцией», в ходе которой был запущен вечный двигатель бюрократии… Начиная с петровских времён он начал работать по присущим ему внутренним законам, ради конечной цели упрочения своего положения… Достойно примечания, что в первые года после смерти Петра некоторые государственные деятели с тоской вспоминали «золотые времена» приказов, и их знаменитая «московская волокита» представлялась простой, как огурец, по сравнению с чудовищем бюрократии, рождённой петровскими государственными реформами».
Наконец, подытоживая суть петровских государственных преобразований, Е.В. Анисимов резюмирует: «Петровская эпоха примечательна окончательным оформлением самодержавия. Ликвидация последних следов сословного представительства, создание свода законов, закреплявших право личности управлять, владеть миллионами на основании своей юридически ничем не ограниченной воли, – суть главных процессов, происшедших при Петре». Следует уточнить, что в этом отношении, как и в других, Пётр I не столько выступал новатором и предлагал нечто небывалое, сколько систематизировал и доводил до логического завершения начатое в XVII веке. Так, полки «иноземного строя», Соборное Уложение и мануфактуры существовали и в XVII веке; в XVII веке также сложился русский абсолютизм, и приказная бюрократия, и регламентация жизни стали играть всё большую роль в государстве; наконец, никоновская реформа подорвала идею «Третьего Рима» и заставила московитов учиться у иноземцев, а отмена местничества при Фёдоре Алексеевиче заменила аристократические принципы управления бюрократическими. Но именно Пётр энергично создал колоссальную крепостную армию и крепостную промышленность, довёл самодержавный абсолютизм, бюрократизацию всей жизни, а также копирование иностранных обычаев до логического завершения.
Какими были новые бюрократические учреждения, пришедшие волей Петра I на смену институтам Московской Руси? Вместо громоздкой и запутанной системы приказов, Пётр по шведскому образцу в 1720 году учредил девять коллегий: центральных бюрократических учреждений, ведавших военными, морскими и торгово-промышленными делами. Каждая имела свой регламент, чётко определивший её компетенцию и функции, и возглавлялась президентом коллегии. Пётр особо повелел, чтобы каждый чиновник коллегии при обсуждении вопросов протоколировал и подписывал своё мнение, «ибо сим всякого дурость явлена будет».
Центральным, ключевым органом управления, сменившим Боярскую Думу и руководившим работой всех коллегий и губернаторов, был Сенат, созданный в 1711 году. Если в Думе чины наследовались, то сенаторы назначались царём и были не аристократами, а чиновниками. Сенат должен был обсуждать и подготавливать законы, осуществлять контроль за чиновниками, ведать их назначением, выступать в роли высшей судебной инстанции и управлять страной во время отсутствия императора. Сенат осуществлял связь между различными коллегиями и губерниями. Е.В. Анисимов отмечает: «Постоянный состав сенаторов, элементы коллегиальности, личная присяга, программа работы на длительный период, строгая иерархичность управления, во главе которого был поставлен Сенат, создание канцелярии Сената с большим штатом служащих, контор – специализированных филиалов Сената – всё это подтверждало возрастание значения бюрократических принципов, без которых Пётр не мыслил ни эффективного управления, ни самого самодержавия, как политического режима личной власти». Во главе Сената стоял генерал-прокурор, наделённый широкими полномочиями и подчинённый непосредственно императору.
Важным органом петровской политики был Преображенский приказ, позднее преобразованный в Тайную канцелярии. Её задачей была борьба с политической оппозицией и расправа с недовольными. Н.М. Карамзин в начале XIX века отмечал: «Тайная канцелярия день и ночь работала в Преображенском: пытки и казни служили средством нашего славного преобразования государственного». А в 1718 году Пётр I создал полицию в Санкт-Петербурге.
Император также изменил организацию внешнеполитического ведомства России. На смену эпизодическим посольствам, посылаемым в другие страны, пришли постоянные представительства России.
Важным инструментом государственной политики стала созданная Петром I по французскому образцу система прокуратуры. Прокуроры осуществляли контроль за соблюдением законности во всех центральных и многих местных учреждениях. Параллельно в 1711 году был создан орган тайного надзора – система фискалов. 500 фискалов во главе с генерал-фискалом были призваны тайно наблюдать за чиновниками. Существовали и особые церковные фискалы, именуемые «инквизиторами». Жалованье фискалам не платили: им причиталась половина (позднее – треть) штрафа, наложенного на осуждённых. Таким образом, доносительство сделалось в России важной и доходной профессией. Фискалы (это слово стало в России синонимом «ябеды», «доносчика» и «клеветника») были повсеместно ненавидимы и сами погрязли в коррупции, получая взятки посредством шантажа своих жертв. По словам Е.В. Анисимова: «Важно заметить, что, стремясь достичь своих целей, Пётр освободил фискалов, профессия которых – донос, от ответственности за ложные обвинения, что расширяло для них возможности злоупотребления властью». Кара фискалам полагалась лишь за недонесение на преступника.
В 1708–1719 годах были ликвидированы приказы, ведавшие теми или иными территориями, и созданы губернии. Россия была поделена на восемь губерний, а те на пятьдесят провинций, каждая из которых, в свою очередь, делилась на дистрикты. Каждая губерния должна была содержать и кормить определённый полк (чем устанавливалась тесная связь между воинскими частями и губерниями, а в гражданское управление вводилось военное начало).
Одновременно создавались (по приказу «сверху») «городские магистраты» – органы самоуправления. Как справедливо отмечает Е.В. Анисимов, эта городская реформа носила искусственный и чисто формальный характер: «Но эти магистраты ни по существу, ни по ряду формальных признаков не имели ничего общего с магистратами западноевропейских городов – действительными органами самоуправления. В сущности, в результате городской реформы был создан чисто бюрократический механизм управления, а представители посада, входившие в состав магистратов, рассматривались как чиновники централизованной системы управления городами, и их должности были даже включены в Табель о рангах. Судопроизводство, сбор налогов и наблюдение за порядком в городе – вот и все основные права, предоставленные магистратам».
Реформы государственного управления Петра I создали в России громоздкую и огромную систему чиновничества, скоро вышедшую из-под контроля императора. «Джинн» бюрократии стремительно вырвался из «бутылки». А спустя 100 лет продолжатель дела Петра Николай I вынужден был горько признать: «Россией правит не император, а столоначальники».
Современный историк В.Я. Хуторской отмечает: «Итак, все сословия, все люди были повёрстаны на государеву службу. Государство приобрело тотальный, всеохватный характер». Однако ни контроль над бюрократией, ни побуждение своих подданных к инициативе, о которой мечтал Пётр I, оказались для самодержавия непосильны. А реальность, как и следовало ожидать, обернулась мрачной пародией на петровскую полицейско-бюрократическую утопию. Суть этого парадокса превосходно выразил В.О. Ключевский: «Пётр надеялся грозою власти вызвать самодеятельность в порабощённом обществе и через рабовладельческое дворянство водворить в России европейскую науку, народное просвещение как необходимее условия общественной самодеятельности, хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно. Совместное действие деспотизма и свободы, просвещения и рабства – это политическая квадратура круга, загадка, разрешавшаяся у нас со времени Петра два века и доселе неразрешённая».
«Инициативные рабы» проявляли инициативу лишь в коррупции и казнокрадстве, а выстроенное по струнке общество не проявляло желания ни совершенствовать промышленность, ни развивать торговлю. А после смерти Петра I эта огромная чиновная система, основанная на насилии и «замкнутая» на харизматическую личность кровавого деспота, начала жить по своим узкокорыстным законам. Леность и ненависть рабов, мздоимство чиновников и одиночество тирана – таковы были реальные последствия воплощения в жизнь петровской утопии. Петровская мечта об упорядочении всего общества посредством чиновничества и полиции привела лишь к неразберихе в колоссальной машине бюрократических институтов.
Историк Н.И. Костомаров писал об эпохе Петра I: «Замечали современники, что из 100 рублей, собранных с обывательских дворов, не более 30 рублей шло действительно в казну; остальное беззаконно собиралось и доставалось чиновникам. Какой-нибудь писец, существовавший на 5–6 рублей жалованья в год, получивши от своего ближайшего начальника задание собирать казённые налоги, в четыре или пять лет разживался так, что строил себе каменные палаты».
Указ Петра I о престолонаследии
В 1722 году Пётр I специальным указом установил новый порядок престолонаследия, в сущности, означавший отмену всякого порядка. По нему трон России мог занять не только старший сын монарха (как было раньше), а любое назначенное государем лицо. Дело в том, что старый порядок наследования – от отца к сыну – сковывал Петра I, как и всякая традиция, полагая хоть какие-то границы его власти.
Собственного сына Алексея Пётр приказал убить за сопротивление своей политике. Он хотел назначить своим преемником собственную вторую жену Екатерину и даже короновал её, как императрицу. Однако вскоре он узнал об её измене ему с братом его прежней любовницы Анны Монс Вильямом Монсом (которого приказал тотчас казнить).
Окружённый хищной сворой своих соратников – беспринципных, жестоких интриганов, способных на любое злодеяние и предательство, жаждущих лишь власти и обогащения любой ценой, не видя ни в ком – даже в своей любимой жене (вознесённой им из солдатских любовниц и шлюх на вершину власти, а ныне подвергнутую опале) – бескорыстия, преданности, надёжности и готовности продолжать его замыслы, трагически ощущая полное банкротство и крах своей политики, Пётр сам так и не сумел воспользоваться собственным указом о престолонаследии. (По легенде, он написал лишь: «Отдайте всё…» – но имени не указал).
В этом указе самодержавный произвол достиг абсолютной вершины: разрушалась вековая традиция (в свою очередь, пришедшая на смену древнему «лествичному праву»), хоть как-то ограничивающая волю монарха. Но здесь же таилась опасность нестабильности и зависимости императора от собственного окружения. Ведь теперь на трон могли претендовать многие – им стоило лишь опереться на вооружённую силу, привлечь к себе посулами гвардейцев и совершить переворот. Таким образом, своим указом Пётр подготовил ловушку собственным наследникам и положил начало нескончаемой веренице дворцовых переворотов и цареубийств после его смерти. (К старому порядку престолонаследия, существовавшему до Петра, вернётся своим указом в 1796 году император Павел Петрович, сам на треть века отодвинутый от престола своей матерью Екатериной II, мужеубийцей и узурпаторшей).
Поэт Максимилиан Волошин так поэтически точно описал последствия петровского указа о престолонаследии:
«Зажатое в державном кулаке Зверьё Петра кидается на волю: Царица из солдатских портомой, Волк Меншиков, стервятник Ягужинский, Лиса Толстой, куница Остерман — Клоками рвут российское наследство… Пётр написал коснеющей рукой: «Отдайте всё…» Судьба же дописала: «… распутным бабам с хахалями их.»»Абсолютная и безбрежная власть самодержца, установленная Петром I, диалектическим образом делала государя заложником этой власти, ставила его в зависимость не от общества или традиции, как прежде, но – от гвардии, собственного окружения и любовников (любовниц), превращая трон российской империи в игрушку вооружённых мятежников, влиятельных европейских посольств или прихотей и похотей самодержца. Полная бесконтрольность императора делала единственной возможной формой общественного воздействия на власть и обратной связи между ними – цареубийство, которое и стало довольно обычным делом в России XVIII–XIX веков. А в дальней перспективе это вело к уничтожению в 1918 году всей царской семьи Романовых, ответившей по всем трёхвековым счетам самодержавия. Апофеоз абсолютизма оказался и преддверием, и причиной его краха, а сокрушительная победа, одержанная им над обществом – пирровой победой. По верному замечании одного из иностранцев, живших в петербургской империи, политический строй этой страны представлял собой «самовластие, ограниченное удавкой».
6.1.6. Сословная политика Петра Первого
Та же ориентация на победу в войне любой ценой, на выкачивание из общества всех сил и ресурсов, на регламентацию и бюрократизацию, которая характеризует петровские реформы управления государством, характерна и для его социальной политики в отношении сословий. Не считаясь ни с какими жертвами населения, поработив дворян, разорив купцов, уничтожив стрельцов и сокрушив духовенство, отняв все права у казаков, ужесточив крепостное рабство в отношении крестьян, Пётр последовательно и безжалостно шёл к осуществлению своих целей: победа в войне, создание мировой империи и полицейско-бюрократического «регулярного государства», в котором все люди «учтены», служат благу Державы, и каждый их шаг регламентирован.
Важнейшим документом эпохи Петра I стала изданная в 1722 году «Табель о рангах». Она чётко определяла положение военных и штатских «государевых людей», вводя 14 рангов военной, морской и гражданской службы. Табель предусматривала как обязательную пожизненную службу для всех дворян, так и присвоение дворянства чиновникам, достигшим определённого чина. Отныне «ранг» каждого человека в государстве, его «благородство» должны были определяться исключительно служебными заслугами. Поднявшись до восьмого ранга, любой «подлый» человек становился потомственным дворянином. Теперь почитался не род, не личность, а только чин человека, а дворянство активно пополнялось выходцами из других сословий.
Однако, по словам В.О. Ключевского, «демократизация управления сопровождалась усилением социального неравенства». Как отмечает Е.В. Анисимов, отныне «вместо принципа происхождения, позволявшего знатным служилым занимать сразу высокое место в обществе, армии и на службе, был введён принцип личной выслуги, условия которой определялись законодательством». Так, по словам Е.В. Анисимова, «Пётр стремился превратить довольно аморфную массу служилых «по отечеству» в военно-бюрократический корпус, полностью ему подчинённый и зависимый только от него…» и желал «связать само понятие «дворянин» с обязательной, постоянной требующей знаний и практических навыков службой».
Отныне дворяне были обязаны пожизненно служить Империи. Их дети посылались государством за границу и обязывались учиться (без справки об окончании школы и знании грамоты и математики священникам было запрещено венчать дворян). Самодержавие конструировало дворянское сословие и распоряжалось им в своих интересах. По верному замечанию Е.В. Анисимова: «В целом политика самодержавия в отношении дворянства была очень жёсткой, и бюрократизированное, зарегламентированное дворянство, обязанное учиться, чтобы затем служить, служить и служить, лишь с большой натяжкой можно назвать господствующим классом. Собственность дворян, так же как и служба, регламентировалась законом: в 1714 г., чтобы вынудить дворян думать о службе как о главном источнике благосостояния, ввели майорат (то есть наследование всего имения одним старшим сыном, без дробления – П.Р.) – запретили продавать и закладывать земельные владения, в том числе родовые. Дворянские владения в любой момент могли быть конфискованы в случае нарушения законов, что и бывало на практике».
Дворяне и чиновники были соединены Петром I воедино (как в Китае). По указу 1714 года о единонаследии имение отца мог наследовать лишь один из сыновей. При этом ликвидировались различия между поместьем и вотчиной, дворянством и боярством, запрещалось дробление имений. Главной же целью указа было принудить дворян идти на службу. Дворянам, не получившим наследства, дозволялось приобретать недвижимость только после семи лет военной службы или десяти лет гражданской или пятнадцати лет занятий торговлей и ремеслом. В случае доноса на дворянина, уклоняющегося от службы, доносчику переходило имущество «нетчика». Каждый дворянин должен был, начиная с десяти лет ежегодно ездить на военные смотры, а, начиная с пятнадцати лет нести пожизненную службу, начиная с должности рядового солдата. На смену эпизодическим явкам в дворянское ополчение, как было в XVII веке, пришла постоянная служба. Выходить в отставку дозволялось только по старости, увечью или болезни. Так, в обмен на некоторое расширение прав над крепостными, самодержавием на дворян возлагались многочисленные повинности, а вся их жизнь, одежда, занятия и собственность находились во власти государства и тотально регламентировались им.
Освобождение из-под тотального государственного гнёта, расширение своих привилегий и избавление от ига непосильной службы станет главной задачей дворянского сословия в XVIII веке и будет постепенно осуществлено в ходе череды дворцовых переворотов. Полтора века борьбы уйдёт на (частичное) превращение русских дворян из чиновников государства в аристократов. По словам Е.В. Анисимова, «подлинная эмансипация дворянства, развитие его дворянского (в европейском смысле этого слова) корпоративного сознания происходили по мере его «раскрепощения» в 30-е – 60-е года XVIII века, когда вначале был отменён майорат, ограничен срок службы, а затем последовал знаменитый манифест 1762 г., название которого говорит само за себя: «О даровании вольности и свободы российскому дворянству».
По поводу политики Петра I в отношении дворянства мудрый А.И. Герцен в середине XIX века прозорливо заметил: «Тем, что Пётр I окончательно оторвал дворянство от народа и пожаловал ему страшную власть над крестьянами, он поселил в народе глубокий антагонизм, которого раньше не было, а если он и был, то лишь в слабой степени… Этот антагонизм приведёт к социальной революции, и не найдётся в Зимнем дворце такого Бога, который отвёл бы сию чашу судьбы от России».
Если положение дворян, превращённых в безликих слуг самодержавия, при Петре I существенно ухудшилось, а их жизнь подверглась насильственной ломке и регламентации, то намного более сильно ухудшилось положение крестьян и других податных сословий. В петровскую эпоху происходит дальнейшее расширение крепостничества: дозволяется продажа крестьян без земли, а суд над ними и сбор податей переходит в руки помещиков. Крепостные по своему статусу были объединены с холопами – самой бесправной группой населения. Утроившиеся налоги, рекрутчина, постойная повинность, сгон на различные принудительные работы с неимоверной силой ударили по крестьянству.
К тому же вместо подворной подати в 1714 году была введена подушная – то есть налоги надо было платить не со двора, а с души мужского пола (включая младенцев и стариков), что реально ещё более утяжелило налоговый гнёт в полтора раза! За уплату подушной подати на принципах круговой поруки отвечала вся община. Не случайно требования отмены подушной подати и рекрутчины стали с этих пор главными лозунгами всех крестьянских восстаний. Процесс роста самодержавия всегда был тесно связан с ростом крепостничества и опирался на него, поскольку, лишая прав дворян и угнетая их, абсолютизм, в свою очередь, компенсировал это, позволяя дворянам делать то же самое со своими крестьянами. Такова была всеобщая круговая порука рабства, бесправия и насилия, окончательно сформированная в петровской России императором-тираном. В правление Петра I резко усиливается борьба с побегами крестьян и вводится паспортная система, по которой ни один крепостной не мог уехать на расстояние далее тридцати вёрст от своего места проживания без письменного разрешения помещика.
Не только крепостное крестьянство, но и черносошное испытало на себе весь ужас петровских преобразований. Как пишет Е.В. Анисимов: «Если сословие дворян оформилось во многом благодаря сознательной деятельности властей, то сословие государственных крестьян было просто-напросто впрямую организовано как какое-либо учреждение по задуманному царём плану… В число государственных крестьян вошли однодворцы Юга, черносошные крестьяне Севера, ясачные крестьяне – инородцы Поволжья, всего не менее 18 % податного населения». Вчера свободные люди – дворяне-однодворцы или жители коренных народов Поволжья, – теперь волей Петра были в одночасье объявлены «тяглыми людьми» и лишены свободы. По словам Е.В. Анисимова: «политика Петра в отношении категорий, вошедших в сословие государственных крестьян, была ориентирована на ограничение их прав, сужение их возможностей к реализации тех преимуществ, которыми они располагали как люди, лично свободные от крепостной зависимости».
Описывая сословную политику Петра I, Е.В. Анисимов отмечает «несомненную унификацию сословной структуры общества, сознательно направляемую рукой реформатора, ставившего целью создание так называемого «регулярного государства», которое можно охарактеризовать как самодержавное, военно-бюрократическое и полицейское». Одновременно с введением паспортной системы и подушной подати, император провёл в 1722–1724 годах перепись («ревизию») всего населения, которая показала, что общее население России составляет 15,5 миллионов человек, из которых привилегированные сословия – дворянство а духовенство – насчитывали один миллион, а 97 процентов населения живёт в деревне.
По повелению Петра были ликвидированы все последние категории свободных людей (уклонявшихся от государственного учёта и службы империи): «гулящие» (вольнонаёмные) люди отныне приписывались навеки к предприятиям, холопы, получившие после смерти господина «вольные», становились крепостными людьми. Ограничивалась свобода перемещения по стране, свобода в выборе занятий и свобода перехода из одного «чина» в другой.
Сравнивая предшествующую и петровскую эпохи, Е.В. Анисимов верно подчёркивает: «в допетровское время сильно сказывалось влияние обычаев, сословные границы были размыты, пестрота средневекового общества давала его членам, особенно тем, кто не был связан особенно службой, тяглом или крепостью, неизмеримо большие возможности реализации личности, чем регулярность общества Петра. Именно этим отличалось петровское время от предшествующего. Для законодательства Петра характерна более чёткая регламентация прав и обязанностей каждого сословия и соответственно этому и более жёсткая система запретов, касающихся вертикального перемещения».
Реформатор довёл идею о службе всех подданных государству (то есть государю) до логического завершения. До его реформ многочисленные «гулящие люди», беглые крестьяне, холопы, получившие «вольные», народы Сибири и Поволжья, дворяне-однодворцы, монахи и нищие (миллионы людей!) успешно уклонялись от государственного контроля и государственной службы. Переписав по «ревизии» всё население, введя паспортную систему и подушную подать, закрепив «гулящих людей» за заводами, «опустив» народы Поволжья и Сибири и однодворцев до положения тяглых государственных крестьян, превратив холопов, получивших «вольные», в крепостных, Пётр начал ожесточённую борьбу с «бесполезными» монахами (которых он именовал «тунеядцами» и мечтал извести) и с нищими. При нём была сильно сокращена численность монашества, резко ограничена возможность пострижения в монахи (было запрещено делать это всем, потенциально полезным империи людям, например, женщинам до сорока лет и почти всем мужчинам), а монастыри были обязаны лечить раненых, содержать отставных солдат и сирот. Император предпринял решительные шаги по борьбе с нищими (многие из которых впали в нищету благодаря его же политике): их арестовывали и пожизненно ссылали работать на мануфактуры, а за подачу им милостыни взимался большой штраф в пять рублей. Каждый неучтённый, неподконтрольный, вольный, бесполезный для империи человек представлял, по мнению Петра, вызов самодержавию. Каждого человека следовало «посчитать», учесть, закрепить за определённым делом и заставить служить державе, лишив всех прав и свобод и превратив в винтик в машине «регулярного государства». Всё это, разумеется, уничтожало как последние остатки жизни, инициативы, субъектности и вольности в обществе, так и последние зародыши частного, негосударственного капитализма, невозможного без вольнонаёмных работников и свободных капиталов.
Не обошёл своим вниманием Пётр I и городских жителей. Как считает Е.В. Анисимов: «Пётр решил унифицировать социальную структуру города, перенеся в него западноевропейские институты: магистраты, цеха и гильдии. Эти институты, имевшие глубокие корни в истории развития западноевропейского города, были привнесены в русскую действительность насильно, административным путём. Не преувеличивая, можно сказать, что ремесленники, купцы, горожане русских городов в одно прекрасное утро проснулись членами гильдий и цехов». Если на Западе цеха и гильдии были формами самоорганизации общества в отстаивании их прав, а магистраты – исполнительными органами городов-коммун, то в Петербургской Империи цеха и гильдии стали лишь формами объединения горожан, навязанными сверху государством для взимания податей. Всё городское население было разделено на две гильдии. В первую вошли наиболее богатые граждане, а во вторую, – мелкие лавочники и ремесленники, вдобавок ещё объединённые по профессиональному признаку в цеха. Поэтому новое сословное деление горожан было отчасти формальным (копирующим западные образцы и перенявшим западные названия), отчасти же приспособленным для фискальных целей (взимания налогов). По словам Е.В. Анисимова: «Деление на гильдии оказалось чистейшей фикцией, ибо проводившие его военные ревизоры думали прежде всего об увеличении числа плательщиков подушной подати. Поэтому число членов гильдий стало увеличиваться за счёт… нищих и деклассированных элементов. Почти сразу же фискальные цели городской реформы заслонили многие другие». Здесь, как и в других случаях, пышные западные названия и фасады прикрывали собой самодержавно-деспотический характер проводимых реформ, отбросивших страну на тупиковый путь развития.
6.1.7. Церковная реформа
Воспитанный в Немецкой слободе в ненависти к русской «старине» и православной вере, с юности окружив себя «всешутейшим и всепьянейшим Собором», прославившимся кощунственными и богохульными выходками, видя в духовенстве одного из своих главных врагов, в монахах – «тунеядцев», а в протестантизме (с его «дешёвой» и рациональной церковью, отсутствием почитания икон и святых, ликвидацией монастырей и, главное, властью монархов в религиозных вопросах) – идеал для подражания, Пётр радикально и жестоко взялся за церковную реформу.
Его задача была облегчена никоновской реформой и церковным расколом, ослабившими и обессилившими церковь и сделавшими её легкой добычей империи. А основными орудиями его церковной политики стали украинские монахи – европейски образованные, не имеющие связи с московским православным духовенством и традициями, лояльные к «латинству» и обосновывавшие абсолютистские притязания государства. Главным идеологом петровских реформ и помощником императора в деле поглощения церкви имперским государством стал украинский учёный монах, сочувствовавший протестантизму, ловкий и беспринципный царедворец и талантливый писатель и оратор Феофан Прокопович.
Не случайно именно с резания бород и введения нового календаря начались петровские реформы, а символическим актом принесения церкви в жертву государственным захватническим интересам стал его приказ переливать (ненужные) церковные колокола на (нужные) пушки после нарвской «конфузии»…
Полицейское бюрократическое государство Петра брало на себя контроль как за телом, так и за душами своих подданных. Главным и решительным ударом по церкви, нанесённым великим реформатором, явилась ликвидация в 1721 году патриаршества и замена его Святейшим Синодом – фактически, десятой государственной коллегией по делам религии, возглавляемой светским чиновником, назначенным императором и подчинённым ему. Е.В. Анисимов так объясняет сущность и последствия церковной реформы Петра I: «Уничтожение патриаршества отражало стремление Петра ликвидировать немыслимую при самодержавии петровского времени «княжескую» систему церковной власти. Объявив себя фактически главой церкви, Пётр уничтожил её автономию. Более того, он широко использовал институты церкви для проведения полицейской политики. Подданные под страхом крупных штрафов, были обязаны посещать церковь и каяться на исповеди священнику в своих грехах. Священник, также согласно закону, был обязан доносить властям обо всём противозаконном, ставшем известным на исповеди. Столь грубое вторжение государства в дела церкви и веры самым пагубным образом отразилось на духовном развитии общества и на истории самой церкви. Ведь нельзя забывать, что превращение церкви в бюрократическую контору, стоящую на охране интересов самодержавия, обслуживающую его запросы, означало уничтожение для народа духовной альтернативы режиму и идеям, идущим от государства. Церковь с её тысячелетними традициями защиты униженных и поверженных государством, церковь, которая «печаловалась» за казнимых, публично осуждала тиранов, стала послушным орудием государства и тем самым во многом потеряла уважение народа, впоследствии так равнодушно смотревшего на её гибель под обломками самодержавия, и на разрушение её храмов». По точному выражению Ф.М. Достоевского, после Петра Великого, официальная русская церковь пребывала «в параличе». А восприятие населением духовенства как государственных чиновников, агентов и шпионов объясняет массовый переход общества после 1917 года к воинствующему атеизму.
Конечно же, народом реформы Петра воспринимались определённо как насилие и оскорбление святынь, разрыв со всеми традициями страны, а за самим Петром I в народе прочно и обоснованно утвердилось прозвище «царь-Антихрист». Ликвидировав патриаршество и поставив на его место своих чиновников, обязав (под страхом штрафа) людей ежегодно ходить на исповедь (о чём выдавалась справка), а священников (под страхом смерти) доносить начальству на «крамольников», нарушая священную тайну исповеди, заставив духовенство присягать на верность императору, Пётр I достиг того результата, что казённая, полицейски-бюрократическая церковь превратилась в часть гигантской чиновничьей машины, утратившей остатки авторитета в народе и безжизненной, а народные религиозные искания уходили теперь исключительно в сектантство и старообрядчество. Если и раньше христианская религиозность большей части населения «святой Руси» была весьма поверхностной и обрядовой, то теперь она сменилась безразличием, апатией и враждебностью в отношении официальной церкви.
По словам В.Я. Хуторского: «Борьба «священства» и «царства» завершилась полным поражением церкви. Она была низведена на положение идеологического департамента». Курс, некогда избранный иосифлянским большинством русской церкви, привёл её к самоубийству и моральному краху. После петровских реформ церковь была обезглавлена (с отменой патриаршества) и перестала существовать как сколько-нибудь живой и самостоятельный духовный организм, превратившись в мёртвую «шестерёнку» в машине «регулярного государства». Церковный раскол, начатый Никоном, был дополнен Петром I общекультурным расколом между весьма поверхностно европеизированными «верхами» и продолжавшими жить по старине «низами» общества. Подводя итоги этим процессам, один высокопоставленный государственный чиновник в XIX веке вынужден был признать, что «если бы восстановить свободу веры, то половина населения немедленно ушла бы в раскол, а другая половина – в католики».
Церковные доходы отныне забирались государством, которое лишь небольшую часть средств от монастырских имений выделяло на содержание духовенства. А вся жизнь духовенства и монашества тотально регламентировалась (в особом Духовном Регламенте) самодержавием, не без оснований опасавшимся возникновения оппозиции в этой среде. Государство устанавливало штаты священников, превращённых в чиновников, их обязанности и полицейские функции, превращая их в штатных доносчиков. В монастырях запрещалось иметь в кельях бумагу, собираться более трёх человек в одном помещении (во избежание крамолы). За все нарушения полагались суровые телесные наказания или казнь. Численность духовенства и монашества была сокращена в несколько раз. Запрещался переход из монастыря в монастырь и общение монахов с мирянами.
В 1721 году по приказу царя Синод издал постановление о допущении браков православных с неправославными. Пётр I всемерно покровительствовал протестантам. В начале XIX века Н.М. Карамзин печально констатировал: «Со времён петровских упало духовенство в России. Первоосвятители наши уже только были угодниками царей и на кафедрах языком библейским произносили им слова похвальные». А священник В. Росминский спустя ещё сто лет, в начале XX века высказывался ещё категоричнее, говоря, что русская церковь «с тех пор, когда Петром Великим окончательно было выработано её устройство… перестала быть по учению Христа, – собранием верующих. Она стала министерством духовной полиции, и духовенство сделалось не служителями церкви, не наставниками веры, а полицейскими чиновниками веры».
Педантичный Пётр I повёл решительную борьбу со всеми проявлениями религиозной жизни, не подконтрольными империи и не предписанными самодержавием. Так, за распространение слухов о ложных чудесах указ царя грозил ссылкой на вечные каторжные работы. Император всерьёз запретил как канонизацию новых святых (и старых хватит!), так и… мученичество своих подданных! (Ибо мученики не нужны, и подозрительны.) Специальный указ Синода от 16 июня 1722 года гласил «о недействительности самовольного страдания, навлекаемого законопреступными деяниями» – иначе, о невозможности стать мучеником без приказа и соизволения начальства. Таким образом, вся недозволенная государем религиозная жизнь (с чудесами, мучениками и святыми) отныне запрещалась.
Были усилены гонения на несгибаемых староверов, обложенных чудовищными податями, а их скиты на Севере были уничтожены. В 1722 году староверам предписали носить особый – откровенно оскорбительный и позорный – наряд. Язычников – чувашей, якутов и других принудительно и насильственно крестили в православие, не останавливаясь ни перед чем. При Петре было предпринято наступление и на мусульман – подданных России (с разрушением мечетей, заковыванием в кандалы не желающих креститься и т. д.), поскольку унифицированной державе должна была соответствовать единственная унифицированная на протестантский образец, но называемая по привычке «православной», религия. Наиболее поразительным в этом отношении был указ Петра от ноября 1713 года, предписывающий всем мусульманам Поволжья и Приазовья креститься в течение полугода под угрозой репрессий и конфискации имущества. Однако выполнение этого указа, как и следовало ожидать, провалилось.
Подводя итог церковной политике Петра I, священник Г. Флоровский отмечал, что в петровскую эпоху «государство утверждает себя самое, как единственный, безусловный и всеобъемлющий источник всех полномочий, и всякого законодательства, и всякой деятельности или творчества… За Церковью не оставляется и не признаётся право творческой инициативы даже в духовных делах. Именно на инициативу всего более и притязает государство, на исключительное право инициативы, не только на надзор». Формально идеологией империи отныне стало казённое, выхолощенное, унылое, огосударствленное православие.
6.1.8. Политика Петра I в сфере культуры и образования
Преобразования в области культуры и просвещения в петровскую эпоху, как и иные реформы, носили лавинообразный, насильственный и хаотический характер и диктовались как потребностями армии и промышленности, так и общим стремлением самодержца искоренить русскую «старину» и перенимать европейские обычаи. Государство властно вмешивалось в быт, одежду, привычки общества, перекраивая его на новый лад и подвергая глумлению и отрицанию традиционную народную культуру. Суть петровской программы в этой области Б. Кагарлицкий передал так: «Если русские не могут обойтись без западных европейцев, русские дворяне сами должны стать иностранцами… В плане культуры, потрясение было действительно грандиозным. На протяжении жизни одного поколения был разрушен один мир и создан другой. Культурный изоляционизм сменился открытостью, страх перед Западом – ориентацией на иностранные образцы. Даже язык изменился из-за введения массы немецких и голландских слов, обозначающих множество незнакомых ранее понятий…. Начала насаждаться система просвещения. Была реформирована орфография. Сменился календарь. Появились новые праздники. Быт, обычаи правящего класса стали западными. Изменилась архитектура, следовательно, и облик городов».
А Максимилиан Волошин так поэтически ярко высказался об этих переменах:
«Антихрист-Пётр распаренную глыбу Собрал, стянул и раскачал, Остриг, обрил и, вздёрнувши на дыбу, Наукам книжным обучал».И в самом деле, бесцеремонное а наглое вмешательство государства в частную жизнь подданных, (точнее, непризнание за подданными какого-либо права на частную жизнь!), грубое насилие, демонстративное оскорбление народных святынь, некритическое насаждение европейских обычаев, принявшее характер «кампании» и «моды» – всё это сочеталось в политике Петра I. Государство в лице императора формировало и перекраивало общество на свой лад: брило броды, вводило новый календарь и новый шрифт, принудительно насаждало употребление табака, газеты и музеи. С Запада заимствовались технические достижения и те монументальные формы искусства, которые могли быть использованы в имперской пропаганде (массовые праздники, статуи, фейерверки), но отнюдь не идеи личной свободы. Всё это не безосновательно воспринималось населением, как культурная катастрофа.
Именно со времён петровских реформ возникает чудовищная пропасть между двумя Россиями – официальной, петербургской, образованной, говорящей на иностранных языках, рядящейся в иноземное платье и – провинциальной, сельской, общинной, бородатой, живущей в рабском состоянии и непосильном труде. Эти две России не знали, и не понимали друг друга, причём первая жила за счёт второй, а вторая периодически выражала свой протест против первой в грандиозных крестьянских восстаниях.
По словам философа-эмигранта середины XX века Георгия Федотова: «Результат получился приблизительно такой же, как если бы Россия подверглась польскому или немецкому завоеванию, которое, обратив в рабство туземное население, поставило бы над ним класс иноземцев-феодалов, лишь постепенно, с каждым поколением, поддающийся неизбежному обрусению». Насаждаемое сверху палочное «просвещение», дворцы и гранитные набережные Невы, новые школы, блеск столичного света лишь оттеняли поголовную неграмотность народа, живущего своей патриархально-общинной жизнью и оплачивающего эту роскошь и поверхностное «просвещение». Пётр I усугубил церковный раскол русского общества, начатый в XVII веке, и сделал его всеобъемлющим, непреодолимо глубоким, тотальным и общекультурным. Два столетия самодержавие, со своей стороны, и интеллигенция, со своей, будут пытаться преодолеть пропасть, отделившую их от народной жизни, причём порой эти попытки обернутся дешёвым цирковым фарсом (вроде теории «официальной народности» Николая I), а порой – высокой трагедией («хождение в народ» интеллигенции 1870-ых годов).
Если в середине XVII века, после Смутного времени, в России официально насаждалась изоляция от западной культуры, националистическая ксенофобия и чувство превосходства русских перед иноземцами, то с эпохой Петра I всё оказалось перевёрнуто наизнанку и обернулось слепым копированием европейских традиций, одежды, речи, техники… Хорошим тоном при дворе становится глумление над старой русской верой, одеждой, пищей, нравами, культ «Бахуса», употребление к месту и не к месту иноземных слов, заполнивших официальную речь.
Впрочем, Пётр с присущим ему прагматизмом и цинизмом откровенно говорил: «Европа нам нужна лет на сто, а потом мы повернёмся к ней задом». Перенять европейскую армию, организацию государства, технику, а затем, создав империю, завоевать и поработить ту же Европу – такова была далеко идущая программа великого преобразователя. Оттого «просвещение», насаждаемое Петром в России, носило не только насильственный, но и поверхностно-карикатурный, узко-технократический характер: империи были нужны нерассуждающие и покорные инженеры и офицеры, а не философы и поэты. Делом искусства признавалось лишь прославление державного величия, а не мечтания о вольности и не углубление во внутреннюю жизнь отдельной личности.
Порождённая петровской эпохой русская интеллигенция была создана государством для своих целей, искусственно оторвана от народной почвы и со временем, осознав свою беспочвенность и порабощённость, она оказалась в трагическом положении – под спудом гнетущей империи и далеко от традиционной культуры. «Старая Россия» жила в провинции, платила непосильную подушную подать и отбывала постылую рекрутчину, состояла из крестьян, казаков, духовенства, сохраняла общинный консервативный уклад жизни и наивную веру предков (часто тяготея к староверию или к стихийному язычеству), была патриархальной, дикой и необразованной. «Новая Россия» – дворянско-чиновничья – концентрировалась в новой столице, при дворе и армии, говорила кое-как по-немецки и голландски и плохо помнила русскую речь, одевалась на иноземный лад, курила табак и не знала иных святынь, кроме имперского величия и иных целей, кроме обогащения и карьеры.
По словам А.И. Герцена: «Бороды и одежда резко отличают Россию, униженную тройным игом и охраняющую свою национальность, от России, которая приняла европейскую цивилизацию вместе с имперским деспотизмом». И священник, философ и историк церкви Георгий Флоровский констатировал, что «именно с Петра и начинается великий и подлинный русский раскол» – раскол между европеизированными (очень поверхностно, поспешно, искусственно и однобоко) «верхами» и «традиционными» «низами» общества. Наконец, проницательный и глубокий Н.М. Карамзин ещё в начале XIX века высказал сходную мысль: «Дотоле, от сохи до престола россияне сходствовали между собою нехитрыми общими признаками наружности и в обыкновениях, – со времён Петровых высшие степени отделились от низших, и русский земледелец, мещанин, купец увидели немцев в русских дворянах… Честью и достоинством россиян сделалось подражание».
Каковы же были важнейшие культурные нововведения Петра I? Новое летосчисление, новое начало нового года, новый, упрощённый, гражданский шрифт, новые праздники, гербовая бумага для официальных актов, ордена для награждения, появление ассамблей (публичных собраний дворян с участием женщин), употребление табака, ношение новой одежды, введение арабских цифр (раньше числа обозначались буквами). Число типографий в России в первой четверти XVIII века увеличилось с одной до шести. Характерно, что две трети изданных тогда книг были посвящены военному делу. С 1702 года стала выходить первая печатная газета в России – «Ведомости».
В 1719 голу в Петербурге была открыта публичная библиотека и публичный музей Кунсткамера (в которой собирались всякие диковинки). Вход в музей не просто был бесплатным – посетителей заманивали в Кунсткамеру даровой рюмкой водки. В 1724 году в Петербурге была открыта Академия Наук (по причине отсутствия науки в России все академики были иностранцами.)
Было открыто немало учебных заведений: Морская академия, Инженерная школа, гарнизонные, цифирные школы. К концу правления Петра I в России существовали 42 светских и 46 церковных начальных школ, в которых учились почти пять тысяч человек (цифра огромная, в сравнении с предыдущим периодом, но более чем скромная для страны с шестнадцатимиллионным населением!). Поскольку развитие просвещения вырастало из технических задач империя (создание новой армии и промышленности), то и учебные заведения носили узкоспециальный характер (Навигацкие, Артиллерийские школы) и готовили узких специалистов. По приказу Петра I были организованы несколько географических экспедиций (в частности, знаменитая Камчатская экспедиция командора Витуса Беринга).
Все эти нововведения и преобразования, казалось бы, перевернули всю русскую жизнь наизнанку. Однако они носили насильственный, искусственный, уродливый и поверхностный характер, будучи пересажены в готовом виде на иную, неподготовленную почву. Девять десятых русского населения, оплачивающие эти изменения, не были ими затронуты и воспринимали их крайне враждебно. А те представители петербургской империи, которых эти изменения коснулись, вполне могли сочетать в своей жизни поверхностную европейскую образованность и варварские нравы диких крепостников, не видя в этом противоречия. Более того, толком не усвоив новых и чужих обычаев, они были принуждены отвергнуть и традиционные нравственные устои, усвоив лишь чинопочитание, казнокрадство, цинизм и карьеризм. Эти противоречия будут осознаны лишь полвека-век спустя и, как и другие последствия петровских реформ, обнаружат свою взрывную силу намного позднее.
Новая столица империи
Все вопиющие противоречия петровских преобразований нашли своё наглядное выражение в основанном им в 1703 году городе, получившем имя его небесного покровителя (Святого Петра), в который в 1713 году была перенесена столица России из ненавистной императору старой Москвы.
По словам В.Я. Хуторского: «В этом прекрасном городе нашёл материальное воплощение рациональный дух Петра: Санкт-Петербург, с его типовыми зданиями, с широкими, зелёными, освещёнными, вымощенными камнем, расположенными параллельно и перпендикулярно друг к другу улицами, был первым в России городом, построенным по генеральному плану». Пётр ласково и гордо называл Петербург «парадизом» (раем).
Однако этот «рай», как и всё здание петровской империи, был воздвигнут на адских мучениях и крови подданных. На принудительных работах по строительству Петербурга по воле государя ежегодно трудились сорок тысяч крестьян, и погибло более 150 тысяч человек! Порицая перенос Петром столицы в Петербург, Н.М. Карамзин горестно писал: «Сколько людей погибло, сколько миллионов и трудов употреблено для приведения в действо сего намерения? Можно сказать, что Петербург основан на слёзах и трупах». Строительство этого сказочного города, подобно мерцающему миражу возникшего в чахоточном тумане гниющих невских болот, невольно напоминает о сталинских стройках 1930-ых годов, также производимых трудом миллионов заключённых, воздвигающих великолепные гиганты первых пятилеток.
Б. Кагарлицкий отмечает: «С точки зрения Петра, новая столица строилась на пустом месте, на деле же она была построена на болоте, удобренном костями тысяч крестьян, согнанных на эту работу во имя «величия империи». Население новой столицы жило в совершенно невыносимых условиях, страдая от ужасного климата и частых наводнений». Пётр будто нарочно стремился продемонстрировать невероятные возможности деспотической власти, сумев обуздать стихию народного гнева и стихию природы, заковав Неву в гранит и построив на болоте прекрасный город. Рационально продуманный город, искусственно созданный на Балтике, как очередное «окно в Европу», созданный, не считаясь ни с какими жертвами. Город, в который принудительно переселялись купцы изо всей России и в который принудительно свозились товары (ценой разорения других регионов). Европейский великолепный фасад азиатского самодержавия – таким стал этот город мечты Петра.
Идеология петровской империи
С крушением идеи «Москва – Третий Рим» под ударами церковных реформ Никона и преобразований Петра, у рождающейся империи возникает острая потребность в идеологии, которая может быть предложена в качестве новой национальной идентичности (хотя бы для правящих сословий). И такой идеологией, начиная с Азовских походов, становится светская, военно-имперская идея. Роль Бога в ней играет император, роль святых – его полководцы и министры.
Языковое и эстетическое оформление этой идее даёт римская классическая древность: в столицах воздвигаются триумфальные арки в честь побед державы, устраиваются триумфы по римскому образцу, появляются Марсово поле в Петербурге, Сенат в качестве высшего органа, а имена Геркулеса, Венеры, Нептуна, Фортуны, Амура и Бахуса (Вакха) оттесняют православный язык официальной московской Руси. Ведь империя, по европейской традиции, может быть только римской!
Центральное место в новой идеологии занимает «петровский миф» – культ личности Петра I: культурного героя-творца, великого всеведущего и всемогущего правителя, демиурга, воспитателя, создавшего новую империю. Идея всеобщего служения величию державы, идея мирового господства России и принудительного перевоспитания её населения, и торжества «регулярного государства», обоснованные рационалистическими аргументами западных философов XVII века (Г. Лейбница, Г. Гроция, С. Пуфендорфа), становятся несущей конструкцией нового имперского сознания. Старая средневековая идея «богопомазанности» государя теперь в духе времени подкрепляется рациональными аргументами и теориями общественного договора (Т. Гоббса): подданные-де некогда навсегда (!) добровольно (!) отдали всю власть над собой монарху, и отныне государь правит подданными в их же интересах, которые он знает лучше, чем они сами. Государство, персонифицируемое в императоре, становится высшей ценностью и подлинным демиургом (творцом), Богом на земле, карающим или дающим милости, всеведущим, устанавливающим ранги и перекраивающим общество и культуру. По словам Е.В. Анисимова: «Идея о руководящей роли государства в жизни общества вообще и в экономике в частности (с применением методов принуждения в экономической политике) совпадает о общим направлением идеи «насильственного прогресса» (вспомним один из лозунгов 1917 г.: «Железной рукой загоним человечество к счастью!»), которому следовал Пётр».
Всеобщая регламентация, чинопочитание, контроль, опёка и признание инициативы исключительно за самодержавием – практические следствия из этой доктрины. Опираясь на идеи Ивана Грозного, Библию и на европейские теории общественного договора и естественного права, главный теоретик петровской империи Феофан Прокопович развил и обосновал концепцию культа государства (становящегося на место церкви) и неограниченной власти императора, подкрепив эту уже традиционную для России идею необузданного деспотизма новыми рациональными аргументами.
Привычный «царь-отец» и сакральный «правитель-жрец», связывающий Небо и Землю, выступал теперь во всеоружии новейшей гоббсовской теории «договора», также как старый византийско-ордынский московский деспотизм преобразился в модернизированной и перелицованной на европейский лад петровской империи. Как замечает Е.В. Анисимов:
«Обращение к разуму, характерное для обоснования этого направления мысли, несомненно, новая черта в идеологии русского самодержавия… Своим каждодневным трудом Пётр показывал пример служения себе, российскому самодержцу». Подданный должен безраздельно служить империи и находить всё своё счастье в величии этой империи, которая отождествляется с личностью императора – такова ключевая мысль новой незатейливой идеологии, по праву занимающей исторически промежуточное место между архаической концепцией «Третьего Рима» и большевистской идеологией XX века. Не случайно Пётр произносил на пирах следующий многозначительный тост: «Да здравствует тот, кто любит Бога, меня и отечество!» Впрочем, об «отечестве» речь заходила всё реже.
По словам Е.В. Анисимова: «Для политической истории России в дальнейшем это, как известно, имело самые печальные последствия, ибо любое выступление против носителя власти, кто бы он не был – верховный повелитель или мелкий чиновник, – трактовалось однозначно: как выступление против персонифицируемой в его личности государственности России, народа, а значит, могло привести к обвинению в измене, к признанию врагом Отечества, народа… При Петре… понятие Отечества, не говоря уже о «земле», исчезает из воинской и гражданской присяги, оставляя место лишь самодержцу, в личности которого и была персонифицирована государственность».
В 1721 году, когда, в связи с заключением Ништадтского мира Пётр принял титул императора, Сенат преподнёс ему одновременно официальные титулы «Великого» и «Отца Отечества». Последнее наименование особенно рельефно подчёркивает тот факт, что идея сакрального патернализма (восприятия императора как Отца и Учителя своего народа, обо всех думающего, всё лучше всех за всех знающего, и ничем не ограниченного) получила в идеологии Петербургской Империи новый мощный импульс. Государство – огромный механизм, заводимый рукой Механика-императора, а подданные – шестерёнки этого механизма – эта метафора адекватно выражает суть новой имперской доктрины.
Теоретические обоснования новой идеологии находили своё зримое эмоциональное воплощение в частых пропагандистских действиях и мероприятиях: громадных праздниках, парадах, триумфах, фейерверках, воздвигаемых дворцах и памятниках. Эти парады и праздники приобрели поистине культовое языческое значение в поклонении идолу Державы. А пышные отмечания очередных военных побед империи (призванные воздействовать на чувства подданных и заставить их отождествить себя с державой) заняли в Петербургской Империи то же сакральное место, которое в Московии занимали византийская пышность официальных царских церемоний и религиозные ритуалы. А религиозный пафос московского самодержавия как центра православия отныне трансформировался в светский пафос имперского милитаристского могущества.
6.1.9. Цена петровских реформ и народное сопротивление им
Эпоха Петра I оказалась для России эпохой бурных и резких перемен, активных завоеваний, появления новой столицы на берегах Невы, создания морского флота и промышленности. Однако все эти имперские достижения стоили населению чудовищную цену.
Е.В. Анисимов отмечал: «Петровская эпоха осталась в истории русского купечества как подлинное лихолетье. Резкое усиление прямых налогов и различных казённых «служб» – при таможнях, питейных сборах и т. д. – с купцов как наиболее состоятельной части горожан, насильственное сколачивание торговых компаний… – это только часть средств и способов принуждения, которые Пётр в значительных масштабах применил к купечеству, ставя главной целью извлечь как можно больше денег для казны… Такова была цена, которую заплатили русские предприниматели за победу в Северной войне. Справедливости ради отметим, что стоимость победы горожане поделили с сельским населением. Именно на плечи русского крестьянства пала наибольшая тяжесть войны. Как часто бывало в России, победа стала возможной в значительной мере благодаря сверхусилиям народа. Денежные и натуральные платежи, рекрутчина, тяжёлые подводные и постойные повинности дестабилизировали народное хозяйство, привели к обнищанию, бегству сотен тысяч крестьян. Усиление разбоев, вооружённых выступлений, наконец, восстание К. Булавина на Дону стали следствием безмерного податного давления на крестьян».
Можно смело оказать, что почти для всех категорий населения России (кроме, может быть, бюрократии) петровские реформы обернулись катастрофой, нищетой, рабством, а то и гибелью. Дворянство было бесцеремонно загнано в пожизненную государственную «лямку», было принуждено ломать весь свой быт и переучиваться на европейский манер. Купечество было разорено и «пущено по миру», крупные города (кроме Петербурга) почти опустели. Стрелецкое войско было распущено, а значительная часть стрельцов перебита кровавым государем и его подручными. Донское и запорожское казачество было лишено своих вольностей, а Дон и Запорожская Сечь подверглись карательным набегам царских войск, не щадивших ни женщин, на детей, сжигавших станицы и устроивших геноцид непокорных казаков, перебив десятки тысяч людей. Староверы подверглись новым страшным гонениям и унижениям. Церковь была растоптана и уничтожена как самостоятельная сила и превращена в государственное ведомство, а монашество поставлено под жесточайший контроль негативно относящейся к нему империи. Все, бывшие ранее вольными, категории людей, ускользавшие из-под гнёта государства прежде: «гулящие люди», ясачные народы, нищие, однодворцы – были низведены на положение государственных рабов, приписаны к мануфактурам и обложены тяжёлым тяглом. Но наибольшие несчастья, конечно, обрушились на многострадальное крестьянство (составлявшее подавляющую часть населения страны): троекратный рост налогов, чудовищная подушная подать, перепись населения, введение паспортной системы, уравнение в правах (бесправии) с холопами, жесточайшие рекрутская и постойная повинность, сгон на принудительные государственные работы…
Ко всему этому добавлялось глумление государства над традиционной культурой и раскол общества на две противостоящие части. Неудивительно, что итогом петровских реформ стали небывалый рост социального напряжения, вымирание и бегство населения (на окраины и за границу – в Османскую империю и в Речь Посполитую), обезлюживание страны и крах хозяйственной жизни. За четверть века петровских реформ население страны сократилось на 14–15 процентов (в начале XVIII века в России проживало около 16 миллионов человек). По некоторым же губерниям убыль населения оказалась и вовсе катастрофической: в Московской – 24 %, в Санкт-Петербургской – 40 %, Архангелогородской – 40 %, Смоленской – 46 %, Свыше двух миллионов человек погибли на войне и петровских стройках, умерли от непосильного труда и непомерных налогов, бежали в соседние страны от «своего» навязчивого государства, объявившего войну собственному народу, были истреблены царскими карателями или замучены в застенках Тайной канцелярии.
А какими цифрами можно измерить страдания людей, ликвидацию их свободы распоряжаться своими жизнями, их унижение от глумления над привычными им святынями и ценностями? Всё это объясняет распространённость в народной культуре образа Петра как живого воплощения Антихриста – погубителя Руси. В народных песнях и пословицах, лубочных рисунках и устных сказах Пётр неизменно предстаёт в чудовищном виде Антихриста.
К чести жителей России можно сказать, что многие из них не покорились и, как умели, сопротивлялись великому императору-тирану и его катастрофической и самоубийственной для страны политике тотального наступления на человека и общество. Правда, организованного сопротивления петровской политике в центре страны не было, поскольку все силы и центры потенциальной оппозиции были предусмотрительно уничтожены императором: стрельцы казнены, царевна Софья заточена в монастырь, духовенство подверглось жесточайшим притеснениям и, с отменой патриаршества, было обезглавлено. Всю страну пронизывала атмосфера террора, страха и доносительства, повсюду стояли верные царю полки, действовали его каратели и шпионили верные ему соглядатаи.
Потенциальный центр притяжения возможной оппозиции – сын Петра царевич Алексей, возмущённый злодействами царя и всей душой осуждавший его действия, хотя и не предпринимавший никаких явно враждебных действий, был замучен и умерщвлён в каземате Петропавловской крепости по приказу своего свирепого отца. Крестьяне и посадские массами разбегались (однако введённые «ревизии», паспортная система, круговая порука, доносительство, отлаженная казённая машина сыска беглых ограничивали эта возможности). Тем не менее, целые деревни, доведённые до отчаянья, спасаясь от рекрутчины и податей, бежали в леса, занимались разбоями, грабили и поджигали помещичьи усадьбы. Возобновились массовые самосожжения староверов. Люди как могли, сопротивлялись бесчеловечной политике великого реформатора, отстаивая своё право на свободу, человеческое достоинство и жизнь вне тотального имперского контроля. Если полтора века назад опустошительная и кровавая опричнина Ивана Грозного не встретила открытого сопротивления в обществе, то сходная политика его достойного продолжателя Петра Великого столкнулась с народом, ещё не забывшем опыта Смуты и «бунташного» века.
Забушевали восстания на окраинах. В 1705–1711 годах продолжалось восстание в Башкирии. В 1705 году восстала Астрахань, ещё хорошо помнившая разинские походы. Восстание начали стрельцы. Характерно, что поводом к выступлению астраханцев послужили слухи о том, что всех местных девушек скоро выдадут замуж за иноземцев. Слухи были фантастическими, но вполне соответствовали духу времени – ведь Пётр I не раз проделывая поистине фантастические «фокусы» со своим народом. От него можно было ждать всего. Восставшие убили воеводу, создали органы местного самоуправления, поддержали староверов. В 1706 году восстание было жестоко подавлено карателями.
Наиболее серьёзное выступление против петровского курса произошло в 1707–1708 годах на Дону и в Запорожской Сечи, в разгар шведского похода на Украину. Восстали казаки, перебившие царских карателей, принудительно забиравших с Дона беглых людей и сжигавших казачьи поселения. Повстанцы на Дону во главе с атаманом Кондратием Булавиным выступили в защиту казачьих вольностей, старой веры, попытались установить связь с запорожцами и с Мазепой, а также со шведским королём Карлом XII, в котором они видели своего спасителя.
В случае взятия восставшими Азова и Таганрога, петровское войско вполне могло оказаться между двух огней: шведской армией (с примкнувшими к ней украинцами) и казаками Дона и Запорожья, возглавившими ширившееся народное восстание в России, и быть смятено ударами с двух сторон. Однако войско Булавина не смогло взять Азов и Царицин, а сам он вскоре пал жертвой заговора богатых казаков. Посланные царём отряды проводили тактику «выжженной земли», уничтожая запорожские и донские городки вместе со всеми жителями. Десятки тысяч казаков были перебиты и замучены в устрашение всем непокорным.
Атаман Булавина Игнат Некрасов с тысячами восставших перешёл на территорию Турции и отдался под власть султана (и поныне в Турции живёт довольно больная община русских казаков-староверов – «некрасовцев»). Жесточайшим террором и страхом, опираясь на всю мощь созданной машины «регулярного государства» императору удалось сломить сопротивление ропчущего народа.
Дело царевича Алексея
Весь драматизм и ужас петровской эпохи ярко проявился в собственной семье царя-реформатора. Пётр отнюдь не отличался ни человеколюбием, ни душевной добротой, ни супружеской верностью и целомудрием, и всегда расчётливо относился ко всем людям, как к простым орудиям в его руках. Заточив в монастырь нелюбимую жену Евдокию Лопухину и предаваясь разврату с многочисленными любовницами и любовниками, царь приблизил к себе, охладев к Анне Монс, простую служанку Марту Скавронскую (бывшую до того любовницей сначала какого-то русского драгуна, потом фельдмаршала Шереметева, а потом Меншинова, а ещё ранее – женой шведского офицера) и, под именем Екатерины I, возвёл её в ранг русской императрицы.
При этом он не любил своего сына от первого брака Алексея (родившегося в 1690 году), в котором, как и во всех людях видел лишь инструмент. В данном случае, – инструмент своей далеко идущей и широко задуманной династической политики. Отец принудительно женил его на одной из немецких принцесс – Шарлотте.
Алексей Петрович был человеком весьма образованным (хорошо знал три языка), благочестивым, умным и совестливым, но не очень твёрдым. Наследник, наблюдая расправу отца над своей матерью, его повседневные оргии, садистское участие в пытках и казнях, глумление над православной верой, желание посадить на трон новую любовницу (чьим крёстным отцом он заставил быть царевича), не одобрял всех этих действий, испытывал лишь ужас перед государем и стремился сохранить свою человечность в такой ситуации. Хотя Алексей никогда публично не решался протестовать против политики и образа жизни Петра I, однако даже его пассивного осуждения было довольно, чтобы вокруг него стали собираться недовольные, мечтавшие о смерти императора и о прекращении его катастрофической для страны деятельности. При этом друзья и советники царевича – видные аристократы и политические деятели эпохи, вовсе не мечтали вернуть Русь к московской старине (как это представляли потом их враги и палачи), но желали остановить губительную политику непрерывной агрессии Руси по отношению к соседям и устранить крайние насилия над собственным народом.
Едва у Петра I родился первенец от новой жены (младенец, названный также Петром, должен был стать наследником трона, но умер в возрасте трёх лет), расчётливый царь потребовал от Алексея отречения от наследования престола, обвинив его в нелояльности и недостаточной готовности быть его послушным орудием. Царевич согласился отречься от трона, но Петру нужно было больше, и он поставил сына перед нелёгкой дилеммой: или безоговорочная и активная поддержка его мероприятий (что было противно совести царевича), или немедленное пострижение в монастырь (что противоречило его желаниям).
Алексей не собирался становиться монахом, как не собирался он и выступать против своего грозного и деспотичного отца, осознавая однако, всю неправедность, ложность, жестокость и бесчеловечность его политики. Он попытался избрать третий путь – бежать за границу (к своему родственнику – императору Священной Римской Империи) и жить там жизнью частного лица со своей возлюбленной крепостной девушкой. Однако этот выбор завершился трагически.
Алексею удалось бежать во владения императора Австрии, который укрыл его в одном из итальянских замков. Однако взбешённый Пётр, подстрекаемый кликой Екатерины I и Меншикова (которые понимали, что возвращение Алексея на трон означает конец их власти и кару за всё, ими совершённое с Россией), решил любой ценой заполучить сына в свои руки. Подосланный к Алексею петровский дипломат граф Пётр Толстой (человек, исключительно беспринципный, подлый и вероломный) сумел, используя угрозы, обещания, шантаж и подкуп (он подкупил ряд австрийских чиновников и даже возлюбленную Алексея, которой тот безгранично доверял), убедить доверчивого царевича вернуться к отцу. Пётр клятвенно обещал простить сына, но, разумеется, нарушил это обещание по возвращении Алексея.
Царевич был неоднократно подвергнут пыткам, назвал множество своих друзей, которые были схвачены, замучены и обезглавлены. По легенде, один из казнённых друзей несчастного Алексея Петровича, предрёк роду Романовых проклятье и страшную гибель, которая постигнет его некогда за злодеяния Петра I над своим сыном (спустя ровно два века, летом 1918 года, когда были казнены Николай Романов с семьёй, кое-кто вспоминал об этом пророчестве). А 26 июня 1718 года царевич Алексей Петрович был убит в каземате Петропавловской крепости по приказу своего отца Петра I. Что нисколько не помешало на следующий день, 27 июня, Петру весело отпраздновать очередную годовщину полтавской «виктории». Принеся всю страну в жертву своему ненасытному деспотизму и имперскому могуществу, великий государь не остановился и перед пренесением в жертву собственного отпрыска.
6.1.10. «Консервативная революция сверху»?
Разрубив «топором» своих реформ одни застарелые «узлы» российской истории, Пётр I тотчас же завязал новые тугие «узлы», заложив в фундамент создаваемой им империи чудовищные противоречия (которые с неизбежностью привели к революции начала XX века, в свою очередь, попытавшейся разрешить уже эти противоречия).
Государство, созданное Петром, стало сочетанием и воплощением глубочайших контрастов. Вот лишь некоторые из них. Могучая военная держава, непрерывно расширяющая свои пределы, угрожающая соседям, – и нищее, бесправное население. Претензии империи на мировое господство и – её технологическая, экономическая зависимость от Запада, превращение её в сырьевой придаток Европы и поставщика своих армий для нужд европейской политики. Сильная промышленность, – основанная на принудительном, неэффективном крепостном труде, экстенсивных методах и технологической отсталости. Огромная армия, – состоящая из рекрутов-рабов, подчинённых палочной дисциплине, вырванных на 25 лет из своей (крестьянской) среды и часто используемых против населения. Необходимость в непрерывных реформах для укрепления самодержавия и роста империи – и невозможность их последовательного проведения (ибо оно угрожает основам самодержавно-крепостнической системы). «Просвещение», насаждаемое сверху властью, однобокое и поверхностное, прекрасные дворцы на гранитных набережных Невы, блеск и роскошь света и – всеобщая неграмотность народа, живущего своей особой, общинной традиционной жизнью, никак не затронутого «просвещением» и оплачивающего его дорогой ценой. Казённая обездушенная церковь, управляемая назначенньми императором чиновниками, ставшая частью колоссальной бюрократической машины – и народные религиозные искания, проявлявшиеся в старообрядчестве и сектантстве. Всё более «европеизирующиеся», живущие в роскоши столичные «верхи» и – «низы» из глубинки, своей нищетой и возросшим азиатским рабством оплачивающие «европейские» фасады империи и западные повадки столичной публики.
Непрерывная военная экспансия и противостояние западным державам находились в остром несоответствии с самодержавно-крепостническим фундаментом империи, делающим, всю социально-экономическую систему России неэффективной, а значит и её военную мощь – главное оправдание перед собственным народом – непрочной и шаткой. Огромное количество производимых промышленностью товаров было низкого качества, крепостная экономика всё более заходила в тупик, рабская армия не могла на равных противостоять европейским, громадная чиновничья машина и двор поглощали все силы страны.
Осуществлённый невероятными усилиями (и ценой запредельного насилия над народом) петровский рывок в стратегической перспективе оборачивался грандиозным провалом и крахом. Осознавая архаичность экономической, социальной системы страны, нехватку образованных людей (что вело к военным поражением, которые, в свою очередь, влекли за собой взрывы народного недовольства) самодержавие время от времени было вынуждено, повторяя сделанное Петром, предпринимать попытки модернизации, вновь и вновь совершая «революции сверху»: перестраивать систему управления государством, насаждать (принудительно) просвещение, создавать (искусственно) буржуазию и промышленность – всем этим не решая проблемы, а лишь усугубляя их. Однако эти попытки обостряли противоречия, а не разрешали их, поскольку осуществлялись за счёт всё большего закабаления и разорения народа и чисто бюрократически-полицейскими методами. Кроме того, они не могли быть последовательными (лишь подновляя европейский фасад азиатского деспотизма), поскольку кардинальное преобразование России по европейскому пути означало бы смену самого исторического вектора страны – самоубийство самодержавно-крепостнической системы. Поэтому, если военные поражения заставляли самодержавие идти на частичные реформы, то военные победы тотчас консервировали режим. (Поэтому потребность в «маленьких победоносных войнах» – для укрепления своего престижа внутри страны и снятия социального напряжения – стала неизбежной для империи, ускоряя её крах.)
Но никакие реформы не могли заставить крепостных рабов проявлять инициативу, рабов-рекрутов в армии жертвовать собой ради блага враждебной им империи, буржуазию, созданную государством, выказывать заинтересованность в технических усовершенствованиях. По словам Б. Кагарлицкого: «Возникла противоречивая ситуация. С одной стороны, культурные и идеологические влияния, идущие с Запада…
требовали раскрепощения личности и формирования гражданских институтов. С другой стороны, логика экономического взаимодействия между Россией и миросистемой предполагала сохранение авторитарной системы власти не только в государстве, но и в обществе». Лишь всемогущее государство могло в России «насаждать просвещение», строить заводы, создавать огромную армию и флот и держать в повиновении закрепощённое население, снабжающее зерном и сырьём европейский рынок.
Однако отделить технические и административные достижения Европы от идей свободы и автономии личности, никакое «избирательное просвещение», проводимое властью, не могло. Как побочный продукт имперской модернизации «сверху», в России родилась революционная интеллигенция (сначала дворянская, а потом – разночинная), мечтавшая о вольности и начавшая героическую, борьбу за слом существующей в России системы, стремящаяся освободиться из-под «отеческой» опеки самодержавия и отдать свой «долг» народу, оплачивающему «просвещение».
Все достижения и внутренние конфликты, заложенные в самое основание Петербургской Империи, родились в петровскую эпоху. В 1841 году историк М.П. Погодин писал, что в руках Петра «концы всех наших нитей соединяются в одном узле. Куда мы ни оглянемся, везде встречаемся с этой колоссальной фигурою, которая бросает от себя длинную тень на всё наше прошедшее и даже застит нам древнюю историю, которая в настоящую минуту всё ещё как будто держит свою руку над нами…» Рекрутская система, созданная Петром, просуществовала до 1874 года (170 лет), Сенат – до декабря 1917 года (206 лет), Коллегии – до 1802 года (70 лет), Синодальное устройство церкви – до 1918 года (197 лет), подушная подать – до 1887 года (163 года)…
Сразу же после смерти зловещего самодержца взорвались некоторые из множества «мин», оставленные им наследникам: указ о престолонаследии (позволивший почти любому претендовать на трон и приведший к череде нескончаемых дворцовых переворотов), разорение страны и полный крах финансов, разрушающийся и вскоре бесславно сгнивший в верфях и гаванях огромный военный флот с плохо обученными экипажами, невероятная коррупция среди чиновников…
Каждая тактическая победа, одержанная Петербургской Империей, оборачивалась в стратегическом плане сокрушительным поражением, а недолгий рывок вперёд – оборачивался долгим «откатом» назад. Военная экспансия и создание сверхдержавы, парадоксальным образом, усилили зависимость России от более развитых стран Европы, сделав её то ли мировым «жандармом», то ли марионеткой в руках европейской дипломатии (стоявшей за многими переворотами в Петербурге и втягивающей страну в ненужные ей войны). Апогей самодержавия, выразившийся в безграничности власти монарха, сделал государя заложником его окружения, а цареубийство и переворот – обычной формой политической жизни. Искусственное и навязанное обществу империей ради своих военных и бюрократических целей «просвещение» породило вольнодумцев, жаждущих уничтожения создавшей их империи. Победа в Северной войне, создание огромной рабской армии и промышленности обернулись страшными поражениями в Крымской войне и русско-японской войне, вековой стагнацией промышленности и крахом армии. Расширение прав дворян над крепостными обернулось тотальным порабощением самих дворян имперской властью. Установление полного контроля самодержавия над церковью означало обезжизнивание церкви и её дискредитацию в народе. Победы, достигнутые ценой надрыва экономики и опустошения страны, грозили вскоре обернуться страшными поражениями. (Многие из этих парадоксов повторит – уже в ХХ веке, на новом витке всё той же истории, наследник Петербургской Империи – большевистское «комиссародержавие»). А самодержавное государство, ставшее единственным «актёром» на сцене русской истории, было обречено повторять один и тот же заколдованный круг, то начиная вынужденные частичные реформы и «революции сверху» в стремлении подновить свой фасад, то сворачивая эти реформы и модернизацию, как только они начинали грозить ему крушением. Циклы: «неудачная война – реформа – удачная война – реакция и стагнация – неудачная война» – станут нормой для петербургской империи.
Утопия Петра имела страшные последствия для России. Оказалось, что всеобъемлющая бюрократия, призванная всё контролировать и упорядочивать, сама становится бесконтрольной и усугубляет беспорядок в стране. Оказалось, что систематическое массированное институционализированное насилие как путь к «общему благу» оборачивается лишь страданиями и гибелью народа. Оказалось, что порабощение людей побуждает их не к инициативе и просвещению, а лишь к страху, апатии, казнокрадству и интригам. Оказалось, что просвещение, насаждённое искусственно и поспешно, оказывается лишь уродливым внешним «обезьянничаньем» чужих идей и обычаев и легко уживается с дикостью нравов.
Чрезвычайщина, милитаризация, насилие, тотальное принуждение, экстенсивные методы развития экономики могут дать – и дали свои плоды, введя Россию в число мировых империй. Но они имеют свои пределы и свои «ловушки» и в длительной перспективе не могут быть успешными, Пётр I совершил грандиозную «революцию сверху» в России и был великим «революционером на троне». Сам этот факт ни у кого не вызывает сомнений. Однако весь вопрос состоит в целях, направлении и последствиях этой «революции сверху». Точно также, общие слова о «европеизации» России при Петре I (за которую одни его резко осуждают, а другие весьма хвалят) лишь скрывают смысл того, что именно и зачем хотел заимствовать император с Запада, а в чём оставался «восточным» правителем. Е.В. Анисимов так оценивает смысл и значение петровских реформ: «революционность Петра имела, как ни парадоксально это звучит, достаточно отчётливый консервативный характер. Модернизация институтов и структур власти ради консервации основополагающих принципов традиционного режима – вот что оказалось конечной целью… поставленного на собственном народе грандиозного насильственного эксперимента по созданию «регулярного» полицейского государства, где ради абстрактной идеи «всеобщего блага» приносились в жертву частные интересы конкретного человека».
Петру часто ставят в вину то, что он будто бы модернизировал страну «варварскими методами». Между тем его методы вполне соответствовали целям. И потому вернее констатировать обратное: он модернизировал варварство, то есть придал новое мощное дыхание, новый могучий импульс, новую колоссальную энергию традиционному российскому деспотизму, укрепил и вывел на новый уровень исторического бытия самодержавно-крепостнический режим. Самодержавная «азиатская» «воля к власти» обрела в чудовищной петровской утопии «регулярного государства» завершённость тотального регулирования, ранжирования, регламентации управления всей жизнью подданных. «Новаторство» и «европейство» были поставлены Петром на службу реакции и «азиатчине» (а не наоборот, как часто считают). Не случайно А.И. Герцен называл созданную Петром I петербургскую империю «Чингисханом с новейшей техникой, дорогами, университетами, оружием».
По своей внутренней организации российское общество после реформ Петра стало ещё куда менее европейским, чем было раньше, указывал В.О. Ключевский: «под формами западноевропейской культуры складывался политический и гражданский быт совсем неевропейского типа». С.Ф. Платонов ещё лаконичнее отозвался об эпохе Петра I: «Так при новых формах осталось старое существо». А, по словам Б. Кагарлицкого: «Верхушечный характер реформ, проводившихся правительством с головокружительной быстротой, сделал их по существу антинародными… Парадокс в том, что чем более радикальными были реформы, тем более сильной, неограниченной и деспотической становилась центральная власть. Упорядочивая государство и придавая ему европейскую форму, Пётр I, по существу, делал его ещё более варварским».
Европейское платье, оружие, административная система были нужны петербургской империи лишь для того, чтобы более успешно проводить внешнюю экспансию, завоёвывая окрестные народы, и усилить экспансию внутреннюю, всё более полно, «по науке» порабощая собственное население. С Запада прагматиком Петром заимствовалась отнюдь не высокая культура, не идеал свободы и достоинства личности, но – прикладная наука, техника, приёмы ведения войны. А из российского наследия была оставлена отнюдь не народная культура (которая, напротив, уничтожалась и подвергалась унижению и искоренению), но традиции всевластия деспотизма и бесправия личности.
Все издержки «европеизации» фасада империи и быта дворян и чиновников перекладывались на плечи крестьянства – и делали его ещё более «азиатски» порабощённым. Как пишет Б. Кагарлицкий: «Чем более «западным» становился быт правящего класса, тем дороже это стоило. «Европеизация» дворянского быта обернулась, с одной стороны, развитием товарного хозяйства, а с другой стороны, – ростом эксплуатации крестьян». Крепостные расплачивались за всё: за рост вывоза зерна и чугуна в Европу, за строительства дворцов и флота, за содержание армии и открытие школ, за насаждение государством промышленности. Поэтому бессмысленно и неверно говорить в данном случае о «высокой плате за прогресс», но, скорее, – о специфической, замаскированной, модернизированной форме регресса, о глобальной «консервативной революции сверху», о петровской реакции, получившей развитие в петербургский период русской истории и закономерно завершившейся колоссальным революционным взрывом начала XX века.
Петровская «революция сверху» была направлена против народа и во имя самодержавия, укрепления его жизнеспособности. Она отбросила Россию на века назад. Личность и общество были растоптаны, а единственным субъектом российской истории стало имперское государство, насаждающее крепостничество и «просвещение», чиновничество и «капитализм», рабство и «реформы», причём все эти насаждаемые учреждения были неразрывно связаны друг с другом и не могли существовать друг без друга. Самодержавный деспотизм и крепостничество, усиленные и систематизированные Петром I, оставались не «признаками отсталости», а самой сущностью, несущей конструкцией петербургской империи, основанием «модернизации» страны. «Консервативная революция» Петра I состояла в безграничном усилении власти императора, в росте бесправия всех сословий России перед лицом государства, в полном порабощении церкви, в насаждении системы всеобъемлющего контроля и насилия, призванного служить имперским целям, в приспособлении самодержавного деспотизма к нуждам нового времени и в его вооружении новыми достижениями техники, бюрократии и идеологии. «Консервативная революция» Петра отбросила Россию на тупиковый путь исторического развития, ведущий в бездну, породив самодержавно-бюрократическую полицейско-крепостническую империю, логическим и неизбежным концом которой стала Великая Революция 1917 года.
При всём своём новаторстве Пётр I лишь развил тенденции, намеченные русским самодержавием в середине XVII века. А в более широкой исторической перспективе Пётр I достаточно «органично» занимает своё законное место в российской истории между Иваном IV с его опричниной и ленинско-сталинским большевизмом с его «индустриализацией», ГУЛАГом и «коллективизацией». На это обратил внимание в 1924 году в своей поэме «Россия» Максимилиан Волошин:
«В России революция была Исконнейшим из прав самодержавья (Как ныне – в свой черёд – утверждено Самодержавье правом революций)… …Великий Пётр был первый большевик, Замысливший Россию перебросить, Склонениям и нравам вопреки, За сотни лет к её грядущим далям. Он, как и мы, не знал иных путей, Опричь указа, казни и застенка, К осуществленью правды на земле. Не то мясник, а может быть, ваятель — Не в мраморе, а в мясе высекал Он топором живую Галатею, Кромсал ножом и шваркал лоскуты».«Птенцы гнезда Петрова»
Для проведения его реформ, Петру I были необходимы новые кадры – лояльные, инициативные, преданные, образованные, готовые на всё и не обременённые моральными и религиозными нормами. Среди старого московского боярства, духовенства или приказной бюрократии таких почти не было. Приходилось «выращивать» их в спешном порядке: из «потешных» полков (ставших гвардейскими), из собственных денщиков, из дворянских детей, посланных в обучение за границу.
Соратники Петра часто были незнатного происхождения. На вершину власти императором были вознесены его любовница, а потом жена, простая немецкая служанка Марта Скавронская (Екатерина I) или сын конюха Александр Меншиков. Часто это были не русские люди: швейцарец Франц Лефорт, шотландец Патрик Гордон, сын органиста-немца из лютеранской церкви, ставший генерал-прокурором Сената, П. Ягужинский, сын крещёного еврея, вице-канцлер П. Шафиров.
«Птенцы гнезда Петрова» (выражение А.С. Пушкина) отличались полной беспринципностью, энергичностью, неразборчивостью в средствах, преданностью императору и умением обогащаться и делать карьеру. На словах борясь с казнокрадством и коррупцией, Пётр I был вынужден терпеть её со стороны своих ближайших приближённых – ибо иных, лучших помощников у него не было. Так А.Д. Меншиков был невероятно алчен, имел множество титулов и наград (князь Священной Римской империи, член Английской академии наук, сенатор, генерал-фельдмаршал, генерал-губернатор Санкт-Петербурга, андреевский кавалер), являлся прекрасным администратором, бесстрашным полководцем, жестоким палачом, владел десятками дворцов и десятками тысяч крепостных. Меншиков в невероятных размерах брал взятки и запускал руку в казну. С 1713 по 1725 годы (до самой смерти Петра I) он беспрерывно находился под следствием за различные преступления и казнокрадство. Пётр часто жестоко избивал своего любимца (как и других своих подручных), но других, лучших «кадров» для осуществления своих замыслов, просто не имел. Император ценил таланты и преданность Меншикова, за которого часто ходатайствовала и бывшая любовница Меншикова, а ныне императрица Екатерина I.
Именно генерация людей, подобных Меншикову, пришла к власти после смерти Петра I. Это были люди хищные, жестокие, отвергнувшие старые нравственные нормы и традиции, не приобретшие новых и не обременённые никакими моральными ограничениями, думающие исключительно о личных интересах и более не скованные страхом перед самодержцем, воспринимающие страну, как огромный «пирог» для разворовывания. Россия XVIII века стала игрушкой и добычей в руках этих достойных «птенцов гнезда Петрова».
Споры о Петре Первом
Значительность и масштабность петровских преобразований порождали и порождают в обществе непрерывные споры и противоположные оценки великого императора, плодят бесчисленные мифы. Петровская эпоха на протяжения трёх столетий остаётся актуальной и притягивает внимание историков, поэтов, писателей и широкой публики, справедливо видящей в этой эпохе корни большинства последующих событий русской истории.
«Пётр Великий», «Отец Отечества» и «царь-Антихрист» – между этими двумя полюсами колеблются оценки императора. Придворные публицисты и поэты всех эпох не находили нужных слов для выражения своего восторга перед правителем, преобразившим отсталую страну, создавшим великую державу, сумевшим вывести Россию на путь прогресса и территориального роста. Современник Петра I И. Неплюев восхищённо писал: «на что в России ни взгляни, всё его началом имеет, и чтобы впредь ни делалось, от сего источника черпать будут».
Петровский «миф» стал важнейшей частью новой имперской идеологии, многократно тиражированной в исторических трудах и памятниках, поэмах и картинах (а позднее, и в кинофильмах). «Медный всадник» скульптора Э.М. Фальконе, пушкинская поэма «Полтава» или роман А.Н. Толстого «Пётр I» (многократно экранизированный) – яркие памятники этой традиции. Не только для большинства императоров России, но и для большевика Сталина или либерального премьер-министра постсоветской России Е.Т. Гайдара (избравшего изображение Петра символом своей партии «Демократический выбор России») Пётр Первый оставался образцом и примером для подражания. Петровская эпоха находилась в центре восторженного внимания официальной идеологии и пропаганды и в царские времена, и во времена большевиков, и позднее, после крушения СССР.
Существовала и другая, неофициальная, оппозиционная традиция, восходящая к народной памяти о «царе-Антихристе». Восторгаясь масштабом личности Петра, А.С. Пушкин одновременно показал его деспотизм и отмечал, что петровские указы, «кажется, писаны кнутом». Славянофилы ужасались содеянному Петром I – искусственности европеизации России, масштабам народных жертв, чудовищной мощи «немецкого» бюрократического аппарата, созданного им. А.И. Герцен полагал, что «переворот Петра сделал из нас худшее, что можно сделать из людей – просвещённых рабов».
Русский мыслитель и писатель начала XX века Д.С. Мережковский в своём романе «Пётр и Алексей» показывал всю жестокость, антинародность и бесчеловечность петровских преобразований. Поэт Максимилиан Волошин рассматривал эпоху Петра I как важное звено в становлении деспотизма и в наступлении абсолютистского государства на русское общество. Такого же мнения придерживался поэт и писатель А.К. Толстой.
А русский поэт середины XIX века Н.Ф. Щербина так лаконично оценил последствия правления Петра Первого:
«Нет, не Змия всадник медный Растоптал, стремясь вперёд! Растоптал народ наш бедный, Растоптал простой народ».6.2. Петербургская империя: от реформ Петра I до «великих реформ» Александра II (1725–1881)
Эпоха Петра I определила общие контуры Петербургской Империи, вектор её развития и её основные противоречия. Последующие полтора века в полной мере обнаружили и продемонстрировали как сильные, так и слабые стороны замыслов основателя империи.
6.2.1. Войны и рост державы
Полтора столетия, последовавшие за правлением Петра I, были для Российской Империи временем нескончаемых войн. (Не случайно императора Александра III, за 13 лет правления которого Россия не вела ни одной большой войны, придворные льстиво и изумлённо нарекли Царём-Миротворцем.) Вот только главные из них: семь больших войн с Турцией (1735–1739, 1768–1774, 1787–1791, 1806–1812, 1827–1828, 1853–1856, 1877–1878), Семилетняя война против Пруссии и Англии (для России, впрочем, она была «пятилетней»: 1756–1761), войны с наполеоновской Францией (1798–1800, 1805–1807, 1812–1814), огромная Крымская (Восточная, как её называют в Европе) война против коалиции европейских держав (1853–1856), а также ряд войн с Персией (1804–1813, 1826–1828), войны по завоеванию Кавказа и Средней Азии (растянувшиеся почти на весь XIX век) и несколько войн со Швецией и Речью Посполитой.
Не все задачи, поставленные Петром I, были выполнены империей. России так и не удалось захватить Индию и Персию, завоевать Германию и Данию, не удалось полностью уничтожить Османскую Империю, завоевать Константинополь и объединить все славянские и православные народы Балкан под скипетром петербургского самодержца. Однако значительная часть целей, предначертанных великим основателем Империи, были достигнуты: были захвачены Финляндия и Бессарабия, Речь Посполитая и Крым, Средняя Азия и Кавказ, Казахстан и Аляска. Только за 35 лет правления Екатерины II (1762–1796) население империи выросло с 20 до 35 миллионов человек, причём Россией были оккупированы земли с населением в семь миллионов человек. Экспансия на востоке (с проникновением в Америку и Среднюю Азию), на юге (с захватом Причерноморья), на западе (с оккупацией части уничтоженной Речи Посполитой), борьба за средиземноморские проливы (Босфор и Дарданеллы), противоборство с революционным движением (порождённым Великой Французской Революцией 1789–1799 годов и «весной народов» 1848–1849 годов) – таковы были главные направления российской внешней экспансии.
Каковы были причины множества войн, ведомых Российской Империей, – в подавляющей части, захватнических, и в большей части, успешных? Таких причин несколько. Среди них – борьба за рынки российских товаров на Востоке (в Персии, Средней Азии и Китае), за новые пути экспорта российского зерна на Запад (через заветные и манящие проливы Стамбула). Неизбежная логика войны порождалась и внутриполитическими причинами: ведь успешные войны укрепляли державу, сплачивали население вокруг трона, заставляли умолкнуть оппозицию и переполнить сердца подданных патриотическими чувствами гордости за державу, стабилизируя режим. Напротив, немногочисленные, но ощутимые поражения на этом фоне выглядели особенно удручающе и дестабилизировали ситуацию в стране, основой которой была имперская военная мощь: Тильзитский мир, подписанный Александром I с Наполеоном в 1807 году после поражения в войне с ним, а также катастрофический разгром России в Крымской войне 1853–1856 годов подталкивали монархов к реформам, а общество – к революционному брожению. Девизом всей внешней (и вытекающей из неё внутренней) политики России этой эпохи могут быть слова военного гимна тех лет: «Гром победы раздавайся, веселися, храбрый Росс!»
Дисбаланс между социально-экономической и культурной отсталостью России, её полуколониальной зависимостью от Европы и её же колоссальной военной мощью (к середине XIX веке в России была самая большая армия в мире – до 1,5–2 миллионов солдат!), вкупе с волной дворцовых переворотов, делавших положение российских монархов непрочным, превратили Петербургскую Империю в игрушку европейской политики. Нередко могучие западные державы использовали русскую армию в своих целях – как в роли «жандарма» Восточной и Центральной Европы, так и в роли орудия своей политики в Европе Западной. Например, Англия не раз, фактически, «нанимала» русскую армию для борьбы против своего смертельного врага – наполеоновской Франции.
Россия на протяжении почти полутора веков (1725–1881) оставалась, в основном, в фарватере политики Англии – главной сверхдержавы мира, колониальной империи, основного потребителя русского зерна и поставщика в Россию товаров (хотя были и отдельные периоды конфликтов и осложнений в русско-английских отношениях). В целом, Европу вполне устраивала роль Петербургской Империи, как проводника её влияния в Азии и полезного «жандарма» Восточной Европы (ей даже простили уничтожение Польши!). Однако, когда она предприняла (в первой половине XIX века) попытку стать общемировым «жандармом», уничтожить Турцию и поработить всю Европу, это разом сплотило против неё широкую коалицию европейских держав и привело к катастрофическому разгрому русских в Крымской войне.
Какова была динамика и этапы внешней политики России в эпоху от Петра I до Александра II? Вторая половина XVIII века, особенно эпоха Екатерины II отмечена ростом военной мощи России и расширением её границ, захватом Причерноморья, оккупацией Крыма, расчленением и захватом Речи Посполитой. «Екатерининские орлы» – выдающиеся полководцы, флотоводцы и администраторы (Суворов, Ушаков, Румянцев, Потёмкин) прославили Империю громом своих побед (оплаченных сотнями тысяч жизней солдат и рабским положением населения).
Пика военной и территориальной мощи Российская империя достигает в эпоху Александра I (1801–1825). Начав при Екатерине II и Павле I борьбу с революционной Францией, Россия при Александре I стала главным участником нескольких антифранцузских коалиций (в союзе то с Австрией, то с Пруссией, то со Швецией и всегда – с Англией, главным вдохновителем и «спонсором» этих коалиций). В 1812 году поход Наполеона в Россию закончился крахом и гибелью его «Великой Армии». Ответные заграничные походы союзников против Наполеона, завершившиеся в 1814–1815 годах в Париже, принесли Александру I славу «нового Агамемнона», а Петербургской Империи – военное и, отчасти, политическое доминирование в Европе на треть века. Именно в это время, по словам современников, в Европе «ни одна пушка не смела выстрелить без воли русского царя». По инициативе Александра I, по итогам победы над Наполеоном победившие державы разделили Европу и создали реакционный «Священный Союз» – «союз императоров против народов», целью которого была борьба с революционным движением.
Господство Российской империи в Европе продолжилось и завершилось и при Николае I (1825–1855) – императоре, повсюду неистово боровшимся с «революционной заразой» и продолжившим политику агрессии и завоеваний (при нём был окончательно «огнём, железом и кровью», завоёван свободолюбивый Кавказ). Россия претендовала на лавры «освободительницы» славянских народов Балкан от ига Османской и Австро-Венгерской Империй – с тем, чтобы подчинить их Империи Петербургской!
Эпоха Николая I – апогей и начало заката Петербургской империи, её военно-политической гегемонии в Европе. В это время Россия выступала как высший арбитр в Европе, мировой «жандарм» (подавивший в 1849 году, посредством интервенции, революцию в Венгрии), обращалась с прусским и австрийским императорами и с турецким султаном как со своими вассалами. С 1815 по 1853 годы России являлась мощнейшей военной державой Европы – «жандармом» с миллионной армией, готовой завоёвывать новые земли и кровью подавлять любые восстания и революции. Однако постоянная наглая российская экспансия и поддержка ею сил европейской реакции сплотила европейские народы против Петербурга, что, вместе с нарастающим отставанием России и загниванием имперского режима, закончилось закономерным и справедливым крахом русских в Крымской войне.
Крымская война показала и международную изоляцию России, и её чудовищную (накапливающуюся веками) тотальную отсталость: социальную, культурную, экономическую, техническую, военную. Разгром под Севастополем означал фиаско претензий Петербурга на мировое господство, положил конец его агрессии, останавливал дальнейшее расширение границ России на юге и западе, существенно пошатнув престиж Империи внутри страны (что повлекло за собой неизбежные реформы). Только через сто лет – после победы во Второй мировой войне – Российская Империя (под именем Советского Союза) вновь на треть века вернёт себе мировое могущество, которым обладала в период от наполеоновских войн до Крымской войны.
После этого общего взгляда на сущность и динамику внешней политики Петербургской Империи, остановимся вкратце на её основных направлениях.
Прежде всего, в этот период, казалось бы, был окончательно решён многовековой спор между Москвой и Вильно (а затем между Петербургом и Варшавой). Весь XVIII век усиливалась зависимость от России слабеющей Речи Посполитой (в которую то и дело вводились русские войска и в которой ставились на престол короли – русские ставленники и марионетки). Затем последовали три раздела Польско-Литовско-Русского государства: 1772, 1793 и 1795 годов. В них, помимо России, приняли участие Австрия и Пруссия, но всё же львиная доля отошла к Петербургской Империи. Последний раздел уничтожил государственность Речи Посполитой. А после войн с Наполеоном, к России отошла и Варшава (как до того: украинские, белорусские, литовские и многие исконно польские земли).
Речь Посполитая, веками противостоявшая Московской Руси и Петербургской России и оспаривавшая у неё киевское историческое наследство, перестала существовать, а на захваченных землях началась политика жёсткой насильственной русификации (с запрещением католической веры, униатства и польского языка). Однако, парадоксальным образом, оккупированные и поглощённые Россией польские, литовские, белорусские, украинские земли оказались «пороховой бочкой» под Империей, тем «куском» добычи, который Петербург так и не сумел переварить. Трижды: в 1794, 1830–1831 и 1863–1864 годах – на этих землях происходили грандиозные восстания, вспыхивала героическая партизанская борьба, потопленная в крови русскими карателями. Однако сохранялось постоянное подполье, выступавшее за возвращение независимости захваченных земель и восстановление Речи Посполитой в границах 1772 года, существовала и обширная польская и литовско-русская эмиграция на Западе. Поляки и литовцы уповали на помощь Европы против русских захватчиков, участвуя то в наполеоновских войнах (на стороне Бонапарта, сулившего возродить их государство), то во всех европейских революциях. Однако западные державы ограничивались лишь сочувственными и прочувствованными декларациями о поддержке борющихся и восстающих поляков, литовцев, украинцев и белоруссов, и каждый раз цинично «сдавали» их Петербургу, используя «польский вопрос» как разменную карту в своих внешнеполитических играх. Тысячи повстанцев и подпольщиков были убиты и повешены, десятки тысяч – сосланы в Сибирь. Тем не менее, как показала история, победа Петербурга была не бесспорной и не окончательной.
Помимо «польского» вопроса, важное, место во внешней политике России на Западе играли «французский» и «немецкий» вопросы. В конце XVIII – начале XIX веков Россия боролась против Франции (сначала революционной, а затем наполеоновско-имперской), как правило, ориентировалась на Англию (хотя конкурировала с ней на рынках Востока: в Персии, Средней Азии, Афганистане, Индии и Турции) и поддерживала обширную, но слабеющую Австро-Венгрию в противовес опасно усиливающейся Пруссии (однако, конкурируя с Австрией за влияние на балканские народы).
В Семилетней войне (1756–1763) – «мировой войне» XVIII века (военные действия велись в Америке, Африке, Индии и Европе) Россия участвовала на стороне коалиции Франции, Австрии, Саксонии и Швеции против Пруссии и Англии. В сущности, русские войска, потерявшие в этой войне полтораста тысяч человек и одержавшие ряд громких, но ненужных побед над пруссаками, сражались за чужие интересы, абсолютно чуждые не только русскому народу (который никто никогда не спрашивал), но даже и Петербургской Империи. Война принесла России славу, но также и огромные людские потери и экономический упадок. И лишь новый император Пётр III, сменивший умершую легкомысленную Елизавету на петербургском троне, сумел принять мудрое решение о выходе России из этой войны. В этом, как и во многих других случаях, могучие вооружённые силы России вновь оказались игрушкой в руках европейских держав, использующих милитаристский потенциал Империи в своих интересах. По верному замечанию Б. Кагарлицкого: «Периферийное положение Петербургской империи делало её заложницей чужих конфликтов и заставляло её расплачиваться кровью своих солдат за «экономически неизбежные» международные обязательства». Власть императоров4 престиж Империи и роскошь дворян (широко потреблявших европейские товары) оплачивалась каторжным крестьянским трудом и десятками тысяч солдатских жизней.
То же самое – только в намного больших размерах и с некоторой идейной (контрреволюционной) подоплёкой повторилось четверть века спустя, когда Россия оказалась с 1798 по 1814 годы втянута в войны (ведущиеся отчасти на английские деньги и в английских интересах) в качестве главной ударной силы четырёх антифранцузских коалиций. Потерпев ряд сокрушительных поражений от армии Наполеона в 1805–1807 годах (при Аустерлице, Фридланде и др.), император Александр I был вынужден признать свой разгром и подписать с «корсиканским чудовищем» Тильзитский мир (1807 г.). По условиям этого договора Россия присоединялась к объявленной французским повелителем «континентальной блокаде», разрывая политические и экономические отношения с Англией (что поставило русскую экономику на грань краха, разорило множество русских помещиков, вывозивших ранее зерно в Британию, и вызвало всеобщее недовольство царём в стране). «Горькую пилюлю» унижения и поражения лишь отчасти подсластил произведённый в Тильзите раздел Европы между Наполеоном и Александром I (во многом напоминающий раздел Европы между Гитлером и Сталиным в 1939 году). По этому разделу Западная Европа отдавалась Франции, а Восточная – России. По итогам этого раздела Россия в 1806–1812 годах начала агрессию против Османской Империи, отвоевав у неё Бессарабию, а в 1808–1809 годах напала на Швецию, оккупировав Финляндию; с тех пор Великое княжество Финляндское вплоть до 1917 года, являлось автономной частью Петербургской Империи.
Впрочем, Александр I и не думал на деле соблюдать условия Тильзитского договора об участии России в «континентальной блокаде», что привело к нападению рассерженного Наполеона на Россию в 1812 году, ставшему роковым для великого французского императора и поменявшему расклад сил в Европе. Сокрушив военную мощь Наполеона, Россия возглавила «Священный Союз» и на 35 лет стала военно-политическим гегемоном и «жандармом» Европы, уступающим только Британской Империи по влиянию. С санкции или при прямом участии России были подавлены революции в Испании и в Италии в 1820-е годы, польское восстание 1830–1831 годов (впрочем, оно помешало Николаю I бросить свою армию на подавление революции 1830 года во Франции и Бельгии), революция в Венгрии 1848–1849 годов (куда была введена полуторостотысячная русская армия). «Священный Союз» провозгласил «право интервенции» во имя священного «принципа легитимизма», что означало возможность введения войск европейских держав в любую страну, охваченную революцию. Россия являлась вдохновительницей и главной участницей этих постыдных интервенций.
Однако, при всей важности западного направления во внешней политике России XVIII–XIX веков (и «польского», «шведского», «германского», «французского» вопросов), начиная с эпохи Екатерины II и вплоть до Первой мировой войны, главным и определяющим стало иное направление, связанное со взаимоотношениями России с пришедшей в упадок Османской Империей. В ходе кровопролитных войн 1768–1774 и 1787–1791 годов Россия захватила Северное Причерноморье, а в 1783 году оккупировала своими войсками татарский Крым, уничтожив Крымское ханство и начав массовое выселение жителей полуострова и его колонизацию русскими.
Однако цели Российской Империи простирались намного дальше выхода к Чёрному морю и уничтожения Крымского ханства. Планировалось немедленно уничтожить Османскую Империю, захватить Балканы и Стамбул, объединив под скипетром петербургского императора всех славян и всех православных. Захват Стамбула и стратегически важных проливов Босфора и Дарданелл стали определяющим и главным направлением всей внешней политики России в 1770–1917 годах (в конечном счёте, именно этот фактор и эти экспансионистские притязания привели Россию к участию в Первой мировой войне). Эта задача казалось несложной (учитывая ослабление Османской империи) и была обусловлена как религиозно, идейно-символически (вернуть Константинополь, центр православия, изгнав «неверных» и оказав помощь «братьям-славянам»; «ударить в колокол в Царьграде» призывали и поэт Ф.И. Тютчев, и писатель Ф.М. Достоевский, и славянофилы), так и геополитически-экономически: выход через проливы в Средиземное море позволял вывозить этим путём российское зерно на европейские рынки и давал могучему военному черноморскому флоту России вырваться на стратегический простор.
Екатериной II был разработан масштабный «греческий проект»: её второй внук был назван Константином, ему дали кормилицу-гречанку, а на его рождение выпустили монету с изображением храма Святой Софии в Константинополе. Планировалось, что Константин станет императором возрождённой греческой империи и верным вассалом своего старшего брата российского императора Александра. «Греческий проект» был идеологически обоснован и подкреплён военными приготовлениями России к окончательной агрессии против Турции. Однако другие европейские державы (прежде всего, Англия), в целях сохранения равновесия сил в Европе, ни тогда, ни позднее, не позволили России полностью уничтожить Турцию (используя дипломатические, военные и экономические рычаги). Это противодействие христианских держав российским планам военной экспансии и уничтожения мусульманской Турции, её расчленения и оккупации, вызвало настоящее смущение умов среди власть имущих в России, положив начало, по словам историка Андрея Зорина, «мифологии всемирного заговора против России» – мифологии, столь характерной для всей последующей российской истории.
Тем не менее завоевание русскими турецких территорий продолжалось. В 1783–1801 годах Россией была захвачена Грузия, а в 1812 году – Бессарабия. В ходе войн с Османской Империей и Персией (в 1804–1813, 1826–1828 годах) Россия захватила Дагестан, Азербайджан и Армению, овладела устьем Дуная.
Проблема наследия ослабевшей Османской империи, именуемой императором Николаем I не иначе, как «больным человеком» (нуждающимся в скорейшей «эвтаназии»), получила название «Восточного вопроса», определявшего всю внешнюю политику России (а порой даже заставлявшую её, в нарушение «священного принципа легитимизма», но, исходя из своих имперских интересов, поддерживать «нелигитимные» революционные антитурецкие восстания – как революцию в Греции в 1820-ых годах). Пиком наступления Петербургской империи на Турцию стали 1830-ые годы, когда султан, фактически, признал себя вассалом Николая I, урезал суверенитет Турции в пользу петербургского императора, оказался в военной зависимости от него и был обязан, по первому требованию Петербурга, закрывать проливы для чужих военных эскадр.
Однако помощь Англии спасла Турцию от полного завоевания русскими и утраты национальной независимости. В 1853 году Николай I, решив покончить с «Восточным вопросом» и с «больным человеком» одним ударом и повторить с Османской империей то, что было столь ловко проделано при разделах Речи Посполитой, предложил Великобритании разделить Турцию (с передачей России Балкан, Валахии и Стамбула, а Англии – Египта и Крита). Англия отказалась от этого, и Россия вдруг столкнулась с объединением большинства европейских держав (даже таких вечных соперниц – как Англия и Франция), решительно выступивших против её агрессии. У «больного человека» оказалось неожиданно много здоровых защитников. Столкнувшись в 1853 году не только с ослабевшей Турцией, но и с коалицией Англии, Франции и Пьемонта, Петербургская империя была наголову разгромлена в Крымской войне. Это положило конец её гегемонии и экспансии в Европе, но не стремлению к захвату Балкан и проливов. Именно это упорное стремление продолжало определять внешнюю политику Российской Империи следующие полвека.
Основные задачи внешней политики России были ярко и отчётливо сформулированы в 1849 году знаменитым поэтом и крупным дипломатом Ф.И. Тютчевым, выразившим общее настроение и далеко идущие планы имперских правителей. Тютчев писал: «Россия защищает не собственные интересы, а великий принцип власти… Но если власть (на Западе) окажется неспособной к дальнейшему существованию, Россия будет обязана во имя того же принципа взять власть в свои руки…» Лишь два факта могли, по убеждению Тютчева, «открыть Европе новую эру. Эти два факта суть: 1) окончательное образование великой православной Империи, законной Империи Востока, одним словом, России будущего, осуществлённое поглощением Австрии и возвращением Константинополя; 2) воссоединение двух церквей, восточной и западной. Эти два факта, по правде сказать, составляют один: православный император в Константинополе, повелитель и покровитель Италии и Рима; православный папа в Риме, подданный императора». В этих словах предельно чётко сформулирована доктрина и стратегия внешней политики России в XVIII–XIX веках: воссоединение всех христиан во всемирной империи русского государя, переносящего свою столицу с берегов Балтики на берега Босфора, в Константинополь и подчиняющего своей власти всю Европу. Как известно, этим планам в полной мере не было дано осуществиться из-за упорного сопротивления европейских народов и разгрома России в Крымской войне.
Однако, потерпев временную (хотя и весьма ощутимую!) неудачу на юго-западе, Российская империя продолжила стремительную экспансию на юге и востоке, захватывая огромные земли и заполняя рынки Азии своими, пусть низкокачественными, но зато недорогими промышленными товарами.
В царствование Екатерины II начинается завоевание Кавказа и страшная столетняя Кавказская война (как мы теперь знаем, отнюдь не последняя, в истории России), растянувшаяся до 1864 года. Начиная с восстания вольнолюбивых горцев во главе с шейхом Мансуром в 1785 году, война русских захватчиков с жителями Кавказа приняла необычайно упорный и ожесточённый характер. Мощь военной машины империи столкнулась с разрозненным, но упорным сопротивлением свободолюбивых горцев. В этой войне на стороне ведущих партизанскую борьбу горцев были энтузиазм исламской веры, прекрасное знание горной местности, умелое владение тактикой партизанской войны и поддержка со стороны Турции, а на стороне русских войск – численный перевес и явное превосходство в дисциплине и вооружении, а также переманивание (путём подкупов и посулов) на свою сторону некоторых горских князей.
Весь XIX век Россия держала на Кавказе сто-двухсоттысячную армию. Эта армия проводила тактику «выжженной земли»: уничтожала сёла, вырубала просеки в лесах, строила крепости и дороги, массово переселяла кавказцев в другие районы России. Кавказская война ярко запечатлелась во всём своём трагизме в русской литературе: в произведениях А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и Л.Н. Толстого. Итогом Кавказской войны было опустошение и запустение Кавказа: часть населения была перебита, часть насильно переселена в далёкие степи, около миллиона горцев бежали в Турцию, спасаясь от оккупантов. России это завоевание стоило примерно двести тысяч погибших солдат. Но и завоёванный Кавказ, также, как и гордая Польша, стал «пороховой бочкой» в составе Российской империи, время от времени вспыхивая пожарами восстаний. Искры сопротивления не переставали тлеть в Дагестане и Чечне и в конце XIX – начале XX веков.
Впечатляющих масштабов достигла экспансия России на Тихом океане и в Средней Азии. В 1858–1860 годах Петербургская империя, воспользовавшись ослаблением Китая, захватила Приамурье и Уссурийский край. При Екатерине II начинается покорение русскими Северной Америки. Этим занялась Русско-Американская кампания. Россия захватила Аляску и часть восточного побережья Северной Америки. Однако на этих огромных и богатых землях находилось всего около шестисот русских колонистов, разбросанных по просторам Русской Америки. По словам Б. Кагарлицкого: «События Крымской войны в полной мере выявили неспособность России защищать свои американские владения и подготовили их передачу Соединённым Штатам». В 1868 году Аляска и другие владения России в Новом Свете были проданы США за 7,2 миллиона долларов. (Чуть позже там найдут колоссальные запасы золота и нефти).
Куда успешнее происходила агрессия Российской империи в Средней Азии. С 1850-ых годов до 1892 года русские войска захватили Казахстан и Среднюю Азию. В 1868 году был взят Самарканд, в 1873 году – Хива, в 1876 году – Фергана, в 1892 году – Памир. Русские отряды сжигали и безжалостно грабили города, истребляли население, оказывающее им сопротивление. В эти завоёванные земли хлынули русские колонисты и товары. Впрочем, столкнувшись в Афганистане, Персии, Средней Азии и на подступах к Индии с английскими купцами и военными, Российская империя была принуждена ограничить свою экспансию, разделив с Британской Империей (не без ожесточённых споров) сферы влияния.
Англии были предоставлены гарантии отказа Петербурга от завоевания Индии – главной «жемчужины» Британской короны. Средняя Азия была признана «вотчиной» России, а Персия и Афганистан поделены между двумя империалистическими державами в политическом и экономическом отношении (на юге владычествовала Англия, на севере доминировала Россия). В конце XIX века начинается активная экспансия России в Северном Китае (колонизация Маньчжурии) и происходит захват Россией Курильских островов у Японии (эти агрессивные действия Петербурга вскоре привели к войне с Японией).
Описывая колонизацию Россией Средней Азии, Б. Кагарлицкий отмечает: «Тип экспансии менялся. Ранее московская и петербургская власть стремилась любую завоёванную территорию сделать Россией. Теперь же Туркестан превращается в колонию, организованную в значительной мере по образцу Британской Индии, со своими «туземными элитами», чётким разделением на европейское и мусульманское общества, сосуществующие параллельно друг с другом».
Будучи полуколонией Запада (зависимой от него экономически, культурно, технологически и, во многом, политически), Российская Империя стремилась к созданию собственных колоний на Востоке. В конце XIX века, в правление Александра III, получившего льстивое прозвище «Царь-Миротворец», Российская империя приостанавливает непрерывные войны и всячески выступает за сохранение мира, равновесия и существующего положения вещей и границ.
Если не считать Балкан и Стамбула в Европе и Маньчжурии в Азии, Российская империя отныне не стремится к дальнейшим захватам и желает лишь удержать колоссальные завоёванные территории.
Однако нарастающее отставание от Европы и рост социальных и национальных противоречий внутри страны подтолкнули Россию к «маленькой победоносной войне» и привели империю к закономерным результатам: к сокрушительным разгромам в войне с Японией (в 1904–1905 годах) и в Первой мировой войне (1914–1918 годов), и, как следствие, к революциям, распаду и крушению огромной, но лоскутной и непрочной державы.
Отечественная война 1812 года и её влияние на историю России
Во всём несметном множестве войн, которые почти непрерывно вела Петербургская Империя со времён Петра I до эпохи Александра II, «гроза двенадцатого года» занимает совершенно особое место по своим масштабам и значению, став на целое столетие основанием национального Мифа (в его либеральной и державно-охранительной версиях). Ведь, если большинство других войн велись на окраинах или за границей за захват чужих земель или за интересы чужой дипломатии, то в этом случае непобедимый доселе враг вторгся глубоко на территорию России, захватил одну из столиц (Москву) и был разгромлен совместными действиями регулярных войск и партизан. А победа над Наполеоном высоко подняла престиж российского двуглавого орла как во всём мире, так – и особенно – в глазах собственных подданных, породив огромную гордость, надежды, иллюзии и разочарования.
Война 1812 года была важным звеном в цепи войн антифранцузских коалиций против революционной (а затем имперской) Франции. Непосредственной и главной причиной войны было постоянное нарушение со стороны России важнейшего (для Наполеона) условия Тильзитского мирного договора 1807 года – участия России в «континентальной блокаде» Британии. Тайно продолжая торговать с англичанами, Россия не давала Франции довершить разгром и удушение своего главного островного соперника. И потому Наполеон планировал нанести быстрый и сокрушительный удар по России, в приграничных сражениях вновь, как не раз уже бывало, уничтожить её армию и, подписав выгодный ему мир, вернуть её в систему «континентальной блокады» (разумеется, ни о каком «захвате» или «завоевании» России французами речи не шло). Другой важной причиной войны являлся «польский вопрос», демагогически и успешно используемый французским императором, постоянно сулившим полякам восстановить утраченную независимость их страны, что привлекло под его знамёна почти сто тысяч преданных польских бойцов и вызывало понятное бешенство в Петербурге, страшившемся возрождения Польши, которое означало бы начало конца Российской Империи.
«Великая армия» Наполеона (таково было её официальное название) насчитывала свыше полумиллиона солдат, вдвое превосходя противостоящие им регулярные армии русских, благодаря порочной и архаической рекрутской системе не имевших серьёзных мобилизационных резервов. В союзе с Наполеоном выступали его сателлиты Австрия и Пруссия (выставившие небольшие отряды), тогда как союзницами России выступали Швеция и Англия. (Долгая война с Турцией была успешно завершена Россией как раз накануне наполеоновского вторжения.) Лишь половину армии вторжения составляли французы; остальные части были собраны со всей подвластной великому императору Европы. Во главе этой армии стоял непобедимый и гениальный полководец и его замечательные маршалы.
Однако война, задуманная с расчётом на несколько недель, неожиданно затянулась из-за применявшейся русскими «скифской тактики». Отступающие русские армии сначала заманили Наполеона от Вильны к Смоленску (где произошло первое крупное сражение), а затем к Москве. С одной стороны, коммуникации Великой Армии растягивались, она несла потери и стремительно уменьшалась, тая на российских, просторах, как снег весной. С другой стороны, среди правящих слоев Российской Империи усиливалось возмущение по поводу отступления армии и желание поскорее сразиться с неприятелем.
Поэтому новый главнокомандующий русской армией фельдмаршал М.И. Кутузов, уступая общественному мнению и настояниям Александра I, дал 26 августа 1812 года генеральное сражение французам у села Бородино под Москвой. В этом сражении, в котором полегли сорок тысяч русских и тридцать тысяч французов, Наполеон одержал долгожданную победу, выбил русскую армию со всех её позиций и лишил её боеспособности, однако, не сумел полностью её уничтожить. Кутузову удалось увести часть армии с поля битвы.
После этого Москва была занята наполеоновской армией, а русская отступила под Калугу в село Тарутино. Пожар Москвы (подожжённой по приказу её градоначальника Растопчина) и партизанское движение ослабили французов. Их полки редели, дисциплина падала, неопределённое ощущение полупобеды-полупоражения разлагало армию. Москва оказалась не трофеем, а ловушкой для Великой армии Наполеона.
Единственной мерой, которая могла бы гарантировать полную победу Наполеону, была бы отмена им крепостного права в России, что, несомненно, обратило бы к нему симпатии русского крестьянства и сделало бы положение Кутузова окончательно безнадёжным. Однако Бонапарт, будучи уже не революционным генералом, несущим народам Европы свободу от феодальных уз, а императором, следующим монархической логике и полагающимся на армию, а не на революционные меры, так и не решился на это (как не решился на обещанное возрождение Польского государства). В результате, русские крестьяне, первоначально безразличные к происходящему или даже видевшие во французах освободителей от крепостного рабства и кое-где начавшие громить усадьбы своих помещиков, увидели в них отнюдь не освободителей, а лишь мародёров, грабителей и захватчиков – зло новое и даже худшее, чем собственное российское начальство.
Партизанские нападения, растянутые коммуникации, зимние морозы и плохое снабжение добили Великую Армию. Военный гений Наполеона позволил ему лишь вывести из России только 30–50 тысяч своих воинов (правда, среди них была почти вся гвардия и ядро офицерского корпуса, что позволило ему в несколько месяцев восстановить армию), однако, кампания была им безнадёжно проиграна (в третий раз за всю его долгую полководческую карьеру – после Египта и Испании). В России погибшими (от ран, голода, эпидемий и холодов) и пленными остались более четырёхсот тысяч французов и других солдат Наполеона. Потери русской армии оцениваются в 300 тысяч человек; велики были и жертвы со стороны мирного населения.
За войной 1812 года (велеречиво объявленной самодержавием «Отечественной») последовали заграничные походы 1813–1814 годов, Венский конгресс держав-победительниц, разделивших Европу, создание «Священного Союза» императоров, военное господство России в мире, крушение империи Наполеона.
Итоги войны 1812 года для русского народа и Российской Империи парадоксальны и противоречивы. Русская армия освободила свой народ от французского нашествия – но он остался «завоёванным» под гнётом крепостной неволи и царского абсолютизма. Общие надежды крестьян (и небольшой части дворян) на то, что Александр I теперь дарует России конституцию и отменит крепостное право (ибо нельзя же, сегодня, взывая к патриотизму и гражданственности народа, завтра продавать этот народ, этих «граждан» и «патриотов», словно скот!), не оправдались: крепостное право сохранилось, а в политике Александра I начался поворот к реакции.
Конституцию получало лишь Царство Польское (в составе России), а «волю» (но без земли!) лишь крестьяне Прибалтики – всё ограничилось этими жалкими конституционно-освободительными «экспериментами».
Раскрепощённое войной общество было разочаровано и вступило в конфликт с Империей. Освободив от французского владычества народы Европы, русские войска принесли им на своих штыках гнёт новых (старых) хозяев: дискредитированных феодальных герцогов, принцев и королей. «Освобождение Европы» обернулось реакцией, главным проводником которой, быстро вызвавшим всеобщую законную ненависть явилась Петербургская Империя. Впрочем, русский самодержец Александр I, в борьбе с бывшим революционным генералом Бонапартом, порой использовал республиканскую риторику и часто проявлял в Европе невиданный на родине «либерализм». Он добился установления конституции во Франции (но не решился даровать её России) и последовательно выступал за отмену мировой работорговли неграми (но не отменил работорговлю в России). В Европе на конгрессах монархов этот, по выражению Пушкина, «кочующий деспот», чувствовал себя лучше и увереннее, чем в своей стране. Легко и приятно порой «освобождать» далёкие народы, однако, куда опаснее и досаднее, когда они вдруг начинают освобождать себя сами, без высочайшего соизволения!
Поразительны пируэты отношения к Наполеону в официальной пропаганде России начала XIX века (их можно сравнить, пожалуй, лишь с пируэтами отношения советского руководства к режиму Гитлера до и после 1939 и 1941 годов; вообще, между «отечественными» войнами 1812 года и 1939–1945 годов можно провести немало параллелей). До 1807 года, по повелению Александра I, Наполеон был объявлен в России ни много, ни мало, как… самим Антихристом, которому объявляли «анафему» во всех церквях. А, после Тильзитского мира 1807 года, «Антихрист» вдруг оказался союзником России по разделу мира и «любезным братом» государя, едва не женившимся на русской принцессе. В 1812 году, однако, «Антихрист» снова стал «Антихристом». Нетрудно догадаться, какое впечатление эти зигзаги «генеральной линии» производили на не слишком искушённое в дипломатии население России.
Отечественная война 1812 года консервировала и легитимизировала самодержавный режим (резко повысив его авторитет в мире и стране) и стала базовым Мифом национального самосознания (наряду с «петровским Мифом»). На этот Миф опирались и консерваторы, реакционеры, монархисты, «квасные патриоты» (раз «мы победили Наполеона», Россия – самая-самая великая страна в мире, всё в ней хорошо, никакие перемены не нужны), и либералы, республиканцы, революционеры («как же так: мы победили Наполеона, а так плохо живём, хуже, чем Европа, хотя наш народ достоин лучшей участи?»). Заграничные походы русских войск, позволившие офицерам поближе узнать европейские обычаи и идеи и сблизиться с собственными солдатами – вчерашними крестьянами, вместе с чувством гордости, породили в них «гражданскую скорбь» и способствовали раскрепощению наиболее живой и активной части общества. «Детьми 1812 года» называли участников «тайных обществ» – будущих «декабристов». Из 1812 года родились господство России в Европе в качестве «жандарма» и восстание 14 декабря 1825 года, безграничное «патриотическое» самодовольство и гражданский стыд и протест, Пушкин и Бенкендорф, «теория официальной народности» и революционное движение…
Вторжение Великой Армии «двунадесяти языков» во главе с самим Наполеоном, пожар Москвы, изгнание врага, кровопролитные сражения – все эти события глубоко потрясли всё русское общество, существенно повлияв на формирование национального самосознания. Они были воспеты во множестве стихов, пьес, романов, мемуаров, запечатлены в картинах, статуях, храмах, в народных песнях и официальных доктринах.
Русско-английские отношения в XVIII–XIX веках
Британская империя в XVIII–XIX веках была, несомненно, признанным мировым лидером (владеющим огромными и богатейшими колониями, мощнейшим флотом, наиболее развитой и передовой промышленностью), а также главным экономическим партнёром России. В середине XIX века на долю Англии приходилось 34 процента объёма русского экспорта и импорта. Поэтому сложные отношения Петербургской Империи с Британской Империей во многом определяли всю внешнюю политику России. «Житница мира» (Россия) и «мастерская мира» (Великобритания) были тесно связаны между собой разнообразными узами.
В XVIII – первой половине XIX веков Россия, в основном, послушно двигалась в фарватере английской внешней политики, вывозя на «туманный Альбион» зерно, лес и другое «сырьё», ввозя из неё промышленные товары. Редкие случаи противостояния русского двуглавого орла британскому льву (в Семилетней войне 1756–1763 годов, в 1800–1801 годах, после Тильзитского мира в 1807–1812 годах (когда Россия по воле Наполеона была присоединена к режиму «континентальной блокады»), во время Крымской войны 1853–1856 годов), как правило, приводили к острым экономическим и политическим кризисам в России, к смене власти или проводимого ею курса. Торговля с Англией была одной из главных основ российской экономики. Большинство русских либералов были завзятыми англоманами, считавшими парламентскую конституционную монархию английского образца идеалом для подражания.
Будущий декабрист Фонвизин так красочно описывал последствия разрыва императора Павла I с Англией в 1800 году, (когда Петербург заключил неожиданный союз с вчерашним врагом – Наполеоном, начал вторжение в Индию и запретил ввоз в страну английских товаров): «Разрыв с нею наносил неизъяснённый вред нашей заграничной торговле. Англия снабжала нас произведениями и мануфактурными, и колониальными за сырые произведения нашей почвы. Эта торговля открывала единственные пути, которыми в Россию притекало всё для неё необходимое. Дворянство было обеспечено в верном получении доходов со своих поместий, отпуская за море хлеб, корабельные леса, мачты, сало, пеньку, лён и прочее. Разрыв с Англией, нарушая материальное благосостояние дворянства, усиливал ненависть к Павлу, и без того возбуждённую его жестоким деспотизмом. Мысль извести Павла каким бы то ни было способом сделалась почти всеобщей». Не удивительно, что вскоре – в марте 1801 года – Павел I был убит. В заговоре активно участвовало английское посольство в Петербурге. Поход казаков атамана Платова на Индию был прекращён, а новый император Александр I восстановил союз России с Англией, отменив запрет на ввоз в страну английских товаров. По ехидному, но справедливому замечанию Б. Кагарлицкого: «Благодаря государственному перевороту и цареубийству свобода торговли восторжествовала».
Сходными были последствия для России Тильзитского мира и участия в «континентальной блокаде». Экспорт хлеба из России упал в пять раз, в четыре раза понизился курс бумажного рубля, были разорены многие помещики и торговые дома, в обществе зрело недовольство – на этот раз уже против самого отцеубийцы Александра I. Русские дворяне и вся экономика России находились в полуколониальной зависимости от Англии. В 1838 году из России на запад вывезли 20 миллионов пудов пшеницы, а в 1853 году – уже 64,5 миллионов пудов. Подавляющая часть этого зерна шла на английские рынки.
Однако со второй четверти XIX века начинают усиливаться и противоречия между Лондоном и Петербургом. Во-первых, Англия никак не давала России уничтожить Османскую империю и захватить проливы Стамбула (жизненно необходимые для вывоза того же русского зерна). Во-вторых, Англия была недовольна протекционистской политикой русских императоров, не позволявшей совсем разоряться отсталой и неконкурентоспособной русской промышленности и захлестнуть Россию потоку английских дешёвых и качественных товаров. В-третьих, Англия побаивалась вторжения русских войск в Индию – основу своего могущества, помня о соответствующих планах Петра I и о начале такого же вторжения при Павле I в 1801 году, когда русские казаки чуть было не омыли копыта своих коней в Индийском океане. В-четвёртых, в середине XIX века начинается ожесточённая борьба между Россией и Англией за политическое влияние и за рынки Азии (в Афганистане, Персии, Турции, Средней Азии и Китае).
Англия помогала Османской империи выстоять против российской экспансии в Крымской войне, а также позднее помогала Японии (деньгами, оружием и военными специалистами) разгромить Россию в войне 1904–1905 годов. Эта торговая, дипломатическая и военная конкуренция – порой весьма жёсткая и доходящая до прямых столкновений и угроз, однако, завершилась к началу XX века разделом сфер влияния в Азии российскими и английскими империалистами: Индия была объявлена неприкосновенной для России, Турция и Афганистан стали сферами влияния Британской Империи, Средняя Азия была оккупирована Россией, а Персия и Китай были поделены между державами на сферы влияния. Это стратегическое урегулирование в колониальных спорах впоследствии позволило Петербургу примкнуть к Антанте (союзу Франции и Англии) и выступить на её стороне против Германии и Австро-Венгрии в Первой мировой войне. А доминирующее позиции английского капитала в российской экономике были потеснены в конце XIX века французскими, немецкими и бельгийскими капиталистами.
Крымская (Восточная) война 1853–1856 годов
Если Северная война 1700–1721 годов и Отечественная война 1812 года обозначили начало и взлёт военного могущества Российской Империи, то Крымская (Восточная, как её называют в Европе) война 1853–1856 годов положила конец этому могуществу и обозначила начало неудержимого краха Петербургской Империи. При этом те же самые причины, которые позволили Российской Империи победить в двух первых войнах: рабская экономика и армия, милитаризация и бюрократизация всей жизни, безудержная экспансия, готовность идти на любые жертвы со стороны населения ради роста мощи Империи, экстенсивные методы экономического роста, – привели её к катастрофе в третьей из этих войн.
Располагая полуторомиллионной армией (самой огромной в мире), считая Пруссию и Австрию своими союзниками и будучи уверен в невозможности коалиции Англии и Франции, Николай I решил одним ударом уничтожить Османскую империю. Однако он просчитался. По верным словам историка В.Я. Хуторского: «Опыт Николая, как ранее Наполеона I, а позднее Гитлера, продемонстрировал, что, как бы ни была сильна та или иная страна, ей не выдержать войны с коалицией других великих держав».
Стремясь удержать за своей империей господство в Европе, решить внутренние проблемы за счёт военных побед и захватить наконец вожделенные проливы Стамбула, Николай I начал в 1853 году войну с Турцией. Поводом к войне стал спор о «святынях» Палестины: православная и католическая церковь спорили о том, кто будет контролировать священные места, связанные с жизнью и смертью Христа. Кроме того, Николай I нагло потребовал от султана признать себя «покровителем» всего православного населения Османской Империи (что означало ликвидацию её суверенитета: представим, что султан потребовал бы от царя признать его «покровителем» всех мусульман России!). Разумеется, Турция не могла принять этих требований, и была дружно поддержана почти всеми европейскими державами. Англия и Франция приняли коллективное обязательство: защищать неприкосновенность Турции от русской агрессии, а Австрия и Пруссия отказались поддержать Россию. Напротив, Австрия объявила мобилизацию, придвинула к русской границе армию и заставила Россию вывести свою армию вторжения из захваченных ею турецких «Дунайских княжеств»: Молдавии и Валахии.
Так летом-осенью 1853 года началась крупнейшая со времён наполеоновских войн, война XIX века, – Крымская (Восточная) война. В этой войне вместо одной ослабевшей Турции Петербургской Империи противостояла коалиция Англии, Франции, Пьемонта и Османской империи. Николай I оказался со своим режимом в полной изоляции.
18 ноября 1853 года в Синопской битве – последней в истории битве парусных флотов – русская эскадра адмирала Нахимова уничтожила турецкую эскадру. В ответ на это в Чёрное море вошла эскадра союзников. Начавшаяся война охватила полмира: английские и французские корабли обстреливали Архангельск, Кронштадт, Одессу, Соловецкий монастырь, попытались (неудачно) высадить десант в Петропавловске-на-Камчатке. Военные действия происходили и на Кавказе, где русские войска захватили мощную турецкую крепость Карс. Столкновения охватили Балтику, Белое море, Тихий океан, Закавказье. Параллельно продолжалась война на Кавказе между русскими захватчиками и свободолюбивыми горцами.
Однако целью (успешно осуществлённой) атак союзников было лишь отвлечь русские армии по всем огромным границам империи. Главным же театром войны оказался Крым. Абсолютно доминируя на морях, Британия имела в этой войне стратегическую инициативу, выбирая направление главного удара. Удар по Крыму был рассчитан совершенно точно: союзники не желали ввязываться в большую сухопутную войну против России, дабы не повторить неудачу Наполеона I, а хотели лишь поставить на место зарвавшегося Николая I и быстро, победоносно закончить войну. По словам Б. Кагарлицкого: «потеря черноморских крепостей и флота была для Российской империи крайне болезненна, но само по себе черноморское побережье не было символически важно для национального сознания, удалено от основных центров мобилизации русской армии и доступно для западного флота».
Сокрушительный разгром русской армии был закономерно предопределён всей послепетровской историей России – ставшей главным оплотом европейской реакции (в страхе перед её экспансией сплотились различные, всегда враждующие между собой, европейские державы), безнадёжно отставшей и прогнившей, полной самодовольства, иллюзий и «шапкозакидательских» настроений. Международная изоляция Петербургской империи, всеобщая ненависть европейских народов к мировому «жандарму» и военно-техническая отсталость России (как следствие её социальной, политической и культурной отсталости) предопределили исход войны. Ни героизм русских моряков, ни таланты русских адмиралов (Нахимова и Корнилова), ни огромные просчёты, ошибки и плохая скоординированность в действиях англо-французского командования не могли повлиять на исход войны, лишь немного продлив её и приумножив бессмысленные жертвы с обеих сторон.
Русский парусный флот не мог противостоять паровому флоту англичан и французов (и был годен лишь на затопление на рейде севастопольской бухты, не сделав ни одного выстрела по врагу). Коррупция, охватывающая всю систему российской Империи, ужасное бездорожье, палочная муштра в армии, нехватка образованных кадров и техническое отставание сделали своё дело. Винтовые ружья союзников в четыре раза превосходили по дальности стрельбы архаичные гладкоствольные ружья русских солдат. Если в 1800 году в России выплавлялось столько же чугуна, сколько и в Англии, то в 1860 году – в 13 раз меньше! Промышленная революция на Западе почти не затронула Россию – страну с деспотическим самодержавием, крепостным рабством, крепостной промышленностью и рабской армией. Осадив Севастополь, союзники тотчас проложили к нему железную дорогу. Им было легче подвозить войска и снаряжение под Севастополь (из Западной Европы!), чем защитникам Севастополя – из России с её бездорожьем, воровством, коррупцией и отсутствием нормальных коммуникаций. Армия, основанная на страхе, палочной дисциплине и рабском повиновении, не могла противостоять европейским солдатам.
События развивались следующим образом. В сентябре 1854 года шестидесятитысячный десант союзников высадился в Крыму. Разбив русскую армию на реке Альме и в ряде последующих сражений и отбросив её со своего пути, союзники осадили Севастополь. Из рук вон скверное командование действиями английских и французских войск (и их взаимная конкуренция), а также отчаянное сопротивление русских продлили агонию русской армии, но не могли спасти её от катастрофы. Через год обороны – к осени 1855 года – Севастополь был сдан русскими. Несмотря на троекратный численный перевес над противником, русская армия в Крыму была разгромлена.
Обе стороны не были заинтересованы в долгой полномасштабной войне. В ходе Крымской войны с обеих сторон погибло примерно по сто пятьдесят тысяч человек. Франция стремилась к скорейшему миру (боясь усиления Англии и Пруссии). По её инициативе в марте 1856 года был заключён Парижский мир – не столь тяжёлый для России, каким он мог бы быть, учитывая масштабы её разгрома, но всё равно позорный и унизительный (особенно на фоне её былого имперски-милитаристского могущества). По мирному договору гарантировалась территориальная целостность Османской империи. У России отбиралось устье Дуная. России и Турции запрещалось иметь военные флоты и крепости на Чёрном море, которое объявлялось нейтральным (впрочем, уже через 15 лет военное присутствие России на Чёрном море, в нарушение условий Парижского мира, было восстановлено). Крым возвращался России, а Карс – Турции.
Крымская война покончила как с военным господством России в Европе, так и с самодовольными иллюзиями и с незыблемостью Петербургской Империи, продемонстрировав, что этот колосс был колоссом на глиняных ногах, прогнившим изнутри. Тотальная гнилость и отсталость петербургского режима, военная слабость, экономическое бессилие, культурная отсталость, непригодность государственного аппарата базировались на крепостном праве, как своей первопричине.
Настроения русского общества по поводу итогов Крымской войны ярко выразил поэт-монархист и видный дипломат Ф.И. Тютчев, писавший о падении Севастополя: «И это только справедливо, так как было бы неестественно, чтобы тридцатилетнее господство глупости, испорченности и злоупотреблений увенчалось успехом и славой… По-видимому, то же бессмыслие, которое наложило свою печать на наш политический образ действий, присуще и нашему военному управлению. И не могло быть иначе. Подавление мысли уже давно было руководящим принципом нашего правительства. Последствия подобной системы не могут иметь пределов. Ничто не было пощажено. На всём отразилось это давление. Всё и все сплошь одурели…»
Победы под Полтавой и на Березине неизбежно вели и привели Россию к севастопольской катастрофе. И, как те победы консервировали и укрепляли самодержавный деспотический режим (ибо «победителей не судят»), так и это поражение принесло некоторое горькое отрезвление, показало всю бездну падения Петербургской России со времён Петра I и породило «Великие Реформы» Александра II.
6.2.2. Самодержавие: изгибы «генеральной линии»
Со смертью Петра I в русском государстве сложилась довольно парадоксальная ситуация: абсолютизм монарха, не подконтрольного обществу, сочетался с его полной зависимостью от гвардии, бюрократической машины, придворных группировок, собственных фаворитов, зарубежных посольств. Итогом стала чехарда дворцовых переворотов, когда вокруг трона мелькали «временщики», а нередко свергались и непременно убивались сами монархи.
При всём хаосе мелькающих правителей России общий вектор движения Империи за полтора века от смерти Петра I до воцарения Александра II (1725–1855) не изменился, а в политической жизни наблюдались некоторые общие закономерности: постепенное увеличение роли дворянства (достигшее своего пика в правление Екатерины II и Александра I: 1762–1796, 1801–1825), как опоры трона и правящего сословия, чередование периодов реформ с жёстким «закручиванием гаек», попеременный приход к власти группировок, использующих более «либеральную» и более «авторитарную» риторику, групп, опирающихся на «про-немецкое» и «про-русское» окружение.
Впрочем, несмотря на чередование на троне монархов, использующих то «реформаторскую», то «авторитарную», то «про-русскую», то «про-немецкую» фразеологию, неизменным оставалось главное: военно-полицейско-бюрократический характер самодержавия, его связь с крепостнической основой русской жизни и возрастающая зависимость от европейской экономики и политики. Все русские самодержцы опирались на армию, растущее чиновничество, все видели в военных завоеваниях лучший способ сохранения и упрочения своей власти внутри России, все не желали поступаться ни малейшими привилегиями и прерогативами абсолютизма (даже если, как Александр I, частично осознавали весь его антинародный, бесчеловечный, насильственный, искусственный и деспотический характер и мечтали уйти от власти в частную жизнь). Безудержная роскошь двора, непрерывные войны и насаждение в России «просвещения» (весьма поверхностного) «прожигали» колоссальные средства, извлекающиеся из русского крестьянства. Взгляд государя на своих подданных, как на бесправных «холопов», присущий ещё Ивану IV и Петру I, оставался в силе. Так, продолжая их традиции, Павел I решительно заявил: «Дворянин в России – только тот, с кем я разговариваю и только до тех пор, пока я с ним разговариваю».
Если московский князь XIV века зависел исключительно от хана Золотой Орды, но в своём княжестве всех превращал в рабов, то схожая ситуация повторялась в Петербургской Империи XVIII–XIX веков. Императоры зависели от европейских технологий, товаров, инвестиций, капиталов, нередко «продавая» свои армии как «пушечное мясо» на нужды большой европейской политики, но зато внутри России они не зависели ни от кого. Напротив, всё общество тотально зависело от них и образовывало «вертикаль власти», которая была «вертикалью рабства» (Герцен называл крепостных по отношению к дворянам «рабами рабов»). Встраивая Российскую Империю в европейскую систему, самодержец бесконтрольно выстраивал в стране собственную иерархию «рабов».
Какие факторы влияли на изменения политического курса самодержавия? Удачи и поражения в войнах, мода на Просвещение, а затем страх перед «революционной заразой», идущей из Европы, возрастающая роль дворянства, в ходе ряда переворотов, требующего расширения своих прав и привилегий, крестьянские восстания (особенно, пугачёвское). Всё это, накладываясь на личные вкусы, взгляды и пристрастия императоров и императриц, создавало различные колебания и оттенки курса самодержавия, порождало реформы и реакцию. Однако общий вектор развития империи и её «несущая конструкция» на протяжении полутора веков оставались неизменными.
Великая Французская Революция, а затем наполеоновская империя и, наконец, европейские революции 1820-ых годов, 1830-го и 1848–1849 годов, потрясли и напугали российских самодержцев. Они заставили их отбросить «просветительскую» риторику, прекратить реформы и начать отстраивать «Железный Занавес» между Россией и Европой и предлагать свои услуги для дела военного подавления революций. Но, вместе с тем, эти же события подтолкнули к некоторым переменам, поставив на повестку дня вопрос об отмене крепостного права и введении конституции (впрочем, ни то, ни другое не было тогда сделано). А многие просвещённые люди в России, напуганные «ужасами» революции и тревожно прислушивающиеся к раскатам грома с Запада, обратились к консерватизму, полагая, что кладбищенский покой и стабильность России лучше, чем европейские кровавые потрясения и конфликты (наиболее яркие примеры тому: Н.М. Карамзин, а чуть позднее – славянофилы).
Основы Петербургской Империи, заложенные Петром I, не подвергались сомнению и изменениям со стороны власть имущих вплоть до середины XIX века. Крепостное право, самодержавие, агрессивная экспансионистская внешняя политика, крепостная промышленность, экстенсивные методы ведения хозяйства, опора императора на армию и чиновничество – все эти важнейшие черты Петербургской Империи оставались незыблемыми и лишь подвергались более или менее существенным переделкам, уточнениям, колебаниям, в рамках сохранения «генеральной линии».
Страх перед новой крестьянской войной, боязнь чрезмерного усиления дворянства, желание сохранить за собой роль демиурга-творца и верховного арбитра во всех вопросах, осознание неэффективности крепостной экономики и армии – всё это заставляло императоров, начиная с Екатерины II и до Николая I, задумываться об ограничении или отмене крепостного права. С другой стороны, боязнь дворянского заговора и дворцового переворота, понимание того, что самодержавие и крепостничество неразрывно связаны между собой (генетически, психологически, административно, социально-политически), и ликвидация второго неизбежно пошатнет устои первого, удерживали монархов от решительных действий. Поэтому императоры не посягали ни на крепостное право (даже если лично и считали его не слишком гуманным институтом, как Екатерина II и Александр I), опасаясь неизбежного недовольства дворян и, естественно, не ограничивали собственного самовластия (даже если драпировали его в европейские одежды «законности», «просвещённости» и поговаривали о конституции и о «разделении властей» (под эгидой самодержавия), как Александр I).
Все реформы политического устройства от Петра I до прихода Александра II носили довольно незначительный, косметический характер, лишь слегка подновляя и упорядочивая здание петровской империи. Логика крепостничества, самодержавия, военной экспансии, всевластия бюрократии не допускала иных сценариев (да эти сценарии вплоть до начала XIX века – появления тайных обществ – почти и не предлагались обществом). Лишь тотальный кризис системы и катастрофа Крымской войны заставили Александра II пойти на «Великие реформы».
Тем не менее, постоянные колебания (в рамках указанной «генеральной линии»), подобно движению маятника, были присуща политике русских императоров. Ведь, с одной стороны, самодержавие опиралось на крепостное право (и на крепостническое дворянство) – в социальном, политическом, экономическом и психологическом отношениях; с другой стороны, потребности армии требовали развития экономики, создания более совершенной системы управления, развития инициативы у подданных, появления большего числа образованных специалистов, а всё это приходило в противоречие с крепостной системой. Этот парадокс определял собой непрерывные колебания самодержавия: от реформ к стагнации. При этом даже цари-«реформаторы» обычно, к концу своего правления, переходили к политике откровенной реакции (как Екатерина II, Александр I и Александр II), а цари-«реакционеры» не отрицали необходимости частичных реформ и лишь стремились отложить их на потом (как Николай I).
Внешние атрибуты «цивилизованности» и «законности» прикрывали вопиющее беззаконие, царящее в России. Так, несколько проектов государственных реформ в XIX веке (начиная с проектов М.М. Сперанского) – впрочем, нереализованных, – предусматривали даже «разделение властей»: судебной, исполнительной и законодательной, однако… при сохранении абсолютизма, венчающего это красивое игрушечное здание с европейским фасадом и азиатским содержанием. Но даже такая, чисто косметическая реформа, показалась чрезмерной самодержцу. А кодификация (то есть систематизация и издание) законов Империи при Николае I (кстати, осуществлённая всё тем же безотказным М.М. Сперанским) создавала видимость «законности» и «упорядоченности», хотя и «внизу» (на уровне конкретных чиновников) и «наверху» – на уровне ничем не ограниченного монарха – царило полнейшее беззаконие власти и бесправие подданных.
От Петра I до Александра II императорами создавались бесчисленные комитеты и комиссии по подготовке реформ и выработке новых законов (почти всегда – тайные, кулуарные, за исключением Уложенной Комиссии 1767–1768, созванной Екатериной II и выбранной от сословий). Но эти комитеты и комиссии почти всегда распускались императорами без видимых результатов. Вопрос об отмене крепостного права и введении конституции в эпоху Александра I обсуждался лишь кулуарно – но без видимых результатов, – всё ограничивалось прожектами и полумерами. Николай I, разумеется, и слышать не хотел ни о какой конституции, а постепенную отмену крепостного права считал в принципе правильной мерой, – но несвоевременной, и также «заболтал» этот вопрос во множестве «негласных комитетов» (как острили в обществе: «безгласных комитетах»).
Отсутствие дозволенного и явно существующего общественного мнения, легальной политической жизни, свинцовый пресс самодержавия, давящий всё живое в стране, растущая ненависть между сословиями, раскол дворян на небольшую, но активную группу сторонников преобразований и на консервативное большинство, порождали в России всё более острый кризис политической системы. Порождённое петровскими реформами, здание императорской власти в России, как и другие детища великого реформатора, было пронизано неизбывными и нарастающими противоречиями, которые со временем лишь усугублялись.
Постоянная реформаторская риторика – при сохранении абсолютистской сущности режима (и оборачивающаяся лишь непрерывной бюрократической суетой по «перелицовке фасада»); безграничность царской власти – при полной зависимости государя от собственного окружения, западных посольств, чиновничества и настроений гвардии; опора императора на армию и необходимость развязывания и ведения постоянных завоевательных войн – при риске в случае поражения столкнуться с революционным взрывом; всё большая роль российского императора в европейской политике – при экономической и технической зависимости России от Европы – вот лишь некоторые парадоксы и противоречия самодержавной власти в России XVIII–XIX веков. Какова была идеология Петербургской империи? Подобно тому, как в основе жизни традиционных архаических обществ лежал Миф о «культурном герое» – зачинателе и создателе цивилизации, прародителе человечества и его благодетеле, принёсшим невежественным людям сакральное и необходимое знание (огонь, орудия труда, способы обработки земли, приручение диких животных и т. д.), в основе идеологии самодержавия лежал Миф о Петре I Великом, культ его личности. На него ссылались, ему подражали, к нему вновь и вновь «возвращались», его считали идеалом правителя, поистине небожителем. Образцом для себя Петра I считали Павел I и Николай I с их жёсткой, реакционной, полицейско-бюрократической политикой. Благодаря этому Мифу к власти пришла дочь Петра Елизавета («Знаете ли вы, чья я дочь?» – спросила она гвардейцев, призвав их к совершению переворота). И даже более «либеральная» и совсем чужая для России немецкая принцесса Софья-Фредерика-Августа Ангальст-Цербстская (Екатерина II) всячески старалась подчёркивать преемственность своей политики с политикой Петра I. Не случайно на воздвигнутом по её повелению памятнике Петру I («Медном Всаднике» Фальконе) была начертана многозначительная надпись: «Петру Первому – Екатерина Вторая», неявно подразумевающая, что «Вторая» закончила дело, начатое «Первым» по созданию великой всемирной империи. Имперские идеалы с их пафосом агрессивного милитаризма, державности, военной экспансии, дополнялись петровской идеей «служения» – служения подданных государю и необходимости для русских «всему учиться у Запада». Поверхностно усвоенные идеалы Просвещения, на уровне моды и фразы позаимствованные из Европы, накладываясь на крепостническую реальность русской жизни, порождали среди власть имущих крайний цинизм, беспринципность, двоемыслие и вели к возведению лицемерия в ранг государственной политики.
Дворцовые перевороты чаще всего облекались в словесную форму борьбы «русской» и «немецкой» группировок: националистическая фразеология была призвана обосновать законность цареубийств и переворотов. (Так, Елизавета Петровна взошла на трон под лозунгом отстранения от власти «постылых немцев» Анны Иоанновны). Патриотическая риторика позволяла легитимизировать перевороты в глазах дворян. Порой доходило до курьёза: чистокровная немка Екатерина II в 1762 году клялась в вечной любви к России и обвиняла в «немецкости» убитого по её приказу своего супруга Петра III.
«Прорусские» и «пронемецкие» группировки с точностью колебаний маятника сменялись вокруг трона. На смену «пронемецким» государыням Анне Иоанновне, а затем Анне Леопольдовне (1730–1741) пришла «прорусская» Елизавета Петровна (1741–1761), затем – «пронемецкий» Пётр III (1761–1762) был свергнут и убит «прорусской» немкой Екатериной II (1762–1796), её сменил – «пронемецкий» Павел I (1796–1801), его – «прорусский» Александр I (1801–1825), а его – вновь «пронемецкий» Николай I (1825–1855). Однако вся эта риторика, создавая идеологическую завесу сменам курса, была весьма условна и бесконечно далека от реальности, поскольку все самодержавные режимы (вне зависимости от использования «патриотических» ярлычков и выдвижения на руководящие посты «русских» или «немецких» сановников), в равной степени ощущали и вели себя в России, как в завоёванной вражеской стране: расхищали её ресурсы и богатства, опирались на военную силу (а имперские завоевания использовали в качестве главного аргумента собственной легитимации), ориентировались на «европейские» образцы и идеи для государственного управления. А самодержцы – по рождению, крови, воспитанию, языку, привычкам были, разумеется, скорее, немцами, чем русскими людьми, уверенно чувствовали себя лишь в окружении армии и гвардии, были бесконечно далеки от русских крестьян-общинников и воспринимали их лишь как «завоёванных» Империей налогоплательщиков, рабов и поставщиков рекрутов.
Поэтому «прорусскость/пронемецкость» правящих в данный момент кланов была весьма относительной, позёрской, декоративной, декларативной и не шла дальше фразеологии и «кадровой политики» (ибо в жилах русских императоров после смерти Петра II текла почти исключительно немецкая кровь, самодержавное государство было организовано на западный манер, а правящая династия постоянно пополнялось за счёт немецких принцев и принцесс, и было абсолютно чуждо и враждебно основной массе народа, равно страдавшей от гнёта как со стороны «прорусских» так и со стороны «пронемецких» клик). Регулярное же выдвижение на вершины власти прибалтийских (остзейских) немцев: от Бирона и Миниха при Анне Иоанновне, до министров Николая I: Нессельроде, Бенкендорфа, Дубельта, Клейнмихеля и прочих, – было обусловлено как известной немецкой исполнительностью, организованностью, педантичностью и дисциплинированностью, так и отчасти объяснялось следующим откровенным изречением Николая I: «Русские дворяне служат России, а немецкие – нам». Будучи чужаками в России, немецкие чиновники и офицеры видели в троне свою единственную опору и служили ему на совесть.
И Пётр III, и Павел I, опасаясь усиления русской гвардии, пытались противопоставить ей привилегированные отборные воинские части, зависимые лично от них, не связанные с русским дворянством и состоящие, в основном, из немцев («голштинцы» Петра III и «гатчинцы» Павла I) – что, впрочем, не спасло от гибели и свержения обоих императоров. Эта национальная «окраска» породила устойчивый и притягательный миф о «немецкости» и «антинародности» Петербургской империи (будто бы отделившей «органичное» развитие самодержавия от народа посредством «немецкой бюрократии») – миф, разделявшийся и славянофилами, и Ф.М. Достоевским, и даже, отчасти, А.И. Герценом. Со своей стороны, некоторые монархи использовали в борьбе за власть демагогическую «национальную» фразеологию и недовольство русских дворян «засильем немцев» при дворе (например, Елизавета Петровна или Екатерина II).
В целом, петровский призыв реформировать Россию, покорять окрестные народы, учиться у Запада, насильно насаждать европейские порядки – оставался «руководством к действию» для самодержцев до начала XIX века. Лишь когда «духовная родина» русского дворянства – Франция – столкнулась с Россией в войне 1812 года, когда разгром Наполеона поднял в стране невиданный вал патриотизма и породил шовинистический угар, когда эхо европейских революций стало врываться в русскую жизнь, Николай I осознал полную оторванность самодержавия от народа как проблему выживания и самосохранения абсолютизма. И «теория официальной народности» (провозглашённая в 1830-е годы как официальная доктрина Империи) была призвана одновременно перебросить идеологический мостик через бездну между монархом и населением (обосновав исконно «идиллические» и близкие отношения царя и народа в России посредством псевдоисторической аргументации), воспеть величие Российской Империи и её принципиальное превосходство над Европой (от которой теперь следовало, вопреки петровской традиции, отгородиться посредством воздвижения «умственных плотин»). Однако эта попытка искусственно сконструировать новую действенную мифологию империи – мифологию русского национализма и «патриархальных отношений» между царём и народом, не оказалась слишком удачной.
В условиях самодержавия, вся политическая жизнь в Петербургской Империи была крайне ограничена как кругом участников (император, его «временщики», придворные и гвардия), так и арсеналом возможных средств (придворная интрига, борьба бюрократических ведомств, фаворитизм, дворцовый переворот и цареубийство). Власть была окружена непроницаемой Тайной. «Доступ к телу» государя имел очень ограниченный круг лиц. Почти вся политически значимая информация в России была строго засекречена. Слухи, сплетни, мифы окружали всю российскую политику, сопровождая бюрократические интриги, фаворитизм, перевороты, народные восстания и самозванчество. Все главные вопросы решалась кулуарно, в тайных комитетах, часто забалтывались бюрократическими инстанциями. Лишь при Николае I самодержавный и чиновничий произвол получил пристойный фасад «законности» благодаря кодификации и изданию всех законов, действующих в России. Это не ликвидировало повсеместного беззакония, но упорядочивало его.
Наряду с заговорами, интригами и фаворитизмом, одной из главных форм общественной жизни в условиях самодержавия становилась непрерывная борьба между бюрократическими ведомствами. «Над схваткой» возвышалась фигура государя, венчающего пирамиду власти: издающего законы, следящего за их исполнением, выдвигающего и смещающего чиновников, управляющего армией, финансами, высшего судьи – никому не подвластного, ничем не ограниченного.
Формально император в России обладал всей полнотой власти. В реальности же он зависел от настроений гвардии, от своих фаворитов, от воли иностранных послов, от придворных интриг. Весь XVIII век неуклонно возрастает политическая роль дворянства, с которым каждый новый государь расплачивался за его поддержку своей власти новыми правами и привилегиями. Когда же это дворянство в лице своих лучших представителей – декабристов – в 1825 году потребовало прав не только для себя, но для всего порабощённого общества и тем посягнуло уже и на саму священную власть императора, Николай I, напуганный революционностью части высшего сословия, вернулся к проверенной петровской политике, при которой главной опорой трона служила бюрократия, армия и чиновничество. Однако и эта «опора» уже не контролировалась царём, который горестно сетовал: «Россией правит не император, а столоначальники».
Когда император слишком далеко заходил в своей политике, противопоставляя свою волю ведущим европейским державам (прежде всего, мировому лидеру – Англии) или собственному дворянству, понемногу осознающему себя политической силой, то это могло для него закончиться весьма плачевно. Известная формула мадам Жермены де Сталь в отношении России: «Самовластие, ограниченное удавкой», как нельзя более точно выражало суть российского абсолютизма. Император всегда был вынужден оглядываться на настроения гвардии, желания помещиков и волю экономически господствующих в мире держав. Пример низложенных и убитых императоров: царя-младенца Ивана I V, Петра III, Павла I всегда был перед глазами августейших особ, сужая поле для манёвра и ограничивая действия монарха. Каждой государь жил «под Дамокловым мечом» возможного переворота, и это ожидание, конечно, корректировало его политику. И сами перевороты и цареубийства, и их постоянная возможность были главной формой общественного влияния и контроля за самодержавием – формой довольно эффективной.
Дворцовые перевороты, фаворитизм, интриги и народное самозванчество – были неизменными и неизбежными оборотными сторонами самодержавного деспотизма. «Сакральность» в глазах народа фигуры царя и строгая засекреченность всей политической жизни в России порождали целую сложную Мифологию Власти. В народе постоянно ходили слухи о том, что данный государь – вовсе не тот, за кого себя выдаёт, а предыдущий, «настоящий» монарх либо не умер, а скрылся до поры и только ждёт часа, чтобы «объявиться», либо не умер, а был убит или исчез при таинственных обстоятельствах. То придворные кланы (в ходе дворновых переворотов), то народные массы (как во время пугачёвского восстания) выдвигали «своих» монархов. Если государство – в лице монарха – непрерывно и беспощадно подавляло общество своим гнётом и терроризировало его, то общество, в свою очередь, отвечало либо дворянскими переворотами, либо крестьянскими восстаниями.
Тенденции к абсолютизму присутствовали и в большинстве европейских стран (впрочем, в Англии и Франции они закончились революциями XVII и XVIII веков, низвергнувшими тиранию монархов). Однако в этих странах абсолютизму противостояла более или менее сплочённая и организованная оппозиция различных общественных групп, вступающих в союз друг с другом (дворянства, церкви, «третьего сословия»). Европейский абсолютизм шёл на уступки обществу, оговаривая нерушимые права и привилегии подданных и терпел элементы парламентаризма. В России же общество не было организовано (иначе, как государством в целях сбора налогов и несения различных повинностей), а легальная общественная и политическая деятельность были строго запрещены. Монарх считался абсолютным правителем, который (как наиболее ярко показал опыт Екатерины II, Павла I и Александра I), однако, опасался двух «нелегальных», но вполне реальных «крайностей» общественной борьбы: революции крестьян «снизу» (по сценарию пугачёвщины) и дворцового переворота дворян «сверху». Между этими Сциллой и Харибдой и лавировали русские самодержцы, стараясь не доводить до последней крайности крестьян и не злить дворян (которые уже не желали ни сами быть «холопами» императора, ни лишаться своих «холопов»).
Одни из императоров предпочитали в своём управлении империей опираться исключительно на ближайшее окружение и фаворитов (как Анна Иоанновна или Елизавета Петровна), другие делали ставку на личный контроль за всеми делами и использовали, прежде всего, военных и чиновников, непосредственно подчинённых их августейшим особам (как Павел I и Николай I), третьи делали определённые реверансы в сторону «общества», призывая его высказывать своё мнение, но никогда не отдавая ему реальных рычагов управления. (Как Екатерина II, созвавшая в 1767 году, а в 1768 году распустившая без видимых результатов Комиссию по выработке нового Уложения из делегатов, избранных от различных сословий (кроме крепостных), или Александр I, побуждавший дворян проявить инициативу в деле начала освобождения крестьян). Впрочем, даже в последних случаях, и императоры не желали ни с кем реально делиться властью, и общество было так слабо, разрознено, придавлено, что не посягало на их прерогативы.
Русская история до середины XIX века продолжала оставаться мрачным, жалким и унылым «театром одного актёра» – Государства. А попытки вырваться «на сцену» крестьян – в путачёвщину, или дворянских революционеров – в восстании 14 декабря 1825 года – тут же беспощадно пресекались. «Политический класс» в России сводился к узкой группе придворных сановников, высших бюрократов, гвардейских офицеров, европейских посланников и фаворитов, а «политическая жизнь» – к интригам и дворцовым переворотам. В эпоху «просвещённой» Екатерины II образование в России получали 15–20 тысяч человек ежегодно, то есть около 0,05 процента населения. Подавляющая часть народа оставалась неграмотной, бесправной и полностью отчуждённой от политики и общественной жизни, пребывая в области слухов и мифов.
Все государи – от Екатерины I (1725–1727) до Елизаветы Петровны (1741–1761) включительно, сами не управляли, предоставляя, это своим фаворитам, «временщикам».
Фаворитизм расцвёл в России пышным цветом. Меншиков при Екатерине I, Долгорукие при Петре II, Бирон и Миних при Анне Иоанновне, Шувалов, Бестужев и Разумовский при Елизавете Петровне, братья Орловы и Потёмкин при Екатерине II, Сперанский и Аракчеев при Александре I, сменяя друг друга, управляли Россией, нередко отодвигая на задний план царствующих особ и отправляясь друг за другом в ссылку, а то и на плаху.
Женившиеся почти исключительно на немецких принцессах и отдававшие замуж своих царевен за немецких принцев, говорившие и мыслившие «по-немецки», императоры были бесконечно далеки от жизни «завоёванной» и угнетаемой ими русской деревни с её патриархальным бытом и нравами. Весь XVIII век страной поочерёдно правят: шлюхи, воры, душегубы, казнокрады, любовники и любовницы государей, интриганы, хищники-временщики, немецкие конюхи и бароны, гвардейские офицеры и французские лекари и дипломаты, английские посланники и чиновные служаки. Они правят, как умеют и как хотят: грабят казну, играют страной, посылая стотысячные армии невесть зачем на другой край Европы. Беспринципные, беспощадные, развратные, алчные и энергичные интриганы – вот черты тогдашних типичных правителей России. Какой-то «стратегии», «программы», «идеалов» и пр. не было почти ни у кого (за исключением, возможно, Екатерины II) – один только «хватательный рефлекс», жажда власти, славы, обогащения, роскоши, удовольствий, обеспечение личной безопасности в покорённой, порабощённой и терроризируемой самодержавием стране. Имперская верхушка: император, его сановники, двор, гвардия, – вслед за своими предшественниками, ордынскими ханами и московскими князьями, – воспринимали себя как завоевателей и господ огромной незнакомой и враждебной страны, живущих в своё удовольствие как на вулкане, среди нищего, недовольного, ограбленного, ропчущего, бесправного и дикого населения, оплачивающего своим трудом и невежеством их роскошь и новые завоевания. Лишь приумножение собственного богатства и усиление могущества Империи волновало большинство российских самодержцев, воспринимавших всё население как своих холопов и бессловесных рабов.
Что за люди окружали трон в эту эпоху? Восприятие России как «завоёванной страны», в которой власть императора поддерживается военной силой, полицейской опекой и громом военных побед, как страны, служащей источником средств и роскоши, с императором разделяли его сановники – не обременённые моральными принципами интриганы, хищники, коррупционеры, взяточники, честолюбцы (хотя нередко – талантливые администраторы, ловкие дипломаты, хитрые царедворцы и бравые вояки). История XVIII–XIX веков даёт нам несколько типажей «людей государевых», среди которых наиболее распространены следующие. Блестящий фаворит, попавший в «случай» (то есть в милость августейшей особы), часто – через постель государыни или государя, богач, взяточник, вельможа, кутила, развратник, ловкий политик и администратор из гвардейских офицеров (яркие примеры: Александр Меншиков, братья Орловы или Григорий Потёмкин). Или: преданный и жестокий раб, не рассуждающий солдафон, служака, готовый ради императора на всё (Аракчеев). Или: старательный и усидчивый бюрократ, исполнительный, трудолюбивый, образованный, покорный аппаратчик (Сперанский). Или: аристократ-англоман, вынашивающий втайне конституционные планы и мечтающий обуздать деспотизм императора (Дмитрий Голицын и Никита Панин).
Сильно изменился и сам «двор». В первой половине XVIII века (в правление Петра II, Анны Иоанновны или Елизаветы Петровны) его отличали крайняя грубость нравов, сплетни, невежество, карточные игры. Шуты и шутихи веселили монархов низкопробными шутками, а травля медведей оставалась их любимым зрелищем. А во второй половине XVIII – начале XIX веков (при Екатерине II и Александре I) пришли мода на «светскую науку», утончённый этикет, умеренно интеллектуальные беседы и остроты, балы, французскую литературу и философию, изящные танцы. Цинизм, жестокость и грубость остались, но теперь они слегка драпировались хорошими манерами, светскими приличиями и «вольтерьянским» жаргоном. Неизменными, впрочем, оставались дикая роскошь, бесстыдный и беспредельный разврат и непрерывные интриги в борьбе за влияние и богатство, любовь к военной муштре и парадам, фейерверкам и увеселениям. Варварство сохранялось, но оно приняло «цивилизованное» обличие и европейский лоск. Теперь крепостники могли вдохновенно и красиво говорить о человеческом достоинстве, со слезами читать сентиментальные романы, цитировать Вольтера и ставить пьесы на сценах своих крепостных театров. Что не мешало им пороть крепостных на конюшнях, продавать их как скот и насиловать дворовых девок. А самодержцы обличали «деспотизм», одновременно осознавая при этом, что для «успешной борьбы с деспотизмом» им никак нельзя ограничивать собственную «просвещённую» власть, ибо именно в них и их благих намерениях – упование и оплот российской вольности.
В XVIII веке – наряду с каскадом переворотов, убийств и интриг (в ходе которых за власть боролись не столько принципы, сколько личности), в политике России сохранялся один общий вектор: некоторое смягчение тех «ежовых рукавиц», в которые Пётр I загнал Россию (правда, это смягчение, по преимуществу, касалось высших сословий), расширение прав и привилегий дворянства, ограничение применения смертной казни и пыток (они не были отменены полностью, но публично осуждались Елизаветой Петровной и Екатериной II), разговоры о «законности» (а иногда даже и попытки реально ненамного улучшить судопроизводство) и разговоры о «Просвещении» (а иногда и реальное создание новых учебных заведений и распространение моды на идеи французских просветителей – правда, в очень упрощённом и окарикатуренном виде, безобидном и удобном для самодержавия), отдельные доработки и доделки в системе управления Империей. Все эти мероприятия, не меняя заданного Петром I курса Империи, вместе с тем корректировали и понемногу подтачивали петербургский деспотизм (ибо империя Петра I могла держаться лишь на непрерывном терроре и насилии против общества и малейшее смягчение этого террора угрожало её существованию). В XVIII веке происходят и первые попытки поставить вопрос об ограничении императорской власти. А.Н. Радищев уже в конце XVIII века формулировал: «Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние».
Однако единственной серьёзной «развилкой» в политическом развитии России за сто лет – от 1725 года (смерти Петра I) до 1825 года (восстания декабристов) – развилкой, когда речь шла не о смене правителей и «временщиков», но о возможной смене самого вектора движения страны, были лишь события 1730 года. В этом году, после внезапной смерти юного внука Петра I – императора Петра II (подорвавшего свой детский организм охотами и оргиями), русский престол вдруг оказался вакантным. На короткий момент реальная власть перешла к Верховному Тайному Совету – аристократическому органу, созданному в короткое правление Екатерины I.
«Верховники» (члены Верховного Тайного Совета) – в основном представители старой боярской аристократии (князья Долгорукие и Голицыны), осознавая катастрофичность и тупиковость петровского пути для России, попытались воспользоваться ситуацией, чтобы ограничить самодержавие и ввести в России конституцию. Эта конституция (под названием «кондиции» (условия)) была навязана приглашённой «верховниками» на русский трон племяннице Петра I, вдовствующей курляндской герцогине Анне Иоанновне. В соответствии с «кондициями» русские императоры, подобно английской королеве, могли бы лишь «царствовать, но не править». Все реальные вопросы управления: война и мир, введение налогов и издание законов, назначение генералов и чиновников и даже замужество государыни, – изымались из её компетенции и передавались Верховному Тайному Совету. «Верховники» полагали, что настало «время, чтобы самодержавию не быть», и желали ввести в стране двухпалатный парламент.
Анна Иоанновна была вынуждена подписать «кондиции», однако, затем, оперевшись на поддержку гвардии и дворянства, ненавидевших аристократов, разорвала «кондиции» и подвергла «верховников» ссылкам и казням (одни умерли в крепости, другие – на плахе). «По просьбам трудящихся» (дворян) самодержавие было восстановлено в полном объёме, а героическая попытка небольшой части общества поставить под свой контроль государственную власть, провалилась. Единственная (если не считать пугачёвского восстания) серьёзная попытка с 1725 по 1825 годы поменять ход развития русской истории, не удалась. Взамен за свою поддержку самодержавия, дворяне получили ряд послаблений (ограничение сроков обязательной службы дворян, отмена ненавистного петровского указа о единонаследии и т. д.). Шанс ограничить абсолютизм в России был упущен. События 1730 года явились последним аккордом двухвековой борьбы между русской аристократией (боярством), выступающей под конституционными лозунгами, и русским самодержавием, опирающимся на поддержку дворянства.
Таким образом, оценивая политическое развитие Петербургской Империи за полтора века, можно заметить, что единственным серьёзным новшеством была непрерывно возраставшая с 1725 до 1825 годов политическая роль дворянства, добившегося широких сословных привилегий, определённых свобод и влияния на управление страной и даже начавшего (в лице некоторых своих представителей) вынашивать конституционные замыслы. Модернизационная политика самодержавия в целом колебалась между жёстким и свирепым «петровским» курсом (с дальнейшим «закручиванием гаек», укреплением «регулярного» государства, наступлением на права дворян) и некоторой либерализацией режима (с внедрением отдельных элементов законности в практику управления, созданием сословных дворянских органов, смягчением государственного контроля над обществом и ослаблением цензуры).
В XVIII веке дворянское сословие частично раскрепощается, обретает чувство человеческого достоинства и уже не желает быть бесправным рабом самодержавия, довольствуюсь лишь подачками с его стола, но желает участвовать в управлении государством. (Единственными возможными формами такого участия в XVIII веке были фаворитизм и дворцовые перевороты). Дворяне отныне стремились «служить делу», а не «прислуживаться» «лицам» (по выражению грибоедовского Чацкого). Дворяне отстаивали своё право на распоряжение собственной жизнью, например, через дуэли – которые запрещались властью, отрицающей за своими подданными подобное право. Самодержавие же не желало ничем поступаться, не допускало участия общества в управлении. Это не могло не привести, с одной стороны, к кризису империи, а с другой, – к дальнейшему росту бюрократии, не подконтрольной не только обществу, но и самому монарху.
По самому большему счёту, можно определить дворцовые перевороты XVIII века как ответ общества (то есть образованной, политически активной части общества – столичного дворянства и гвардии) на петровские реформы, или как удавшуюся попытку дворян скорректировать их тяжкие последствия, смягчив иго государственного гнёта и расширив свои права, не допуская, однако, к управлению страной высшей аристократии (традиционно вынашивающей конституционные замыслы). Ко времени воцарения Екатерины II (последняя треть XVIII века) сложился своеобразный союз между императором и дворянами, при котором дворянство получало широкие права и привилегии, сословные суды и учреждения, освобождалось от обязательной государственной службы, поддерживая самодержавие, сохранявшее и всемерно расширявшее крепостное право. Попытка Павла I вернуться к петровским «строгостям» в отношении дворянства стоила ему жизни и трона.
Конец XVIII – начало XIX веков – время пробуждения в России общества, желавшего эмансипироваться от государства. Появляются первые интеллигенты (вроде Н.И. Новикова и А.Н. Радищева), развивается дворянское самосознание, происходит разграничение понятий «государь» и «государство». Проекты дворянского конституционализма возникают вновь и вновь: во время «затейки верховников» (1730 год), в начале правления Екатерины II (1762–1770 годы, когда вельможей Н.И. Паниным планировалось передать часть власти Сенату, ограничив абсолютизм), в первые года правления Александра I (когда по его приказу был подготовлен (его другом Новосильцевым) конституционный проект, впрочем, не обнародованный) и чуть позже, в кругу членов тайных обществ (будущих декабристов).
Вопрос об ограничении самодержавия, как и вопрос об отмене крепостного права, становятся на повестку дня передовой общественной мыслью, несмотря на все свирепые гонения властей против любой оппозиции, против любой, не подконтрольной монарху, общественной деятельности. При этом, если большая часть дворян и чиновников и слышать не желала ни о каких реформах, то меньшая, передовая часть дворянства всё решительнее переходила в оппозицию к трону, мечтая о конституции и отмене постыдного «рабства». Сначала эти дворяне желали реформировать страну вместе и в союзе с государем, а когда государь (Александр I) от реформ перешёл к политике реакции, то и – против государя. Не учитывать этих процессов самодержавие не могло, постепенно теряя социальную опору даже среди представителей высшего сословия.
Как уже отмечалось, колебания «генеральной линии» самодержавия, всегда ограниченные указанными рамками, строго соответствовали маятнику: «реформы» (и «прорусскость») – «реакция» (и «пронемецкость») правления. На смену более «либеральным» и «прорусским» режимам приходили более «авторитарные» и «пронемецкие». На смену «просвещённой» императрице Екатерине II, проводившей довольно существенные реформы, пришёл Павел I, стремившийся к военно-полицейской утопии по образцу Петра I, к тотальному контролю императора за жизнью подданных; его сменил «республиканец на троне», мучимый совестью Александр I, а того – твердокаменный и не обременённый рефлексией «реакционер» Николай I.
Впрочем, как и в случае с «русскостью-немецкостью», «либерализм» и «авторитаризм» самодержцев были весьма относительными и условными. Так, «просвещённая» Екатерина II довела до предела крепостное рабство и распространила его на Украину, а «реакционер» Николай I осознавал необходимость реформ и только желал оттянуть их начало. Необходимость лавировать между потребностями в модернизации армии и экономики, собственными политическими привычками и пристрастиями и желаниями дворянства, обусловливали реальную политику самодержавия. Самодержцы колебались между желанием сохранить в неприкосновенности свою абсолютную власть и желанием модернизировать государство (чтобы сделать его более боеспособным, управляемым и функциональным), и делали ставку то на дворянство (как Екатерина II и Александр I), то на военных и бюрократию (как Павел I и Николай I). Они то призывали «учиться у Европы» правовым нормам и заигрывали с глашатаями движения Просвещения (как Екатерина II, состоявшая в переписке с Вольтером и Дидро), то призывали поставить «умственные плотины» для революционных европейских влияний и заявляли о глубинной связи монарха с народом (как Павел I и Николай I). Цензура то ужесточалась до предела, то немного смягчалась; тайные общества (масонские ложи) то подвергались свирепым гонениям, то – ненадолго дозволялись. Нередко, новый государь, придя к власти, амнистировал жертв предыдущего режима, убирал от управления страной старых, наиболее ненавистных всем вельмож и министров, привлекал свою «команду», раздавая широкие обещания (и пожалования) и… заканчивал тем, что сам начинал гонения на оппонентов, прекращал затеянные реформы, «закручивал гайки» и умирал, «исчерпав кредит доверия» (такое повторялось, например, при Екатерине II, Павле I, Александре I и Александре II).
Даже осознавая необходимость реформ, самодержцы были ограничены, во-первых, собственной внутренней логикой режима (абсолютизм никогда не склонен сам себя ограничивать, пока этого не сделает с ним общество), во-вторых, отсутствием достаточного числа либеральных сановников и бюрократов. Все разговоры о реформах в царствование «республиканца на троне» Александра I тонули, наталкиваясь как на его собственную волю (нежелание ограничивать себя ни в чём), так и на инертную толпу бюрократического аппарата и крепостнического дворянства. В результате, даже у этого монарха, наиболее дальновидного и осознающего необходимость «либерализации» режима и отмены крепостного права, дело не пошло дальше деклараций о намерениях и крошечных шагов (предложение к помещикам самим взять инициативу в деле освобождения крестьян, предоставление в 1815 году Конституции Царству Польскому, входящему в состав Российской Империи, проекты М.М. Сперанского (так и не осуществлённые), проект конституции России Новосильцева (так и не обнародованный), освобождение крестьян в Прибалтике (без земли)). И, наоборот, даже самые завзятые реакционеры (вроде Николая I) осознавали необходимость каких-то преобразований в системе управления и ликвидации крепостничества – но лишь стремились отложить эти мероприятия на возможно более долгий срок.
Можно поэтому констатировать, что самодержавные императоры на деле были весьма ограничены в своих возможностях и действовали в общем направлении, намеченном Петром I: в направлении укрепления абсолютизма, имперской экспансии и регулярных реформ «сверху», слегка подновляющих фасад Державы. Даже в редчайших случаях, – при наличии либеральных намерений императора, желавшего проводить реформы, эти намерения саботировались окружавшими их вельможами и сановниками. И Екатерина II, и Александр I не без оснований сетовали на то, что им «не с кем» проводить свои реформы. Да и реформаторский пыл самих самодержцев быстро угасал: не менять ничего казалось им и легче, и безопаснее. Так Николай I, напуганный восстанием декабристов, польским восстанием 1830–1831 годов и Французской революцией 1830 года, предпочёл все назревшие вопросы социальной и политической жизни, по его словам, «отдать на суд времени». (Суд этот оказался на удивление скорым и суровым!) Видный николаевский чиновник и придворный Модест Корф призывал: «не трогать ни части, ни целого; так мы, может быть, более проживём». Подобные взгляды, весьма характерные для подавляющей части дворянства и бюрократии, способствовали стагнации, разложению и краху существующей системы, всё менее осознающей «вызовы» времени. В то же время небольшая, но активная часть дворян всё более становилась оппозиционной Империи и отчаивалась в возможности «реформ сверху».
От умеренного деспотизма – к умеренному реформаторству, от шпицрутенов (палочных наказаний) и цензуры – до поощрения просвещения и обсуждения реформ – так колебалась непрерывно «генеральная линия» самодержавия на протяжении полутора столетий (всё же, обычно, предпочитая «маленькую победоносную войну», укреплявшую на время режим, волне реформ, расшатывавших его). Впрочем, рамки этих колебаний были вполне жёсткими и конкретными. С одной стороны, опасения новой «пугачёвщины» (со стороны крестьян) и дворцового переворота (со стороны дворян и гвардии), в случае чрезмерного ужесточения режима; с другой стороны, невозможность для самодержавия «покончить самоубийством», ограничив собственный абсолютистский произвол или крепостничество и уступив конституционным требованиям части дворян и антикрепостническим настроениям крестьян.
Современник Екатерины II Дж. Маккартни проницательно писал о России: «уделом самодержца здесь всегда будет определять своей рукой уровень цивилизованности, следить за каждым улучшением, которое может прийти в противоречие с его властью и поощрять его только тогда, когда оно покорно его величию и славе». Однако рост крестьянского недовольства, упадок крепостнической экономики, подъём дворянского сословного самосознания и выход на авансцену оппозиционной интеллигенции (немногочисленной, но активной), всё большее экономическое и социальное отстаивание России от Запада (кризис рабской армии и крепостной промышленности с неизбежными военными поражениями в итоге), сокращение социальной опоры самодержавного режима и его свободы для манёвра – всё это, со всей силой проявившись в середине XIX века, заставило Александра II пойти на довольно решительную и радикальную реконструкцию всей социально-политической системы Петербургской Империи.
Смена государей в России – смена эпох, ибо в условиях абсолютизма каждый государь – великий и ничтожный, «либеральный» или «реакционный», имеющий программу действий или руководствующийся лишь личным эгоизмом, страстями и волей своих любовников (любовниц), – это всегда новое окружение, новый политический курс (колеблющийся с постоянством маятника), новые могущественные «временщики», новые реформы (или их отсутствие). Поэтому, хотя личности императоров не изменяли сущность Империи, однако они накладывали свой яркий отпечаток на те или иные эпохи. Сумасбродная и грубая, склонная к жестокостям и суевериям Анна Иоанновна; легкомысленная, ограниченная и болезненно самолюбивая, вечно наряжающаяся Елизавета Петровна (её гардероб насчитывал четыре тысячи платьев!); предельно циничная, умная, развратная и властная Екатерина II «Великая» – «философ на троне» и «Тартюф в юбке» (Пушкин); романтический, подозрительный, рыцарственный и неуравновешенный «русский Гамлет» – Павел I; мистичный и недоверчивый, двоедушный, очаровательный, кокетливый, обаятельный, мучимый угрызениями совести, страхами и мечтающий об уходе от трона, «сущий прельститель» (по выражению М.М. Сперанского) и «Сфинкс, неразгаданный до гроба» (по выражению П.А. Вяземского) Александр I «Благословенный»; энергичный, смелый, бездушный, властный, педантичный «высочайший фельдфебель» Николай I «Палкин» (прозванный так за страстную любовь к наказаниям шпицрутенами); гибкий, несколько слабовольный, женолюбивый, колеблющийся, лукавый и своенравный Александр II «Освободитель» прошли причудливой чередой, оставив свои неповторимые следы в русской истории и дав некоторые основания знаменитому писателю и историку-монархисту Н.М. Карамзину категорично и веско заявить: «История народа принадлежит царю». В России это отчасти, увы, и было так. У многих из этих государей не было никакой продуманной «программы царствования» и никакой стратегии – лишь инстинктивная «тактика» – удержания власти, развлечений, обеспечения собственной безопасности любой ценой. У некоторых (Петра III, Екатерины II, Павла I, Александра I) были определённые продуманные политические идеалы и цели, корректирующиеся соприкосновением со своим окружением и реалиями русской жизни.
Характерные пределы самодержавного реформаторства демонстрирует долгая эпоха Екатерины II. В начале своего правления императрица желала «воспитывать» «общественное мнение» и призывала своих подданных начать издавать сатирические журналы в этих целях (сама она под псевдонимом издавала журнал «Всякая всячина»). Однако очень скоро выяснилось, что императрице требуется лишь добродушный беззлобный «юмор» на темы «человеческого несовершенства», а вовсе не острая прицельная сатира, беспощадно обличающая язвы крепостничества и нравы бюрократов. Николай Иванович Новиков – замечательный публицист, крупнейший филантроп и подвижник, видный масон и великий просветитель, осмелившийся в своих журналах «Трутень» и «Живописец» зайти слишком далеко (и даже начать полемику с самой императрицей) – подвергся гонениям, а его издания были закрыты. «Просвещённой государыне» нужно было лишь подконтрольное и направляемое троном «общественное мнение» и критика пороков в строго дозированных размерах.
Начав с призывов к реформам и к «формированию общества», Екатерина II (под влиянием пугачёвского восстания и Великой Французской Революции) вернулась к привычному реакционному курсу, суровым гонениям на инакомыслие и чисто административным мерам (проведя губернскую реформу). Та же история повторилась в царствование любимого внука Екатерины II Александра I, перешедшего от либеральных мечтаний, прожектов и обещаний в начале правления к открытой реакции – в конце.
С эпохой Екатерины II и Александра I связаны некоторые реформы, призванные подновить самодержавную политическую систему России, не покушаясь на основы абсолютизма. Так Екатерина II провела губернскую реформу, в результате которой страна приобрела более чёткое административное деление: Россия делилась на губернии, а они – на уезды. А Александр I заменил петровские коллегии министерствами (с большей централизацией, единоначалием и специализацией управления) и создал Государственный Совет – совещательный орган из высших сановников при императоре. Поскольку многие проекты дворянского конституционализма конца XVIII – начала XIX веков (впрочем, нереализованные) были связаны с передачей части власти Сенату, ограничивающему и контролирующему самодержавие, не удивительно, что, по инициативе Екатерины II и Александра I значение Сената к XIX веку резко уменьшилось: монархи ослабили и раздробили на части (департаменты) этот потенциально опасный орган власти, отняв у него законодательные функции.
Екатерина II и Александр I поощряли развитие учебных заведений и печати (в дозволенных рамках), долгое время терпели масонские ложи, смягчали цензуру, апеллировали к общественному мнению и европейским образцам, говорили о необходимости законности, дозволяли некое слабое подобие общественной жизни (в виде периодических изданий, дворянских собраний, Вольного Экономического Общества (созданного для обсуждения и изучения хозяйственных вопросов) и масонских лож; впрочем, и Екатерина II, и Александр I в конце своего царствования подвергли масонов и прессу суровым репрессиям).
Сменивший же Екатерину II Павел I и сменивший Александра I Николай I, напротив, стремились к незыблемости самодержавия, закрывали границы с «растленным Западом» (запрещая поездки в Европу, ввоз оттуда книг и даже употребление некоторых опасных европейских слов («гражданин» и пр.) и танцев (вальса)), ограничивали права дворян, ужесточали цензуру и начинали гонения на университеты. Политический «маятник» качался с завидным постоянством: умеренные, половинчатые реформы сменялись жестокой реакцией и неприкрытым произволом. Однако и «реформы», и «реакция» имели свои границы: как Екатерина II и Александр I не посягали на самодержавие и крепостничество (не желая первого и понимая, что второе будет стоить им короны и жизни), так и Павел I и Николай I не могли лишить дворян всех завоёванных ими прав (попытка посягнуть на это стоила Павлу I жизни) и полностью вернуться ко временам петровской полицейско-чиновничьей реакции (хотя оба и стремились к этому).
Самодержавный маятник колебался между двумя недосягаемыми утопиями: утопией «просвещённого абсолютизма» и утопией петровского полицейско-террористического «регулярного государства». «Либеральная» Екатерина II точно также желала «воспитывать» и контролировать общество, как её деспотичный и нелюбимый сын Павел I, оставляя всю политическую инициативу за собой, а обществу оставляя роль объекта попечения. Отличие было не столь уж принципиальным и состояло в том, какое именно содержание (в духе Петра I) «вбивалось» в общество Учителями-самодержцами: умение маршировать по плацу и строго следовать букве регламентов, или умение следовать моде на изящные манеры и просветительские фразы. Разница не столь уж велика! По словам его близкого друга, польского князя Адама Чарторыйского, Александр I «любил внешние формы свободы, как можно любить представление… Он охотно согласился бы, чтобы, каждый был свободен, лишь бы все добровольно исполняли одну только его волю». О границах дозволенного «просвещения» красноречиво говорили репрессии Екатерины II против А.Н. Радищева (за свою книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» сначала приговорённого к казни, а затем сосланного в Сибирь) и Н.И. Новикова (выдающегося благотворителя, масона и книгоиздателя, за свою независимую общественную деятельность оказавшегося на долгие годы в крепости).
Пожалуй, лишь краткое царствование великодушного и несчастного Петра III (1761–1762) было связано с резким поворотом курса русского самодержавия в сторону действительного, а не показного либерализма. Не случайно в народе именно Пётр III, вскоре после своего убийства оболганный официальной пропагандой, пользовался огромной популярностью, и именно его имя принял на себя самозванец и бунтовщик, герой народной войны, Е.И. Пугачёв. Пётр III прекратил участие России в Семилетней войне (бессмысленной и уносящей сотни тысяч жизней солдат), объявил всеобщую амнистию жертв предыдущих царствований, ликвидировал зловещую петровскую Тайную Канцелярию (политическую полицию), прекратил гонения на староверов, освободил дворян от ярма обязательной государственной службы (издав знаменитый «Манифест о вольности дворянства»), ввёл свободу торговли и предпринимательства, подготовил секуляризацию церковных имуществ (то есть их передачу в казну, что существенно облегчало участь миллиона крестьян, принадлежавших ранее монастырям и отныне переходящих в статус государственных крестьян). И все эти реформы, существенно раскрепостившие общество, государь осуществил за неполный год своего царствования! Свергнувшая и убившая его Екатерина II, сделавшая всё для того, чтобы представить своего благородного супруга идиотом и врагом России, однако, была вынуждена в первые годы царствования продолжить его реформаторскую политику (подтвердив «Манифест о вольности дворянства» и завершив секуляризацию церковных имуществ).
В то же время Екатерина II продолжила дело Петра I по укреплению и расширению колоссальной военно-бюрократической империи: возобновив политику полномасштабных завоеваний и агрессии, втрое уменьшив численность духовенства и отобрав церковные имения в казну, проведя губернскую реформу и выстроив в ходе неё более строгую иерархию чиновников, ликвидировав остатки автономии Украины (с ликвидаций Запорожской Сечи, гетманства и введением там крепостного права), открывая новые учебные заведения. Однако, в отличие от Петра I, Екатерина II была вынуждена пойти на существенное расширение (а не сужение) прав дворянства, декларировала насаждение в России законности (в своём знаменитом – хотя и не опубликованном из-за «чрезмерной либеральности» – «Наказе» Уложенной Комиссии), выступала за ограничение применения пыток.
Уложенная Комиссия, созванная Екатериной II в 1767–1768 годах, формально была призвана издать новые законы, поскольку действующее Соборное Уложение 1649 года порядком устарело. Её делегаты были публично избраны от всех сословий русского общества, кроме крепостных крестьян, и получили от них наказы. Эта единственная за два века попытка продолжить традицию Земских Соборов XVII века показала, что в обществе сохраняется глубокий раскол, межсословная борьба и крайние патерналистские ожидания, связанные с самодержавием. Представители от сословий, как и в XVII веке на Земских Соборах, требовали не ограничения самодержавия, а напротив, просили от самодержавия расширения своих привилегий за счёт всех других сословий. Так, купцы требовали запретить дворянам и крестьянам торговать и позволить купцам иметь крепостных; дворяне, напротив, требовали запретить кому-либо, кроме дворян, владеть крепостными, но при этом дозволять дворянам торговать, и т. д. Екатерина II распустила Уложенную Комиссию безо всяких видимых результатов (единственным практическим результатом было дружное преподнесение Комиссией государыне титулов «Великой» и «Матери Отечества»), использовав её как зондирование общественного мнения и как повод продемонстрировать Европе свою «просвещённость».
Продолжая дело Петра I и Петра III по уничтожению последних остатков церковной самостоятельности, Екатерина II в 1764 году отобрала все церковные земли и крестьян в пользу государства. Казённая церковь, полностью обездушенная и покорная воле императрицы, почти не препятствовала и не протестовала. Старый спор XV–XVI веков между иосифлянами и нестяжателями о церковных владениях, таким образом, был окончательно завершён в пользу государства. Полностью светская идеология Империи также опиралась на образец петровских времён, впрочем, порой отклоняясь то к «просвещённому» абсолютизму, то к политическому консерватизму и изоляционизму (например, в духе теории «официальной народности» Николая I). Идеал «регулярного государства» – всемогущего, всеопекающего и рационального, как часы, – вдохновлявший Петра I, продолжал манить его преемников, вдохновляя то Екатерину II на губернскую реформу (чётко разделившую страну на уезды и губернии), то Павла I и Николая I – на построение России по образцу военного лагеря, основанного на палочной муштре и казарменной дисциплине, то Александра I – на создание вместо коллегий министерств (с чётким единоначалием и специализацией) и на организацию военных поселений (в которых крестьяне должны были возделывать поля, заниматься строевой подготовкой и жениться строго по приказу начальства).
Самым любимым детищем самодержцев (не только мужчин, но и женщин) оставалась армия. Император считался главой армии, любил носить мундир, устраивать смотры и парады. Армия была идеалом и основой государства, офицеры – его элитой, военная служба считалась наиболее важной и почётной. Не случайно Елизавета и Екатерина II любили наряжаться в гвардейские мундиры и привечать любовников-офицеров. А Павел I и Николай I ничто так не любили, как военные парады, чёткость уставов и симметрию воинских шеренг, субординацию, муштру. Николай I, получивший военно-инженерное образование, нередко с гордостью говорил о себе: «Мы, военные инженеры». Армия была по-прежнему главной опорой трона, орудием внешних завоеваний, инструментом в борьбе с внутренними восстаниями, средством совершения переворотов и управления страной, моделью государства и основой имперской мощи и престижа трона внутри и вне страны. Огромная и победоносная армия была главным «козырем» самодержавия во внутренней и внешней политике.
Однако к XIX веку тотальный кризис Петербургской Империи в полной мере затронул и её сердцевину – армию. Кастовые перегородки между солдатами и офицерами, рекрутский принцип комплектования войск (не оставляющий мобилизационных обученных резервов на случай войны), рабская психология солдат и их ненависть к начальникам, палочная дисциплина и муштра, нарастающее отставание в вооружениях и нехватка образованных кадров, вопиющее казнокрадство – делали такую армию петровского образца небоеспособной. А её поражения на полях сражений роняли престиж Империи в мире и вызывали острые взрывы недовольства внутри страны (в 1807 году – после тяжёлого Тильзитского мира, и в 1855 году – после позорной сдачи Севастополя). В XIX веке в мирное время на армию в России (насчитывающую около полутора миллионов солдат) расходовалось 40–50 процентов всех бюджетных средств. А при этом значительная часть этих денег разворовывалась: двое из пяти рекрутов в армии умирали не от ран на поле боя, а от болезней и голода в мирное время. Ловкие чиновники сумели разворовать весь пенсионный фонд для ветеранов войны.
Неуклонно росло количество и значение чиновников в Петербургской Империи. Пётр I создал в стране поистине культ чинов и рангов. Однако, наряду с официальной, детально регламентированной системой чинопочитания (кому какой мундир носить, к кому как обращаться, – всё было детально регламентировано и описано монархами), в дворянстве существовали и другие, формально не закреплённые связи и иерархии (по родству, происхождению, богатству, клановым связям).
И всё же бюрократия (большей частью рекрутируемая из дворян и «поставлявшая» новых дворян из выслужившихся чиновников, достигших определённого ранга) всё более доминировала в Петербургской Империи, лишь формально подчиняясь воле самодержца. В XIX веке на смену краткому «золотому веку» дворянства (эпохе Екатерины II) при Николае I и Александре II приходит «золотой век» чиновничества, которое также, как и дворянство, было порождено самодержавием и стало его главной опорой. Оно разрасталось, вырабатывало свои правила, привычки, связи, корпоративное аппаратное самосознание и всё больше навязывало их обществу. Замечательный и многозначительный факт: в 1726 году А.Д. Меншиков (фактически управлявший тогда Россией от имени императрицы Екатерины I – своей бывшей любовницы и ставленницы) в целях экономии… отменил выплату жалования чиновникам, указав, что они и так берут много взяток. (Это он, как никто, знал по своему личному опыту).
Если в начале XIX века в России насчитывалось 16 тысяч чиновников, то в середине этого века – уже 80 тысяч (то есть их число выросло за полвека в пять раз, в то время как население страны за это же время даже не удвоилось, увеличившись с 36 миллионов до 69 миллионов человек). Это породило в невиданных размерах приписки, формализм, коррупцию и волокиту: бюрократический аппарат, неконтролируемый обществом, вышел и из-под контроля монархов и жил по собственным законам. За работой такой колоссальной армии бюрократов не мог уследить даже энергичный и строгий Николай I, пытавшийся, несколько пародийно, подражать Петру I. В 1842 году во всех канцеляриях империи было не закончено 300 тысяч дел, изложенных на трёх миллионах листов бумаги!
При этом общество (включая и прессу) никак не контролировало эту ненасытную армию чиновников, которая, фактически, стала управлять страной в собственных интересах, вместо Зимнего Дворца. По данным Третьего Отделения, в конце 1840-ых годов лишь трое (из пятидесяти пяти!) губернаторов в России не брали взяток: двое по убеждениям, а один, будучи баснословным богачом. Александр I горько острил по адресу своих чиновников: «Они украли бы мои линейные суда, если бы знали, куда их спрятать». А Николаю I было уже не до шуток, когда у него над головой в Зимнем Дворце обрушился потолок из-за того, что чиновники украли ассигнованные на ремонт дворца казённые деньги! Понимая, что с этой бедой ничего не поделать, император требовал хотя бы соблюдения формального «порядка», красоты «фасада» империи, не интересуясь, что творится за и под этим «фасадом». Чиновники могли воровать, брать взятки и издеваться над людьми – лишь бы их мундиры были в порядке и они вовремя являлись на службу!
Независимая от общества, колоссальная бюрократическая машина, погрязшая в волоките и коррупции, давно уже перестала быть подконтрольной императору и не могла быть тем эффективным орудием управления в руках монарха, о создании которого мечтал Пётр I. Предпринимавший героические усилия для того, чтобы вернуть себе контроль над бюрократией (но также чисто бюрократическим путём: создав Собственную Его Императорского Величества Канцелярию, отделения которой непосредственно подчинялись императору и ведали всеми главными вопросами политики), Николай I не преуспел в этом замысле. Энергичный гений Петра I– создателя этого «вечного двигателя» бюрократии – ещё как-то мог поспевать за двумя-тремя тысячами тогдашних чиновников, однако, куда более заурядный (и культивирующий верноподданническую заурядность вокруг себя) Николай I уже не мог управиться с пятьюдесятью тысячами расплодившихся повсюду и обнаглевших от всевластия «столоначальников».
«Ревизор» и «Мёртвые души» Н.В. Гоголя, сочинения Козьмы Пруткова дают яркое представление о той удушливой бесчеловечной атмосфере казённого патриотизма, деспотизма, чинопочитания, лести, благонамеренной глупости, мелочного и мертвящего формализма, интриг, взяточничества, лицемерия, доносительства, которые снизу доверху пронизывали здание Петербургской Империи в XIX веке, в эпоху её апогея. Не случайно один из николаевских циркуляров предписывал: «Совесть нужна человеку в частном, домашнем быту, а на службе и в гражданских отношениях её заменяет вполне начальство». Хорошо зная цену своим сановникам, Николай I писал своему брату Константину в Варшаву: «Представьте, что среди всех членов первого департамента Сената нет ни одного человека, которого можно было бы, не говорю уже, послать с пользой для дела, но даже просто показать без стыда».
Внешний формализм сочетался с бюрократическим хаосом. В известной степени, смешение функций различных частей государственного аппарата, дублирование ответственности чиновников, вражда между ведомствами, произвол и интриги – устраивали монарха, делая его незаменимым в этом «управляемом беспорядке» и позволяя ему хотя бы номинально оставаться хозяином положения. Поэтому, говоря о создании «регулярного государства» и «законности», императоры, в то же время более или менее осознанно смешивали функции и полномочия различных государственных учреждений – ибо единственным и высшим арбитром во всех вопросах должен был оставаться император. (И чересчур «правильная», самодостаточная государственная машина, способная работать без его участия, ему была не нужна).
Реформы, проводимые посредством государственной бюрократии (даже в тех случаях, когда император замышлял их в интересах крестьян), оборачивались лишь чудовищным насилием и произволом. Так случилось при создании «военных поселений» по приказу Александра I в 1816 году или при реформе государственных крестьян (1837–1841) при Николае I: число поборов и чиновников умножалось, жизнь крестьян ещё больше регламентировалась, а их рабская доля получала, под бдительным отеческим попечением власти, дополнительный «казарменный» привкус. Желая «цивилизовать» и облагодетельствовать подданных без их собственного участия в решении своей судьбы, императоры лишь ещё более ухудшали жизнь крестьян и умножали число бюрократов.
Опасаясь оппозиционности и нелояльности дворян, Николай I пытался изо всех сил поставить бюрократию под тотальный контроль свыше… бюрократическими же методами: через усиление опеки, милитаризацию, назначение более строгих начальников. Поэтому он назначал большинство министров и губернаторов из немецких генералов (даже во главе Святейшего Синода поставив гусарского полковника, а во главе министерств финансов и путей сообщения – генералов). Внешний формализм и соблюдение «приличий» ставились выше всего; покорность и «благонамеренность», молчалинская умеренность и аккуратность стали высшими добродетелями подданных.
Однако максимальная централизация и бюрократизация всей жизни страны оказывались не эффективными и вели к параличу системы: чиновники на местах не могли принять даже ничтожных решений без воли императора, а император не мог знать существа всех вопросов, знакомясь с ними лишь по докладам. Разросшийся аппарат был неповоротливым, некомпетентным и повсеместно коррумпированным. Жандармы из Третьего Отделения в своём тайном докладе Николаю I так отзывались о чиновниках России: «Хищения, подлоги, превратное толкование законов – вот их ремесло. К несчастью они-то и правят… так как им известны все тонкости бюрократической системы». Мордобой, дикое невежество и дикий произвол были нормой жизни чиновников, а воровство было повсеместным.
Начавшаяся при Петре I Империя завершилась при Николае I, который также, как и Пётр, стремился поставить всё под свой контроль, всюду насаждал бюрократию по военному образцу, опираясь на страх, насилие и доносы. По словам С.Т. Жуковского и И.Г. Жуковской: «Всё своё царствование Николай выстраивал, расширял, утеплял, «чистил», «перетряхивал», перекраивал и упорядочивал свой государственный аппарат. И после всех своих трудов он мог убедиться на множестве примеров, что не подконтрольное обществу чиновничество не в состоянии контролировать он сам; что любое его самое строгое повеление бюрократия совершенно безнаказанно может «утопить» в инструкциях, согласованиях, циркулярах или извратить его до полной неузнаваемости; что грозный самодержец бессилен перед безликим, раболепным множеством взяточников и расхитителей казны; что даже самые назревшие и неотложные преобразования с помощью одного только госаппарата провести невозможно».
При Николае I в России воцарилась поистине кладбищенская стабильность, основанная на палочных наказаниях в армии, всевластии «голубых мундиров» (жандармов), доносах и ссылках, отсутствии любых перемен, мертвящем бюрократизме и официальном патриотическом оптимизме. (Ценой этой стабильности стало поражение в Крымской войне). Дух времени хорошо выражен в афоризме Козьмы Пруткова: «При виде исправной амуниции, сколь презренны все конституции!» По словам А.И. Герцена: «Казарма и канцелярия стала главной опорой николаевской политической науки». Немецкие чиновники и генералы заняли в николаевской империи ключевые посты, потеснив русскую гвардию и дворянство. Смысл своего правления Николай I видел в борьбе с революцией внутри и вне России: посредством жандармского и цензурного гнёта, интервенций против европейских революций, усиления роли бюрократии и армии в управлении (при упадке дворянства), посредством закрытости России от Запада и теории «официальной народности» (провозглашающей единство власти и народа и покорность народа царю, как главную отличительную черту самобытности России, возможность для неё, в силу этого, избежать революций и владычествовать надо всем миром).
К эпохе Николая I (1825–1855) самодержавие в том виде, который ему придал Пётр I, исчерпало все свои возможности, утратило стратегическую инициативу и перешло к глухой обороне, отторгая любые перемены и зарубежные влияния. Характерно, что нередко николаевскую эпоху сравнивают с «застоем» в СССР времён генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева (1964–1982): такая же военная мощь, прикрывающая внутреннее разложение, такие же гонения на инакомыслящих, такая же мертвящая удушливая атмосфера несвободы во всём, такое же казённое и лицемерное самовосхваление империи, такое же положение мировой сверхдержавы и нежелание ничего менять, за исключением косметической перелицовки «фасада» и… такой же всеобъемлющий крах под конец. Символом николаевского правления стала (напоминающая о брежневской Конституции СССР 1977 года) кодификация (систематизация) комиссией во главе с выдающимся и талантливым бюрократом М.М. Сперанским всех законов Российской Империи со времён Соборного Уложения 1649 года (всего 31 тысяча законодательных актов – более 50 томов!). Уже Екатерина II в 1767 году осознавала, что старые законы устарели, и созывала Комиссию для выработки нового Уложения, (правда, безрезультатно), уже Александр I в начале XIX века готовил Конституцию для России (правда, не решившись её обнародовать), а Николай I считал, что лучше всего ничего не менять и не обновлять! Вместо реформ и издания принципиально новых законов, Николай поручил исполнительному и усидчивому Сперанскому упорядочить и привести в систему десятки томов уже существующих законов (многим из которых было уже по сто– двести лет). Сходным было и отношение Николая I к крепостному праву, как основе Империи: осознание необходимости его отмены и… желание отложить это на неопределённое время.
Политика Николая I ярко описывается двумя его изречениями. Одно из них восходит к моменту его восшествия на престол: «Революция на пороге России. Но клянусь, она не проникнет в Россию, пока я жив». Борьба с революцией, консервация существующего порядка, стагнация режима, «умственные плотины» против европейских веяний, отказ от реформ – вот суть курса Николая I. Второе его характерное изречение, подводящее итог его правлению, относится к самому концу его жизни (1855 год), когда на смертном одре он сказал наследнику Александру: «Сдаю тебе команду. Но не в добром порядке». Россию он воспринимал как казарму, а себя, как дежурного офицера. Не доверяя дворянам русского происхождения, он на все ключевые посты ставил прибалтийских немцев – генералов, требуя от них не талантов, образованности и инициативы, а исключительно послушания и лояльности и руководствуясь своим принципом: «Мне нужны не умники, а верноподданные!» Но «верноподданные» Николая I могли не бунтовать, однако они не могли развивать экономику и побеждать на войне.
Историк-монархист С.М. Соловьёв писал о Николае I: «Он хотел бы отрубить все головы, которые поднимались над общим уровнем». Репрессии, доносы, сыск, цензура дополнялись казённым «квасным патриотизмом», восхвалением русского народа, слепо преданного императору и не «заражённого» революционными идеями. Собственная Его Императорского Величества Канцелярия – подобно Приказу Тайных Дел при Алексее Михайловиче – подчинялась лично государю и была призвана ведать всеми главными делами империи (кадровыми вопросами, кодификацией законов, политическим сыском и пр.). Гонения на прессу, поляков, староверов, униатов, литературу, университеты (в университетах запретили преподавание философии, ибо, по словам министра просвещения: «польза от философии не доказана, а вред от неё возможен») – стали постыдной приметой этого зловещего и мрачного царствования. Такой «апогей самодержавия» не мог закончиться хорошо ни для России, ни для самого самодержавия. Поэтому «команду» Николай I сдавал «не в добром порядке».
Опасаясь революционных настроений среди студенчества, Николай I резко ограничил число студентов (не более 300 в одном университете, а их в России было всего пять!) – в результате, в огромной стране ощущался крайний дефицит образованных людей. Попытки Николая I подчинить все сословия страны власти монарха и возглавляемого им бюрократического аппарата закончились сокрушительным крахом. В военных поселениях и деревнях вспыхивали бунты, продолжалась партизанская война в Польше и на Кавказе, тлело недовольство в образованном обществе. Оказавшись перед перспективой социального взрыва огромной силы внутри страны и потери Россией статуса великой державы на мировой арене, новый государь Александр II волей-неволей начал свои «Великие Реформы».
Пётр I и Николай I – два самодержца, обозначающие начало и апогей Петербургской Империи, причём Николай I стремился во всём следовать примеру Петра I, подчинив всю страну своему мелочному деспотизму. Однако, тем разительнее контраст между ними, контраст, закономерно ведущий от победы в Северной войне к поражению в Крымской войне.
Пётр I стремился к непрерывным нововведениям и заставлял Россию «учиться у Европы». Николай I не желал ничего менять, выше всего ценил стабильность и противопоставлял выдуманное «совершенство» русской истории европейским «безобразиям». Это сопоставление со всей очевидностью показывает исчерпанность, гибельность и тупиковость того пути, на который встала Петербургская Россия при Петре I и по которому шла вплоть до Николая I.
К середине XIX века «наступательный» потенциал Петербургской Империи Петра I (и в смысле внешней военной агрессии Империи, стремившейся к завоеваниям и мировому господству, и в смысле внутреннего натиска на своё завоёванное и порабощённое население) был полностью исчерпан, а противоречия, заложенные им в её основание, стали полностью очевидными и угрожающими её существованию. Архаичная система управления, отсутствие «обратной связи» между властью и обществом, насильственный и искусственный характер государства, отделённого пропастью от народа и держащегося лишь на штыках, отсталая экономика и рабская армия, неповоротливая бюрократия и тонущий в роскоши двор, «пожирающий» колоссальные средства, изъятые у крестьян, не могли обеспечивать империи военных побед и новых завоеваний, но грозили дальнейшим крушением её международного и внутреннего авторитета и чередой восстаний. Требовалась уже не престо дежурная «перелицовка фасада», а полная реконструкция всего здания, с демонтажем крепостнического фундамента абсолютизма, обновлением армии и чиновничества и хотя бы частичным подключением общества к государственной жизни, – словом, существенные отступления от петровского пути.
Частью всеобъемлющего системного кризиса Петербургской Империи было ослабление социальной опоры режима. Кто поддерживал теперь имперскую власть? Казённая церковь? Но она была безгласна, безропотна и… малоэффективна, малоавторитетна в народе. Дворянство? Но оно с конца XVIII века начинает требовать гарантии соблюдения своих прав и привилегий и соучастия в управлении страной, то есть перестаёт быть безусловно лояльным самодержавию (оставаясь его опорой лишь отчасти и при соблюдении ряда условий). Посягнувший на права дворянства Павел I поплатился жизнью. А декабристы уже ясно показали самодержавию, что на дворянство нельзя безоговорочно опираться. Чиновничество? Но бюрократическая машина – огромная, неповоротливая, инертная и живущая по своим законам, – начала выходить из-под контроля императора (в чём ясно убедился на своём опыте приверженец бюрократии как опоры трона Николай I). Крестьянство? Но оно сочетало иллюзии о «добром царе-батюшке», народном заступнике, с крайней степенью отчуждённости от реальной системы империи, от души ненавидя настоящих генералов, господ и министров. Потеря надёжной опоры в обществе требовала от императора радикальных реформ, свидетельствуя об исчерпанности гибельного петровского пути. И, если в XVI–XVIII веках российское государство «сконструировало» в своих интересах дворянство и крепостную систему, в XVIII–XIX веках – бюрократию, то в конце XIX – начале XX века оно попытается также «сконструировать» ручную буржуазию и сословие крестьян-собственников (развалив крестьянскую общину, ставшую опасно революционной). Впрочем, эта попытка окажется неудачной. Всё колоссальное могущество Империи было шатко, непрочно, неправедно, эфемерно, ненадёжно. Ибо в социально-экономическом, политическом, психологическом и технологическом отношениях Россия всё больше зависела от Европы, отставала от неё, всё чаще выступая не субъектом, а объектом и марионеткой в европейской политике, полуколонией. Лишь военная мощь делала её сверхдержавой и главным «надсмотрщиком» над Азией и Восточной Европой. Внутри страны имели место дворцовые перевороты, экстенсивное развитие хозяйства, постоянная опасность крестьянской революции (ведь всё величие Империи опиралось на порабощение и нищету завоёванного ею бесправного крестьянства). «Просвещение» было поверхностно и иллюзорно (четыре пятых жителей страны всё ещё не умели читать), общество – расколото в социальном, религиозном, психологическом отношении. Даже шеф жандармов и глава Третьего Отделения в «николаевской России» граф А. Х. Бенкендорф признавал крепостное право «пороховой бочкой под государством». А вдобавок ещё существовал неразрешимый «польский вопрос», постоянная война на Кавказе: новые завоевания порождали новые противоречия и конфликты.
С распространением европейского просвещения (среди дворянства), с эмансипацией дворянского сословия происходит рост требований ограничить абсолютизм, отменить крепостное право, ввести в стране гражданские свободы, положить пределы полицейскому и чиновничьему произволу. Начинают выдвигаться (впервые, после Смутного Времени) альтернативные государству проекты видения будущего. Происходит подрыв важнейшей монополии государства – монополии на инициативу во всех вопросах общественной жизни, и его переход (при Николае I) к глухой обороне от общества, в которой последним аргументом абсолютизма оставалась военная мощь и имперское могущество России. Но падение Севастополя в 1855 году развеяло и этот последний аргумент. Немногочисленные, но всё возрастающие протесты против деспотизма со стороны наиболее замечательных представителей дворянства (на смену отважному одиночке А.Н. Радищеву пришли сотни декабристов), повторяющиеся каждые четверть века грандиозные польские восстания, страшная для режима «пугачёвщина» (которую часто со ссылкой на Пушкина объявляют «бессмысленным и беспощадным бунтом» – «беспощадная», да, но отнюдь не бессмысленная!) всё более сотрясают здание самодержавия, и военные поражения грозили ему полным и окончательным крахом. Величие Империи всё больше оборачивалось её ничтожеством и оказывалось, как в сказке Андерсена о голом короле, призраком и иллюзией.
Дворцовые перевороты 1725–1801 годов: причины, хроника, механика, последствия
По подсчётам современного замечательного историка Н.А. Троицкого, с 1725 по 1801 годы в России произошло шесть «полноценных» дворцовых переворотов, были свергнуты три царя, два «временщика» и одна «правительница», причём все трое императоров (Иван VI, Пётр III и Павел I) были убиты. Однако, в это число не вошли разнообразные «микро-перевороты», придворные интриги, смена фаворитов и т. д.
Краткая хроника дворцовых переворотов выглядит так. В 1725 году, после смерти Петра I, отменившего старый порядок престолонаследия, но не назначившего себе преемника, А.Д. Меншиков, опираясь на военную силу гвардии и преодолев сопротивление Сената и аристократии, посадил на трон вдову Петра I императрицу Екатерину I (при которой фактически правил страной). В 1727 году, после её смерти, на трон сел внук Петра I (сын несчастного царевича Алексея) юный Пётр II. Меншиков попытался женить его на своей дочери к подчинить своему влиянию, но группировка аристократов Долгоруких и Голицыных не допустила этого брака, «свалила» всесильного Меншикова, надоевшего сумасбродному юноше-императору своей опекой (отправив его в ссылку) и посватала за императора княжну Долгорукую.
Однако в 1730 году, не успев жениться, умер и Пётр II (подобно своему великому деду и тёзке, чересчур бурно предававшийся охотам, пьянству и оргиям, что вредно сказалось на его юном организме). Тогда аристократы «верховники» (члены Верховного Тайного Совета, высшего органа Империи) пригласили на русский трон племянницу Петра I, вдовствующую герцогиню курляндскую Анну Иоанновну, навязав ей «кондиции» (конституционные условия, сводящие её власть к минимуму). Однако, оперевшись на дворянство, новая императрица разорвала «кондиции» (в прямом и переносном смысле) и жестоко расправилась с «верховниками».
Анна Иоанновна царствовала с 1730 по 1740 годы. Фактически, при ней страной управляли прибалтийские немцы: фельдмаршал Миних и любовник государыни конюх, ставший герцогом, Эрнст Бирон. Умирая, Анна Иоанновна передала трон годовалому сыну своей племянницы Анны Леопольдовны Брауншвейгской Ивану VI, назначив регентом Бирона. Миних сверг Бирона, отправив его в ссылку, но сам вскоре был свергнут мужем Анны Леопольдовны.
В 1741 году, опираясь на помощь французского посольства и гвардии, дворцовый переворот совершила дочь Петра I Елизавета Петровна. Она свергла Анну Леопольдовну и Ивана VI (Брауншвейгское семейство умерло в заточении, а несчастный ребёнок Иван VI был заточён в крепость и позднее был убит там по приказу Екатерины II при попытке его освобождения поручиком Мировичем). Елизавета – ветреная и развратная – царствовала, придаваясь кутежам, балам и увеселениям, до 1761 года. Фактически страной управляли её бесчисленные фавориты: Лесток (лекарь и французский посланник), Шуваловы, Разумовские, Бестужев и другие.
В 1761 году Елизавета умерла, передав трон своему племяннику, внуку Петра I, Петру III (сыну дочери Петра Анны и голштинского герцога). Однако через полгода, в 1762 году он был свергнут с трона и убит по приказу своей жены, севшей на российский трон под именем императрицы Екатерины II. Немецкая принцесса Софья-Фредерика-Августа Ангальст-Цербстская (так на самом деле звали Екатерину II) не имела никаких прав на русский трон, но, расправившись со всеми противниками и конкурентами (а в их числе, кроме убитого ею мужа, были погибший в крепости при подозрительных обстоятельствах Иван VI, и «княжна Тараканова» – неизвестная авантюристка, выдававшая себя за дочь Елизаветы Петровны и Разумовского, насильно захваченная в Италии Алексеем Орловым, привезённая в Россию и скоро погибшая в Петропавловской крепости), отодвинув от власти собственного нелюбимого сына Павла и не допустив осуществления конституционных проектов группы русских аристократов во главе с воспитателем Павла графом Н.И. Паниным, желавшим ограничить абсолютизм (назначив Павла императором, Екатерину – регентшей и передав часть власти Сенату), правила Россией до 1796 года.
По-видимому, Екатерина II хотела передать престол сразу своему внуку Александру, минуя ненавистного сына-соперника. Однако после её смерти на трон всё же сел Павел I (возможно, уничтожив завещание матери, лишавшее его прав на престолонаследие), восстановивший прежний допетровский порядок наследования трона: от отца к старшему сыну. Однако и Павел I в 1801 году, подобно своему отцу, был свергнут и убит в результате дворцового переворота, в котором участвовали: английское посольство, обиженные императором екатерининские вельможи, гвардейцы, недовольные его деспотизмом, и его сын Александр I. Этот переворот обычно считается последним в истории Петербургской России (хотя многие черты дворцового переворота можно найти и в восстании декабристов в 1825 году).
Атмосфера ненависти и борьбы пронизывала всё здание имперской власти: от чиновников среднего звена до монархической семьи, Русский царствующий дом знал в XVIII–XIX веках и убийство мужа (Петра III) женой (Екатериной II), и убийство отца с согласия сына (Павел I и Александр I), и отстранение сына (Павла I) – законного наследника престола – от власти матерью (Екатериной II), и свержение с трона тётей (Елизаветой Петровной) племянницы (Анны Леопольдовны). Не ограничиваясь низвержением и убийством своего противника-родственника, победитель, чтобы обосновать свои действия, представлял законного, но низложенного монарха чудовищем или идиотом, а свои действия (движимые корыстью и властолюбием) – актом высшей государственной необходимости. Так, с лёгкой руки Екатерины II, потомки смотрят на её низложенного и убитого супруга Петра III её глазами, считая его каким-то врагом России, недоумком, самодуром и инфантильным дегенератом, хотя за неполный год своего правления этот оклеветанный выдающийся и замечательный государь осуществил больше полезных, прогрессивных и либеральных преобразований, чем его «Великая» жена – за 35 лет своего блестящего правления.
Каковы были, главные причины, факторы и «механика» дворцовых переворотов? В условиях самодержавия и запрета на любую независимую от государства политическую деятельность, дворцовый переворот стал главным и весьма эффективным инструментом политической борьбы, способом воздействия общества (то есть столичного дворянства) на абсолютизм. Кроме того, дворцовые перевороты стали реакцией дворянства на петровские реформы, закабалившие и поработившие дворян, формой их насильственного сопротивления насилиям над ними со стороны самодержавия. В процессе дворцовых переворотов дворяне постепенно добились освобождения от государственного гнёта, закрепления своих сословных прав и привилегий (монополии на владение землёй и крепостными, свободы от телесных наказаний, податей и обязательной государственной службы, права на сословные учреждения и суды).
Важнейшими факторами, способствовавшими дворцовым переворотам были: петровский указ о престолонаследии (позволяющий в принципе любому человеку претендовать на российский трон и расшатывающий систему смены власти), возросшая политическая роль гвардии (главной ударной силы переворотов и вооружённого авангарда дворянства), важная роль иностранных посольств (заинтересованных в том, чтобы иметь на троне в Петербурге «своего» ставленника, предоставляющего к услугам их держав огромную русскую армию), расцвет фаворитизма и роли «временщиков», поочерёдная смена «прорусских» и «пронемецких» группировок при дворе. Остановлюсь на некоторых из этих факторов чуть подробнее.
В центре дворцовых переворотов всегда стояла гвардия. По словам замечательного историка и мыслителя Ю.М. Лотмана, гвардия – «это привилегированное ядро армии, дававшее России и теоретиков, и мыслителей, и пьяных забулдыг, быстро превратилось в нечто среднее между разбойничьей шайкой и культурным авангардом». Гвардия была одновременно опорой императора и угрозой его власти и жизни, а привлечение гвардии на свою сторону стало важнейшим делом монарха, XVIII век – век расцвета авантюристов – дерзких, наглых, энергичных, беспринципных, отважных. Любой незнатный офицер или дворянин мог, участвуя в заговорах, интригах, военных походах, сделать блестящую карьеру и оказаться на вершине власти (но столь же легко и потерять свою власть и жизнь). Эта эпоха знала феерические взлёты и падения: во главе России оказывались то сын конюха и денщик царя А.Д. Меншиков, то «простая» прибалтийская немка, ставшая любовницей многих офицеров и генералов, а затем императрицей, Марта Скавронская (Екатерина I), то курляндский конюх и любовник Анны Иоанновны Эрнст Бирон, то пастушок из Малороссии (покоривший Елизавету Петровну сначала певучим голосом, а затем и другими своими достоинствами и ставший её любовником) Разумовский, то гвардейские офицеры (любовники Екатерины II) братья Орловы, братья Зубовы, Григорий Потёмкин и многие другие.
«Временщики» с калейдоскопической скоростью сменяли друг друга на властном Олимпе: Долгорукие «свергли» Меншикова, Бирон – канцлера Волынского, Миних – Бирона и т. д. Изредка проигравшие отправлялись на плаху, чаще – в ссылку (времена становились более гуманными и просвещёнными). Старая знать боролась против хищных и алчных «птенцов гнезда Петрова», а они, в свою очередь, пожирали друг друга. Любовные связи императоров и императриц, использование «доступа к телу» монарха (во всех смыслах этого выражения) стали важнейшими факторами в политике. Особенно широко это использовала Екатерина II, выдвигавшая многих из числа своих бесчисленных любовников на ключевые военные и государственные посты (Алексею Орлову (брату фаворита Григория Орлова) она поручила командование эскадрой в войне с Турцией, Григория Потёмкина назначила губернатором завоёванной Тавриды и Новороссии, Станислава Понятовского посадила на польский трон и т. д.). Сословные интересы причудливо переплетались с клановыми и накладывались на любовные пристрастия правящих особ.
Не меньшую роль, чем фавориты и гвардия (а также – в юридическом отношении – петровский печально известный указ о престолонаследии) в дворцовых переворотах играли европейские посланники. Для них дворцовый переворот был способом корректировки российской политики в нужном им направлении. Так, при активном участии французского посланника (и любовника царевны) Лестока была посажена на трон Елизавета Петровна, а за убийством Павла I стояло английское посольство, активно участвующее в заговоре, спасшем британскую Индию от русского вторжения. Тем курьёзнее то, что в пропагандистской риторике, сопровождающей и легитимирующей перевороты, использовались красивые патриотические фразы (о борьбе с «немцами», продолжении «дела Петра» и проч.). Однако, за исключением событий 1730 года («затейки верховников» с «кондициями»), вплоть до правления Петра III и Екатерины II, в реальности дворцовые перевороты лишь слегка корректировали курс самодержавия и были борьбой личностей и кланов, а не политических программ и стратегий. Императоры и императрицы предавались пирам, охотам, балам, роскоши, необузданному разврату; «временщики» жадно и ненасытно разворовывали казну, а бюрократия кое-как управляла страной, продолжавшей по инерции двигаться в направлении, указанном Петром I.
Какой была механика и обоснование дворцового переворота? Вооружённой силой выступала гвардия – обычно несколько офицеров, реже – целые полки. Обоснование переворота: обвинить низложенного в «антипатриотизме», «тирании» или (и) в «неспособности управлять», а себя, победителя, беспроигрышно связать с «петровской» традицией (Елизавета Петровна спросила у гвардейцев, явившись в казарму в гвардейском мундире петровских времён: «Знаете ли вы, чья я дочь?»), привлечь на свою сторону какой-то авторитетный орган, способный узаконить переворот (Сенат, как правило), подготовить манифест, извещающий о случившемся и объясняющий его важность и нужность, раздать придворным и гвардейцем множество пожалований и ещё больше обещаний…
Убийство императора никогда не признавалось убийством (ибо особа монарха – даже низложенного и признанного «негодным» – неприкосновенна по определению! Теоретически!), но – либо «геморроидальными коликами» (они погубили Петра III), либо «апоплексическим ударом» (Павел I; в действительности, удар имел место – удар табакеркой в висок, после чего озверевшие заговорщики задушили государя). При этом дворянам даруют более широкие права, привилегии и обещания всяческих милостей.
Число участников заговоров росло: от десятка офицеров, низложивших Бирона под предводительством Миниха, или примерно такого же их числа, приведших к власти Елизавету Петровну (1740–1741), к двум сотням офицеров – при свержении Петра III (1762) и Павла I (1801). Как правило, все перевороты «не дозревали», совершаясь намного раньше, чем планировалось, из-за боязни провала заговора – когда царствующему монарху становилось известно о заговоре (так было и в 1741, и в 1762, и в 1801 году), а заговорщикам – о том, что это ему стало известно (и вынуждало их действовать на упреждение). Каждый монарх, таким образом, всегда жил «под Дамокловым мечом» возможного переворота, и это ожидание, конечно, корректировало его политику.
Дворцовые перевороты стали частью той чудовищной цены, которую Россия заплатила за петровские реформы, разрушившие традиционные, сравнительно «мирные» механизмы преемственности передачи власти и функционирования политической системы. Объявленного «священным», непогрешимым и всемогущим государя нельзя было «переизбрать», на него нельзя было повлиять ни обществу, ни церкви – его можно было лишь убить. И цареубийство становится довольно обычным делом в эту эпоху. Итогами дворцовых переворотов стали сохранение самодержавия, восстановление (Павлом I) допетровской системы престолонаследия, рост системы крепостного права и расширение прав и привилегий дворянства (но при недопущении его к управлению государством).
Теория «официальной народности»
Начатый войной 1812 года мощный подъём национального самосознания использовался самодержавием в целях собственном дополнительной легитимации и решения одной из проблем, порождённой петровскими реформами, – идеологического преодоления непроходимой пропасти между монархом и народом. На смену идее «Третьего Рима» пришла идея «народа-богоносца», создавшего великую Империю, сокрушившего Наполеона, превосходящего все прочие народы мира, и безмерно преданного своему государю.
Чиновником, сформулировавшим новую идеологию самодержавия, стал граф С.С. Уваров – министр народного просвещения при Николае I, ловкий интриган, один из прототипов грибоедовского Молчалина, талантливый царедворец и публицист, который в «либеральное» правление Александра I был «либералом», а в эпоху николаевской реакции стал реакционером. Современный историк Андрей Зорин так объясняет предпосылки появления теории «официальной народности»: «Необходимые перемены отодвигались в неопределённое будущее… Тем самым ответственность за них перекладывалась с власти на движение истории, а на долю правительства оставалась чисто консервативная функция поддержания необходимой устойчивости государственного здания и сохранения фундаментальных основ политического порядка». Николай I, под влиянием восстания декабристов в России, революций в Польше, Бельгии и Франции 1830–1831 годов, желал законсервировать режим, отказаться от любых перемен. Именно в это время официальная триада: «православие-самодержавие-народность» была противопоставлена Уваровым революционной триаде: «свобода-равенство-братство». А. Зорин пишет об Уварове: «Профессиональный карьерист и опытный администратор, он был, однако, одушевлён исключительно амбициозным проектом постепенного изменения умонастроений большинства подданных империи через институты народного просвещения».
По словам Уварова, исконным религиозным и политическим идеалом России была покорность, преданность народа государю, послушание. Позаимствовав многие идеи немецких романтиков (о «духе народа»), Уваров сумел традиционным идеям русского самовластия придать новое обоснование и выражение, сконструировать идеологическую доктрину, которая посредством официальной пропагандистской машины, системы образования и средствами искусства вбивалась в сознание подданных Российской Империи.
По верному замечанию А. Зорина: «Социальная и культурная грань, разделившая высшее и низшее сословия, была в России первой половины XIX в. непреодолимой. Обнаружить, скажем, у дворянства и крестьянства какие бы то ни было общие обычаи было заведомо невозможно. С языком дело обстояло не более благополучно – достаточно сказать, что сам документ, утверждающий народность в качестве краеугольного камня русской государственности, был написан по-французски». Поэтому, как указывает А. Зорин, «не имея возможности основать своё понимание народности на объективных факторах, Уваров решительно смещает центр тяжести на субъективные. Его аргументация полностью лежит в сфере исторических эмоций и национальной психологии».
По утверждению Уварова, Россия «ещё хранит в своей груди убеждения религиозные, убеждения политические, убеждения нравственные – единственный залог её блаженства, останки своей народности, драгоценные и последние гарантии своей политической будущности… Три великих начала религии, самодержавия и народности составляют ещё заветное достояние нашего отечества».
А. Зорин так поясняет эту мысль министра: «Проще говоря, русский человек – это тот, кто верит в свою церковь и своего государя. Определив православие и самодержавие через народность, Уваров теперь определяет народность через православие и самодержавие… Рискованный риторический пируэт оказывается несущей основой всей конструкции новой официальной доктрины… Действительно, если русским может быть только член господствующей церкви, исповедующий «национальную религию», то исключёнными из народного тела оказываются старообрядцы и сектанты в низших слоях общества и обращённые католики, деисты и скептики в высших. Точно также, если народность необходимо предполагает приверженность самодержавию, любым конституционалистам и паче того республиканцам автоматически отказывается в праве быть русским. Трудно не обратить внимания на родстве этих подходов с разработанной коммунистическим режимом моделью «советского человека», которому предписывался жёстко заданный набор взглядов и убеждений, а все «несоветские люди» объявлялись «отщепенцами»».
Уваров объявляет всех, кто не разделяет ценностей православия, самодержавия и народности, «смутьянами» и «врагами России». Теория «официальной народности», выдавая искусственно сконструированное желаемое за действительное, стремилась сплотить нацию поверх сословных и этнических барьеров единой идеологией (которая продержалась в качестве господствующей много десятилетий), отгородиться от Европы непроходимым барьером и консервировать самодержавный режим в качестве высшего национального достояния.
Уваров задавался кардинальным и мучительным для самодержавия вопросом: как позаимствовать технические и научные достижения Запада в отрыве от породившей их системы общественных отношений и ценностей (свобода, права человека и пр.). В его формулировке этот извечный (со времён Петра I) вопрос российского абсолютистского режима звучал так: «Каким искусством надо обладать, чтобы взять от просвещения лишь то, что необходимо для существования великого государства, и решительно отвергнуть всё, что несёт в себе семена беспорядка и потрясений?» И отвечал на этот вопрос. Всё в России прекрасно, ничего менять не надо. Царь – отец народа. Народ любит царя и не желает перемен. Мы победили Наполеона и сумеем избежать революции, если отгородимся от Европы. Синоним «народности» – терпение и покорность людей имперской власти. Уваров решительно и энергично призывал государя бороться «против влияния так называемых европейских идей» всеми силами, воздвигая «умственные плотины». По словам А. Зорина: «Прошлое было призвано заменить для империи опасное и неопределённое будущее, а русская история с укоренёнными в ней институтами православия и самодержавия оказывалась единственным вместилищем народности и последней альтернативой европеизации».
Если «николаевская Россия» была апогеем и одновременно началом заката Петербургской Империи, пределом её военного могущества в мире и началом её крушения, то «теория официальной народности» свидетельствовала об утрате самодержавием стратегической инициативы в идейной области, о переходе к глухой обороне против всех новых веяний на основе принципа «держать и не пущать», и об исчерпанности реформаторского потенциала царизма.
Выражая и подытоживая дух теории «официальной народности», шеф жандармов и глава тайной политической полиции Николая I граф А.X. Бенкендорф писал: «Прошлое России изумительно, настоящее более чем превосходно, а будущее не поддаётся описанию». Всё, что противоречило этому жандармскому взгляду, объявлялось несуществующим, а все, несогласные с такой позицией, провозглашались «крамольниками» и преследовались.
Решительная, но безнадёжная попытка императора (немца по происхождению, мышлению и воспитанию) «навести мост» с народом (предварительно придумав и «сконструировав» нужным образом этот народ), обосновать сфабрикованной на скорую руку исторической мифологией единство власти и народа, ненужность перемен, «совершенство» и «органичность» Петербургской Империи (на редкость несовершенной, неорганичной, насильственной и искусственной), подкреплялась не только полицейским террором над обществом, но и всей мощью официальной пропаганды. XIX век – век всемирного взлёта национализмов, конструирования национальных «идентичностей» различными государствами. Если, например, во Франции такой идентичностью стала революция, «патриотами» (воспетыми в «Марсельезе») – приверженцы революционных идей, а образом национального врага – аристократия и духовенство, то в России сутью национальной идентичности, напротив, была объявлена уваровская «триада», а образом врага стала Европа.
Восхваление силы русского оружия, мода на «русский национальный стиль» (точнее, на то, что считали таковым придворные немцы, окружавшие императора в Петербурге: сарафаны, матрёшки, кокошники и пр.) воплощались в школьных и университетских курсах и в многочисленных более или менее художественных творениях. Сконструированный и провозглашённый Уваровым пропагандистский миф стал внедряться Империей в сознание народа через произведения литературы и искусства; картины, пьесы, оперы (например, пьесу «Рука Всевышнего Отечество спасла» придворного литератора Нестора Кукольника или известную оперу Глинки «Жизнь за царя», воспевавшую единство первого государя из рода Романовых – Михаила и простого мужика Ивана Сусанина, призванного символизировать народ, и пожертвовавшего собой ради обожаемого монарха). Поэзия, музыка, живопись, образование – всё было поставлено на службу уваровской «триаде», занимающей почётное и важное место между концепцией «Москва – Третий Рим» времён Василия III и большевистской идеологией: «СССР – надежда и авангард всего человечества».
Лишь катастрофа Крымской войны заставила отчасти пересмотреть господствующую теорию «официальной народности» и взглянуть на ситуацию в России и мире чуть более трезво. Однако продолжением этой теории «официальной народности» стали и расцвет русского официального национализма в эпоху Александра III (с «псевдорусским» (!) стилем в архитектуре), и Чёрная Сотня, и стремление семьи Николая II слиться с простым русским народом в лице Григория Распутина.
«…Дышать не иначе, как с царского разрешения…»
В эпоху Николая I Россию посетил французский писатель и путешественник маркиз Астольф де Кюстин. Свои наблюдения и размышления он изложил в книге «Россия в 1839 году». Кюстин был по своим политическим взглядам ярым сторонником монархии. В России он рассчитывал найти «лекарство» от «революционной болезни» Европы. Однако увиденное заставило его серьёзно пересмотреть свою точку зрения.
Приведу некоторые его высказывания и наблюдения: «Российский государственный строй – это строгая военная дисциплина вместо гражданского управления, это перманентное военное положение, ставшее нормальным состоянием государства…
Нет в наше время на земле человека, который пользовался бы столь неограниченной властью (как российский император – П.Р.). Вы не найдёте такого ни в Турции, ни в Китае. Представьте себе всё столетиями испытанное искусство наших правителей… весь административный опыт Запада, используемый восточный деспотизмом; европейскую дисциплину, поддерживающую азиатскую тиранию; технику европейских армий, служащую для проведения восточных методов политики; вообразите полудикий народ, который милитаризирован и вымуштрован, но не цивилизован, – и вы поймёте, в каком… положении находится русский народ. Воспользоваться всеми административными достижениями европейских государств для того, чтобы управлять на чисто восточный лад шестидесятимиллионным народом, – такова задача, над разрешением которой со времён Петра I изощряются все монархи России…
Жизнь человеческая не имеет здесь никакой цены… Самоотречение и покорность, считающиеся добродетелями в любой стране, превращаются здесь в пороки, ибо они способствуют неизменности насильственного порядка вещей. Здесь дело идёт не о политической свободе, но о личной независимости, о возможности передвижения и даже о самопроизвольном выражении естественных человеческих чувств. Рабы ссорятся только вполголоса, под сурдинку, ибо гнев является привилегией власть имущих…
Когда Пётр I учредил то, что здесь называется чином, т. е. когда он перенёс военную иерархию в гражданское управление империей, он превратил всё население в полк немых, объявив себя полковником и сохранив за собой право передать это звание своим наследникам…
Царь в России, видно, может быть любимым, если он и не слишком щадит жизнь своих подданных… И сейчас, как и в XVI веке, можно услышать и в Париже, и в России, с каким восторгом говорят русские о всемогуществе царского слова… Да, слово царя оживляет камни, но убивает при этом людей!
Забывая, однако, об этой подробности, русские люди гордятся тем, что могут сказать мне: «У вас три года рассуждают о перестройке театральной залы, а наш царь в один год восстанавливает величайший дворец в мире». И этот триумф, стоивший жизни нескольким тысячам несчастных рабочих, павших жертвой царского нетерпения и царской прихоти, кажется этим жалким людям совсем не дорого оплаченным…
Движения людей, которые мне встречались, казались угловатыми и стеснёнными; каждый жест их выражал волю, но не данного человека, а того, по чьему поручению он шёл… Офицеры, кучера, казаки, крепостные, придворные – всё это слуги различных степеней одного и того же господина, слепо повинующиеся его воле… Здесь можно двигаться, можно дышать не иначе, как с царского разрешения и приказания…
Единственное, чем заняты все мыслящие русские, чем они всецело поглощены, это царь, дворец, в котором он пребывает, планы и проекты, которые в данный момент при дворе возникают… Все стараются в угоду своему властителю скрыть от иностранца те или иные неприглядные стороны русской жизни… В условиях деспотизма любознательность является синонимом нескромности… Все прирождённые русские и все, проживающие в России, кажется, дали обет молчания обо всём, их окружающем. Здесь ни о чём не говорят и вместе с тем всё знают. Тайные разговоры должны были бы быть здесь очень интересны, но кто отважится их вести? Даже размышлять о чём-нибудь – значит навести на себя подозрение… В России ничто не называется своим именем – слова и названия только вводят в заблуждение. В теории всё до такой степени урегулировано, что говоришь себе: «При таком режиме невозможно жить». Но на практике существует столько исключений, что, видя порождённый ими сумбур проти-воречивейших обычаев и навыков, вы готовы воскликнуть: «При таком положении вещей невозможно управлять!»
Всюду и везде мне чудится прикрытая лицемерием жестокость, худшая, чем во времена татарского ига: современная Россия гораздо ближе к нему, чем нас хотят уверить. Всюду говорят на языке просветительной философии XVIII века, и везде я вижу самый невероятный гнёт.
…Русский народ теперь ни к чему не способен, кроме покорения мира. Мысль моя постоянно возвращается к этому, потому что никакой другой целью нельзя объяснить безмерные жертвы, приносимые государством и отдельными членами общества. Очевидно, народ пожертвовал своей свободой во имя победы. Без этой задней мысли, которой люди повинуются, быть может, бессознательно, история России представлялась бы мне неразрешимой загадкой… Своеобразная помесь Востока и Запада вообще характеризует Российскую империю и даёт себя знать решительно на каждом шагу…
Россия – страна необузданных страстей и рабских характеров, бунтарей и автоматов, заговорщиков и бездушных механизмов. Здесь нет промежуточных степеней между тираном и рабом, между безумцем и животным. Золотая середина неизвестна, её не признаёт природа: лютый мороз и палящий зной толкают людей на крайности… Контрасты до того резки в этой стране, что кажется, крестьянин и помещик не принадлежат к одному и тому же государству…
Русские помещики – владыки, и владыки, увы, чересчур самодержавные, в своих имениях. Но, в сущности, эти деревенские самодержцы представляют собой пустое место в государстве. Они не имеют политической силы. У себя дома помещики позволяют себе всевозможные злоупотребления и смеются над правительством, потому что всеобщее взяточничество сводит на нет местные власти, но государством они не правят. Царь – единственный источник их влияний на государственные дела, лишь от его милости зависит их политическая карьера. Только превратившись в царедворца, дворянин становится государственным деятелем…
Россией управляет класс чиновников… и управляет часто наперекор воле монарха… Из недр своих канцелярий эти неведомые деспоты, эти пигмеи-тираны безнаказанно угнетают страну… Когда видишь, как императорский абсолютизм подменяется бюрократической тиранией, содрогаешься за участь страны…
Благосостояние каждого дворянина здесь исчисляется по количеству душ, ему принадлежащих. Каждый несвободный человек здесь – деньги. Он приносит своему господину, которого называют свободным только потому, что он сам имеет рабов, в среднем до 10 рублей в год, а в некоторых местностях втрое и вчетверо больше. В России человеческая монета меняет свою ценность, как у нас земля… Я невольно всё время высчитываю, сколько нужно семей, чтобы оплатить какую-нибудь шикарную шляпку или шаль. Когда я вхожу в какой-нибудь дом, кусты роз и гортензий кажутся мне не такими, какими они бывают в других местах. Мне чудится, что они покрыты кровью…
Россия – котёл с кипящей водой, котёл крепко закрытый, но поставленный на огонь, разгорающийся всё сильнее и сильнее. Я боюсь взрыва, И не я один его боюсь!…
Дабы правильно оценить трудности политического положения России, должно помнить, что место народа будет тем более ужасно, что он невежественен и исключительно долготерпелив. Правительство, ни перед чем не останавливающееся и не знающее стыда, скорее страшно на вид, чем прочно на самом деле. В народе – гнетущее чувство беспокойства, в армии – невероятное зверство, в администрации – террор, распространяющийся даже на тех, кто терроризирует других, в церкви – низкопоклонство и шовинизм, среди знати – лицемерие и ханжество, среди низших классов – невежество и крайняя нужда. И для всех и каждого – Сибирь. Такова эта страна, какою её сделали история, природа или Провидение…
Тягостное чувство, не покидающее меня с тех пор, как я живу в России, усиливается оттого, что всё мне говорит о природных способностях угнетённого русского народа. Мысль о том, чего бы он достиг, если бы был свободен, приводит меня в бешенство…»
6.2.3. Сословия: блеск и нищета крепостного права
В начале XVIII века население России составляло 16 миллионов человек. А в 1801 году в России жило сорок миллионов человек. Из них: 225 тысяч дворян (мужского пола), 215 тысяч священников и монахов, 119 тысяч купцов (мужского пола), 15 тысяч генералов и офицеров, 15 тысяч чиновников. Эти 590 тысяч человек (1,5 процента) и образовывали правящее сословие Империи, исключительно в их интересах самодержавие управляло страной. Помещичьих крестьян в это время насчитывалось 15,2 миллиона, государственных – около 12 миллионов.
В 1858 году в России (считая Польшу и Финляндию) насчитывалось 887 тысяч дворян обоего пола, 32 тысячи монахов, 126 тысяч священников, 180 тысяч купцов (мужского пола), 23,1 миллиона помещичьих крестьян, около 19 миллионов государственных крестьян. Население страны за полвека с 1801 до 1857 года увеличилось с сорока до 68 миллионов человек.
В первой половине XIX века естественный прирост населения составлял около одного процента в год. Средняя продолжительность жизни составляла тогда в России 27 лет (из-за высокой детской смертности и частых эпидемий). В начале XIX века в России насчитывалось сто тысяч сёл и деревень (в основном, по 100–200 «душ» жителей) и 630 городов, а в 1863 году в стране было уже 1032 города. Городское население в европейской части России (без Польши и Финляндии) в 1811 году составляло 2,8 миллиона человек, а в 1863 году – 6,1 миллиона (то есть выросло вдвое, тогда как всё население – лишь на 60 процентов). Удельный вес горожан в 1811 году составлял 6,5 процентов, а в 1863 году – 8 процентов от общего числа населения. В подавляющем большинстве городов численность населения не превышала трёх-пяти тысяч человек. В Петербурге в 1811 году жило 336 тысяч, а в 1863 – 540 тысяч человек. В Москве в 1811 году жило 270 тысяч человек, а в 1863—442 тысячи человек.
Рост городов шёл в основном не за счёт роста рождаемости, а за счёт притока населения извне (особенно, крестьян). В середине XIX века крестьяне составляли 60 процентов жителей Москвы и 70 процентов – жителей Петербурга.
Важнейшей особенностью социального, политического, культурного, хозяйственного развития России в XVIII–XIX веках (в послепетровскую эпоху) являлась «многослойность», «многоукладность», неравномерность: жители различных регионов Империи и представители различных сословий существовали как будто в разных «мирах» и «измерениях». Староверы, поляки, финны, казаки, татары, горцы Кавказа, жители столичных городов, представители провинциального дворянства, заводские рабочие, – образовывали пёстрый конгломерат этносов, сословий, конфессий, субкультур.
Натуральное хозяйство общинных крестьян, барщинное хозяйство помещиков, кочевая жизнь многих народов Поволжья и Сибири, элементы рабовладения и плантационного хозяйства, ростки капитализма (с торговлей, рынком, вольнонаёмным трудом) образовывали невероятную мозаику, связанную лишь военной мощью Империи и фигурой самодержца. Центр, юг, Сибирь, Польша, Финляндия, Аляска, Кавказ, столицы и провинция, представляли собой разительные контрасты во всём. Патриархально-родовые отношения крестьянской общины соседствовали с крепостным правом, неграмотный народ – с «образованным обществом» (говорящим и думающим сначала по-немецки, а потом по-французски), мелкопоместное дворянство – с крупными магнатами.
Ведя опустошительную агрессивную войну на Кавказе, колонизируя Среднюю Азию, подавляя постоянные восстания порабощённых народов Поволжья, захватив и удерживая вечно восстающую Польшу, продолжая свирепые гонения на староверов, католиков и униатов, самодержавие создавало многочисленные и разнообразные очаги социального и национального напряжения, сопротивления и противостояния. Разделы Речи Посполитой породили в России ещё и «еврейский вопрос». На захваченных Россией польских и литовских землях жило 600 тысяч евреев. Заявляя о защите православной веры от иудеев и о защите русского купечества от конкуренции, Екатерина II в 1791 году установила для евреев черту оседлости (они могли жить лишь в пятнадцати юго-западных губерниях). В XIX веке дискриминация еврейского населения имперскими властями усилилась: были введены квоты на число евреев-студентов в университетах, евреям было запрещено владеть землёй и т. д., что, естественно, вызывало их возмущение и толкало к сопротивлению.
В глухих деревнях царили чуть ли не первобытные порядки и нравы, суеверия, патриархально-общинные отношения, коллективизм, взаимопомощь, решение всех вопросов «миром» и порабощение женщин. Одновременно в отношениях между крестьянами и помещиком феодализм и рабовладение причудливо сочетались: существовали продажа крестьян, порки, ссылки, рекрутчина, принудительный труд на барской ниве и – отеческая забота барина о своих крестьянах, холопская преданность ему дворовых людей, раздача помещиками крестьянам подарков по церковным праздникам.
В городах: купечество, мещане, мануфактуры, магазины, университеты и газеты – свидетельствовали о зарождении буржуазных отношений и некоторой европеизации. Через двор, салоны и университеты распространялись западные идеи и моды, формировалось общественное мнение и «образованное общество», которое, впрочем, не простиралось дальше двух столиц. Как писал Н.А. Некрасов, выражая присущую России поляризацию, многоукладность и пестроту:
«В столицах шум, гремят витии, Кипит словесная война, А там, во глубине России, — Там вековая тишина».По словам философа Н.А. Бердяева: «Незрелость глухой провинции и гнилость государственного центра – вот полюсы русской жизни». Бесчисленные конфликты и противостояния пронизывали непрочное и аморфное здание огромной Империи. Центр и провинция, «образованное общество» и «народ», господствующая казённая церковь и гонимое народное старообрядчество и сектантство, колонизаторы и «инородцы», помещики и крестьяне, – вот лишь некоторые линии противостояния, характеризующие жизнь Петербургской империи.
Почти полное отсутствие «среднего класса», слабость сословной структуры, зависимость общества от государства, необычайная централизация и неподконтрольность власти, замкнутой на фигуру монарха, порождали крайнее социальное напряжение. Вся политическая жизнь была сосредоточена в крайне узком кругу (император, его сановники, министры, фавориты, гвардия, двор, столичное общество). Всё же остальное население – составлявшее 99 процентов жителей России, не влияющее на формирование политических решений, отчуждённое, чаще всего, даже не информированное о происходящем и довольствующееся слухами и мифами, – тем не менее, выступало в роли статистов, жертв, рабов, полностью, зависящих от этих решений и оплачивающих их безмерной ценой. Всё здание империи было шатким, всё её могущество – иллюзорным, неправедным и ненадёжным, основанным на военном насилии, полицейской опеке, государственном терроре, экстенсивном развитии хозяйства (при котором не щадили ни людей, ни природу), милитаризации жизни и непрерывном перенапряжении всех сил податного населения России. (Что не могло кончиться иначе, как крахом Империи и мощным социальным взрывом невиданной силы.)
Расточительное, непроизводительное расходование бюджета (на роскошь двора, пожалования фаворитам, казнокрадство и завоевательные войны) приводило к ситуации непрерывного разорения населения и финансового кризиса казны. Если бюджет России в 1796 году составил 73,1 миллиона рублей, то внешний долг империи к этому времени достиг 33,1 миллиона рублей (это была цена, заплаченная страной за блеск екатерининского двора и гром блестящих побед). В 1730-ых годах содержание двора обходилась казне в два миллиона рублей в год, а Академия наук и Адмиралтейская академия – вместе получали 47 тысяч рублей. В 1780-х годах на расходы двора шло 13 процентов расходов бюджета, а на всё народное образование – 1,7 процентов.
О жестокости, лицемерии и бесчеловечности правящего в России режима ярко говорит такой небольшой эпизод. На рапорте, в котором граф Пален просил покарать смертной казнью провинившихся солдат, Николай I собственноручно изволил начертать: «Виновных прогнать сквозь тысячу человек двенадцать раз. Слава Богу, смертной казни у нас не бывало, и не мне её вводить».
Со времён Петра I официально считалось, что все сословия должны служить на «общее благо», на «общую пользу» государства: горожане должны пополнять бюджет доходами от промыслов и торговли, крестьяне – нести повинности в пользу дворян и государства и поставлять рекрутов, дворяне – служить и учиться. Однако, как замечает современный историк Л.М. Ляшенко: «поскольку эти нововведения осуществлялись в иерархическом государстве, то новые обязанности распределялись крайне неравномерно, усиливая, и без того неравноправное положение различных слоёв населения».
Существовали глубочайшие противоречия между дворянами и крестьянами. Слабые попытки монархов подновить социальные отношения в стране не были поддержаны дворянством. Основными чертами социально-экономического развития России в первой половине XIX века, помимо крайней неравномерности этого развития и крайней остроты разнообразных социальных противоречий, являлась решающая роль государства в экономической жизни страны (через систему сыска беглых, монополий, заказов, субсидий), огромная роль государственных предприятий в промышленности (в частности, вся транспортная система: шоссе, каналы, железные дороги – создавалась государством при помощи принудительного труда крестьян; также вся кредитная система страны была государственной), крайне слабое развитие «третьего сословия» (представленного немногочисленными ремесленниками и буржуа). Самодержавие сознательно консервировало крепостническую социальную и экономическую систему, лишь слегка её подновляя. Например, Николай I хорошо понимал, как необходимость отмены крепостного права, так и то, что упразднение власти помещиков над крестьянами неизбежно затронет и самодержавие, прочно опиравшееся на эту власть.
Со времён Екатерины II и вплоть до Николая I императоры думали об ограничении крепостного права, боясь крестьянской революции, чрезмерного усиления дворянства и нарастающего отставания России от Запада. Но, понимая одновременно, что это крепостное право – опора их власти, они и не смели всерьёз на него посягать.
Как отмечал Л.М. Ляшенко: «Уже в XVIII в. монарх, сделавшийся крупнейшим землевладельцем страны, стал и единоличным собственником важнейших отраслей промышленности, монополистом во всех отраслях коммерции». Тем не менее, монополия самодержавия на политическую власть и социальную политику понемногу подрывается и ослабляется. Атомизированное общество начинает пробуждаться, сословия формироваться (правда, сначала под контролем империи). В XVIII веке формируется первое – дворянское – сословие, юридически закрепляя свои права, формирует собственные корпорации, самосознание, этику (но и оно мало влияет на рычаги власти). Отсутствие горизонтальных связей, дозволенной общественной жизни «компенсировалось» в России переизбытком вертикальных связей, всевластием чиновничества. Дав в 1785 году «Жалованную грамоту дворянству» и «Жалованную грамоту городам», Екатерина II создала фундамент для всеобъемлющего сословного законодательства, призванного усилить государство, уменьшив пропасть между монархом и обществом путём создания «посредствующих властей» (сословных органов: дворянских собраний, судов, городского самоуправления) и путём законодательного закрепления прав и обязанностей некоторых сословий.
Центральной проблемой социальной жизни Петербургской России XVIII–XIX веков оставалась проблема крепостного права, «крестьянский вопрос» (впервые официально поставленный на повестку дня Екатериной II и Александром I). Влияние крепостного права на политику, психологию, быт народа было чудовищным, колоссальным и всеобъемлющим. По словам В.О. Ключевского: «крепостное право было скрытой предпосылкой, которая двигала и давала направление самым различным сферам народной жизни. Оно направляло не только политическую и хозяйственную жизнь страны, но наложило резкую печать на жизнь общественную, умственную и нравственную».
Холопская психология формировалась не только у дворовых людей и крепостных крестьян (этих «рабов рабов» и «крещёной собственности», по точным и горьким словам А.И. Герцена). Розги, насильные женитьбы, разлучение жён с мужьями, детей с родителями, насилие дворян над своими крепостными девушками были нормой русской жизни, формируя и «воспитывая» (растлевая) души и взгляды даже «просвещённых людей». Представление о «естественности» рабства и неравенства, о «не готовности» крестьян к свободе господствовало в обществе.
Даже выдающийся русский драматург и поэт А.П. Сумароков (между прочим, женатый вторым браком на своей бывшей крепостной), человек гуманных и передовых взглядов, писал в конце XVIII века: «Потребна ли ради общего благоденствия крепостным людям свобода? На это я скажу: потребна ли канарейке, забавляющей меня, вольность, или потребна клетка, – и потребна ли сторожащей мой дом собаке цепь. – Канарейке лучше без клетки, а собаке без цепи. Однако одна улетит, а другая будет грызть людей… Что же дворянин будет тогда, когда мужики и земля будут не его: а ему что останется?… Свобода крестьянская не токмо обществу вредна, но и пагубна». Подобным образом (с наивным цинизмом уподобляя крестьян канарейкам) рассуждало подавляющее большинство «просвещённых» дворян.
Самодержавие, крепостничество, экстенсивное развитие российского хозяйства, рабская психология различных сословий – всё сплеталось в один «клубок», взаимно порождая, поддерживая и обусловливая друг друга. Не случайно вместо освобождения крестьян Екатерина II предпочла путь «просвещения» их хозяев (создав сеть учебных заведений: четырёхклассные училища в губернских городах, двухклассные – в уездных, Смольный институт благородных девиц и ряд других), поощряла создание частных типографий и журналов.
Дав общую характеристику социального развития Петербургской империи XVIII – середины XIX веков, обратимся к краткому рассмотрению положения различных сословий.
Дворянство играло в Петербургской империи важнейшую, но весьма противоречивую роль. Как сословие, оно окончательно сложилось, осознало себя и выступило на арену общественной борьбы в середине XVIII века (в процессе и в результате дворцовых переворотов), оставаясь при том крайне неоднородным. Так, в 1859 году 1400 богатейших помещиков владели тремя миллионами крестьян, а 79 тысяч помещиков – двумя миллионами крепостных. У многих дворян крепостных не было вообще. С 1782 по 1858 годы численность дворянства увеличилась в 4,3 раза.
Освободившись от государственной службы, дворянство не приблизилось к рычагам управления страной, оставаясь сословием привилегированным, но не правящим и зависящим от прихоти монарха и воли чиновничества.
Это было вызвано несколькими причинами: тем, что 9/10 дворян не были зажиточными, тем, что латифундисты из-за распылённости своих владений по различным губерниям не могли слиться с местной властью, тем, что дворяне лишь к концу XVIII века приобрели корпоративные учреждения и получили юридическое оформление своих прав. Дворянство – первое по значению сословие страны – стало и первым сословием, закрепившим собственный статус.
Положение дворянства, тем не менее, было крайне противоречивым. Будучи сформировано самодержавным государством для своих нужд, дворянство позднее позволило себе оппонировать самодержавию и корректировать его политику. Его социальная роль оставалась тройственной: одновременно, ролью аристократии (с развитым чувством чести, человеческого достоинства, неформальными клановыми связями), ролью чиновничества, «служилых людей государевых» (безоговорочно преданных государству и признающих лишь волю монарха и формальные структуры, приказы, чины и ранги) и ролью интеллигенции (европеизированного, образованного сословия в отсталой азиатской стране, осознающего позор крепостного рабства и стремившегося взять на себя ответственность за судьбу отечества, низвергнув иго деспотизма).
Дворянин в своём имении выступал как агент правительства, ответственный за поступление налогов с крестьян, исполнение рекрутской повинности, сохранение порядка (выполнял фискальные, полицейские и судебные функции). Николай I по праву называл помещиков «своими ста тысячами полицмейстеров», охранявшими «порядок» в деревне. За спиной помещика стояла вся репрессивная мощь Петербургской империи. В отношении к своим крестьянам, дворянин выступал и как господин, латифундист, рабовладелец, надзиратель. Однако, беспоместное дворянство стало очень распространённым явлением. Существовал острейший конфликт между старым, родовитым дворянством и новым, выслужившимся.
«Ядро» дворянского сословного самосознания составляли представления о преимуществе дворянства перед другими группами населения, требование ограничить доступ в свои ряды выходцев из других сословий и допустить дворян до рычагов управления страной. Дворянство всё более резко выступало против чиновничьего произвола и бюрократической опеки над собой. Однако само оно, во многом, являлось чиновничеством и, стремясь освободиться от гнёта «рабства» перед самодержавием, само угнетало собственных рабов – крепостных. Наиболее передовые дворяне остро ощущали самодержавный деспотизм, несправедливость крепостничества, собственную ответственность за судьбу России. Дворяне столичные и уездные, мелкопоместные и состоятельные, родовитые и выслужившиеся конфликтовали между собой, а «чиновничья», «рабовладельческая», «аристократическая» и «интеллигентская» ипостаси дворянства осложняли этот конфликт, едва ли не шизофренический. Пётр I и другие монархи, требуя от дворян инициативности и образованности, одновременно желали оставить их покорными рабами престола. Однако, такие пожелания взаимно исключали друг друга. По словам Л.М. Ляшенко: «Попытка воспитания «инициативных рабов» приводила к тому, что сначала трещина появилась в душе дворянина, чувствовавшего себя призванным на службу государственным деятелем и одновременно слепым исполнителем чужой воли. Позже начало расслаиваться первое сословие в целом». Одни дворяне начинали разделять и противопоставлять понятия «государя» и «отечества», «чести» и «службы», другие (большинство) удовлетворялись ролью безгласных слуг самодержавия.
В 1833 году 70 процентов всех помещиков были мелкопоместными (то есть владели имениями с меньше чем 21 душой мужского пола). На каждую из таких мелкопоместных семей приходилось в среднем по 7 душ крестьян мужского пола. Часть таких помещиков сами жили в крестьянских избах и обрабатывали свои земельные владения. Крупнопоместных помещиков (с числом мужских душ свыше 1000) насчитывалось всего три процента, но они владели более чем половиной всех крепостных крестьян (в среднем – по 1350 крестьян на одну семью). Крупнейшие магнаты: Шереметевы, Воронцовы, Юсуповы, Голицыны и другие владели каждый многими десятками тысяч крепостных душ и сотнями тысяч десятин земли. К середине XIX века многие мелкопоместные владельцы и вовсе разорились. К 1858 году во владениях дворян находилось около 32 процентов всех земельных угодий в европейской России.
Будучи наиболее организованным, приближённым к власти слоем общества, опорой трона и угрозой трону, дворянство было, таким образом, крайне неоднородно и противоречиво. В.О. Ключевский ярко охарактеризовал искусственность и противоречивость облика русского дворянина: «В Европе видели в нём переодетого по-европейски татарина, а в глазах своих он казался родившимся в России французом». Рабы перед государем, государи – над своими рабами, чиновники, аристократы и интеллигенты, паразиты и люди чести, «государевы люди» и рабовладельцы, весьма поверхностно просвещённые (но достаточно, чтобы полностью оторваться от русской жизни и культуры), живущие за счёт крестьянского хозяйства (но, обычно, не вникающие в его детали и передоверяющие эту «прозу» старостам и вороватым приказчикам), говорящие по-французски и по-немецки лучше чем по-русски, то восторгающиеся всем иноземным без разбора, то без разбора отрицающие всё иноземное, люди с пробуждавшимся чувством собственного достоинства, то самодуры, то герои, то холопы, завзятые охотники, пьяницы, карточные игроки и дуэлянты – такими противоречивыми чертами можно описать русских дворян. Не случайно, из их среды вышли многочисленные, онтологически и психологически «лишние люди», запечатлённые русской литературой: Онегин, Печорин, Бельтов, Рудин и другие – «лишние» и в Европе, и в России, и при дворе, и в деревне.
Впрочем, отмечал В.О. Ключевский, нечасто указанная противоречивость достигала в дворянине уровня высокого трагизма. Куда чаще русский дворянин, «удобно устроился на этой центральной полосе между двумя мирами, пользуясь благами обоих, получая крепостные доходы с одной стороны, умственные и эстетические подаяния – с другой… Вольномыслящий тульский космополит с увлечением читал и перечитывал страницы о правах человека рядом с русской крепостной девичьей и, оставаясь гуманистом в душе, шёл в конюшню расправляться с досадившим ему холопом». Целый ряд поколений дворян, не без сарказма добавляет Ключевский, «привыкли смотреть на Западную Европу как на русскую мастерскую, обязательную поставщицу машин, мод, увеселений, вопросов, знаний, идей, нужных России и даже ответов на политические вопросы, в ней возникающие».
По-прежнему завися от самодержавия, дворянство сумело отвоевать у него такие права, которые заставляли монархов действовать с постоянной оглядкой на широкие слои дворян. В дворянской среде шла постоянная ожесточённая борьба между тенденцией к его превращению в замкнутое кастовое сословие и тенденцией к постоянному его пополнению за счёт выходцев из других слоёв населения. А получение дворянства, не подкреплённое поместьями и крепостными, вело к увеличению неравенства внутри правящего сословия и к усилению роли чиновничества. Перед лицом усиления деспотизма власти и роста бюрократии дворянство начинало фрондировать, однако в страхе перед угрозой всеобщего народного восстания, в подавляющем своём большинстве вновь стремилось сплотиться вокруг трона.
Основные вехи эмансипации дворянства, становления его как сословия, расцвета (в середине – конце XVIII века) и упадка (в середине XIX века) таковы.
При Петре I и в первые годы после его смерти дворянство находилось в жёсткой зависимости от государства, неукоснительно требовавшего от него обязательной пожизненной службы и обучения и предоставлявшего взамен привилегии и жалованье и пополнявшего дворянское сословие наиболее активными выходцами из иных сословий. Вторая и третья четверть XVIII века стали временем раскрепощения дворянства, а эпоха Екатерины II – его недолгим «золотым веком». Вытащенное Петром I на авансцену истории и принуждённое служить государству и учиться наукам, к царствованию Елизаветы Петровны (1741–1761) дворянство осознало себя не массовкой «государевых холопов» и марионеток, а реальной силой, с которой должен считаться и монарх. И Анна Иоанновна, и Елизавета Петровна «расплачивались» с дворянством, поддержавшим их захваты власти, ограничением сроков службы, отменой указа о единонаследии и расширением привилегий. Если при Петре I дворяне стали лишь называться «благородными», то при Петре III и Екатерине II они стали чувствовать себя таковыми.
Главными вехами на пути дворянской эмансипации от Империи стали Манифест о вольности дворянства (18 февраля 1762 года), изданный Петром III, и Жалованная грамота дворянству (1785), дарованная Екатериной II. Манифест освобождал дворян от обязательной и принудительной государственной службы – военной и штатской. Предполагалось, что дворяне будут отныне учиться и служить не из-под палки, а сознательно, из чувства чести и долга перед отечеством. Впрочем, сами дворяне понимали Манифест как их освобождение от каких бы то ни было обязательств по отношению к государству.
Екатерина II, желавшая сначала отменить Манифест, однако, под мощным давлением дворян, напротив, подтвердила и расширила его положения в Жалованной грамоте дворянству 1785 года. В 1777 году на государственной службе состояло лишь 10 тысяч из 200 тысяч дворян (но большинство остальных не жили и в своих деревнях, занимаясь хозяйством, а собирались в губернских и столичных городах, образуя «свет», предаваясь карточным играм, флирту, интригам и охотам).
Дворянство, боровшееся за освобождение от службы на протяжении четверти века, было наконец-то раскрепощено («откреплено» от государства). Однако тем самым и с моральной, и с юридической точек зрения теряло основание… и крепостное право для крестьян, которое ранее обосновывалось тем, что они служат дворянам, а те – государю. По словам вольнодумца XVIII века Фёдора Кречетова: «раз дворянам сделали вольность, для чего же оную не распространить и на крестьян, ведь они тоже человеки». Логика начавшегося освобождения общества, однако, наталкивалась на эгоизм дворянства, поддержанного абсолютизмом. С точки зрения крестьян, подобные новшества были незаконны и вопиюще несправедливы. Раньше поддерживалось специфическое социальное равновесие, хоть как-то «оправдывающее» крепостное право: дворяне служат и воюют, а крестьяне их кормят. Раньше все сословия были одинаково бесправны перед троном. Теперь же крестьяне продолжали кормить дворян и чиновников, платить подушную подать, да ещё и поставлять в армию рекрутов, в то время как дворяне освободились от обязательной службы. Комментируя сложившуюся ситуацию, В.О. Ключевский остроумно писал о Манифесте о вольности дворянства, изданном Петром III 18 февраля 1762 года: «Манифест 18 Февраля, снимая с дворянства обязательную службу, ни слова не говорит о дворянском крепостном праве, вытекающем из неё, как из своего источника. По требованию исторической логики или общественной справедливости на другой день, 19 февраля, должна была бы последовать отмена крепостного права; она и последовала на другой день, только спустя 99 лет – т. е, 19 Февраля… 1861 года».
А Жалованная грамота дворянству 1785 года, подтверждая положения Манифеста 1762 года, одаривала дворян 92-мя привилегиями! Наряду с освобождением от обязательной военной и штатской службы, дворянам предоставлялось монопольное право на владение землёй и крепостными людьми, право заводить свои предприятия, монополия на винокурение (производство кустарным способом спирта и водки), освобождение от телесных наказаний и уплаты всех податей.
Дворянство сохраняло полицейско-административные функции по отношению к своим крепостным. Теперь, хотя верховным повелителем России и собственником всей земли оставался император, а дворяне-помещики считались его слугами и представителями (как на Востоке), однако, дворянское сословие обладало значительной независимостью, привилегиями и широкими правами (как на Средневековом Западе). Дворяне могли продавать и наследовать землю. Их имения и звания не могли быть отобраны без преступления и судебного решения. Дворяне получали преимущества при чинопроизводстве и получении образования, право свободного выезда за границу и даже право поступления на службу к союзным России государствам.
Отныне права дворян юридически фиксировались, а дворянство получало собственные сословные учреждения: дворянские собрания и суды (разбиравшие дела дворян). Дворянские собрания (губернские и уездные) созывались раз в три года и получали право выбирать себе уездных и губернских предводителей, а дворянские собрания могли обращаться с прошениями к губернаторам, Сенату и монарху. Тем самым широкие слои помещиков привлекались к участию в местном управлении, и дворяне ставились под контроль выбранных ими же органов.
В эпоху Екатерины II дворянство обрело свой язык, сознание, одежду, культуру. В России впервые появились охраняемые законом «права человека» (правда, не всякого человека, а лишь дворянина), разрушив старую «социальную справедливость», заключавшуюся в равном бесправии всех членов общества перед самодержцем. Весь XVIII век императоры широко раздавали дворянам в частные руки государственных крестьян. Так Екатерина II подарила своим фаворитам 800 тысяч крестьян, а Павел I – 600 тысяч. Расширение дворянского земле– и душевладения сопровождалось усилением власти помещика над личностью крестьянина. По справедливой характеристике. В.О. Ключевского, облегчение служебных обязанностей дворянства сопровождалось расширением его рабовладельческих прав, способствуя окончательному оформлению дворянского корпоративного сознания, этики и идеологии.
Привилегии и свободы дворянам были даны в Жалованной грамоте 1785 года «навеки», «непоколебимо и ненарушимо». Правда, в последовавшее затем царствование Павла I обнаружилась истинная цена этой «ненарушимости», что заставило дворян потребовать своего участия во власти (вслед за экономическим и политическим освобождением). К концу XVIII века среди дворян появляется немало людей образованных, думающих и наделённых высоким чувством чести и человеческого достоинства. Это первое «непоротое поколение» дворян требовало человеческого обращения с собой. Однако, после смерти Екатерины II дворяне ощутили свою незащищённость перед троном, когда Павел I (1796–1801) начал урезать права дворянского самоуправления, стремясь вернуться ко временам петровской реакции: регламентируя жизнь и быт дворян, ставя дворянские собрания под контроль государства, восстановив телесные наказания и расправы без суда, принудительную запись дворян на военную службу. В результате Павел I был убит, а его сын Александр I восстановил дворянские привилегии и вольности, подтвердив в полном объёме Жалованную грамоту 1785 года, дарованную его бабушкой. Опасения же перед перспективой новых крестьянских восстаний, подобных пугачёвскому, сплотили дворянство с абсолютизмом перед угрозой возможных социальных потрясений.
Последняя треть XVIII века – первая треть XIX века – эпоха расцвета русского дворянства как политической, культурной и экономической силы, эпоха высочайшего расцвета дворянской культуры. Дворянские усадьбы обрастают парками, прудами, статуями, гротами. Дворянство активно включается в рынки (увеличивая барщину), вывозит хлеб за границу. Многие помещики заводили в своих имениях текстильные и металлургические мануфактуры, винокурение. Дворянство получило собственные суды, собрания, участвовало (через гвардию, фаворитов и дворцовые перевороты) в политике, освободилось экономически и политически из-под давящего гнёта государственной машины.
Однако многие дворяне, не занимаясь ни государственной службой, ни ведением хозяйства, оторванные и от общественной жизни, и от народного быта и культуры, поверхностно (на уровне моды) усвоившие западные обычаи – вели паразитическую и искусственную жизнь, то слепо подражая западным культурным образцам, то предаваясь безудержному «казённому патриотизму». Значительная часть дворян в начале XIX века продолжала служить, получая при этом и доходы от имений в виде оброка (чаще на севере и в Нечерноземье) или барщины (на чернозёмных землях недавно завоёванного «Дикого Поля») или их сочетания. Обычно хозяйством занимались старосты и управители от имени барина. Труд крепостных оставался даровым и малопроизводительным. Попытки чересчур расширить размеры барщины и оброка вели к разорению и крестьян и их помещиков. Большинство дворян мало разбирались в вопросах рынка или в вопросах ведения сельского хозяйства, считая это занятиями ниже своего достоинства. Их попытки увеличить эксплуатацию крепостных (чтобы удовлетворить свои стремительно возрастающие потребности) наталкивались на незаинтересованность крепостных в более производительном труде. Разорив крестьян, помещики занимали в долг и закладывали свои сёла в Государственный заёмный банк или Опекунский совет. Мелкопоместным помещикам трудно было жить на широкую ногу «по дворянски». Разорение одних дворян и осознание другими несправедливости самодержавно-крепостнической системы свидетельствовали о возрастании кризиса этой системы.
«Золотой век» дворянства длился недолго – всего полстолетия. Ощутив себя хотя бы отчасти свободными от государственного гнёта, лучшие представители первого же поколения «непоротых дворян» выступили за ограничение самодержавия, отмену крепостного права и введение политических свобод, что привело к восстанию 14 декабря 1825 года. Расправившись с декабристами, напуганный дворянской революционностью Николай I вернулся к проверенной петровской политике, при которой главной опорой царского трона служили бюрократия, армия и полиция. Дворянство, подвергнувшееся частичным полицейским репрессиям и отодвинутое от власти, начало стремительно приходить в упадок. На протяжении первой половины XIX века самодержавие пыталось частными мерами хоть немного смягчить остроту крестьянского вопроса и стремилось консолидировать дворянство вокруг трона и поставить его под свой полный контроль (ограничив проникновение в него новых элементов).
С 1833 по 1850 годы из 127 тысяч дворянских семей 24 тысячи разорились, лишившись всей земли и крепостных. А в ряды дворянства вливались выходцы из других сословий, поднимавшиеся по чину. К 1825 году их удельный вес уже составлял 54 процента от всех дворян. Николай I стремился затормозить процесс разорения дворянства и проникновения в него новых элементов. Первая цель достигалась путём постоянных государственных ссуд и займов дворянам, вторая – путём ограничения доступа к дворянскому званию. В 1832 году и в 1845 году император издал указы, ограничивающие дальнейшее проникновение в число первого сословия новых элементов и резко повысившие «ранги», дающие человеку право на получение личного и, тем более, потомственного дворянства. Одновременно дворянские собрания были ограничены в правах и поставлены под суровый контроль губернаторов и полиции. Должности предводителей дворянства и иные выборные должности теперь рассматривались, как государственные. А право голоса в дворянских собраниях было оставлено лишь за самыми богатыми помещиками (имевшими не меньше ста душ и трёх тысяч десятин земли). Так, подвергнув репрессиям политический «цвет» дворянства – декабристов (наказав несколько сотен человек), выдвинув на передние роли в управлении полицейских, жандармов, чиновников и генералов (чаще всего, немцев), усилив государственный контроль над дворянскими сословными органами, ограничив доступ в дворянское сословие, поддерживая займами и ссудами казны (выкаченными у крестьян) разоряющихся помещиков, внося косметические поправки в систему крепостного права, самодержец стремился достичь лояльности дворянства и его консолидации вокруг абсолютистской власти.
При этом на захваченных землях Речи Посполитой (в Польше, Литве, Украине и Белоруссии) власти довольно решительно проводили антипомещичью и прокрестьянскую политику, чтобы привлечь на свою сторону крестьянство и разорить и ослабить бунтующую против Империи шляхту. Впрочем, при любых мерах по ограничению и постепенному сворачиванию крепостного права в России, земельные владения признавались «навсегда неприкосновенными в руках дворянства».
Однако ничто не помогало и не могло остановить стремительный упадок, разорение и разложение дворянства. Не умея вести хозяйство, встроенные в новые рыночные отношения, тратя безумно много на предметы роскоши и карточную игру, сталкиваясь с падением производительности крепостного труда, помещики массово «прогорали», разорялись и закладывали крепостных крестьян в кредитных учреждениях. К 1796 году было заложено всего шесть процентов крепостных душ, а к концу эпохи Николая I помещики заложили уже семь миллионов «душ» или 66 процентов всех помещичьих крестьян в России, и были должны кредитным учреждениям государства 425 миллионов рублей (что вдвое превосходило сумму доходов госбюджета). Помещичьи имения шли с молотка. Крепостная экономика полностью исчерпала свои возможности как в промышленности, так и в сельском хозяйстве.
Одновременно с упадком дворянства господствующее положение в Петербургской империи в XVIII–XIX веках постепенно занимает бюрократия. Уже при Петре I её роль была огромна, а спустя сто лет, при Николае I, по словам В.О. Ключевского, «завершено было здание русской бюрократии». За внешней строгой иерархией учреждений и должностных лиц, зависимостью чиновничества от монарха, разделением труда чиновников и унификацией структуры бюрократических органов скрывалась чудовищная коррупция, волокита, неразбериха, способность бюрократов «утопить» и исказить любое начинание верховной власти.
Впрочем, бюрократия была неоднородна. Она отчётливо делилась на три группы (первые четыре, пятый-двенадцатый и тринадцатый-четырнадцатый ранги в Табели о рангах), чьи имущественное положение, статус, стиль жизни, самосознание и интересы различались столь же резко, как и у высшей аристократии, среднего дворянства и разорившегося беспоместного дворянства. Жалованье чиновников низшего ранга было совершенно ничтожным (ниже тогдашнего «прожиточного минимума»), а рабочий день длился более десяти часов в сутки. (Вспомним бессмертного несчастного Акакия Акакиевича из «Шинели» Гоголя!). Однако беспорочная служба – механическая и безынициативная – и лояльность начальству открывали возможность получения дворянства, орденов и богатств. Поэтому погоня за чинами в России XVIII–XIX веков приняла характер стихийного бедствия; чин полностью заслонил человека.
Наиболее многочисленным сословием Петербургской Империи оставалось крестьянство, несущее на себе все «издержки» имперского величия, а также роскоши и праздности презирающих его правящих сословий. Крестьяне состояли из трёх основных разрядов: государственных (казённых), помещичьих (владельческих) и удельных. Помещичьи крестьяне в конце XVIII века составляли до 50 процентов, а в 1859 году – 37,7 процентов всего населения страны. В 1858 году из 23,1 миллиона крепостных I 467 тысяч составляли дворовые люди, а 543 тысячи – приписанные к частным заводам и фабрикам.
Основная масса помещичьих крестьян находилась в центральных губерниях, Литве, Украине и Белоруссии. Совсем немного их было в северных и южных (степных) губерниях и в Сибири (от двух до двенадцати процентов населения). Крепостные крестьяне находились в полной зависимости от своих хозяев, которые по своей воле назначали виды и размеры их повинностей, могли отнять у крестьян всё их имущество, а их семьи продавать, закладывать и завещать – оптом и в розницу (в том числе, разлучая семьи). Помещик мог сдать любого крестьянина в рекруты, сослать его в Сибирь, подвергнуть его телесным наказаниям (но «без увечья»). Правительство вплоть до начала XIX века почти не вмешивалось в отношения помещиков с их крестьянами.
Положение государственных крестьян было несколько лучше, чем у помещичьих. Они принадлежали казне и назывались «свободными сельскими обывателями». К их числу относились и крестьяне, отобранные в 1764 году у монастырей. Основная масса государственных крестьян находилась в северных и центральных губерниях России, на Украине, в Поволжье и Приуралье. Государство предоставляло крестьянам определённые земельные наделы, за которые они платили оброк (редко – отбывали барщину). Кроме того, как и всё податное сословие, государственные крестьяне поставляли рекрутов, платили подушную подать (более высокую, чем помещичьи крестьяне) и несли иные денежные и натуральные повинности. Однако, заплатив положенный взнос, они могли записаться в ряды торгового люда. Положение государственных крестьян было неустойчиво: нередко их могли переводить в разряд помещичьих, раздавая царским фаворитам. К государственным крестьянам по своему статусу примыкали «однодворцы» – потомки служилых людей на юге России (в районе бывшей засечной черты). Они несли рекрутскую повинность и платили подушную подать. В первой половине XIX века их насчитывалось до двух миллионов человек обоего пола. И однодворцы, и государственные крестьяне к середине XIX века находились в ведении Министерства государственных имуществ.
«Удельные» крестьяне принадлежали императорской фамилии (до 1797 года их именовали «дворцовыми»). Ими управлял Департамент уделов для управления землями и крестьянами, принадлежавшими царствующему дому. В 1800 году удельных крестьян насчитывалось 467 тысяч, а в 1858 году – 838 тысяч душ мужского пола (то есть 1,7 миллионов душ обоего пола). В основном, они находились в Поволжье, и по закону пребывали «в том же отношении к императорской фамилии, как и помещичьи к помещикам». Они платили подушную подать, отбывали рекрутчину и платили оброк императорскому дому.
Крепостное право почти не было никак юридически оформлено, что, как ни парадоксально, лишь ухудшало положение крепостных крестьян, ибо подчиняло их ничем не ограниченной воле дворян. Крестьяне считали любую власть чуждой и враждебной себе, повинуясь ей лишь из страха и по привычке – как завоёванные повинуются завоевателям.
Ответом крестьян на Манифест об освобождении дворянства и усиление крепостного гнёта во второй половине XVIII века явилось грандиозное пугачёвское восстание 1773–1775 годов – последняя и самая мощная крестьянская война в России, объединившая под своими знамёнами вокруг самозванца Емельяна Ивановича Пугачёва, (назвавшегося именем популярного и любимого в народе императора Петра III) – староверов, донских казаков и яицких казаков, башкир, калмыков, работных людей Урала, солдат и крепостных крестьян. Впрочем, возникнув на Востоке страны, за Волгой, восстание мало затронуло центральные и южные районы России, по преимуществу населённые помещичьими крестьянами. Именно героическое и упорное сопротивление народных масс, их непрерывные восстания и другие формы протеста (побеги, слухи о «воле», самозванчество) корректировали и смягчали самодержавный деспотизм и помещичий произвол. Пугачёвское восстание было, перефразируя слова Пушкина, «русским бунтом, беспощадным», но отнюдь не «бессмысленным» и не напрасным!
За время правления Николая I (1825–1855) в стране произошло более 500 крестьянских восстаний (в том числе, масштабные «холерные» бунты и восстания несчастных военных поселенцев, подвергавшихся особенно зверскому обращению со стороны начальства).
По словам видного славянофила Ю.Ф. Самарина, крестьяне следующим образом вели себя со всеми господами (которых воспринимали, как своих врагов): «Умный крестьянин, в присутствии господ, притворяется дураком, правдивый бессовестно лжёт ему прямо в глаза, честный обманывает его и все трое называют его своим отцом». Крестьяне ждали от царя защиты от дворян и управы на них. По словам Л.М. Ляшенко: «К императору сельчанин относился примерно также, как к старосте всей земли Русской, абсолютно не понимая, зачем ему такое количество чиновников, помещиков и т. п. Иными словами, по духу крестьянин был и оставался патриархальным анархистом».
В центральных и северных районах страны преобладал оброк, в южных (чернозёмных) – барщина, как форма повинности крестьян. В конце XVIII века на барщине находились 56, а в середине XIX века – 71 процент всех крепостных крестьян. (На Украине – свыше 90 процентов).
Эволюция положения крестьянства на протяжении XVIII – первой половины XIX века в России прошла ряд этапов. В течение всего XVIII века налоговый гнёт на крестьян увеличился в 1,5 раза (по сравнению с петровскими временами), а их повинности в пользу помещиков увеличились в 12 раз! Таким образом, в стране развернулась острая и принципиальная борьба между дворянством и государством за возможности использования плодов крестьянского труда. И, по мере расширения прав и привилегий дворянства, именно оно всё больше пользовалось эксплуатацией крестьянского труда (в отличие от петровских времён).
«Золотой век» дворянства (эпоха Екатерины II и Александра I), век «просвещённого абсолютизма» стал одновременно и временем максимального расцвета крепостного рабства. В эту эпоху власть помещиков над крепостными стала полной. Они в 1765 году получили право по своему усмотрению ссылать своих крестьян в Сибирь (засчитывая их за сданных рекрутов), право продавать крестьян без земли и разлучая семьи. Возможности побегов в XVIII–XIX веках резко сократились, поскольку усилившееся государство могло легко отыскать крепостных в любом уголке империи (чему способствовала и унизительная паспортная система, введённая Петром I). Крепостное право было распространено Екатериной II на Украину. Крепостным было также запрещено (в 1767 году) поступать в университет и в монахи. Наказание помещиков за умышленное убийство своих крепостных было смягчено до минимума (церковное покаяние). Зловещим символом эпохи стала свирепая и кровожадная помещица Дарья Салтыкова («Салтычиха»), зверски замучившая насмерть более пятидесяти своих крепостных.
Все ранее полученные и новые права дворян на безграничную власть над крепостными людьми были подтверждены Жалованной грамотой дворянству 1785 года. Подготовив, одновременно с Жалованными грамотами дворянству и городам, Жалованную грамоту государственным крестьянам, Екатерина II, однако, не решилась её обнародовать, справедливо опасаясь возмущения дворянства (ибо такой пример был бы соблазнительным и для крепостных крестьян). Признавая зафиксированные юридически «права человека» за дворянами и (отчасти) горожанами, императрица полностью отрицала их за крестьянством (а ведь именно оно составляло подавляющее большинство населения страны).
Господ и их «рабов» разделяла культурная и психологическая пропасть, позволявшая дворянам считать себя существами высшей породы. Время Екатерины II – время самого отвратительного произвола помещиков по отношению к крепостным. При этом правительство окончательно отказалось от роли арбитра в спорах между помещиками и крестьянами, запретив под страхом каторги крепостным подавать жалобы на их хозяев. Екатерина II успокаивала свою эластичную совесть аргументом о том, что крепостные – «варвары», «ещё не доросшие до свободы».
А пугачёвское восстание и вовсе перепугало императрицу. Манифест о вольности дворянства вызвал среди крестьян всеобщее убеждение в том, что теперь крепостное право будет отменено. Появились подложные «царские манифесты» антидворянского характера, выдающие желаемое за действительное. Среди крестьян крепло убеждение в том, что «добрый» государь не ведает о подлинных страданиях крестьян, желает им помочь, но не может этого сделать, окружённый «плохими» господами, помещиками и чиновниками, а, значит, дело крестьян – помочь ему и самим позаботиться о собственном освобождении. Заволновались работники уральских заводов, угнетённые колонизаторами народы Поволжья. Именно с эпохи Екатерины II в общественном сознании возник и занял центральное место «крестьянский вопрос»: что делать с крепостным правом, как оно влияет на «рабов» и на их господ?
В первой половине XIX века «крестьянский вопрос» стал поистине главным вопросом жизни русского общества. Павел I попытался несколько ограничить помещичий произвол в предпринятом им фронтальном наступлении против дворянства – издав указ о трёхдневной барщине, по которому помещику не рекомендовалось заставлять крепостных более трёх дней в неделю работать на барском поле, а также запрещалось делать это в воскресные и праздничные дни (впрочем, этот указ мало соблюдался).
Александр I начал осторожную критику крепостничества, и предпринял некоторые меры по его ограничению. Он прекратил массовую раздачу дворянам в частные руки государственных крестьян. В 1803 году он издал Указ о вольных хлебопашцах, поощрявший помещиков добровольно освобождать крестьян, наделяя их при этом за выкуп земельным наделом. (Впрочем, этим правом воспользовались за двадцать лет немногие: лишь 0,5 процента (40 тысяч) крепостных получили свободу).
В 1816 году по предложению эстляндских помещиков, в прибалтийских губерниях было отменено крепостное право – при этом вся собственность на землю оставалась за дворянами, а вчерашние крепостные оказались бесправными арендаторами у своих бывших хозяев. По представлению крестьян, подобное освобождение было грабежом, поскольку земля была «ничьей и Божьей», и могла находиться лишь во временном владении и пользовании, а не в полной собственности частных лиц. Ту землю, которая крестьянская община обрабатывала, она считала своей, общей (регулярно подвергавшейся переделам) и без неё не мыслила своего существования. Поэтому освободить крестьян всей России без земли было совершенно невозможно, ибо привело бы к немедленному поголовному восстанию.
Когда декабрист, человек передовых взглядов, просвещённый и гуманный либерал, И.Д. Якушкин решил освободить своих крепостных, сохранив землю за собой и объявил об этом старейшинам общины, его крестьяне, к его изумлению, дружно ответили ему: «Нет уж, барин, пусть лучше уж всё будет по-прежнему: мы – ваши, а земля – наша».
Помещики, встревоженные слухом о подготовке отмены крепостного права, выступали в его защиту, доказывая, что крестьяне не достигли «гражданского совершеннолетия» и нуждаются, как дети, в «отеческой опеке» со стороны своих хозяев. Тайные проекты постепенной отмены крепостного права при Александре I также не были обнародованы и реализованы, как и составленный, по его повелению, проект конституции для России.
Появились новые сельскохозяйственные культуры: картофель, сахарная свекла, подсолнечник. В нечернозёмных губерниях продолжался массовый отход на заработки и промыслы: в «отходниках» в середине XIX века в этих губерниях состояли полтора миллиона крестьян. В это время уже 30–40 процентов мужского крестьянского населения центральных регионов России занимались отходничеством, а промыслы играли всё более важную роль в крестьянском хозяйстве.
В конце XVIII – начале XIX веков в России окончательно формировались два типа сельского хозяйства и крестьянских повинностей; оброчное, характерное для нечернозёмных областей, и помещичье барщинное, господствовавшее в Черноземье. Денежный оброк предоставлял крестьянам определённый выбор хозяйственной деятельности, поощряя их энергию и предпринимательство. Не случайно, мануфактуристы и богатые купцы из крестьян были староверами-выходцами с севера и из Нечерноземья. Появились целые большие промысловые сёла, жители которых числились крестьянами, лишь номинально. «Отходники»-крестьяне делились на зажиточных крестьян (купцов, владельцев мастерских) и бедных, зарабатывавших промыслами.
В чернозёмных губерниях помещик продавал излишки сельскохозяйственной продукции (часто – за границу) и стремился увеличить прибыль, расширяя барскую запашку за счёт крестьянских наделов и увеличивая количество барщинных дней. Широко распространилась в чернозёмном регионе «месячина» – система, при которой крестьяне вообще лишались земли и работали на помещичьем поле все время – за еду и одежду (этот жалкий паёк и назывался «месячиной»).
Крепостная система продолжала способствовать движению экономики по экстенсивному пути за счёт освоения новых, только что завоёванных земель; Южной Украины, Бессарабии, Северного Кавказа и Казахстана. Нередко барщина сочеталась с оброком. Однако производительность барщинного труда неуклонно падала на протяжении ста лет – с середины XVIII до середины XIX веков. Помещики непрестанно сетовали и жаловались на «лень» и «нерадение» мужиков, которые, разумеется, барскую землю обрабатывали менее тщательно и энергично, чем свои общинные наделы, и работали на ней примерно в два-три раза медленнее (ещё одна распространённая форма народного сопротивления, ставшая, с веками, важной частью российского менталитета). Тем не менее, даровой крепостной труд был для помещиков выгоднее, чем дорогой вольнонаёмный.
Типичным примером косметических шагов, предпринимаемых самодержавием для смягчения остроты «крестьянского вопроса», был стыдливый запрет Александра I печатать в газетах объявления о продаже крепостных крестьян. С тех пор газеты стали писать об «отдаче в услужение» крестьян – но на деле ничего не изменилось. (Как сегодня всем ясно, что скрывается в газетах за двусмысленной рубрикой: «Досуг»).
По приказу Александра I верный граф Аракчеев подготовил в 1818 году проект о постепенной отмене крепостного права – через покупку в казну разорившихся помещичьих имений (при этом освобождая крепостных). Выделяя на это круглую и значительную сумму по пять миллионов рублей в год, государство могло таким образом, не обижая помещиков, освободить всех крепостных всего за… двести лет (!). Но и этот проект не был реализован императором, побоявшимся гнева дворян.
Прекратив раздавать государственных крестьян в частные руки, Александр I одновременно загнал многие сотни тысяч государственных крестьян в военные поселения (заставив их сочетать сельскохозяйственный труд с военной муштрой и казарменным бытом). «Благие» намерения государя снова привели к катастрофическим последствиям и волне восстаний: чиновничья опека легла на плечи «облагодетельствованных» крестьян непосильным бременем, а попытка «цивилизовать» их жизнь (попутно сократив расходы казны на содержание войска) превратила её в сущий ад.
Так и не решённый «крестьянский вопрос» перешёл от Александра I к его брату императору Николаю I (1825–1855). Воспринимая всю Россию как свою вотчину, Николай I психологически не мог посягнуть на вотчины своих дворян и на их власть над подданными. Он заявил, выступая в Государственном Совете: «Нет сомнения, что крепостное право в нынешнем его положении у нас есть зло для всех ощутительное и очевидное, но прикасаться к нему теперь было бы ещё более губительным». На одной чаше весов: явная несправедливость крепостного права, его экономическая неэффективность, растущее возмущение крестьян; на другой чаше весов: связь самодержавия с крепостничеством и беспокойство дворян по поводу возможности потерять своих «рабов».
Всю первую половину XIX века крестьянский вопрос оставался в центре внимания власти и общества. С 1803 до 1861 года – от Указа о вольных хлебопашцах Александра I до отмены крепостного права при Александре II – вводятся мелкие, но многочисленные ограничения системы крепостного права: запрет на продажу крестьян без земли и земли без крестьян, запрет дарить крестьян и отдавать ими частные долги, запрещение ссылать крепостных без суда в Сибирь, отмена крепостного права в Прибалтике, запрет при продаже крепостных разлучать семьи, дозволение крестьянам с согласия их помещиков приобретать недвижимость в частную собственность, разрешение крестьянам выкупаться на свободу при продаже имения с торгов… Все эти меры, незначительно облегчавшие жизнь крестьян и не решавшие «крестьянского вопроса», вместе с тем показывали растущую озабоченность самодержавия этим вопросом и его намерение постепенно отменить крепостное право. Тем не менее господа продолжали владеть своей «крещёной собственностью». А крестьяне мечтали о «воле», но не мыслили её без земли.
Николай I напыщенно заявил, что он намерен «вести процесс против крепостного права», однако, этот процесс бесконечно затянулся, тормозя развитие страны, оскорбляя нравственное чувство порядочных людей и переполнив чашу терпения крестьян. Члены Государственного Совета справедливо указывали монарху, что «существующая в России система крепостничества тесно связана со всеми частями государственного тела: правительственной, кредитной, финансовой, права собственности и права наследственного». Ничтожные меры николаевского режима не способствовали решению крестьянского вопроса, а лишь консервировали ситуацию. Девять (!) «секретных негласных комитетов» по крестьянскому вопросу, поочерёдно созываемые в николаевскую эпоху, так и не продвинули вперёд дело отмены крепостного права.
Впрочем, в 1837–1841 годах была предпринята реформа управления государственными крестьянами под руководством графа П.Д. Киселёва. Государственных крестьян перевели в ведение Министерства государственных имуществ, ввели новую систему управления деревней и землеустройства, создали несколько начальных школ и больниц, построили много дорог и продовольственных складов (на случай неурожая), переселили часть крестьян в малонаселенные губернии, с наделением их землёй (чтобы одновременно уменьшить остроту земельного вопроса в центре страны и начать освоение окраин). Целью реформ было– попечительство над крестьянами (дав пример помещикам). Однако, проводимая традиционно – чисто бюрократическими методами, реформа увеличила число поборов, налагаемых на крестьян, число чиновников, усилила гнёт и опеку над ними и спровоцировала волну восстаний. Над волостным крестьянским самоуправлением была надстроена громоздкая и сложная система бюрократических учреждений, увенчанная Министерством государственных имуществ. Крестьян принудительно заставляли выращивать картофель (что вызвало повсеместно волну «картофельных бунтов»). Налоги с государственных крестьян и контроль государства над их жизнью возросли.
Вся высшая бюрократия и почти все помещики сопротивлялись реформам в крестьянской сфере – забалтывая их и сводя до полумер. Лишь разгром России в Крымской войне заставил правительство одним ударом ликвидировать крепостничество.
Ещё одним сословием было казачество – военизированное сословие, имевшее ряд важных льгот и привилегий и насчитывающее в начале XIX века около 1,5 миллионов человек, населявших далёкие южные и восточные окраины страны. Все казаки мужского пола от 18 до 50 лет считались военнообязанными и служили в иррегулярной коннице. Они занимались промыслами и сельским хозяйством и были свободны от рекрутчины, подушной подати и других повинностей, охраняя южные и восточные границы Империи. К середине XIX века существовали: Донское, Кубанское, Терское, Уральское, Оренбургское, Сибирское и Забайкальское казачьи войска. Вчерашние бунтари и революционеры к XIX веку превратились в верных слуг трона.
При Екатерине II в России появляется новое сословие – мещане (мелкие торговцы и ремесленники). Они, подобно государственным крестьянам, платили подушную подать, обеспечивали постой войск, ремонт дорог и поставку рекрутов. Таким образом, мещане были податным, лично свободным населением городов. В 1811 году мещан числилось 703 тысячи, а в 1858 году – уже 1 миллион 900 тысяч душ мужского пола. Они составляли почти треть городских жителей (наряду с дворянами, чиновниками, купцами, духовенством, военными и крестьянами, приехавшими в город на заработки, составлявшими остальные две трети горожан). Нередко разбогатевшие крестьяне, выкупавшиеся на волю и перешедшие в сословие мещан, «приписывались» к тому или иному городу, но продолжали жить в своей деревне.
Купечество освобождалось от подушной подати и телесных наказаний, а самые богатые купцы – и от рекрутчины. В случае разорения купец выпадал из своего сословия. К началу XIX века в городах жило четыре процента российского податного населения. Наиболее богатые купцы (двух первых гильдий) получили близкие к дворянам права (свободу от рекрутских наборов и подушной подати). Частная собственность горожан, как и дворян, была объявлена неприкосновенной (её конфискации ограничивались законом). Жалованная грамота городам 1785 года вводила элементы выборного городского самоуправления – однако, слабые, недееспособные и не защищающие городские сословия от произвола чиновников.
Купцы и фабриканты требовали предоставить им право покупать крепостных и дать им монополию на торгово-промышленную деятельность. Но ни того, ни другого им не дали. Города Империи по-прежнему развивались не столько как центры ремесла и торговли и самостоятельные живые социальные организмы, сколько как военно-административные единицы. В 1762 году Пётр III отменил многие из государственных монополий и разрешил представителям всех сословий устраивать торговые и промышленные предприятия. Больше всего от этого выиграли дворянство и крестьянство. А хилое «третье сословие», по словам Л.М. Ляшенко, «освободившись из-под контроля государства, вынуждено было вступить в конкурентные баталии с сельским населением, что было для него, пожалуй, тяжелее контроля властей».
У российской юной буржуазии почти отсутствовали традиции политической борьбы, корпоративного самосознания, сословные лозунги и программы. Всё это заменяла тесная связь и зависимость от государства (через взятки, подкуп, откупа, заказы, монополии), стремление получить крепостных и выбиться в дворяне. Указом Екатерины II от 1764 года недворянам запрещалось покупать крепостных крестьян (что должно было одновременно и укрепить привилегированное положение дворянства, и остановить дальнейшее распространение крепостных отношений). Поэтому российские буржуа всеми силами стремились перейти в первое сословие, интегрироваться в крепостническую систему, а не сломать её.
Указ Екатерины II 1775 года разрешал свободно заводить промышленные предприятия всем желающим без особого дозволения «свыше», включая даже крепостных крестьян. Екатерина II ограничила казённые монополии и откупа, которые душили торговлю и безбожно взвинчивали цены. Первые независимые от государственной опеки и крепостного труда промышленники появились в России в последние десятилетия XVIII века.
В 1827 году не служащим дворянам было разрешено «записываться» в купеческие гильдии. Манифест Николая I от 1832 года устанавливал новое городское сословие свободных от подушных податей и телесных наказаний «почётных граждан»: предпринимателей, дипломированных специалистов, учёных и художников. В 1845–1847 годах от порки были освобождены мещане, лица, окончившие гимназии и высшие учебные заведения и… русские писатели. Впрочем, на 72 миллиона населения в николаевской России приходилось всего 22 тысячи почётных граждан.
Даровой ручной труд крестьян не мог обеспечить технического прогресса и роста производительности труда ни в сельском хозяйстве, ни в промышленности. Промышленный переворот – переход от ручного труда к машинному, от мануфактур к фабрикам, формирование постоянного вольнонаёмного пролетариата и буржуазии – в Англии начался в 60-ые годы XVIII века, во Франции – в 80-ые годы того же века, а в России – лишь с полувековым отставанием, в 1830-ые годы (завершившись к 1870-ым годам). Если в 1796 году Россия занимала первое место в мире по производству чугуна и железа, то в 1861 году – уже пятое (после Англии, Франции, США и Бельгии). В 1799 году в России насчитывалось 2094 мануфактуры с 82 тысячами работников на них (из них 48 тысяч (59 процентов) были крепостными, а 33 тысячи (41 процент) вольнонаёмными). В 1860 году в стране насчитывалось уже 157 338 мануфактур. Если в 1799 году крепостной труд обеспечивал 59 процентов всех работников на мануфактурах, то в 1825 году – лишь 45 процентов, а в 1860 году – 18 процентов (сто тысяч человек). Однако, ещё около 543 тысяч крепостных были приписаны к горнозаводскому производству. Таким образом, к моменту отмены крепостного права общее число крепостных работников в промышленности составляло 646 тысяч человек. И всё же вольнонаёмные работники постепенно начинают преобладать. Ведь только свободные люди, заинтересованные в результатах своего труда и имеющие хоть какое-то образование, могли управлять сложными машинами.
В первой половине XIX века в России начинают строить первые шоссейные и железные дороги. В 1851 году начала действовать железная дорога Петербург – Москва. Однако основными видами транспорта оставались водный и гужевой, а состояние транспорта оставалось весьма плачевным. С 1815 года появляются первые пароходы (к 1850 год у их насчитывалось уже до ста штук). Главной артерией страны оставалась Волга. С конца XVIII века, наряду с сезонными ярмарками, появляется (в столицах) постоянная (магазинная) торговля; расцветает и торговля в розницу (мелкооптовая). Из России на экспорт по-прежнему вывозили сырьё: хлеб, лён, пеньку, сало, кожи, лес. Сырьевые товары составляли 90 процентов российского экспорта. Лишь восемь процентов экспорта составляли промышленные товары – они вывозились в Персию, Китай и Среднюю Азию. Ввозились же с Запада ткани, машины, предметы роскоши. Горнозаводская промышленность оставалась, в основном, на Урале; центрами металлургической и текстильной промышленности стали Тула, Москва и Петербург.
Вконец разорившиеся крестьяне пополняли собой ряды формирующегося пролетариата. К середине XIX века в стране насчитывалось уже до 0,6 миллиона рабочих (большинство из которых, впрочем, ещё сохраняли связь с деревней). Вольнонаёмные рабочие, в основном, набирались из помещичьих и государственных крестьян (как, впрочем, чаще всего, и сами предприниматели!). В начале XIX века происходит стремительный рост мелкой крестьянской промышленности. В 1850-ых годах две трети (!) продукции обрабатывающей промышленности России приходилось на долю мелкокрестьянских кустарных промыслов. Особое развитие эти промыслы получили в центральных районах России, где они играли даже более важную роль в крестьянских хозяйствах, чем сельскохозяйственные занятия. Сёла Иваново, Тейково, Городец, Вичуга, Кимры и другие стали центрами промышленности: текстильной, кожевенной, дерево– и металлообрабатывающей. Из крестьянской старообрядческой среды выходили новые капиталы и династии промышленников: Морозовы, Горчаковы, Рябушинские. Многие крестьяне долгосрочно отходили на промыслы (в 1826 году – 756 тысяч крестьян, в 1850-ых годах – уже 1,3 миллиона). Промышленные предприятия, основанные на крепостном труде, переживали кризис; вольнонаёмный труд понемногу начинал доминировать в промышленности. Впрочем, широко были распространены и поддерживались правительством мануфактуры, организуемые в своих имениях помещиками. К середине XIX века на долю машинного производства приходилось уже две трети продукции крупной промышленности в России.
Торговая буржуазия по-прежнему явно преобладала в XIX веке над промышленной и состояла из купцов и торгующих крестьян. Нередко даже очень богатые крестьяне оставались крепостными и не могли выкупиться на волю у своих помещиков.
Привилегированным сословием в Петербургской Империи считалось духовенство (хотя и низведённое на роль подвида государственного чиновничества). Оно состояло из чёрного духовенства (монахов) и белого (приходских священников) и было освобождено от податей, рекрутской повинности, а с 1801 года – и от телесных наказаний.
Если церковь в Петербургской Империи была полностью огосударствлена и имела весьма невысокий авторитет в обществе, то на передний план в общественной и культурной жизни вырвалось новое немногочисленное сословие – разночинная интеллигенция. Разночинцами назывались лично свободные люди, не принадлежавшие ни к податным, ни к привилегированным сословиям. Как самостоятельное сословие они оформились в конце XVIII – начале XIX века. К середине XIX века в России насчитывалось 24 тысячи разночинцев мужского пола: мелкие чиновники, учителя гимназий, учёные, деятели литературы и искусства – выходцы из крестьянства, мещанства, купечества и дворянства, не платящие подати, но, тем не менее, живущие своим трудом. Сословие было немногочисленным, но крайне активным и играющим решающую роль в русской истории и культуре XIX века, став основой формирования русской интеллигенции.
Подобно тому, как в условиях несвободы и централизации в России, вся политическая жизнь сосредоточилась в крайне узком круге населения (царский двор и верхушка бюрократии), также и вся общественная и культурная жизнь сосредоточилась в другом узком круге – разночинской интеллигенции, образованной, болезненно воспринимающей несвободу народа и унижение человеческого достоинства, порвавшей с правящими сословиями, противостоящей режиму и стремящейся помочь крестьянству. Подавление восстания декабристов окончательно противопоставило друг другу самодержавие и интеллигенцию (дополнив этим противостоянием существующий раскол между властью, образованным обществом и народом).
Разночинцы перехватывали в XIX веке лидирующее положение в общественной жизни у стремительно деградирующего и вырождающегося дворянства. Петровские реформы и Манифест о вольности дворянства 1762 года знаменовали собой вехи в рождении российской интеллигенции – искусственно сконструированной самодержавием, оторванной от народа и противостоящей самодержавному деспотизму. Французская Революция, европейское масонство, немецкий романтизм и идеализм сформировали российскую интеллигенцию в духовном плане, побудив её начать своё трагическое и героическое движение «в народ» (через славянофильство и народничество).
Салоны, кружки, масонские ложи, журналы служили центрами «кристаллизации» интеллигенции – сперва по преимуществу дворянской, а затем разночинской (но всегда по своему самоотверженному духу «бессословной, беспочвенной и идейной», по точному выражению философа XX века Г.П. Федотова, всегда одушевлённой высокими идеалами, а не корыстными интересами). По словам известного журналиста XIX века С. Елпатьевского, разночинец – это дворянин, ушедший от дворянства, поповский сын, не пожелавший надевать стихарь и рясу, купец, бросивший свой прилавок, мужик, ушедший от сохи и приобщившийся к образованию, генеральский либо чиновничий сын, отрицавшие бюрократию и милитаризм. «Властителем душ и дум» и поистине архетипическим героем русской интеллигенции стал В.Г. Белинский – «неистовый Виссарион», уязвлённый страданиями народа и социальными несправедливостями, пылко превративший ремесло литературного критика в социальное, философское и религиозное пророческое служение, обличающий пороки существующего общества, гонимый властью и жертвующий собой «за малых сих».
Подводя общие итоги социального развития России в XVIII – первой половине XIX веков, можно говорить о всё более углубляющемся и всё более тотальном, «системном» кризисе крепостничества, пронизавшего и сформировавшего всё российское общество: от горных рудников, помещичьей конюшни и солдатской казармы – до императорского дворца.
К середине XVIII века европейская часть России, не только восполнила чудовищные потери населения, вызванные петровскими реформами и войнами, но и столкнулась (впервые!) с аграрным перенаселением и малоземельем. Традиционно в России было много земли и мало рабочих рук (эта ситуация, во многом, и породила в XVI–XVII веках крепостное право), а в XVIII–XIX веках, напротив, рабочих рук стало чересчур много, а земли – мало. Экстенсивные методы ведения хозяйства были исчерпаны, а социальное напряжение неуклонно возрастало. Повышению производительности труда мешало крепостничество, а рост численности населения в середине XIX века упёрся в малоземелье. Помещик не мог до бесконечности усиливать эксплуатацию крестьян, так как рисковал разорить их и тем самым подорвать источник собственного благосостояния. Отечественная война 1812 года и, особенно, Крымская война разорили значительную часть страны, привели к разрушению многих городов. Так, за годы Крымской войны в 13 раз сократился вывоз из России хлеба, а в 8 раз – льна; в 10 раз сократился ввоз машин в Россию. Разруха охватила страну – при этом 1,5 миллиона мужчин были забраны в рекруты. Если крепостная армия не могла продолжать политику экспансии и агрессии, то крепостная экономика находилась в глубочайшем кризисе. За первые 60 лет XIX века ежегодный вывоз хлеба из России за границу увеличился в шесть раз, однако он в четыре раза уступал вывозу хлеба из США.
Российская крепостная промышленность безнадёжно отставала от западной. Этому способствовали постоянные гонения самодержавия на университеты и острая нехватка образованных людей в стране. Так, благодаря политике жёсткого ограничения числа студентов при Николае I в 1853 году в России на 60 миллионов населения насчитывалось 2 900 студентов! В сфере технического прогресса Россия стремительно теряла свои позиции. По выплавке железа Англия далеко опередила Россию, вытеснив её с мировых рынков. В 1860 году общий объём промышленной продукции России составлял 1,7 процента мирового производства, уступая Англии в 18 раз. Система монополий, казённых заказов и дотаций отсталым уральским заводам – становому хребту тяжёлой индустрии страны – тормозила развитие промышленности. Вольнонаёмный труд по производительности в два-три раза превосходил в промышленности крепостной труд. Крепостные предприниматели (Прохоровы, Морозовы и другие) были вынуждены скрывать свои капиталы, заключать сделки через подставных лиц, «откупаться» от рекрутской повинности, находясь в полной зависимости от помещиков. Крепостная неволя остро стесняла промысловую деятельность крестьян, барщинная и оброчная эксплуатация разоряла их и оскорбляла их человеческое достоинство. Да и помещики в России XIX века повсеместно разорялись и закладывали свои имения. (Вспомним чеховский «Вишнёвый сад».) Система паспортов мешала формировать рынок рабочей силы. Нередки были анекдотические ситуации, при которых крепостной фабрикант на своё предприятие, юридически принадлежавшее барину, нанимал крепостных односельчан, а своего барина «устраивал на работу» в качестве надсмотрщика за собственными крепостными, оставаясь при этом его собственностью!
Уже благородные масоны екатерининского времени (Н.И. Новиков и его друзья) и отважный А.Н. Радищев обличали «язву крепостничества»: первые с позиций мирного христианского морализирования, второй – с позиций просветительского революционного бунтарства. Пугачёвское восстание, с одной стороны, восстание декабристов, с другой, – показали шаткость и непрочность крепостной системы.
Программа Империи Петра Первого: наращивание экспансии государства вне и внутри России, сохранение и усиление державы (с самодержавием и крепостничеством, как несущими конструкциями всего здания), периодическое реформирование государства монархом в целях сохранения и упрочения существующей системы (с ограниченным, поверхностным и однобоко техническим «просвещением»), подновление крепостнической системы, развитие промышленности за счёт крепостного труда работников, закреплённых за мануфактурами и за счёт средств от продажи зерна, производимого подневольными крестьянами. Пугачёвское восстание, Радищев, а затем и декабристы предложили свою, альтернативную имперской, программу развития России – через революционное свержение деспотизма, уничтожение самодержавия (с его полицией, рекрутчиной, чиновничеством, подушной податью), децентрализацию, установление гражданской свободы (а в случае с «пугачёвщиной» – ещё и общинное самоуправление), разрушение империи, прекращение гонений на староверов и угнетения «инородцев», ликвидацию крепостного права. В XIX веке обе эти программы получили своё развитие: правительственный и общественный варианты развития страны столкнулись в ожесточённом противостоянии.
6.2.4. Общественное движение: попытка выработки альтернативы
Во второй половине XVIII – начале XIX веков, несмотря на самодержавный деспотизм, в России постепенно начинает возникать общественное освободительное движение – сначала малочисленное, мирное, полулегальное, затем – всё более сильное и радикальное.
В условиях абсолютного доминирования государства во всех сферах жизни, запрета на любую политическую деятельность и крайней аморфности, неорганизованности, неоформленности общества, в условиях разобщённости, неграмотности, замкнутости и покорности крестьянства (лишь иногда взрывающегося бунтами), в условиях отсутствия серьёзной буржуазии и её зависимости от государства, вся общественная мысль и общественная жизнь первоначально сосредоточилась в узком круге эмансипирующегося образованного столичного дворянства. Из его среды выходит немногочисленная, но активная и самоотверженная группа российской интеллигенции – объединённой не сословным эгоизмом, а возвышенными идеалами вольности и человеческого достоинства.
Философ Г.П. Федотов, описывая отчаянное и трагическое положение российской интеллигенции – детища петровских реформ, отметил присущее ей стремление «возвращения к корням», обретения связи с народом. Но он добавляет при этом: «И это – параллельно с неуклонным распадом социально-бытовых устоев древнерусской жизни и выветривании православно-народного сознания… Нельзя забывать в оценке русской интеллигенции, что она целое столетие делала общее дело с монархией. Выражаясь упрощённо, она целый век шла с царём против народа, прежде чем пойти против царя и народа (1825–1881) и, наконец, с народом против царя».
В XVIII веке на смену политико-религиозной идеи «Москвы – Третьего Рима» государство предложило новую трансформацию русского державного мессианства в виде имперской идеи «Великой России». И вот поэты славят полководцев, государей и чиновников, и часто сами ими являются (Державин, Фонвизин, Карамзин занимали видные государственные посты). «Суррогатом почвенности» для интеллигенции в это время оставалось породившее её самодержавие, оторвавшее интеллигенцию от народа (то есть общинного крестьянства). В умах большинства просвещённых людей XVIII века старая культура с её религиозными и нравственными устоями была полностью сломлена и дискредитирована, новая (европейская) усвоена очень поверхностно – и образовавшийся духовный вакуум заполняют цинизм, стяжательство, беспринципность, безверие, карьеризм, часто использующие для самооправдания модный ярлычок западного «вольтерьянства». Кроме того, образованные люди XVIII века были заворожены магией имперской мощи, упивались победами и завоеваниями, отождествляя себя с величием Державы. Масштабная фигура Петра и гром его побед соблазнял их пробуждающиеся националистические чувства.
Тем не менее, уже в эту эпоху появляются первые «ласточки» будущего общественного движения, критикующие пороки крепостничества и самодержавия и стремящиеся разграничить понятия «Россия» и «Империя», преодолеть бездонную пропасть, отделяющую их от народа, просветить народ, разделить и облегчить его страшные муки и искупить свою невольную вину (вину праздности и «цивилизованности» – за счёт эксплуатируемых и невежественных крестьян). «Они работают, а вы их хлеб едите» – этот красноречивый и страстный эпиграф избрал Н.И. Новиков к своему сатирическому журналу «Трутень».
Интеллигенция (в это время, преимущественно, дворянская) обретает свои первые организационные формы: кружки друзей, салоны, журналы, масонские ложи, тайные общества, научные общества. «Маятниковое» колебание политики монархов от «оттепели» к «реакции» ведёт к тому, что в периоды «оттепели» первые российские интеллигенты стремятся обновить и реформировать Россию вместе с властью, чересчур буквально принимают её призывы к обновлению и просвещению, а в периоды реакции выступают против власти, радикализируются, и подвергаются суровым репрессиям, открывая новый мартиролог мучеников российского освободительного движения: от Новикова и Радищева до Перовской и Михайлова.
Ещё одной характерной особенностью зарождающегося общественного движения (наряду с его узкой социальной базой, указанными «циклами», стремлением «идти в народ» и отдать «долг» ему, и крайним радикализмом, вызванным страшным имперским гнётом) являлось характерное для русской жизни XVIII–XIX веков противостояние двух столиц: официально-чиновничьего, казённо-придворного Петербурга и оппозиционной Москвы – хранительницы старины.
Именно в Москве, в чуть более свободной атмосфере, вдали от двора, в городе, обретшем в 1755 году Университет, находился главный центр общественной мысли и освободительного движения в России. В московских салонах и университетских кружках кипели страсти и выковывалось идейное оружие для новых битв.
Обратимся теперь к основный этапам и направлениям развития общественного движения в России второй половины XVIII – первой половины XIX веков.
XVIII век для России, как и для Европы – эпоха Просвещения. Идеи Просвещения (культ знания, разума, науки, вера в прогресс, проповедь равенства и свободы людей, прав человека, осуждение фанатизма и суеверий) проникали в Россию из Европы – отчасти благодаря, отчасти вопреки деятельности государей – от Петра I до Екатерины II. К числу основных противоречий и парадоксов русского Просвещения относились, во-первых, его поверхностный и узкий характер (оно насаждалось сверху, как картошка, рекрутчина и табак, не затронуло никак девять десятых русского населения и часто воспринималось весьма неглубоко или некритически – то как мода и забава, то как новый символ веры), и, во-вторых, стремление имперских властей решить неразрешимую задачу: насадить Просвещение, избежав его неизбежных последствий, воспитать из дворян инициативных и культурных рабов, образованных людей с широким кругозором, при этом остающихся покорными орудиями государства и не мечтающих о вольности. Если в Московской Руси духовной силой общества было духовенство (образованное и формирующее представление о национальной идентичности), то в Петербургской России – дворянство, ставшее проводником идей Просвещения, но инициатором и в первом, и во втором случаях оставалось самодержавие. Однако «плоды Просвещения» то и дело выходили из-под контроля имперских властей, порождая, помимо исправных офицеров и знающих инженеров, первых граждан, требующих уважения человеческого достоинства в себе и в других людях.
Екатерина II (с её играми в «просвещённый абсолютизм» и попытками ввести в заблуждение на сей счёт Дидро и Вольтера, скоро узнавшими цену «северной Семирамиды»), М.В. Ломоносов (с Московским университетом, интересом ко всевозможным наукам и искусствам), Н.И. Новиков (с его бурной и многогранной подвижнической издательской и филантропической деятельностью) и А.Н. Радищев (с его резким обличением и ниспровержением деспотизма и рабства) – всё это различные лики и оттенки российского Просвещения. Вехами в развитии русского Просвещения стали основание в 1755 году Московского Университета, появление в 1764 году Смольного института благородных девиц в Петербурге (начало женского образования в России), создание в 1786 году народных училищ (в каждом губернском городе – четырёхклассных, в каждом уездном городе – двухклассных), появление в Петербурге первой публичной библиотеки, создание в 1763 году Медицинской коллегии (для подготовки лекарей), учреждение в 1765 году Вольного экономического общества (занимавшегося статистикой, изучением российской экономики), многочисленные переводы западной литературы, расцвет журналистики в третьей четверти XVIII века.
Насаждаемое сверху Просвещение прошло в России ряд этапов. Первая «волна» Просвещения приходится на вторую половину XVII века, идёт с Украины, находится под полным церковным контролем, базируется на латинской – иезуитской модели образования (ярким проявлением этого этапа было учреждение Славяно-греко-латинской академии в Москве).
Вторая «волна» Просвещения связана с именем Петра I и приходится на первую четверть XVIII века. Теперь доминирует влияние Германии, Англии и Голландии, трезво-утилитарный протестантский дух, преобладание немецкого языка и акцент на военных, морских, технических и инженерных науках. «Стимулом» просвещения является государственное насильственное принуждение (обязанность всех дворян – учиться – под угрозой разнообразных кар). Пётр I стремился создать в России кадры узких специалистов-«технарей»: инженеров, офицеров, шкиперов, мастеров, фортификаторов, навигаторов.
Третья «волна» правительственного Просвещения приходится на последнюю треть XVIII века – эпоху Екатерины II. В это время двигателем Просвещения становится не насильственное принуждение из-под палки, но мода, а источником – Франция. Дворяне переходят с немецкого на французский язык, как на язык официального, семейного и повседневного общения. А предметом изучения становятся не военные и технические науки, а «светская наука». Обязательным становится знакомство с французской литературой, философией, знание этикета, нарядов, светских манер, умение изысканно общаться и галантно танцевать. А проводниками идей Просвещения теперь становятся многочисленные французские гувернёры, воспитывающие русских дворянских отпрысков: сначала авантюристы и искатели заработка (нередко демократы, республиканцы и деисты), а затем эмигранты-роялисты, спасающиеся от Французской Революции (иезуиты, аббаты, офицеры, аристократы). Сначала французские просветительские идеи, позднее – немецкий романтизм и идеализм формируют зарождающуюся русскую общественную и философскую мысль. Чужие формулы и слова помогают первым русским интеллигентам выразить собственные мысли.
Наиболее замечательным и значительным явлением общественной и духовной жизни России второй половины XVIII века, «школой» общественной самоорганизации, формой духовного поиска для мыслящих людей явилось масонство, пришедшее в 1730-ые года из Европы. Через масонские ложи прошло за столетие от трёх до пяти тысяч человек. Практически все сколько-нибудь яркие и видные деятели российской культуры и истории прошли в это время через увлечение масонством. Масонами были, например, вельможа Н.И. Панин, полководец А.В. Суворов, поэт Херасков, архитектор Баженов, поэт и архитектор Львов, писатели Карамзин и Сумароков, фельдмаршал Кутузов, а чуть позднее – А.С. Пушкин, П.И. Пестель, М.М. Сперанский, А.С. Грибоедов, императоры Павел I и Александр I… Масонство для многих его участников было просто «игрой для взрослых», забавой и развлечением, местом для завязывания неформальных связей с сильными мира сего. Однако именно оно, соединяя в себе опыт самоорганизации общества, общения единомышленников, духовной и филантропической деятельности, не подконтрольной царским чиновникам, стало для лучших людей России духовной отдушиной, формой внутренней оппозиции режиму, способом найти альтернативу как неверию, так и суеверию, формой противостояния и мертвечине казённой церкви и холодному цинизму модного тогда «вольтерьянства». Как отмечал Н.А. Бердяев, масонство, пришедшее в Россию из Европы (но не навязанное властью, как многое другое, «импортированное» с Запада), стало первым и едва ли не единственным духовным и общественным движением XVIII века, привлекшим к себе лучших людей России.
Признанным лидером русских «вольных каменщиков» стал Николай Иванович Новиков, придавший масонству социальную ориентацию. Для Новикова и его друзей тайное знание масонов противостоит и плоскому рационализму Просвещения, и нерассуждающей вере; общество – первично в отношении государства; все люди равны от рождения; истинное христианство состоит в подвиге непрерывного самосовершенствования и братской действенной любви; а крепостное право – несчастье и позор для России. Талантливый организатор общественной инициативы, смелый издатель сатирических журналов «Трутень» и «Живописец», обличающий саму Екатерину II и коренные пороки русской жизни, замечательный книгоиздатель, филантроп – во всех этих ипостасях прославил себя Н.И. Новиков.
Масоны во главе с Новиковым ставили превыше всего «духовное делание», самосовершенствование, нравственное возрождение «внутреннего человека» через любовь к своим братьям и активную помощь ближним. Масонство стало для них подлинным христианством, поиском новой, свободной религиозной философии и формой общественной организации, независимой от империи, и занимающейся критикой крепостного рабства, благотворительностью, духовным просвещением, издательскими проектами. Вот только часть того, что успел сделать Н.И Новиков со своими друзьями за двадцать лет (1772–1791). Ими были созданы несколько библиотек и книжных лавок, две гимназии, три типографии, издавалась газета «Московские ведомости», а также первый философский и первый детский журналы в России, была основана первая публичная библиотека в Москве, издано множество учебников, переводы научных и религиозно-нравственных книг, словарей, источников по истории и географии России – всего 40 процентов от числа всех издававшихся тогда в стране книг, организованы училища (учащиеся которых получали пожертвования от масонов). Новиков и его друзья помогали материально нуждающимся студентам, организовали при Московском университете переводческую семинарию и «Дружеское учёное общество», создали аптеку, в которой беднякам бесплатно давались лекарства.
Деятельность Новикова и его друзей-масонов была неутомимой, грандиозной, подвижнической и способствовала распространению знаний, изменению нравов, созданию общественного мнения, подавая в обществе рабства, произвола и лицемерия пример – подлинной человечности, взаимопомощи, жертвенности и бескорыстия. Идеи уважения человеческого достоинства, соединение веры и разума, науки и мистики, стремление к нравственному и социальному совершенствованию пронизывали и определяли его деятельность. Новиков с друзьями помогали всем нуждающимся, поддерживали бедных студентов, а в 1787 году, когда страну постигли засуха и голод, они организовали сбор средств в помощь голодающим и бесплатно раздавали им хлеб.
Вся эта деятельность вызвала репрессии со стороны циничной вольтерьянки Екатерины II, которую возмущали независимая позиция и внутренняя свобода масонов, неподконтрольность их инициатив государству (и смелая критика Новиковым самой государыни), их гуманный космополитизм и связь с наследником престола (и её ненавистным соперником и сыном) Павлом I. Поэтому в 1791 году все типографии масонов были ликвидированы, они сами арестованы, Новиков обвинён в государственных преступлениях (создание тайных обществ, связи с заграницей, кощунство, выпуск недозволенных книг) и затем отправлен на четыре года в крепость, откуда его освободил лишь новый император Павел I. И в самом деле, быть в России свободным человеком и независимым, активным гражданином – это уже явное государственное преступление!
Помимо масонства, «первыми ласточками» зарождающегося общественного движения в конце XVIII – начале XIX веков были революционное выступление А.Н. Радищева и появление российского консерватизма (в лице М.М. Щербатова и Н.М. Карамзина). А.Н. Радищев – образованный чиновник (учился в Лейпцигском университете, возглавлял Петербургскую таможню, занимался философией, поэзией, правом, экономикой) создал в 1783 году тираноборческую оду «Вольность», проповедующую идеал свободы и свержение самодержавия путём цареубийства. А в 1790 году он дерзко издал в собственной типографии свою книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», в которой ярко и страстно изобразил бедственное положение крестьян, злодейства чиновников и помещиков. Если многие авторы XVIII века (Д.И. Фонвизин, Н.М. Карамзин, Н.И. Новиков) с нравственных позиций критиковали «рабство» и обличали отдельные пороки русского общества (невежество, взятки, суеверия, «обезьянничанье» всего западного, коррупцию бюрократов), взывали к состраданию к крестьянам, которые «тоже люди», то в труде А.Н. Радищева все эти тенденции обрели законченный и радикальный характер бескомпромиссного революционного отрицания имперской власти и крепостного права. «О вольность, вольность, дар бесценный! Позволь, чтоб раб тебя воспел!» – с выстраданной всей тысячелетней русской историей горечью писал Радищев. За это воспевание вольности и «уязвленность души» «страданиями человечества» первый русский революционер-дворянин стал и первым революционным мучеником. Он был приговорён к казни, заменённой ссылкой в Сибирь. Оттуда он был возвращён Павлом I, затем включён Александром I в комиссию по подготовке новых законов, но, разочаровавшись в способности императора «ввести свободу», покончил с собой.
В конце XVIII – начале XIX веков зарождается и консервативная критика российского самодержавия. Её «первопроходцем» стал князь Михаил Михайлович Щербатов: экономист, историк, публицист, писатель, философ и общественный деятель, один из наиболее незаурядных лидеров дворянства. В своих трудах «О повреждении нравов в России», «Путешествие в землю офирскую» и исторических сочинениях он отважно обличил Петра I и Екатерину II за падение по их вине нравов общества, разрыв с народной культурой, проявления деспотизма, подавление дворянства и насаждение бюрократии. При этом он был сторонником расширения дворянских привилегий и доступа дворян к управлению страной, сохранения крепостного права (видя в нём идиллически патриархальные отношения между помещиками и крестьянами, а в его отмене видя опасность краха сельского хозяйства). Эти идеи продолжил в своей «Записке о древней и новой России» (1811), направленной против готовившихся тогда реформ М.М. Сперанского, великий историк и писатель Н.М. Карамзин.
Начало XIX века означало для России «дней александровых прекрасное начало», разгром Наполеона, огромные ожидания и – разочарования. Победивший Наполеона народ оставался под игом рабства и самовластья, александровские реформы обернулись аракчеевский реакцией и Священным Союзом. Из этих надежд и этого разочарования и родился декабризм – самая прекрасная, возвышенная и героическая страница в истории российского дворянства, его лебединая песнь. Тайные общества (1816 год – Союз Спасения, 1818 год – Союз Благоденствия, 1821 год – Северное и Южное Общества) ставили своей задачей сначала помощь правительству в преобразовании страны. Типично российский парадокс: Александр I тайно от страны разрабатывал проекты конституции и отмены крепостного права, а в это же время будущие декабристы также тайно разрабатывали аналогичные проекты!
Затем задачей стала уже борьба против правительства, отошедшего от своих же обещаний. От распространения новых идей, критики пороков общества, обучения грамоте солдат и сочинения революционных частушек – к идеям цареубийства, военной революции, введения в стране республики (или конституционной монархии) и отмены крепостного права – такую эволюцию за пять-шесть лет проделали члены тайных обществ под влиянием как событий в России (аракчеевщина), так и в Европе (военные революции в Италии и Испании в начале 1820-ых годов). По словам Н.А. Бердяева: «Нужно помнить, что пробуждение русского сознания и русской мысли было восстанием против императорской России».
Декабристы представляли собой не узкую группу заговорщиков, но довольно широкую среду, целую «субкультуру» со своими друзьями, родными, сторонниками, литераторами и сановниками (вплоть до Пушкина, Грибоедова, Рылеева, Ермолова и Сперанского), со своей этикой и нормами поведения. По словам замечательного историка, филолога и культуролога Ю.М. Лотмана: «Декабристы проявили значительную творческую энергию в создании особого типа русского человека, по своему поведению резко отличавшегося от того, что знала вся предшествующая русская история… Специфическое, весьма необычное в дворянском кругу поведение значительной группы молодых людей, находившихся по своим талантам, характерам, происхождению, по своим личным и семейным связям, служебным перспективам и т. д. в центре общественного внимания, оказало воздействие на целое поколение русских людей».
Что отличало декабристов? Стремление к подвигу, к действию, к преодолению невыносимого зазора между «словом» и «делом». Особая речь (у Пушкина: «витийством резким знамениты сбирались члены сей семьи»), смелое и резкое обличение крепостничества и деспотизма. По словам Ю.М. Лотмана: «Декабристы культивировали серьёзность как норму поведения», – гражданская позиция была для них не «игрой» и не «позой». Вынесение общественных проблем на гласное обсуждение, превращение балов и светских салонов в трибуну для политического действия также было характерно для декабристов. Как отмечает Ю.М. Лотман: «Именно на этой основе возникло специфическое для декабристов рыцарство, которое, с одной стороны, определило нравственное обаяние декабристской традиции в русской культуре, а с другой – сослужило им плохую службу в трагических условиях следствия и неожиданно обернулось нестойкостью». (Ибо декабристы не знали, как вести себя в ситуации разгрома, а представление о дворянской чести мешало им скрывать истину от своих судей). Благородство, самоотверженность, жажда подвига и жертвы определяли собой нравственный облик декабристов. В образе Чацкого у Грибоедова – ироничного, негодующего, прямого, смелого, бескомпромиссного, единственного нормального человека среди окружающих безумцев – ярко выражен психологический типаж декабриста. Не менее ярко характеризуют поколение декабристов и знаменитые пушкинские строки:
«Пока свободою горим, Пока сердца для чести живы, Мой друг, отчизне посвятим Души прекрасные порывы!»Слова «честь», «свобода» и «отчизна» не просто были для членов тайных обществ красивыми словами, – именно они определили их мироощущение и обусловили их славный подвиг. Также Ю.М. Лотман отмечал, что: «Культ братства, основанного, на единстве духовных идеалов, экзальтация дружбы были в высшей мере свойственны декабристу, часто за счёт других связей… Прозаическая ответственность перед начальниками заменилась ответственностью перед историей, а страх смерти – поэзией чести и свободы. «Мы дышим свободою», – произнёс Рылеев 14 декабря на площади. Перемещение свободы из области идей и теорий в «дыхание» – в жизнь. В этом суть и значение бытового поведения декабристов». Таким образом, декабризм есть явление не только политическое, но. прежде всего, духовное, культурное, без понимания чего невозможно понять поступков декабристов. Как не понял их высший сановник империи граф Фёдор Растопчин, недоумённо спрашивающий: «Во Франции сапожники устроили революцию, чтобы стать дворянами. Что же у нас бунтуют дворяне – неужели хотят сделаться сапожниками?» В основе всего движения декабристов лежали не корыстные сословные интересы, но прежде всего высокие духовные импульсы: на смену прежней безобидной «игре в либеральные идеи» отцов-«вольтерьянцев» екатерининских времён, пришло глубокое, выстраданное и искреннее вольнодумство.
Разумеется, движение декабристов было неоднородно и отличалось разнообразием и программ, и духовных типажей. Среди участников тайных обществ немало было беспечных, незрелых, случайных людей. Но рядом с ними были блестящие мыслители, герои войны 1812 года, гвардейские офицеры, отдавшие свою жизнь ради служения высоким идеалам. Также сильно различались и программы декабристов: более либерального, «рыхлого» и умеренного Северного общества (программой которого была Конституция Никиты Муравьёва) и более радикального и мощного Южного (его программой была «Русская Правда» Павла Пестеля). Всех декабристов объединяла идея немедленной отмены крепостного права и ограничения самодержавия. Все считали средством для достижения целей военный переворот (казалось, что он способен избавить Россию и от ужасов новой крестьянской «пугачёвщины», и от ужасов якобинского террора). Однако, если «северяне» планировали немедленный созыв Учредительного Собрания, которое решит дальнейшую судьбу России, то Пестель выступал приверженцем революционной военной диктатуры, которая в течение ряда лет будет «готовить» страну к «свободе». Если Никита Муравьёв предполагал освобождение крестьян из-под крепостного ига без земли, введение конституционной монархии, превращение России в децентрализованную федерацию земель и неуклонное соблюдение всех демократических свобод (слова, совести, собраний), то Пестель, напротив, желал обеспечить крестьян частью земли без выкупа (за счёт конфискации излишков земли у самых богатых помещиков; впрочем, с сохранением и частной собственности на землю), предлагал введение республики и жёсткого авторитарного, полицейски-централизованного режима (с насильственной русификацией и обращением в православие всего населения, гонениями на евреев и кавказцев, запретом тайных обществ (!)) и серьёзным ограничением прав и свобод человека.
Нередко историки рассматривают восстание декабристов как последний (и неудачный) дворцовый переворот. И в самом деле, многие черты роднили декабрьское восстание 1825 года с предшествующими дворцовыми переворотами: ситуация междуцарствия и отказа от присяги нежелательному монарху, решающая роль гвардии, заговор среди офицеров… Однако впервые в русской истории (со времён «верховников» в 1730 году) речь шла не о дворцовой интриге и не о корыстных интересах группы лиц, а о смене исторического вектора развития страны, о продуманной программе, об участии сотен людей, рискующих жизнью не из корысти, а из высоких идейных соображений, и несколько лет целенаправленно участвующих в работе тайных обществ.
Уже не один смелый Радищев, а сотни людей бросили дерзкий вызов Империи. Выведя утром 14 декабря 1825 года к Медному Всаднику в Петербурге три тысячи солдат с тридцатью офицерами, отказавшимися подчиняться новому императору Николаю I, декабристы заложили основание новой славной революционной традиции. Их кровь – кровь героев, расстрелянных картечью на площади и повешенных позднее по суду, – легла в основу прекрасного революционного Мифа, как то евангельское зерно, которое умирая, даёт колос. «Ах, как славно мы умрём!» – говорил друзьям К.Ф. Рылеев – пылкий поэт-декабрист. Немое доселе, российское общество обретало свою речь. Восстание в Петербурге было расстреляно, восстание Черниговского полка на Украине в декабре 1825 – январе 1826 года также было подавлено картечью. По делу над декабристами – первому политическому процессу в истории России! – было привлечено 579 человек, на суде – 121 человек. Пятеро декабристов были повешены 13 июля 1826 года (Павел Пестель, Пётр Каховский, Кондратий Рылеев, Сергей Муравьёв-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин), около ста человек сосланы в Сибирь, девять – в солдаты на Кавказ, двумстам солдатам дали тысячу ударов палками, четыре тысячи гвардейцев были отправлены на Кавказ. Наступила николаевская реакция, – эпоха всеобщего пессимизма, уныния, робости, гонений на всё живое, эпоха, столь ярко и мрачно описанная Лермонтовым в его «Думе». Однако пример декабристов не был забыт, их голос был услышан и подхвачен.
Время 1830-ых – 1840-ых годов стало, по словам А.И. Герцена, «временем наружного рабства и внутреннего освобождения», когда в маленьких дружеских кружках, в студенческих аудиториях и московских салонах кипела интенсивная духовная жизнь, и были поставлены вопросы о смысле русской истории и о реальном вкладе России в мировую культуру. Вопреки виселицам и ссылкам декабристов, гибели на дуэли Пушкина и Лермонтова, ссылке в солдаты поэта Александра Полежаева (за вольнолюбивые стихи), разгрому кружка «петрашевцев» (приговорённых к расстрелу всего лишь за крамольные речи, чтение книг Ш. Фурье и переписывание запрещённого письма Белинского к Гоголю), шпионам и доносам зловещего Третьего Отделения, вопреки казённой теории «официальной народности», мыслящие и порядочные люди России отвергали имперскую «славу, купленную кровью», гнёт самодержавия, произвол бюрократии, крепостное рабство. При этом возникали существенные расхождения и в оценках настоящего, и в образах прошлого и желаемого будущего.
Первым публично осмелился выступить один из величайших русских мыслителей, основоположник русской философии Пётр Яковлевич Чаадаев (друг Пушкина и декабристов), который в 1836 году опубликовал первую статью из своих «Философических писем» в журнале «Телескоп». В ней он, вопреки теории «официальной народности», указывал на историческую отсталость и бедственное положение России, отсутствие в ней свободной мысли, самостоятельной инициативы, её изоляцию от вселенской (католической) христианской церкви. «Мы – пробел в нравственном миропорядке», «враждебный всякому истинному прогрессу», «прошлое России – пусто, настоящее – невыносимо, а будущего у неё – нет», – такие горькие истины были непривычны для русского читателя и совсем невыносимы для власти. Выход в свет чаадаевской статьи А.И. Герцен назвал «выстрелом пушки в ночи», а её написание – «подвигом честного человека». Журнал, опубликовавший статью, был закрыт, его издатель отправлен в ссылку, а П.Я. Чаадаева по царскому приказу… объявили сумасшедшим (как уже было пророчески предсказано Грибоедовым, одним из прототипов Чацкого у которого был Чаадаев, и как не раз потом будут делать с инакомыслящими в СССР), ему запретили что-либо публиковать и выходить из дома.
Если ответом власти на выступление Чаадаева, разумеется, явились репрессии, то ответом общества – начало знаменитого спора между «западниками» и «славянофилами» (спора, который продолжается, немного меняя форму, и по сей день). И «западники», и «славянофилы», однако, относились к одной духовной среде, одинаково глубоко ненавидели рабство и унижение человеческого достоинства со стороны николаевского режима и одинаково требовали отмены крепостного права. И те и другие бились над решением одного и того же вопроса – как преодолеть указанную Чаадаевым отсталость и несвободу русской жизни, но ответы давали разные: идти общим путём с Европой, догоняя её (западники), или же найти в самобытности, непроявленности сил русского народа залог будущего величия России (славянофилы). Не зря примыкавший в те годы к «западникам» Герцен подчёркивал: «Наше сердце билось одно, но головы, как у двуликого Януса, смотрели в разные стороны». И славянофилы, и западники создали себе своего рода утопии, только утопия славянофилов находилась в прошлом (Московское царство XVII века до Петра I), а утопия западников – на современном Западе. Одни противопоставляли идеальную Древнюю Русь (вымышленную) порокам реального Запада, другие противопоставляли западные идеалы гуманности и свободы бедствиям современной России. А.И. Герцен писал о западниках: «Европа нужна нам как идеал, как упрёк, как благой пример; если она не такая – её надо выдумать».
К кружку славянофилов относились братья П.В. и И.В. Киреевские, братья И.С. и К.С. Аксаковы, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин. Они внесли огромный вклад в изучение народной русской культуры: Аксаковы изучали статистику, Хомяков стал первым в России светским богословом, А.Н. Афанасьев собрал и издал русские народные сказки и изучал древнерусское язычество, П.В. Киреевский собрал и опубликовал русские народные песни, а В.И. Даль стал автором знаменитого и доселе непревзойдённого толкового словаря живого великорусского языка. На взгляды славянофилов решающее влияние оказал немецкий романтизм (с его «народным духом» и «реабилитацией» традиции и органического развития общества). Славянофилы указывали на «соборность» («единство во множестве», «хоровое начало»), сочетающее ценности личного и общего, добровольный союз людей для совместного деяния), как на главную черту русской истории и социальности. Идеалом славянофилов было неразрывное единство веры и разума, мысли и чувства, единичного и всеобщего, христианства и светской культуры. В православии и крестьянской общине они видели залог великого будущего России. Славянофилы считали, что на Западе восторжествовал дух конкуренции и эгоизма, «язва пролетариатства» и буржуазная цивилизация, разрыв «сердца и ума». В России же изначальный идеал («сила власти – царю, сила мнения – народу», соединение царя-батюшки и Земского Собора) исказился с реформами Петра I, поработившего церковь и насильственно насадившего «немецкую бюрократию», разделившую монархическую власть и народ. Отрицая капитализм, парламентаризм, конституционализм как «западные» выдумки, славянофилы предлагали ликвидировать крепостное право, освободить церковь и общину из-под ига государства, уничтожить «немецкую бюрократию», развивать самоуправленческие и общинные начала русской жизни.
Славянофилам противостояли «западники», пёстрая и разнообразная группа лиц, в отличие от славянофилов не представлявших единства взглядов и идей (историки, юристы, профессора, писатели: Т.Н. Грановский, И.С. Тургенев, В.Г. Белинский и многие другие), исповедовавшие идеалы секулярной и космополитической культуры и абсолютной автономии личности. Они полагали, что России следует идти по проложенному Петром I пути, догнать европейские страны, ввести парламент и конституцию, отменить крепостное право, развивать промышленность, распространять просвещение.
Своеобразным синтезом лучших идей славянофильства и западничества явился «русский» или «народнический» социализм, создателем и глашатаем которого стал Александр Иванович Герцен (1812–1870) – замечательный мыслитель, писатель и общественный деятель. Примыкавший сперва к западникам, подвергшийся репрессиям со стороны самодержавия и вынужденный покинуть Россию, Герцен основал в Лондоне (вместе со своим другом Н.П. Огарёвым) Вольную Русскую Типографию, положив начало русской политической эмиграции и неподцензурному русскому слову, громким эхом отдававшемуся в порабощённой России (они издавали сборники «Голоса из России», альманах «Полярная Звезда» и газету «Колокол»).
Увидев подавление в 1848 году восстания рабочих парижских предместий победившей буржуазией, Герцен разочаровался в капиталистическом Западе и поставил ему горький диагноз: «Мещанство». До Герцена слово «мещанство» понималось как сословная, а после него – как интегральная духовная характеристика: политическое и экономическое господство буржуазии, подмена духовных ценностей коммерческими, стирание и обмельчание личности, наступление «внутреннего варвара», торжество пошлости, заурядности, разрушение (под влиянием буржуазной индустрии) отдельной личности, культуры и солидарности между людьми. Западное мещанство, осознал Герцен, основано на «безусловном самодержавии собственности».
Однако в России, полагал Герцен, сохранилась крестьянская община (с её коллективизмом, самоуправлением и неприятием частной собственности). Она-то и может стать зародышем того общества, к которому стремятся теоретики западного социализма: сочетать западный идеал свободы личности и российское начало общинного коллективизма. В этом Герцен видел надежду и спасение России, способной пройти между Сциллой буржуазного мещанства и Харибдой царского деспотизма, извлекая уроки из ошибок и бедствий Европы. «Прошлое русского народа темно, его настоящее ужасно, но у него есть право на будущее», – полагал Герцен.
Социализм для него призван сочетать личную свободу с социальной справедливостью, политическое освобождение («волю») с экономическим равенством («землёй») и навеки уничтожить власть и эксплуатацию – эти гнусные формы насилия над личностью. Основными особенностями народничества (родоначальником которого был Герцен, а крупнейшими теоретиками в последней трети XIX века: М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин, Н. К. Михайловский и П.Л. Лавров) стали: антиэтатизм (то есть отрицание централизованного военно-бюрократического государства и стремление к федерации свободных самоуправляющихся общин), персонализм (апология человеческой личности как высшей ценности), мысль о возможности синтеза в России лучших черт Запада и Востока (западного просвещения, идеалов свободы и восточного коллективизма), решающая роль общины, сочетание требований «земли и воли» и мысль о возможности самоосвобождения народа только через сам же народ (а не сверху, через заговор или захват государства).
К середине XIX века народничество стало доминирующей частью общественного движения в России. В это время России самодержавной и имперской противостояла другая Россия («подпольная Россия», по выражению выдающегося революционера-народника и писателя С.М. Степняка-Кравчинского). Эта другая, «подпольная Россия» имела своё видение желаемого будущего для страны, свою политическую эмиграцию в Европе, свою этику, своё подполье, своих поэтов, писателей, публицистов, философов, художников, социологов, свой язык, свою «субкультуру» и систему ценностей, тысячи своих приверженцев. Жестокий гнёт самодержавия, ссылки и виселицы для непокорных, порождали радикализм ответный, нарастающее сопротивление полицейскому террору; свирепое «действие» власти порождало адекватное решительное «противодействие». Общество было готово к отпору государственному террору.
От «нигилистов» шестидесятых годов XIX века через кружки самообразования и героическое и жертвенное «хождение в народ» 1873–1874 годов (в котором приняли участи до десяти тысяч юношей и девушек из интеллигенции), через анархическую организацию «Земля и Воля» (1876–1879 годов) к героической эпопее партии «Народной Воли» (1879–1884) – такой путь за четверть века прошла «подпольная Россия» в неравной борьбе с самодержавием. От создания кооперативных мастерских, феминистских кружков и кружков самообразования и коммун, от мирной пропаганды среди рабочих и крестьян, под влиянием полицейских репрессий, движение развивалось к террору против царских генералов, провокаторов, губернаторов, жандармов и, наконец, самого царя. Эта эволюция была обусловлена суровыми преследованиями со стороны властей и желанием революционеров отомстить за казнённых товарищей, поразить существующую систему в самое сердце и тем десакрализировать и разрушить её. (Ведь, раз император всевластен, он и в ответе за всё: за полицейский террор, кровавое подавление польского восстания 1863–1864 годов и за то ограбление крестьян, которым обернулось их «освобождение»). Однако пропасть, разделявшая самоотверженную радикальную молодёжь и общинное крестьянство, была ещё слишком велика: герои-револционеры пали, усыпав эту пропасть своими телами в борьбе за освобождение народа и отстаивание человеческого достоинства. Даже казнь народовольцами царя Александра II (1 марта 1881 года) привела не к народному восстанию, а лишь к усилению репрессий.
Следует особо подчеркнуть, что революционный террор 1879–1881 годов носил со стороны революционеров оправданный и вынужденный характер и был не столько средством давления на правительство (хотя язык силы – единственный язык, к которому оно прислушивалось), сколько способом самозащиты свободных людей в тотально несвободной стране. Не случайно, первый террористический акт, совершённый в 1878 году Верой Засулич против генерала Трепова (градоначальника Петербурга), был вызван местью за оскорблённое и униженное человеческое достоинство и безнаказанность генерала (генерал приказал высечь розгами политзаключённого, не снявшего перед ним картуз) и носил символический характер (на суде Засулич заявила, что ей важно было не убить генерала – он был лишь ранен – а выстрелить в него). И общество, в лице суда присяжных, поняло и поддержало отважную и благородную женщину, оправдав её.
«Террор – вещь страшная», – писал Сергей Михайлович Степняк-Кравчинский вскоре после убийства им жандармского генерала Мезенцева. «Есть только одна вещь более страшная – безропотно сносить насилие». А народоволец Александр Михайлов пояснял: «Когда человеку, желающему говорить, затыкают рот, ему тем самым развязывают руки».
В ситуации полицейских репрессий (виселиц, арестов, высылки без суда; в 1879–1882 годах были казнены 30 революционеров), в условиях молчания основной массы крестьян и невозможности легальной политической работы, террор стал для разночинной интеллигенции последним отчаянным способом отстаивания человеческого достоинства, актом отчаяния. Они сумели подорвать государственную монополию на насилие, оказав сопротивление. Тем не менее, в партии «Народная Воля» лишь несколько десятков человек занимались террором («охотой на царя»), в то время как она насчитывала пять– шесть тысяч сторонников и несколько сотен активистов: триста гимназических, студенческих, офицерских и рабочих кружков, несколько периодических изданий; партия вела пропагандистскую работу в образованном обществе и народе, имела своего агента в полиции и представителей за границей. Неудавшееся в виде одного героического порыва «хождение в народ» (разгромленное в 1874 году полицией при безучастном отношении крестьян), однако, постепенно давало плоды: сотни народников, устроившихся фельдшерами, акушерами, писарями, учителями в деревне, обучали крестьян грамоте, способствовали их самоорганизации (через кооперацию) и росту их кругозора и самосознания. Крестьянская община постепенно пробуждалась от спячки и радикализировалась, чтобы подняться в 1905 году, поколебав основания Петербургской Империи.
6.2.5. «Великие реформы» 1860-ых – 1870-ых годов: очередная «революция сверху» во избежание народной «революции снизу»
В середине 1850-ых годов системный кризис Петербургской Империи достиг своего пика. Технологическая и экономическая отсталость порождала отсталость военную, крепостное право вызывало нарастающие бунты крестьян и протесты со стороны передовых людей из «образованного общества», неповоротливая бюрократическая система управления (безо всякой «обратной связи» с обществом) была пронизана коррупцией, казнокрадством и мздоимством и не была способна отвечать на вызовы времени. Разгром империи в Крымской войне одновременно поставил под вопрос статус России как военной сверхдержавы, вызвал возмущение, в обществе и предельно обнажил все накопившиеся за полтора столетия проблемы, порождённые ещё Петром I. Ситуация в стране, по словам курляндского губернатора Валуева, исчерпывающе описывалась формулой: «Сверху блеск, внизу гниль». За годы Крымской войны экономика России была разрушена, миф о её «величии» и превосходстве над Западом сокрушён, торговля пришла в упадок, а население сократилось на десять процентов.
Необходимость решительных перемен была ясно осознана новым императором Александром II, сменившим в 1855 году Николая I, императором, с лёгкой руки Герцена получившим почётное прозвище «Освободитель». Александр II начал «Великие реформы», сущностью которых была очередная «революция сверху» в России с целью модернизировать Петербургскую Империю и отдалить её крах, обновить здание державы, создать более эффективную армию и систему управления, перехватить у общественного движения инициативу в преобразованиях.
С воцарением нового монарха в стране была объявлена политика «гласности» и «оттепели» (эти понятия, которые вновь станут актуальны сто лет спустя, после смерти Сталина, возникли в России именно тогда). Была слегка ослаблена цензура, были амнистированы сосланные в Сибирь декабристы, повсюду почти легально распространялся лондонский «Колокол» Герцена, общество было полно ожиданиями перемен, широкое распространение получили петиции и проекты реформ, ходившие по рукам и достигавшие порой подножия трона. 30 марта 1856 года, выступая перед московским дворянством, Александр II произнёс многозначительные и знаменитые слова: «Лучше начать уничтожать крепостное право сверху, нежели дождаться того времени, когда оно начнёт само собой уничтожаться снизу». Так император недвусмысленно намекнул помещикам на опасность скорой крестьянской революции. И в самом деле, если в 1856 году в России произошло лишь 66 крестьянских выступлений, то к 1859 году их число выросло до 797. Слухи о «воле» будоражили деревню. Однако, несмотря на брожение среди крестьян, кризис верхов и выступления снизу, эта оппозиция была ещё слаба и не организована, а отдельные бунты так и не смогли перерасти во всеобщее восстание. Императору удалось удержать в руках инициативу и контроль за страной.
Главной проблемой, в которую упирались начавшиеся реформы, было упорное нежелание большинства дворян проявить инициативу в деле отмены крепостного права или же хотя бы поддержать эту отмену. И уж совсем не допускали помещики мысли об освобождении крестьян с землёй. А освобождение крестьян без наделов, «воля» без «земли» автоматически означала бы всеобщее народное восстание с поголовным истреблением дворян. Опираясь на бюрократию (которая к этому времени встала на место дворянства и являлась основной силой и опорой империи), Александр II начал подготовку крестьянской реформы, отстранив от участия в ней как крестьянство, так и дворянство – то есть тех, кого эта реформа в первую очередь касалась. Ибо дворяне требовали конституции, свободы печати и соучастия в управлении империей, категорически не желая поступаться своими, «рабовладельческими» правами и землями, а крестьяне жаждали получить бесплатно вместе с «волей» всю землю. И то, и другое, было неприемлемо для самодержавия, готовившего «освобождение» втайне от общества.
Тем не менее властями была разыграна комедия дворянской «инициативы» в деле реформы. Личный друг императора, губернатор Назимов, по просьбе Александра II от имени дворян своей губернии осенью 1857 года просил государя о начале крестьянской реформы. Поблагодарив дворян за столь «гуманные чувства», Александр II повелел дворянам всех губерний создавать свои комитеты для обсуждения условий отмены крепостного права (с обязательным наделением крестьян землёй за выкуп). При этом дворянским комитетам категорически запрещалось общаться и встречаться друг с другом: правительство не без оснований опасалось их перерастания в парламент. В 1858 году дворяне нехотя стали создавать такие комитеты.
Главными «двигателями» реформы стали министр внутренних дел С. Ланской, его помощник Николай Милютин, брат царя, великий князь Константин и глава Редакционных комиссий генерал Яков Ростовцев (бывший декабрист, впрочем, накануне 14 декабря пришедший к императору Николаю с повинной). Девять десятых дворян, создавших комитеты для обсуждения крестьянской реформы, выступили против отмены крепостного права, а многие из них требовали создания дворянского парламента и введения конституции и ругали засилье чиновников. В то же время небольшая группа либеральных дворян (тверских) требовала создания в России независимого суда, свободы слова, освобождения крестьян с землёй за выкуп. За такую дерзость либеральные дворяне были посажены государем в крепость, чтобы там подумать о свободе слова. Чиновники, готовившие реформу, лишь для вида прислушивались к пожеланиям дворянства. Иллюзия «дворянской инициативы» была создана, однако все решения принимала лишь узкая группа назначенных царём бюрократов. Видный деятель реформы, чиновник и известный путешественник П. Семёнов Тян-Шаньский откровенно писал в 1859 году: «верховная власть не могла не иметь опасения, что дворянство… теряя свои права и свою власть над массами русского народа, пожелает искать себе компенсации за счёт верховной власти, путём её ограничения». Реформа готовилась бюрократией за спиной у крестьян и вопреки желаниям большинства помещиков. Империя считала жизненно необходимой задачей сохранение за собой монополии на реформы без участия общественности.
Проигнорировав пожелания как основной массы дворянства, так и его либерального крыла, чиновники подготовили свой проект «освобождения» – проводимого за счёт крестьян и учитывающего интересы дворян, однако, не допускающего их до рычагов власти. Представляя Государственному Совету проект крестьянской реформы в январе 1861 года, Александр II сказал: «всё, что возможно было сделать для ограждения интересов дворянства, сделано».
19 февраля 1861 года государем были подписаны обширное «Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» и соответствующий Манифест (написанный по приказу царя престарелым московским митрополитом Филаретом и, из-за высокопарного и тёмного языка, получивший в народе название «филькина грамота»). Тем не менее, до 5 марта эти документы не объявлялись крестьянам. Причина задержки ясна из откровенных слов Александра II перед обнародованием Манифеста: «Когда народ увидит, что ожидания его, то есть свобода по его разумению не сбылась, не настанет ли для него минута разочарования?» Поэтому, в преддверии объявления об «освобождении» и предсказуемого разочарования народа, власти подтягивали воинские части, мобилизовывали полицию, на всякий случай подготовили эвакуацию двора из Петербурга. Ведь само лукавое «освобождение» крестьян проходило авторитарно, насильственно (как и их закрепощение) и сопровождалось их грандиозным ограблением, а потому власти имели все основания опасаться народного возмущения – ещё более грозного, чем недовольство со стороны дворян.
Основные положения крестьянской реформы 1861 года сводились к следующему. По царскому манифесту 23 миллиона помещичьих крестьян получили личную свободу, а значит: свободу передвижения, право владеть собственностью и торговать, право по своему выбору вступать в брак, выступать в суде, поступать в учебные заведения. Помещики теряли «полицейскую» власть над крестьянами, а их место заняла община, значение которой выросло (в этом сказалось активное участие некоторых славянофилов в подготовке реформы). Теперь сельский сход и созданные им органы местного самоуправления осуществляли суд по мелким правонарушениям, собирали налоги (и отвечали за них круговой порукой), раскладывали повинности, проводили переделы общинной земли по семьям, давали дозволение крестьянину покинуть деревню. Однако крестьяне отнюдь не стали полноправными гражданами страны, оставшись «людьми второго сорта». Они по-прежнему подвергались телесным наказаниям и несли на себе всю тяжесть государственных повинностей. А при возникновении конфликтов между помещиками и крестьянами царские власти почти всегда становились на сторону первых.
Освобождение крестьян проводилось в интересах имперской бюрократии, а не большинства населения. В дореформенный период большая часть земли находилась в пользовании общины. Другая, меньшая часть, обрабатываемая крестьянами, принадлежала помещику, и крестьяне были обязаны его содержать. При этом вся земля имела верховного хозяина – государство в лице императора. Однако крестьяне вообще не признавали за помещиком и государством прав владеть землёй, поскольку полагали, что она «ничья и Божья», а значит любой имеет право её обрабатывать и пользоваться плодами земли, но никто не может её владеть, как собственностью.
В ходе реформы государство передало крестьянам лишь часть общинной земли. Уплатив помещикам за нее (по завышенной цене), оно обязало земледельцев на протяжении 50 лет возвращать казне ежегодно шесть процентов от данной суммы (выплаты были отменены лишь в ходе и в результате Революции 1905–1907 годов). Таким образом, «не обидив» дворян, государство и само хорошо погрело руки на крестьянском «освобождении». 1,5 миллиона дворовых людей, обретя свободу, вообще не получили никакой земли!
Таким образом, получив личную свободу, крестьяне лишились многих общинных земель и ещё должны были отдавать государству (помимо обычных податей) огромные деньги за участки, которые оно им оставило. Уплачивая и государственные подати, и выкупные платежи, лишённое части земли в условиях переизбытка населения и малоземелья, крестьяне разорялись и попадали в беспросветную кабалу. У помещиков к тому же остались все леса, выгоны и пастбища, реки и водопои, что, естественно, порождало постоянные их конфликты с крестьянами. Впрочем, значительные средства, полученные дворянами в результате реформы в качестве выкупных платежей, не пошли им впрок: помещики быстро растратили их, отдали за старые долги и в своей основной массе не сумели приспособиться к новым условиям ведения хозяйства.
Описывая плачевные последствия крестьянской реформы для дворян и крестьян, Н.А. Некрасов подытоживал:
«Порвалась цепь великая, Порвалась – расскочилася: Одним концом – по барину, Другим по мужику!»По мужику, однако, намного больнее! Крестьяне не мыслили себе «волю» без «земли». Сохранение помещичьего землевладения, обделённость крестьян пастбищами, выгонами, водопоями и лесами, дополнение налогового гнёта выкупными платежами, урезание общинной земли в пользу помещиков (особенно в чернозёмных районах), помноженное на хроническое «малоземелье» и неравноправие крестьян с «неподатными сословиями», вызвали у крестьян глубокое (предсказанное императором) разочарование в царе и привели к волне восстаний, слухов о настоящей, новой «воле», массовому отказу от внесения платежей, к захватам помещичьих земель и вырубке их лесов. В 1861 году – после «воли»! – произошло две тысячи крестьянских восстаний, причём в 900 случаях власти пришлось посылать войска. В селе с мрачным названием Бездна в Пензенской губернии более ста крестьян были расстреляны войсками при подавлении восстания. Произошло мощное восстание крестьян в Абхазии.
Наступившее затишье было недолгим и обманчивым. Крестьянская община воспринимала помещиков и стоявших за ними царских чиновников как своих врагов, а вера в «доброго царя» рухнула. «Освобождение» 1861 года неминуемо вело к революции 1905 года. В конце XIX века значительная часть крестьян обучилась грамоте, организовала кооперативы, расширила свой кругозор и лучше осознала и своё бесправие, и грабительский характер царского «освобождения». Происходит консолидация общинного крестьянства, рост его классового самосознания в борьбе против помещиков и самодержавно-бюрократического государства.
В 1866 году получили личную свободу 19 миллионов государственных крестьян – они за выкуп получали землю, которой владели до того. Условия их освобождения были значительно лучше, а полученные земельные наделы в несколько раз больше, чем у помещичьих крестьян.
Итогами крестьянской реформы явились, с одной стороны, разорение значительной части крестьян и дворян и стремительное развитие промышленности (за счёт роста пролетаризации крестьянства и устранения многих помех, мешавших предпринимательству), а с другой стороны, появление новых и обострение старых противоречий в обществе (между общиной и помещиками, между крестьянством и самодержавием). Социальный взрыв был загнан внутрь и «отложен» на треть века.
Крестьянская реформа потянула за собой другие «великие реформы» 1860-ых – 1870-ых годов, изменивших весь облик государства. На смену старому, сословному и закрытому суду в 1864 году пришла совершенно новая судебная система, основанная на принципах бессословности, публичности и состязательности; появились должность адвоката и суд присяжных.
Рекрутский принцип комплектования армии в 1874 году заменили всеобщей и всесословной воинской повинностью, срок военной службы сократился в несколько раз (шесть лет для армии и восемь – для флота), телесные наказания для солдат были ограничены, офицерами могли теперь стать и недворяне. Армия была уменьшена в численности с двух миллионов до восьмисот тысяч человек.
Наконец, в 1864 году создавались выбираемые всеми сословиями местные органы самоуправления – земства, решавшие вопросы здравоохранения, просвещения и др. Самодержавие решило «компенсировать» обиженным дворянам потерю ими власти над крепостными крестьянами, даровав им «земства», в которых дворяне играли решающую роль.
Была отменена система откупов (сбор налогов частными лицами), а государственный бюджет (доходы и расходы казны) отныне ежегодно предавался гласности. Число студентов за несколько лет удвоилось, достигнув к концу 1860-ых годов аж шести тысяч человек. Была ослаблена цензура и расширены права университетов (им была предоставлена автономия).
Однако все эти реформы оказались половинчатыми и незавершёнными. Ведь они проводились без участия общества, посредством и в интересах царской бюрократии, строго следившей за сохранением самодержавного деспотизма во всей его полноте и лишь желавшей в очередной раз «обновить фасад» своей Империи, не посягая на её основание. Самодержавие позволяло себе вмешиваться в деятельность судебных органов, подвергая политически неблагонадёжных высылке без суда. Вскоре политические и религиозные преступления были изъяты из общего порядка судопроизводства. Духовенство и военные, по-прежнему, подлежали юрисдикции особых судов.
Самодержавная власть жёстко ограничила компетенцию земств вопросами хозяйственной жизни, просвещения, благотворительности и медицины, запретив им устанавливать прямые связи между собой, обсуждать политические вопросы и поставив их под полный контроль со стороны губернаторов и полиции. Земские либералы горестно называли земства «зданием без фундамента и крыши», подразумевая, что это странное здание не имеет основания на низшем (волостном) и высшем (общегосударственном) уровне. Больше всего императоры опасались, что из земств вырастет парламент, а потому они подвергали их непрерывным гонениям и ограничениям. Во многих регионах, страны земства вообще не были созданы (в Сибири, Прибалтике, Средней Азии, Казахстане, Польше, Литве, Белоруссии и на Кавказе).
Да и эти – половинчатые и непоследовательные – реформы продолжалась недолго. Уже с конца 1860-ых годов Александр II удаляет от власти либеральных чиновников и поворачивает в сторону откровенной реакции, напуганный польским восстанием и ростом революционного движения в России. Надежды общества на «царя-Освободителя» сменились глубоким разочарованием. Репрессии против оппозиционных журналов, расправа с Чернышевским, свирепое и кровавое подавление польского восстания 1863–1864 годов, ограбление крестьян при проведении реформы, постоянное ограничение судов и земств спровоцировали рост революционного движения в стране и закончились казнью Александра II по приговору «Народной Воли» I марта 1881 года.
А сын и наследник Александра II Александр III окончательно встал на путь реакции, русского национализма, «контрреформ», не допуская никаких «вольностей» и стремясь по совету своего воспитателя Константина Победоносцева «подморозить Россию». Последняя и наиболее значительная в XIX веке: «революции сверху» в России завершилась.
6.2.6. Русско-турецкая война 1877–1878 годов
Последняя в длинной череде русско-турецких войн, длившаяся десять месяцев, началась вопреки желанию царской власти под давлением международных обстоятельств и при горячем сочувствии русского общества. В 70-ые годы ХIХ века «больной человек» (как часто называли Османскую Империю с легкой руки Николая I), казалось, находился при смерти. Социальная отсталость, политические и межэтнические конфликты увлекали Турцию к гибели. В 1876 году в Стамбуле сменились три султана, одного из которых объявили сумасшедшим, а другого, по выражению турецких остряков, «покончили самоубийством». В эти годы даже Британская Империя, ранее охранявшая территориальную целостность Турции от других стран (прежде всего, от России), решила перейти к ее частичному расчленению и захвату кусков ее территории (нацеливаясь на Египет). Однако Австро-Венгрия принципиально выступала против освобождения славян из-под турецкого ига, так как опасалась усиления позиций России на Балканах и справедливо полагала, что освобождение славян «турецких» повлечет за собой освобождение и славян «австрийских». Россия на протяжении полутора веков искусно создавала и культивировала на Балканах свой образ – образ защитника интересов «единоверцев» и неустанно стремилась к овладению Константинополем и проливами, связывающими Черное и Средиземное моря. По словам выдающегося современного историка Н.А. Троицкого: «Внешнеполитической задачей № 1 для царизма… было восстановить и упрочить свой международный престиж, пошатнувшийся после поражения в Крымской войне, и тем самым отвлечь внимание россиян от внутренних неурядиц, возвыситься в их глазах, опереться на них для дальнейшей борьбы с народнической крамолой».
В 1875–1876 годах «восточный вопрос» (вопрос о дележе наследства разваливающейся Османской Империи) – ключевой вопрос мировой политики Х1Х века – привёл к новому взрыву на Балканах, надолго ставших «пороховым погребом Европы». В Боснии, Герцеговине, а чуть позже и в Болгарии – турецких провинциях, населенных преимущественно христианами, вспыхнуло национально-освободительное восстание, вызванное притеснениями со стороны османской администрации (христиане были обложены тяжелыми податями, им запрещалось владеть землей). Турецкие власти жестоко подавили восстание, устроив массовые побоища христиан. В одной Болгарии были перебиты 30 тысяч человек обоего пола (включая стариков и детей) и были сожжены 300 селений. В качестве ударной силы турецких карателей нередко использовались отряды исполненных религиозного фанатизма башибузуков – кавказских горцев, недавно бежавших на Балканы со своей родины от российских захватчиков. Зверства русских солдат на Кавказе отозвались зверствами против болгар на Балканах. На стороне восставших, против турок выступили полунезависимые от Стамбула княжества Черногория и Сербия, летом 1876 года объявившие войну огромной, но слабеющей Османской Империи. Однако силы были все же слишком неравны: турки брали верх.
Известия о зверствах турецких карателей будоражили европейское общественное мнение, а в России вызвали взрыв негодования и сочувствия к «братьям-славянам». В России все слои образованного общества жаждали войны с Турцией: реакционеры ждали от нее имперских приращений и сплочения народа вокруг трона; либералы рассчитывали на рост освободительных настроений в России, ведущий к дарованию стране конституции; революционеры-народники воспринимали движение на Балканах как «настоящую социально-революционную борьбу» и полагали, что освободительная война оживит политическое самосознание нации и приведет к крушению царизма. Общество требовало от Александра II вступить в войну – помочь «единоверцам» свергнуть турецкий гнет, отомстить туркам за их зверства, отплатить за позор Крымской войны, порвать стратегический союз с Австро-Венгрией – «врагом славянства». В обществе царили шапкозакидательские настроения: казалось, что Турция мгновенно развалится при первом ударе (о чем сообщал и граф Игнатьев, российский посол в Стамбуле).
По словам историка начала ХХ века А.А. Корнилова: «Александр Николаевич с неудовольствием видел, что благодаря той агитации, которая по этому вопросу поднята была славянофилами и которая весьма сильно влияла тогда на общественное мнение страны и очень чутко воспринималась и за границей, он как будто представлялся обойденным и опережённым этим общественным мнением страны и уже не являлся, таким образом, в глазах Европы, истинным представителем и вождем своего народа». Впервые самодержавие стояло перед реальной опасностью – упустить инициативу в формировании внешней политики России и отдать ее обществу (подобно тому, как лишь поспешные «великие реформы» 1860-ых – 1870-ых годов позволили самодержавию удержать за собой инициативу в политике внутренней). Это, по словам А.А. Корнилова, «отразилось и на настроении самого императора Александра, который увидел себя в значительной мере вынужденным, в видах сохранения положения истинного вождя нации в глазах всего мира, более решительно действовать в защиту славян… Под влиянием общественного мнения, которое сильно было настроено в пользу войны после болгарских ужасов, император Александр всё-таки решился воевать».
И в самом деле, традиционно экспансионистская политика России на Балканах, стремление самодержавия поживиться за счет гибнущей Османской Империи и ослабить недовольство государством внутри страны, требовали военного вмешательства. Александр II из дипломатических соображений не одобрил план взятия Константинополя, официально дал гарантии Британской империи в том, что русские войска не войдут во «Второй Рим» и публично заявил: «Никакие присоединения земель Турции не входят в политику России». (Разумеется, государь лукавил. Когда главнокомандующий русской армией явился к императору за инструкциями перед началом войны, он услышал единственное слово: «Константинополь»).
Однако Александр II медлил: он осознавал, что казна России совершенно пуста (и что война будет для неё непосильным бременем), что Черноморский флот всё ещё не воссоздан, что армия находится только в самом начале всеобъемлющих реформ (лишь в 1874 году рекрутчина была заменена всеобщей воинской повинностью). Да и панический страх повторения кошмара Крымской войны, возможная перспектива оказаться один на один против всей Европы, давали о себе знать. Перед Александром II маячила вполне реальная перспектива создания Австро-Венгрией, Турцией и Британией коалиции, направленной против России.
В те дни сотни русских добровольцев, в том числе, из среды народников и славянофилов, хлынули на Балканы. По всей стране создавались «славянские комитеты» для отправки добровольцев и сбора пожертвований в помощь восставшим. Завоеватель Ташкента, русский генерал М. Черняев (прославившийся жестокими расправами с жителями Средней Азии) возглавил армию Сербии. Знаменитые врачи – Н.В. Склифосовский, Н.И. Пирогов и С.П. Боткин, писатели В.М. Гаршин и Г.И. Успенский, художники В.Д. Поленов и Е.К. Маковский, революционеры С.М. Кравчинский, А.П. Корба, Д.А. Клеменц и М.П. Сажин – отправились добровольцами воевать на Балканы, не дожидаясь вступления в войну Российской Империи. Льва Николаевича Толстого едва удалось отговорить от подобного же начинания. Один из вождей славянофилов – Иван Аксаков выступал с пламенными призывами: поддержать «братьев-христиан». Все в обществе – и в России, и на Балканах – воспринимали грядущую войну, как «освободительную» и приветствовали её начало. Писатель-«западник» И.С. Тургенев в романе «Накануне» воспел героического болгарина Инсарова – революционера и борца за освобождение своей родины. Болгарский поэт Иван Вазов в ноябре 1876 года писал:
«По всей Болгарии сейчас Одно лишь слово есть у нас, И стон один, и клич: Россия!»Со времён войны 1812 года в российском обществе не было такого невероятного энтузиазма и желания сразиться с неприятелем. Имперские интересы самодержавия на краткий миг совпали с освободительным и патриотическим порывом общественности; экспансионистские и освободительные замыслы причудливо переплелись между собой.
Между тем становилось ясно, что восстание на Балканах потоплено в крови, что небольшие и плохо вооруженные сербская и черногорская армии со дня на день будут уничтожены турками, и что всё это повлечет десятки тысяч новых жертв среди мирного населения и потерю лица самодержавным режимом. После того, как сербская армия была разгромлена, князь Милан обратился к царю с просьбой о помощи. И империалистические интересы Петербурга, и соображения международного престижа государства, и настойчивое давление со стороны общественности, не оставляли Александру II возможности далее медлить. Как только русским дипломатам удалось обеспечить нейтралитет Австро-Венгрии в войне (посулив отдать ей Боснию и Герцеговину и не допустить создания единого славянского государства на Балканах), 12 апреля 1877 года российский император объявил войну Османской Империи. Вслед за Россией в мае в войну против Турции вступило и небольшое самопровозглашенное королевство Румыния (возникшее из соединившихся Молдавии и Валахии). Россия искусно воспользовалась возмущением мировой общественности действиями турецких карателей: еще в марте 1877 года в Лондоне представители великих держав потребовали от Стамбула провести реформы в пользу своих христианских подданных, но султан отклонил эти требования. У русских генералов были развязаны руки – дело было за военным успехом, который казался скорым и несомненным.
Русские войска на Балканах (185 тысяч человек, которым противостояли 160 тысяч турок) возглавлял брат царя великий князь Николай Николаевич Романов («дядя Низи», как его называли в семье императора) – бездарный полководец, почти не имевший военного опыта: до этого он лишь однажды, много лет назад, присутствовал при одном сражении. Его за глаза называли «высочайшим идиотом», а когда он на старости лет сошёл с ума, многие удивлялись – как можно сойти с того, чего не имел. Русскую армию на втором – Кавказском фронте (108 тысяч человек против 100 тысяч турок) возглавлял другой брат царя, наместник Кавказа, великий князь Михаил Николаевич («дядя Михи»), о котором знающие люди говорили, что он тоже «совсем не орёл».
В целом, состояние русской армии было плачевным. Она не имела большого обученного резерва, обладала в основном устаревшим вооружением, находилась в состоянии реорганизации. В армии царили казнокрадство, показуха, недооценка противника, взяточничество, назначение командиров не по способностям, а по близости к «верхам». Командование корпусами раздавалось великим князьям – в надежде на лёгкие победы, призванные упрочить шатающийся авторитет династии Романовых. При штабе армии Николая Николаевича находился и сам государь. Подавляющая часть генералов была дряхлыми бездарными немцами «николаевской школы» – консервативными и пассивными, практиковавшими военное искусство начала Х1Х века: палочную дисциплину, лобовые атаки, наступление парадным шагом и сомкнутыми колоннами.
Исход войны ложился на плечи солдат – с их выносливостью и стойкостью. Врач С.П. Боткин, находившийся при армии, так описывал свои впечатления: «Ведь надо ближе посмотреть на русского солдата, чтобы со злобой относиться к тем, которые не умеют руководить им. Ты видишь в нём и силу, и смысл, и покорность. Всякая неудача должна позором ложиться на тех, которые не сумели пользоваться этой силой; вглядываясь в наших военных, особенно старших, так редко встречаешь человека со специальными сведениями, любящего свое постоянное дело».
Общий уровень генералитета России был таков, что талантливый военный министр Д.А. Милютин записал перед войной в своём дневнике: «Остается одна надежда на то, что мы имеем против себя турок, предводимых ещё более бездарными вождями». (Эта надежда в целом оправдалась, за исключением одного замечательного турецкого генерала – Османа-паши.) А начальник Генерального Штаба России Н.Н. Обручев в феврале 1877 года писал императору: «Война в подобных обстоятельствах была бы поистине великим для нас бедствием». Резюмируя, А.А. Корнилов отмечает: «На самом деле оказалось, что у нас было не только мало войска, но и чрезвычайно дурно был выбран штаб армии,» что привело к разброду и дезорганизации в управлении армией, к сбоям в подвозе снаряжения и обмундирования.
Катастрофически низкий уровень русской армии лишь отчасти компенсировали общественный энтузиазм, героизм болгарских ополченцев, сражавшихся в русских войсках, и несколько талантливых генералов – И.В. Гурко, М.Д. Скобелев – занимавших второстепенные посты и мало влиявших на принятие решений. На этой войне огромную славу приобрёл Михаил Дмитриевич Скобелев, которого сравнивали с Суворовым и называли «белым генералом», поскольку он всегда появлялся в самых опасных местах на белом коне, в белом кителе и белой фуражке. Скобелев был самым ярким и популярным генералом России второй половины ХIХ века – человеком талантливым, воинственным, отважным до безумия, склонным к авантюризму и жестокости. (Например, в 1873 году, при завоевании Средней Азии он прославился тем, что из любви к славе и военному искусству, предпринял штурм… сдавшейся русским Хивы.).
Тургенев называл его «нашим Ахиллесом». Скобелев был замечен в политическом фрондерстве. Солдаты боготворили его и считали неуязвимым, «заговорённым» от пуль врага.
Турецкая армия была хорошо вооружена (современным английским оружием), но подготовлена была даже ещё слабее, чем русская. Офицерский корпус её в основном был неграмотным, а генералы враждовали между собой. Она была нацелена на ведение оборонительных действий в сильных крепостях. Турки рассчитывали на английскую помощь и надеялись измотать русские войска в затяжных боях. Война была задумана русскими генералами как наступательная и быстрая – в расчёте на один месяц. Но чудовищная организация планирования и снабжения армии сделали эту войну довольно затяжной и привели к десяткам тысяч напрасных жертв.
Война 1877–1878 годов была первой, на которую были допущены журналисты (русские и зарубежные). Таким образом, официальные донесения отныне были не единственными источниками информации о ходе военных действий. Всю войну прошёл и правдиво запечатлел на своих картинах и выдающийся художник-баталист В.В. Верещагин.
На Кавказском фронте, несмотря на начавшееся в тылу русских войск восстание горских народов, военные действия разворачивались довольно успешно для России. В мае 1877 года была взята крепость Ардаган, затем крепости Эрзерум и Баязет. Наконец, 6 ноября 1877 года ночным штурмом под руководством генерала М.Т. Лорис-Меликова, русские взяли почти неприступную крепость Карс. Однако на главном – Балканском театре военных действий, события разворачивались более драматично из-за несогласованности действий и бездарности русского командования.
15 июня 1877 года русская армия переправилась через Дунай и была восторженно встречена болгарским населением. Болгарские добровольные дружины вливались в состав русских корпусов. Стремительным броском на юг отряды русских под командованием генерала Гурко завладели проходами через Балканские горы и вышли в Южную Болгарию. Особое значение имел Шипкинский перевал, связывающий Южную и Северную Болгарию и открывавший кратчайший путь на Адрианополь. Однако передовые части русских войск были отброшены из Южной Болгарии турецкой армией Сулеймана-паши и, атакованные на Шипке, не были поддержаны своими резервами. Русские корпуса «заблудились» в Северной Болгарии, потеряли драгоценное время и упустили инициативу из своих рук. 7 июля лучшая тридцатитысячная турецкая армия во главе с замечательным генералом Османом-пашой начала марш-бросок от границы с Сербией и заняла сильно укрепленную крепость Плевну в Северной Болгарии, угрожая фланговым ударом русским частям и отвлекая на себя их главные силы. Лишь соперничество Сулейман-паши с Османом-пашой спасло русские армии от полного разгрома: вместо того, чтобы поспешить на север через другие перевалы в горах, Сулейман-паша бездействовал и лишь вновь и вновь атаковал Шипку. С августа начались жесточайшие бои за Шипку, причём русским помогала неприступность их позиций, а туркам – пятикратный численный перевес. Защитники перевала отбивали до 14 атак ежедневно. Потом ударили холода. Подвоз боеприпасов, продовольствия и обмундирования на Шипку шёл с перебоями и задержками. «На Шипке всё спокойно», – привычно рапортовали в Петербург генералы, в то время как в день русская армия теряла здесь до 400 человек обмороженными. Всего за сентябрь-декабрь 1877 года русские и болгары потеряли на Шипке около 10 тысяч человек погибшими от морозов, болезней и голода.
В то время как армия Сулейман-паши вновь и вновь безуспешно атаковала позиции русских и болгар на Шипкинском перевале, основные силы русской армии надолго застряли под Плевной. Здесь сосредоточилось более 100 тысяч русских и 35 тысяч румынских солдат. В ходе трех безуспешных и бездарно организованных штурмов крепости пало более 40 тысяч человек со стороны осаждающих (и 20 тысяч – осаждённых). Из Санкт-Петербурга под Плевну привезли всю гвардию – единственную воинскую часть в России, которую, как оказалось, можно было легко мобилизовать и перебросить на театр военных действий.
Третий – самый ужасный штурм Плевны был специально приурочен к 30 августа (11 сентября) – дню именин Александра II, наблюдавшего за штурмом. Несмотря на троекратное превосходство русских и румынских войск и трехдневную артподготовку, и на этот раз атакующим не удалось сломить мужество турецких защитников Плевны. И этот «именинный» – самый кровопролитный штурм Плевны – закончился для русских войск позором и огромными потерями (13 тысяч павших), повергнув русский генералитет в растерянность и уныние. Солдат вновь и вновь по старинке – сомкнутыми колоннами бросали в безуспешные лобовые атаки на турецкие редуты – и они покорно гибли тысячами. Частичного успеха сумел добиться лишь отряд бесстрашного генерала Скобелева, занявший один из турецких редутов, но эта атака не была поддержана русскими резервами. Другие генералы завидовали Скобелеву и не желали ему победы. «У нас только один Скобелев и умеет водить войска на штурм», – констатировал в дневнике офицер генерального штаба М. Газенкампф.
«Именинный пирог из начинки людской Брат подносит державному брату», —Так автор «Дубинушки» А.А. Ольхин подвёл итог этому кошмарному штурму. Три неудачных штурма Плевны неожиданно затянули войну, на пять месяцев приковали к этой крепости почти всю армию России, вызвали ропот внутри страны и способствовали объединению Британии и Австро-Венгрии в желании противостоять Петербургу. По словам английского историка А. Тэйлора: «Плевна продлила жизнь Османской Империи на 40 лет».
Отвергнув панические предложения ряда военачальников отойти за Дунай, русское командование перешло от штурмов крепости к её систематической блокаде. Блокаду возглавил вызванный из столицы инженер-генерал Э.И. Тотлебен, герой осады Севастополя. Турки были отрезаны от подвоза продовольствия и подхода подкреплений. Голод заставил Османа-пашу решиться на прорыв. Безуспешно! Турки были отбиты, а их славный главнокомандующий ранен. 28 ноября (10 декабря) Плевна наконец сдалась: в плен к русским попали 43 тысячи человек (из них более двух тысяч офицеров) и самый талантливый турецкий полководец. Лучшая турецкая армия была уничтожена.
Падение Плевны означало перелом в ходе войны и позволяло освободить главные силы русской армии (100 тысяч бойцов) для нового наступления. Сербия возобновила военные действия. Было решено не дожидаясь весны идти через Балканские горы – чтобы поднять авторитет Российской Империи, подавить оппозиционные протесты внутри России и не дать среагировать правительствам Англии и Австро-Венгрии. 13 декабря корпус генерала Иосифа Владимировича Гурко начал поход на Софию по крутым склонам Балкан. Метель, мороз, крутые тропы мешали движению, а болгары всячески помогали: выступали в качестве проводников, разведчиков, снабжали армию продовольствием. Генералу Гурко однажды сообщили, что артиллерию нельзя поднять на перевал даже на руках. Гурко приказал: «Втащить зубами!» И втащили.
23 декабря София была занята русскими частями. А 27–28 декабря в боях у Шипки и Шейново была разгром лена и сдалась двадцатитысячная турецкая армия Вессель-паши (здесь снова отличился «белый генерал» Скобелев). Трехдневное сражение к югу от Филиппополя (ныне Пловдив) завершило войну. Турецкие вооруженные силы перестали существовать. 8 (20) января 1878 года армия Скобелева заняла Адрианополь и вплотную подошла к Стамбулу. Никогда еще Петербургская Империя не была так близка к осуществлению своей самой вожделенной цели – захвату Константинополя и проливов. Но, заняв местечко Сан-Стефано в двенадцати верстах от Константинополя, русская армия не решалась вступить в город, справедливо опасаясь международных осложнений. Английский флот вошел в Мраморное море, Австро-Венгрия провела мобилизацию войск в Карпатах. В январе 1878 года британская королева Виктория телеграфировала Александру II с требованием остановиться и заключить перемирие с Турцией. Замаячила перспектива новой войны России с Англией и Австро-Венгрией. Однако Османская Империя, совершенно обессиленная, сдалась раньше.
19 февраля (3 марта) 1878 года – в день рождения Александра II и в годовщину освобождения крестьян в России, в Сан-Стефано был подписан прелиминарный (предварительный) мирный договор между Россией и Турцией. (В ходе этой войны ярко проявилась характерная склонность русских генералов и дипломатов приурочивать какие-либо крупные и важные события к «датам» – официальным праздникам, связанным с августейшей фамилией. Так Плевну хотели взять (но не взяли) специально к императорским именинам, а Сан-Стефанское перемирие заключили специально ко дню рождения Александра II).
По условиям перемирия, Болгария становилась (вместе с Македонией в её составе) автономным княжеством с обширной территорией, собственной конституцией и вассальными отношениями к Стамбулу (которому она должна была уплачивать дань). При этом конституция должна быть выработана под контролем русской военной администрации, а в Болгарии размещались 50 тысяч русских солдат. Сербия, Черногория и Румыния получали полную независимость от Османской Империи и значительные территориальные приращения, Босния и Герцеговина обретали автономию. Россия получала Южную Бесарабию (с устьем Дуная), Карскую область на Кавказе и крепости Батум, Ардаган и Баязет. А Румыния присоединяла Добруджу.
После подписания Сан-Стефанского перемирия власти России ликовали, раздавали награды за бранные подвиги – по преимуществу, родственникам государя. Так, и «дядя Низи», и «дядя Михи» – оба стали фельдмаршалами. Но радость Петербурга оказалась преждевременной.
Англия и Австро-Венгрия, угрожая России войной, категорически отказались признать условия Сан-Стефанского перемирия, справедливо видя в Болгарском княжестве русский форпост на Балканах. Судьбу Турции, по их мнению, должны были решать все великие державы совместно. Во избежание новой войны между Петербургом, Веной и Лондоном, Отто фон Бисмарк предложил сыграть роль «честного маклера» и собрать в Берлине конгресс великих держав для обсуждения «восточного вопроса».
Летом 1878 года в Берлине состоялся международный конгресс, на котором доминировали такие великие дипломаты ХIХ века, как премьер-министр Англии Б. Дизраэли и министр иностранных дел Австро-Венгрии Д. Андраши – при поддержке «железного канцлера» Германии О. Бисмарка, председательствовавшего на заседаниях. Русскую делегацию возглавлял восьмидесятилетний дряхлый канцлер Горчаков. Конгресс продемонстрировал слабость царской дипломатии и международную изоляцию России, стремление стран Запада вытеснить Россию с Балкан, остановив ее экспансию. Всё это привело Петербургскую Империю к дипломатической катастрофе.
13 июля 1878 года был подписан исторический Берлинский трактат. По нему территория Болгарии была втрое сокращена (а южная её часть была оставлена – в качестве «Восточной Румелии» – автономной провинции Османской Империи). Трактат подтверждал независимость Сербии, Румынии и Черногории, но резко урезал территорию Черногории. Сербии отдали часть Болгарии – чтобы рассорить эти государства (что вполне удалось). Были сокращены размеры территориальных захватов России в Закавказье (Баязет снова возвращался Турции). Австро-Венгрия оккупировала своими войсками Боснию и Герцеговину, а Великобритания – за «защиту турецких интересов» получила остров Крит.
В итоге, в выигрыше от Берлинского конгресса оказались Англия – как держава, контролирующая Восточное Средиземноморье, и Австро-Венгрия – как держава, отныне доминирующая на Балканах (к ярости русского общества, славянских народов Балкан и, разумеется, ограбленной Турции). Таким образом, основные выгоды от этого частичного раздела Турции получили Вена и Лондон, а России было дано понять, что её место в мировой политике – место военного «жандарма Восточной Европы» и государства, полузависимого от великих капиталистических держав Запада. Канцлер А.М. Горчаков написал в докладе царю: «Берлинский конгресс есть самая черная страница в моей служебной карьере!» Александр II пометил на докладе: «И моей тоже».
По справедливой оценке Н.А. Троицкого, «русско-турецкая война оказалась для России хотя и выигранной, но неудачной. Царизм так и не сумел выйти к проливам, и влияние России на Балканах не стало сильнее, поскольку Берлинский конгресс Болгарию разделил, Черногорию обкорнал, Боснию и Герцеговину передал Австро-Венгрии, да еще Сербию с Болгарией перессорил. Уступки российской дипломатии в Берлине засвидетельствовали военно-политическую ущербность царизма и, как ни парадоксально это выглядело после выигранной войны, ослабление его авторитета на международной арене». Формально выиграв войну, Россия вышла из неё ослабленной, потерявшей 200 тысяч человек погибшими, и была вынуждена подчиниться нажиму мирового лидера – Англии. «Полувыигранная» война 1877–1878 годов, как и проигранная «вчистую» Крымская война, обнажила основное противоречие созданной Петром Первым Империи: её военная мощь и роль «жандарма» Восточной Европы парадоксально сочеталась с её растущей социально-экономической отсталостью и международной зависимостью от великих держав Европы.
Последствия Берлинского конгресса (и Берлинского трактата) были важными и многообразными: определив на треть века раздел Европы, посеяв новые семена ненависти на Балканах, заложив предпосылки противоречий, непосредственно ведущих к Первой мировой войне, вызвав взрыв недовольства и подъём революционного движения в России.
Берлинский конгресс резко обострил русско-австрийские противоречия на Балканах, оттолкнул русских императоров от традиционного союзника – Берлина и заставил искать помощи во Франции (началось складывание коалиций, сразившихся в Первой мировой войне). Австро-Венгрия не только захватила Боснию и Герцеговину, но и стала доминировать в Румынии. В Болгарии, которую русские войска освободили от турок, но остались сами и начали вовсю хозяйничать, восторг быстро сменился недовольством новыми господами. Ещё во время войны генерал Тотлебен, командовавший осаждавшими Плевну русскими войсками, проницательно писал: «Освобождение христиан – химера… Их задушевное желание, чтобы их освободители поскорее покинули страну». Так и случилось: болгары, недовольные наглым русским диктатом, вскоре прогнали пропетербургского правителя и обратились к Германии – за государем и внешнеполитическим патронажем.
Война ярко показала коррумпированность, бездарность, неповоротливость, бездушие самодержавного режима, половинчатость «великих реформ», техническую отсталость и международную зависимость России, неспособность большинства генералов и дипломатов решать стоящие перед страной проблемы. Она дала мощный толчок к развитию революционного движения. Либералы спрашивали: почему на русских штыках в Болгарию принесена конституция, а между тем царь не решается даровать конституцию самой России? По словам известного либерала И.И. Петрункевича, россияне «вчерашних рабов сделали гражданами, а сами вернулись домой по-прежнему рабами». История 1812 года и последующих заграничных походов русской армии повторялась: разочарование в самодержавии, обманутые надежды на освобождение России, осознание таких неискоренимых пороков русской бюрократии, как некомпетентность и казнокрадство… По свидетельству А.А. Корнилова, позорный для России исход Берлинского конгресса «вместе с тем способом ведения войны, который обусловил ряд неудач, а также и воровством, которое обнаружилось и на этот раз при поставке припасов… все это создало чрезвычайное негодование и обострение настроения в широких кругах русского общества. Надо сказать, что негодовали тогда не только радикально и революционно настроенные слои, но даже самые лояльные круги общества со славянофилами во главе». Иван Аксаков в своем публичном выступлении на заседании «Славянского общества» обрушился на унизительное поведение российских дипломатов в Берлине, он дерзнул даже подвергнуть резкой критике самодержавную власть «за беззаконие и неправду» (за что, не взирая на почтенный возраст и заслуги, был выслан императором из Москвы). Все спрашивали: кто виноват в чудовищных потерях солдат, павших во время бессмысленного «именинного» штурма Плевны или замерзших на Шипке из-за казнокрадства и скверной работы интендантов? Всем было ясно, что победа была одержана (такой непомерной ценой) не потому, что русские войска сражались искусно и умело, а потому, что турецкие войска сражались ещё хуже. Общество ещё было готово как-то терпеть гнёт со стороны победоносного самодержавия, но самодержавие, которое столь неумело ведёт войну и не способно воспользоваться её плодами, терпеть было совсем невыносимо.
Как отмечает Н.А. Троицкий: «подобно Крымской войне, русско-турецкая война 1877–1878 годов сыграла роль политического катализатора, ускорив назревание в России революционной ситуации». Подобное случится и позднее – в ходе русско-японской войны и Первой Мировой войны.
6.3. Эпоха контрреформ (1881–1904)
Император Александр III, сын казненного народовольцами 1 марта 1881 года Александра II, правивший Россией в 1881–1894 годах, получил от придворных льстивое прозвище «Царя-Миротворца». И в самом деле, за 13 лет его правления Россия ни разу не воевала (исключительная редкость!), а внутри страны было достигнуто «умиротворение». Однако, не решая накопившиеся проблемы, а загоняя их внутрь и подавляя любую общественную инициативу и оппозицию, Царь-Миротворец лишь, по удачному выражению марксиста Г.В. Плеханова, «сеял ветер». «Пожать бурю» пришлось уже его сыну и наследнику Николаю II, попытавшемуся было продолжить курс отца, но столкнувшемуся с революционными взрывами невероятной силы и ставшему последним российским самодержцем, расплатившимся за всё то, что Романовы 300 лет творили над Россией.
6.3.1. Смена курса
После казни Александра II и начавшейся в правящих кругах империи паники, будущий курс российского самодержавия, оказавшегося перед гамлетовским вопросом «быть или не быть?», во многом зависел от личности и убеждений нового государя. Тридцатипятилетний Александр III, неожиданно оказавшийся во главе огромной державы, был человеком неглупым, но весьма ограниченным, усидчивым, малообразованным, патриархально-консервативным, властным, экономным, осторожным, высоко ценившим семейные устои, основательным, склонным к выпивке (которая ускорила его смерть), грубым в выражениях и ненавидевшим интеллигентов, евреев и инородцев. Его огромная, неуклюжая и грубая фигура внушала подданным страх и почтение.
Известный юрист А.Ф. Кони именовал Александра III «бегемотом в эполетах». А, по словам военного министра Александра III генерала П.С. Ванновского, «это был Пётр со своей дубинкой… нет, это одна дубина без Великого Петра, чтобы быть точным». Новый государь был образцовым семьянином, скромным в быту, прямодушным, не любил интриганов и подхалимов. Обожавший царя и обязанный ему своей блестящей карьерой видный государственный деятель России С.Ю. Витте признавал, что тот был «ниже среднего ума, ниже средних способностей и ниже среднего образования», но имел «громадный, выдающийся ум сердца». Его ум был житейским, практическим – не умом стратега или политика. По словам Витте: «его гигантская фигура, представлявшая какого-то неповоротливого гиганта, с крайне добродушной физиономией и бесконечно добрыми глазами, внушала Европе, с одной стороны, как будто бы страх, а с другой – недоумение: что это такое? Все боялись, что если вдруг этот гигант да гаркнет».
В семье Александра считали тугодумом, которому править явно не по силам, и не готовили к царствованию (он внезапно для всех и себя стал наследником трона после смерти своего старшего брата), ласково называли «мопсом», «бычком» и «бульдогом». Читать книги он не любил, газет не читал вовсе и никаких интеллектуальных запросов не проявлял. Склонный к грубости, Александр в юности довел грубой бранью до самоубийства своего штабного офицера. Он был женат на датской принцессе Дагмаре (получившей в России имя Марии Федоровны). Главными пристрастиями его были семья и армия, любил он также играть на музыкальных инструментах, увлекался археологией, любил ловить рыбу и собирать картины. Немец по крови и воспитанию, женатый на датчанке, он всеми силами стремился быть «национальным» и «православным»: ел редьку, пил водку в больших количествах, поощрял в искусстве то, что считал «русским стилем» (на деле это был псевдорусский стиль) и считал себя главным выразителем русского духа, дарил монастырям иконы и любил церковные службы и военные парады.
Идеалом правителя для Александра III был отнюдь не реформатор-отец, а дед – Николай I. Подобно ему новый государь желал восстановить неограниченное самодержавие, стабильное и сословное, вернуть страну на «здравые» прежние исторические основания (остановив всякое течение жизни). Но, в отличие от Николая I, его внук не имел ни такой энергии, ни такого ума, ни таких административных талантов, ни стратегической идеи правления, больше руководствуясь пристрастиями и своими инстинктами ретрограда.
Убийство отца потрясло и напугало его. На протяжении полутора лет направление курса нового императора было ещё не вполне определившимся. Революционеры, казнившие Александра II, казались всемогущими, правительство было парализовано, и государь колебался между дальнейшими уступками «Народной Воле» (к чему его побуждали и либеральные чиновники во главе с главой правительства М.Т. Лорис-Меликовым) и жёстким поворотом к всеобъемлющей реакции (к чему его активно побуждали и личные склонности, и давление со стороны его учителя и идейного наставника, обер-прокурора Святейшего Синода К.П. Победоносцева). Сама казнь Александра II стала мощным аргументом для сторонников реакции: «вот к чему приводят реформы!».
Первым делом Александр III сбежал из Санкт-Петербурга в Гатчину, опасаясь покушения и, напуганный, спрятался там во дворце, окружив его кольцами войск, конными разъездами и полицией и ожидая нового покушения, назначив регента на случай, если он также будет убит. Глашатаи реакции М.Н. Катков и К.П. Победоносцев в один голос с прискорбием констатировали «маразм власти». Вся страна была объявлена на осадном положении. Такого унижения и ужаса династия Романовых еще не знала. Победоносцев умолял царя в своих письмах запирать все двери перед сном, проверять мебель и звонки в своих покоях. По словам военного министра Д.А. Милютина, гатчинский «дворец представлял вид тюрьмы; а сам император превратил себя в гатчинского пленника». Повара, готовившие царю еду, назначались каждый день новые. Однажды напуганный император застрелил офицера своей охраны барона Рейтерна, при его входе спрятавшего руку за спину, – он вообразил, что тот желает бросить бомбу, тогда как барон всего лишь убрал за спину руку с папиросой.
При долгих поездках государя (на юг или за границу) за две недели до прохождения царского поезда вдоль рельсов цепью становились солдаты, которым было приказано стрелять во всякого, кто приблизится к железной дороге. При этом пускались сразу три царских поезда и никто не ведал – в каком из них едет император. (В этих операциях участвовало по триста-четыреста тысяч солдат.) Два года, опасаясь покушений, император правил некоронованным. Наконец в мае 1883 года он всё же решился отправиться на коронацию в Москву. Член Государственного Совета П.А. Валуев записал в своем дневнике по этому поводу: «Печальное впечатление производят расставленные вдоль всей дороги часовые. Слияние царя и народа! Обожаемый самодержец! А между тем он едет короноваться, тщательно скрывая день и час своего выезда и едет не иначе, как оцепив свой путь часовыми».
В это время возникает «Священная Дружина» – странная подпольная монархическая организация для противодействия революционерам и защиты особы государя. Её создали придворные. Она во многом по форме копировала (пародировала) революционные организации: распускала слухи, готовила покушения на видных революционеров, совершала провокации (создавая псевдореволюционные издания), развила бурную, суетливую, но, по неопытности в подобных делах, малоэффективную и бестолковую деятельность и только путалась под ногами у полиции. (В итоге, эта организация, названная М.Е. Салтыковым-Щедриным «Обществом взволнованных лоботрясов», так ничего великого и не совершив, была распущена по повелению императора). «Священная Дружина» вела с «Народной Волей» переговоры, прося её временно прекратить террор до коронации взамен на уступки со стороны властей.
10 марта 1881 года Исполнительный Комитет «Народной Воли» обратился к новому императору с письмом-ультиматумом, предлагая ему пойти на созыв Земского Собора представителей от русского народа, ввести политические свободы и объявить политическую амнистию, обещая взамен остановить террор. Разумеется, новый император не мог пойти на такое – это означало бы конец самодержавия, его самоубийство. Несмотря на призывы к милосердию и просьбы пощадить убийц его отца, обращённые к новому царю Львом Толстым и философом Владимиром Соловьевым, «первомартовцы» были осуждены и беспощадно повешены на Семёновском плацу в Петербурге 3 апреля 1881 года. Это была последняя публичная казнь в истории Российской Империи (и первая казнь женщины – Софьи Перовской – за политическое преступление). Подобно своему деду и кумиру Николаю Первому, Александр Третий ознаменовал начало своего правления пятью виселицами – многозначительное и символическое совпадение!
Террор народовольцев, напугав и дезорганизовав царский режим, однако, не привёл, как они надеялись, к всенародной революции, не привлек на их сторону крестьян и оттолкнул от них либералов. Самим же продолжать давление на власть и подкрепить свой ультиматум силой в тот решающий драматический момент у них уже не было сил. «Народная Воля» была обескровлена полицейскими репрессиями и провокациями. Героические попытки продолжать борьбу и восстановить «Народную Волю», не раз предпринимавшиеся группами отчаянной молодежи на протяжении всех 1880-ых годов, не увенчались успехом. В обществе воцарилась апатия, тысячи революционеров были посажены в крепость, сосланы в Сибирь или бежали за границу, десятки были казнены. Реакция торжествовала. Бессилие революционеров и молчание народа становились очевидными для всех, даже для самодержавия.
После казни народовольцами Александра II случился не взрыв народных выступлений против помещиков и правительства, а… волна еврейских погромов. По данным полиции, в России произошло 259 случаев еврейских погромов: крестьяне считали, что «господа» и «жиды» погубили государя, желавшего, вслед за «волей», дать народу «землю».
Все эти обстоятельства обусловили победу в правящих кругах группировки, решительно оттеснившей либеральных чиновников и взявшей курс на реакцию и сворачивание даже тех куцых, жалких и непоследовательных реформ, которые были проведены в начале царствования Александра II. В конце своей жизни «Царь-Освободитель» колебался между курсом на жёсткую реакцию и на лавирование с целью привлечения либеральной части общества, чтобы отсечь от него революционеров, пользовавшихся массовой поддержкой в среде интеллигенции. Ещё 20 ноября 1878 года он обратился к представителям сословий, собравшимся в Москве, со следующими словами: «Я надеюсь на ваше содействие, чтобы остановить заблуждающуюся молодежь на том пагубном пути, на который люди неблагонадежные стараются ее увлечь». Уже с середины 1860-ых годов, после польского восстания и выстрела Дмитрия Каракозова (то есть последние 15 лет правления Александра II) наметился поворот от умеренных реформ к умеренной реакции: ограничение свободы печати, гонения на новые суды, земства и на университеты, русификация Польши.
Однако, напуганный покушениями революционеров на его жизнь, Александр II в конце царствования совмещал драконовские полицейские репрессии против революционеров с туманными обещаниями, адресованными либеральной публике. Он вручил неограниченную власть над страной министру внутренних дел генералу Михаилу Тариэловичу Лорис-Меликову. Лорис-Меликов полагал, что «призвание общества к участию в разработке необходимых для настоящего времени мероприятий есть именно то средство, какое и полезно, и необходимо для дальнейшей борьбы с крамолою». Одновременно он считал, что «для России немыслимы никакие организации народного представительства в формах, заимствованных с Запада; формы эти не только чужды русскому народу, но могли бы даже поколебать все основные его политические воззрения и внести в них полную смуту, последствия коей трудно и представить». Отвергая предлагаемое славянофилами восстановление Земского Собора по образцу ХVII века, Лорис-Меликов убедил Александра II создать (для успокоения общества) некий полуфиктивный совещательный (не законодательный!) орган, в который включить «представителей от земства и некоторых значительнейших городов». Учитывая то, что члены этого органа назначались бы царем, а полномочия его были бы чисто консультативными, разумеется, не приходится говорить ни о каком парламентаризме или конституционализме (как нередко полагают, говоря даже о «конституции Лорис-Меликова»). Лорис-Меликов особо подчеркивал: «Работа не только подготовительных, но и общих комиссий должна была иметь значение исключительно совещательное и ни в чем не изменяющее существующие ныне порядки возбуждения законодательных вопросов… Самый состав общей комиссии будет каждый раз предуказываем Высочайшею волею, причём комиссия будет получать право заниматься лишь предметами, предоставленными ее рассмотрению». Но и эти более чем скромные мероприятия, санкционированные Александром II, не были осуществлены после восшествия на престол отъявленного ретрограда Александра III.
Лорис-Меликов и его группировка либеральных чиновников, преобладавшая в правительстве, полагал, что необходимо связать высшую власть с обществом через отобранных царем представителей земств и городских дум, что даст императору канал «обратной связи» с общественностью – он будет знать об её нуждах и чаяниях и сможет разделять с представителями земств и городов часть ответственности за особо «непопулярные меры» (вроде введения новых налогов). Таким образом государство, не отказываясь от привычного диктата в отношении населения, одновременно обретет новую прочную опору для своих действий.
По словам министра финансов А.А. Абазы, трон не может опираться исключительно на миллион штыков и на армию чиновников. За время своего недолгого правления Россией, Лорис-Меликов не только вешал и ссылал революционеров (что было всё же главным направлением его кипучей деятельности). Он также убрал с поста министра народного просвещения графа Д.А. Толстого (крайнего реакционера, дружно ненавидимого всеми), с помпой упразднил зловещее Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии (без помпы передав его функции Департаменту полиции при Министерстве внутренних дел), пообещал расширить права староверов, заняться решением рабочего вопроса, слегка смягчил гонения на прессу (даже дозволив ей обсуждать кое-какие вопросы общественной жизни) и старался зондировать общественное мнение.
В марте-апреле 1881 года Весы истории колебались: будут ли продолжены либеральные реформы, будут ли привлечены к обсуждению этих реформ представители земств, будет ли осуществлена некоторая децентрализация управления Россией – или же произойдет возвращение к дореформенным временам Николая I: с всесилием жандармов и чиновников, с усилением бюрократизации и централизации власти, с тотальным гонением государства на всякое проявление общественной активности. После двух месяцев колебаний, вызванных растерянностью и страхом перед «Народной Волей», Александр III однозначно выбрал второй путь – курс, продливший существование самодержавия на четверть века и подготовивший страшный социально-политический взрыв в начале ХХ века. Все традиции Российской Империи, настойчивые и пламенные призывы К.П. Победоносцева и личные пристрастия государя обусловили этот окончательный исторический выбор. Либеральную группировку бюрократов во главе с Лорис-Меликовым Александр считал виновной в гибели своего отца.
29 апреля неожиданно для всех был обнародован написанный по повелению Александра III К.П. Победоносцевым царский манифест под длинным названием: «О призыве всех верных подданных к служению верою и правдою Его Императорскому Величеству и Государству, к искоренению гнусной крамолы, к утверждению веры и нравственности, доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения, к водворению порядка и правды в действие учреждений России». В манифесте говорилось о «вере в силу и истину самодержавной власти, которую мы призваны утверждать и охранять от всяких на нее поползновений». Этот манифест подтверждал незыблемость самодержавия и прекращение любых реформ, курс государя на «попечение» об обществе, а не на совещание с ним. После его обнародования подали в отставку в знак протеста министры-либералы: министр внутренних дел М.Т. Лорис-Меликов, военный министр Д.А. Милютин, министр финансов А.А. Абаза. Свой пост оставил и решительный сторонник реформ, председатель Государственного Совета великий князь Константин Николаевич. С либерализмом в среде высшей бюрократии разом было покончено. Лидерство К.П. Победоносцева в делах правления стало абсолютным и очевидным. Казнь революционеров-«первомартовцев», изгнание из правительства министров-либералов и сворачивание реформ Александра II открыло двадцатилетнюю эпоху жесточайшей реакции.
Период с мая 1881 года по май 1882 года оказался переходным – от реформ Александра II к контрреформам Александра III. Переходными фигурами, воплотившими в себе особенности этого недолгого периода, стали: новый глава Министерства внутренних дел, сторонник идей славянофильства, друг И.С. Аксакова, ловкий лжец, интриган и демагог граф Николай Павлович Игнатьев, а также новый министр финансов Н.Х. Бунге. Игнатьев, наряду с жесточайшими полицейскими репрессиями против революционеров, одновременно сократил размеры выкупных платежей с крестьян, отменил некоторые крестьянские недоимки, раздал множество обещаний обществу и, наконец, предложил к коронации Александра III созвать декоративный «Земский Собор» из четырёх тысяч человек, чтобы продемонстрировать единение царя и народа, заставить «замолкнуть все конституционные вожделения», посрамить революционеров, а также обсудить аграрный вопрос и меры по борьбе с крамолой. Однако этот проект категорически не понравился Победоносцеву, и он убедил Александра III 30 мая 1882 года заменить Игнатьева на посту министра внутренних дел крайним реакционером графом Дмитрием Андреевичем Толстым, дружно ненавидимым всем обществом.
6.3.2. Теоретики, вдохновители и глашатаи контрреформ
Если главным орудием наступившей правительственной реакции стал министр внутренних дел Д.А. Толстой, то ключевой фигурой нового царствования – теоретиком контрреформ, их пропагандистом и вдохновителем, человеком, имеющим огромное влияние на императора, стал Константин Петрович Победоносцев (1827–1907), фактически возглавивший и церковь, и полицию, и правительство, и придворные круги в эпоху Александра III и в первое десятилетие правления Николая II.
Победоносцев – сын профессора Московского университета, и сам был профессором правоведения в Московском университете в 1860–1865 годах. Он написал трёхтомный научный труд «Свод российских законов», был сенатором, членом Государственного Совета (с 1872 года), в 1860-ые годы преподавал право великим князьям и стал духовным наставником наследника трона Александра (позднее он также был наставником Николая II и идейным руководителем первых лет его правления). В 1880 году он был назначен обер-прокурором Святейшего Синода – главным чиновником в церкви. Свои теоретические взгляды Победоносцев изложил в многочисленных письмах к императору Александру III и в книге «Московский сборник» (1896 г.).
Константин Петрович любил поэзию А.А. Фета, был дружен с Достоевским и славянофилами, обладал обширной эрудицией, язвительным, желчным, злым, холодным и острым умом, продуманными политическими убеждениями. На фоне ничтожеств и серостей, окружающих нового императора, он являлся незаурядной, энергичной, сильной, целеустремленной и преданной трону личностью, что надолго сделало его очередным всесильным временщиком в Российской Империи. Он руководил царем, направлял его политику, менял министров, вмешивался в церковные и полицейские дела. По словам поэта Александра Блока:
«В те годы дальние, глухие, В умах царили сон и мгла. Победоносцев над Россией Простер совиные крыла.»И, словно злой чародей, зачаровал, усыпил страну беспробудным навязчивым тяжёлым сном на четверть века. А американский историк Ричард Пайпс полагает, что «в Победоносцеве, незримой руке за троном Александра III, консерватизм обрёл своего Великого Инквизитора».
В основе всех политических убеждений Победоносцева лежала глубокая ненависть к институтам западной представительной демократии и к реформам Александра II (за исключением отмены крепостного права, все остальные реформы он считал ошибками). Земства и суды он называл презрительно не иначе, как «опасными говорильнями», клином, вбитым между государем и подданными, учреждениями вредными и ненужными народу. Уже 6 марта 1881 года он писал императору: «Надо бы покончить разом, именно теперь, все разговоры о свободе печати, о своеволии судов, о представительном собрании». Выступая 8 марта 1881 года на заседании Государственного Совета перед государем и министрами, он назвал реформы предыдущего царствования «преступною ошибкою» и сделал патетический вывод: «Конец России!… Нам предлагают устроить говорильню» (то есть парламент). В своей программной статье «Великая ложь нашего времени» обер-прокурор Синода писал, что, как показывает западный опыт, конституция есть орудие интриг и несправедливости, а парламентское правление – «великая ложь»: «Одно из самых лживых политических начал есть начало народовластия, к сожалению, утвердившаяся со времен французской революции идея, что всякая власть исходит от народа и имеет основание в воле народной. Отсюда истекает теория парламентаризма, которая до сих пор вводит в заблуждение массу так называемой интеллигенции и проникла, к несчастью, в русские безумные головы». По мнению Победоносцева: «Организация партий и подкуп – вот два могучих средства, которые употребляются с таким успехом для орудования массой избирателей». Талантливо и, во многом, справедливо он обрушивался на всю систему представительной демократии, обвиняя её в продажности, коррумпированности, демагогии, манипуляциях и беспринципности.
Ненавидя демократию, Запад, конституционализм, парламентаризм, Победоносцев считал идеалом правления деловитое единообразие чиновников централизованного государства, насаждаемое путем строгой дисциплины, конформизма и муштры. Только «чистое» самодержавие образца Петра I и Николая I могло спасти Империю – а любые реформы лишь ослабляли и расшатывали её. Государство должно было заботиться о народе, воспитывать его, опекать и тотально регламентировать его жизнь. Остановить революцию можно лишь вернувшись к неограниченному самодержавию и полному восстановлению дворянских привилегий.
Лозунгом Победоносцева, ставшим девизом двадцати лет правления Романовых (1881–1904), были слова: «Россию необходимо подморозить!» А для этого нужно было уничтожить земства, адвокатуру, суды присяжных, свободную прессу, автономию университетов, светское народное образование, вернуть крестьян под «отеческое» управление дворян. Фанатичный, нетерпимый, умный, узкий в своих взглядах, Победоносцев ненавидел интеллигенцию и всякое инакомыслие – религиозное или политическое. Обер-прокурор Синода писал: «Государство признаёт одно вероисповедание из числа всех истинным вероисповеданием и одну церковь исключительно поддерживает и покровительствует, к предосуждению всех иных церквей и вероисповеданий». На старообрядцев, сектантов, лютеран, буддистов, иудеев, католиков, униатов он обрушил свирепые гонения.
Убеждённость, энергия, ораторский дар, искренний пафос, образованность Победоносцева производили большое впечатление на окружающих. Он пользовался абсолютным доверием двух государей. Однако, по справедливым словам С.Ю. Витте, Константин Петрович «страдал полным отсутствием положительно-жизненного творчества, он ко всему относился критически, а сам создать ничего не мог». То же самое полное отсутствие положительной программы и созидательного начала у Победоносцева (кроме желания «держать и не пущать» и «подморозить» страну) отмечают дружно и другие современники. Победоносцев утверждал: «А если воля и распоряжение перейдут от правительства в какое бы то ни было народное собрание, – это будет революция, гибель правительства и гибель России! Если будет конституция и совещательный орган – Россия погибнет!» Он настоял на казни «первомартовцев», на подтверждении Александром III манифестом нерушимости самодержавной власти на удалении либералов из правительства. Однако, что дальше делать Империи, как позитивно воспользоваться стратегической инициативой, он не знал. Реакция конца ХIХ столетия не была реакцией Николая I – последовательной, наступательной, жёсткой – это была полуреакция, без идеи, без программы и решимости, стремящаяся лишь «подморозить», приостановить страну и опиравшейся на серых ничтожеств: чиновников и жандармов.
В Победоносцеве, оказавшемся во главе страны, было что-то желчное, злое, безнадёжное, бесплодное, обречённое. Он не верил, что в людях может быть хоть что-то хорошее – и потому их надо всегда держать под контролем. По словам графа С.Г. Строганова: «Он всегда отлично знает, что не надо, но никогда не знает, что надо». Да, по Победоносцеву, следовало прекратить реформы, задавить оппозицию, уничтожить интеллигенцию (утратившую связь с народной традицией), не допустить парламента и конституции, уничтожить земства, городские думы, новый суд и независимую прессу, поставить все общество под контроль церкви и полиции (неотделимых друг от друга и неуловимо переходящих друг в друга). Но что дальше? Ведь ни вернуть в полном объеме крепостное право, ни восстановить рекрутчину, ни полностью изолироваться от Европы было уже невозможно. А значит, контрреформы могли быть лишь частичными и обречёнными только на временный успех.
Видный реакционер, ультраправый журналист князь Мещерский в своих воспоминаниях писал о том, что, «как в течение более 20-летних дружеских отношений с Победоносцевым мне ни разу не пришлось услышать от него положительного указания в какой-либо области, что надо сделать взамен того, что он порицает, так не приходилось слышать прямо и просто сказанного хорошего отзыва о человеке». Другой выдающийся консервативный деятель, философ и публицист К.Н. Леонтьев хорошо передал сущность идей и личности всесильного временщика: «Он как мороз; препятствует дальнейшему гниению, но расти при нем ничто не будет. Он не только не творец, но даже не реакционер, не восстановитель, не реставратор, он только консерватор в самом тесном смысле слова: мороз… сторож, безвоздушная гробница, старая «невинная» девушка и больше ничего!» Это признал в конце концов и сам император Александр III, сказавший в конце жизни, что «Победоносцев отличный критик, но сам никогда ничего создать не может». Не великая идея, но лишь великая сила инерции и насилия отныне сдерживала Империю от краха, подготавливая будущий грандиозный социальный взрыв.
Глава церкви прививал прихожанам не духовные начала христианства (любовь, свободу), но апатию, конформизм и циничный, лицемерный нигилизм. Будучи на словах «православным» и возглавляя церковное бюрократическое ведомство, Константин Петрович не знал ни духа, ни стиля православия, помыкал епископами, как лакеями, насаждал в духовных академиях немецкое рационалистическое богословие, превратил церковь в департамент полиции, вёл постоянную переписку с жандармами и всей своей деятельностью способствовал дальнейшему отчуждению народа и общества от казенной церкви. Чрезвычайно характерен для правления Победоносцева такой эпизод. Однажды попечитель одного из учебных заведений пожаловался Константину Петровичу на преподавателя-священника, который, по его мнению, был «безнравственным и неверующим». На что Победоносцев ответил ему: «Зато он политически благонадежен» и оставил священника на его месте. Он не столько занимался делами церкви, сколько делами полиции, экономикой, образованием, финансами, кадровыми вопросами – всем сразу.
Победоносцевской программой – программой двух царствований (Александра III и Николая II) стало «патриотическое здравомыслие»: никаких резких движений, никаких поворотов. «Русский дух» неизменен, статичен, свят– его надо хранить в целости, изолируя от тлетворного влияния Запада. Люди неискоренимо плохи, считали Победоносцев и другие консерваторы (в отличие от веривших в прогресс – социальный и этический – социалистов и либералов). Исправить человека невозможно – можно лишь сдерживать, посредством отеческой власти государя, негативные проявления изначально злой человеческой природы. Император – «отец», подданные – «дети», Россия – «семья», естественная иерархия сословий. Надо восстановить «истинно русские начала управления и чистоту русского духа».
Идеологами и глашатаями реакции, кроме самого Победоносцева, были видный журналист, талантливый публицист, издатель газеты «Московские ведомости» (ставшей главным «официозом») Михаил Никифорович Катков (некогда либерал, а затем ярый ретроград), философ и публицист Константин Николаевич Леонтьев, издатель журнала «Гражданин» (негласно субсидировавшегося царем) князь Владимир Петрович Мещерский, раскаявшийся революционер, главный теоретик и публицист «Народной Воли», ставший теоретиком монархического государства, Лев Александрович Тихомиров и видный славянофил публицист Иван Сергеевич Аксаков. Главным же проводником реакции в правительстве стал граф Дмитрий Андреевич Толстой – алчный, беспринципный, злобный министр внутренних дел и шеф жандармов, ещё более оголтелый реакционер, чем даже сам Победоносцев.
Наиболее видным публицистом-реакционером стал Катков, чью газету «Московские ведомости» называли не иначе как «русская литературная полиция» – умный, одарённый, красноречивый человек. Он выдвинул лозунг реакции, приветствуя назначение Толстого: «Встаньте, господа, правительство идёт, правительство возвращается!» А славянофил И.С. Аксаков шёл в своих мечтах дальше и призывал: «В Москву, в Москву призывает теперь своего царя вся Россия… Пора домой! Пора покончить с петербургским периодом русской истории.» Он звал отвоевать, наконец, у турок Константинополь, завоевать все Балканы, вернуть столицу в Москву, выслать из страны всех евреев и построить «охранительный социализм». Впрочем, не все предлагаемые им рецепты были взяты на вооружение осторожным Александром III.
А издатель журнала «Гражданин» князь В.П. Мещерский 16 декабря 1888 года в своем журнале убедительно обосновывал национальную русскую потребность в розгах: «Как нужна соль русскому человеку, как нужен черный хлеб русскому мужику, так ему нужны розги. И если без соли пропадёт человек, так без розог пропадёт народ». В своих изданиях Катков и Мещерский открыли тотальный огонь против либерализма, против евреев, поляков, интеллигентов, всяческих «говорилен» – в защиту самодержавия. Прежде всего именно эти четыре человека: Победоносцев, Толстой, Катков и Мещерский (подобно С. Уварову, А. Бенкендорфу и Ф. Булгарину при Николае I) и определяли всю внутреннюю политику России 1880-ых – 1890-ых годов.
6.3.3. Контрреформы
Член Государственного Совета, бывший председатель Комитета министров П.А. Валуев в 1883 году записал в свой дневник: «В делах у нас наполовину ход (большей частью задний), наполовину дрейф». Во всех областях, в которых проводились реформы Александра II, при его сыне проводились контрреформы, пик которых пришелся на 1889–1892 годы. И потому уместно говорить о крестьянской, земской, городской, судебной, военной, университетской контрреформах и о контрреформе в области печати. Если при Александре II крестьян освобождали от крепостного права, создавались всесословные (бессословные) учреждения, возникли новые суды и земства, на новых принципах начала строиться армия, появились частично автономные университеты, то, симметрично этому, в 1880—1890-ые годы проводились целенаправленные мероприятия власти по восстановлению пошатнувшейся сословности в обществе, по ликвидации независимых, самоуправленческих общественных институтов, по восстановлению повсеместного надзора и контроля государства за всеми подданными. По всем «детищам великих реформ»: университетам, земствам, судам, печати, по либеральной и радикальной интеллигенции и органам крестьянского самоуправления самодержавием были нанесены мощные удары. Царский режим ощущал себя осаждённой крепостью среди взбунтовавшегося общества и провозгласил курс на национализм («Россия для русских») и на закручивание гаек как свою главную стратегию выживания.
На смену общественному возбуждению 1860-ых – 1870-ых годов, на смену надеждам и энтузиазму пришли общественная апатия и упадок, малодушие и конформизм – как и в первые годы правления Николая I, после разгрома декабристов, наиболее активные, благородные, мыслящие люди были повешены, сосланы, «изъяты из обращения», а все прочие – запуганы и парализованы правительственным террором.
Однако, подобно тому как Александр III (в отличие от Николая I) не смог полностью отменить реформы предыдущего царствования (но лишь существенно ограничить их последствия), точно также он не смог полностью подавить и искоренить общественное революционное движение – но лишь задержать и ослабить его. Александра III роднила с его дедом Николаем I общая психология – психология хозяина большого поместья (которым они считали Россию), единолично за всё отвечающего, всё решающего, за всем надзирающего и всех опекающего. Подобно Николаю I, Александр III пытался всячески централизовать управление страной, «замкнув» его на себя. Значение Комитета министров и Государственного Совета сильно снизилось – Александр III считал, что эти органы не должны обсуждать или критиковать его решения, но лишь осуществлять их на деле. Он был убеждён в том, что, чем важнее дело, тем меньшее число людей должно его обсуждать. Он, как и его дед, пытался сам входить во все дела, но, не имея энергии, образованности и ума Николая I, не мог во всё вникнуть и всё понять.
Тогда была введена (под строгим секретом!) практика: каждый доклад императору сопровождался краткой запиской, где просто, на доступном Александру III уровне, объяснялась суть дела. Управление огромной страной всё более усложнялось, и справиться с ним недалекому государю явно было не по силам. Он избрал линию массированного подавления всякой общественной активности и инициативы путем чрезвычайщины, полицейского, церковного и цензурного террора против университетов, земств, журналов. Результатом этой политики стало полное отчуждение самодержавия от мыслящего общества, жаждущего свободы, социальной справедливости и перемен, а также полная деградация правящей верхушки империи. Идеалом Александровской «народной монархии» было строго сословное общество, централизованная власть, абсолютная стабильность и неизменность империи. Либеральный принцип общественной автономии и самодеятельности, по убеждению Победоносцева и Александра III, был несовместим с самодержавием. А значит, следовало беспощадно и поскорее ликвидировать автономию университетов, независимость и публичность судов, местное земское самоуправление, всесословную систему военной службы и образования, поставив всю жизнь населения под контроль помещиков-дворян и чиновников. По признанию либерального деятеля Маклакова, «свобода личности и труда, неприкосновенность гражданских прав, суд как охрана закона, а не усмотрение власти, местное самоуправление были принципами, которые противоречили неограниченной власти монарха». Это и обусловило характер контрреформ Александра III.
А. Борьба с революционным движением и контрреформы в управлении страной
Первоочередной задачей, стоящей перед Империей, было добивание обескровленного революционного движения, искоренение крамолы и оппозиции. К 1883 году, при помощи масштабных полицейских провокаций и массовых репрессий, была уничтожена партия «Народная Воля». Идея надзора за всем обществом стала тотальной. Генерал М.И. Батьянов предлагал взвалить надзор за обывателями на… них самих на основаниях круговой поруки. Все должны были следить за всеми. Домовладельцам было поручено следить за своими жильцами. Как горько острил в 1884 году М.Е. Салтыков-Щедрин: «Нынче так много физиономистов развелось, что и выражение лица истолковывается». На страну обрушилась эпидемия доносов, объявленных высшей гражданской добродетелью, повлекшая волну арестов. Нередко в постановлениях об аресте писалось: «Арестовать вплоть до выяснения причин ареста».
Важной мерой по утверждению в стране атмосферы чрезвычайщины и всесилия полиции, было принятое по инициативе министра внутренних дел Н.П. Игнатьева 14 августа 1881 года «Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия и приведении определённых местностей империи в состояние усиленной охраны». В соответствии с этим «Положением» любая местность могла быть объявлена на положении усиленной или чрезвычайной охраны – решением генерал-губернатора (с утверждением министра внутренних дел). После этого генерал-губернаторам и градоначальникам предоставлялось право издавать обязательные постановления, наказывая их нарушителей арестом и штрафом, воспрещать общественные и частные собрания, закрывать торговые и промышленные заведения, административно высылать людей без суда, передавать уголовные дела в военный суд, судящий по законам военного времени, усиливать и без того жёсткий контроль за деятельностью земских, судебных и городских учреждений, увольняя любых их служащих. Местным начальникам полиции и жандармерии давалось право задерживать подозрительных лиц на сроки до двух недель и без санкции производить обыски во всякое время и во всех помещениях. Генерал-губернаторам также дозволялось закрывать любые периодические издания и учебные заведения.
Это «временное» и «чрезвычайное» положение об усиленной охране, принятое на три года, оказалось (как и следовало ожидать) долговременным актом: все время продлеваясь, оно действовало и далее с 1881 года до 1917 года (то есть до самого падения самодержавия) и огромная часть Империи (в том числе обе столицы и окружающие их губернии) непрерывно находились на положении усиленной или чрезвычайной охраны! Это ярко демонстрирует непрерывную конфронтацию самодержавного государства с завоеванным, но непокорным обществом. По словам директора Департамента полиции А.А. Лопухина, «Положение» об усиленной охране «ставило всё население России в зависимость от личного усмотрения чинов политической полиции». И в самом деле, губернаторы и полиция отныне могли запрещать, закрывать, увольнять, обыскивать, арестовывать и ссылать без суда кого угодно и что угодно.
Если учесть, что большинство губернаторов были людьми, которые, по выражению земского деятеля И.П. Белоконского, на всех жителей губернии смотрели «как на необнаруженных государственных преступников», и всеми силами, не жалея рвения, старались их обнаружить, то о последствиях введения этого «Положения» догадаться нетрудно. По словам француза А. Леруа-Болье, отныне в России «губернаторы были облечены всеми правами, которые обыкновенно принадлежат главнокомандующему во вражеской стране». Репрессии, полицейские меры, чрезвычайщина и непрерывное осадное положение в городах органично дополнялись всевластием дворян и наглым произволом чиновников в деревне (по отношению к крестьянам).
При Александре III были резко расширены права полиции. Отныне она давала дозволение на открытие предприятий, на устройство любых концертов и собраний, выдавала справки о благонадёжности, необходимые для приема на службу и поступления в университет, повсеместно перлюстрировала письма. Вводилось полицейское Особое Совещание, получившее право ссылать людей без суда и следствия на срок до пяти лет.
Александр III стремился предотвратить появление в России «безобразного выборного представительного начала», усилив централизацию управления и установив личный контроль за работой государственного механизма. К управлению государством, по словам императора, пришли «истинно русские люди» (его любимое выражение) – по большей части беспринципные, заурядные конформисты, бездумные исполнители и мелкие интриганы. Царь поставил своей задачей очистить государственные учреждения от приверженцев «паршивого либерализма», вольно или невольно насаждая в аппарате управления разложение, интриги, угодничество, серость, безынициативность, приспособленчество и казнокрадство. Отныне мало кто наверху верил в идею самодержавия или в какие-то иные идеи. Самодержавие всё более изолировало себя полицейскими мерами от общества, утрачивало понимание реальности, теряло авторитет и уважение. Правительство с подозрением относилось к любой, самой невинной общественной инициативе.
Если в 1860-ых– 1870-ых годах инициатива принадлежала либеральной части бюрократии, то при Александре III бюрократия обратилась к беспощадной глухой реакции, а либерализм ушёл в земства. Единственной формой общественных демонстраций в эту эпоху полицейских гонений стали… непрерывные похороны выдающихся писателей: в 1881 году – Ф.М. Достоевского, в 1883 году – И.С. Тургенева, в 1886 году – А.Н. Островского, в 1888 году – В.М. Гаршина, в 1889 году – М.Е. Салтыкова-Щедрина и Н.Г. Чернышевского, в 1891 году – И.А. Гончарова, в 1892 году – А.А. Фета. По словам современного историка Н.А. Троицкого, «вся мыслящая Россия жила тогда, как при затянувшихся похоронах».
Тем не менее, уйдя в подполье и эмиграцию, общественное движение не прекратилось. В 1885 году всю страну потрясла огромная рабочая стачка на фабрике Морозова в Орехово-Зуево. В ней участвовало восемь тысяч рабочих; приговор суда присяжных оправдал всех 33 руководителей стачки. Широко распространился в условиях упадка общественного движения пришедший с Запада модный марксизм. Земские либералы мечтали о политической свободе, народники обновляли свои теоретические концепции, национальные окраины клокотали. В 1887 году произошло «второе первое марта» – неудачная попытка покушения на Александра III группы отважных студентов, продолжающих революционно-народническую традицию «Народной Воли». В числе пяти повешенных по этому делу людей был и Александр Ильич Ульянов.
В условиях общественной апатии многие интеллигенты обратились к марксизму, видя в нём, прежде всего, мысль о необходимости развития России по западному, индустриально-буржуазному пути, апологию экономического детерминизма и призыв к уничтожению «отсталой» крестьянской общины. Так «западничество» 1830-ых – 1840-ых годов выродилось в апологию капитализма (позабыв о гуманности и вольнодумстве), подобно тому, как славянофильство 1830-ых – 1840-ых годов (позабыв об общине и освобождении народной жизни из-под ига бюрократии) выродилось к концу века в официальный имперский шовинизм, а многие народники малодушно пришли к «теории малых дел» (надо не изменять общество в целом, а лишь создавать библиотеки, школы, больницы и кооперацию для крестьян).
Все же в России продолжали кое-где действовать революционные кружки, существовала революционная эмиграция на Западе. Была предпринята отчаянная попытка создать «Партию народного права» – широкую организацию, объединившую в себе всех противников режима (от либералов до революционеров), однако эта организация почти в момент своего возникновения была разгромлена полицией. В эти годы реакции и в марксизме, и в народничестве образовались умеренные, «легальные» и революционные, радикальные течения. Первое было представлено в марксизме такими известными мыслителями и публицистами, как М.И. Туган-Барановский и П.Б. Струве, а в народничестве – выдающимся социологом и литературным критиком Н.К. Михайловским.
Второе представляли революционные народнические группы и марксистская группа «Освобождение Труда», основанная в 1883 году за границей Г.В. Плехановым и начавшая пропаганду идей революционного марксизма и идейную борьбу против народников. Полиция сурово преследовала любых либералов и, тем паче, народников, усматривая в них главную опасность, а к марксистам-«экономистам» относилась более лояльно, не видя в них серьёзной угрозы режиму. Именно в эти страшные годы (как часто бывает в годы реакции, как было и в 1830—1840-ые годы) шел поиск стратегии на будущее, осмысление и анализ ситуации в России и мире, закладывались мировоззренческие основы новых движений и партий: либеральных, марксистских и народнических.
Б. Сословная политика Александра III и крестьянская контрреформа
К концу ХIХ века (1897 г.) в России (не считая Польши и Финляндии) жили 126 миллионов человек. (Россия занимала первое место в Европе по рождаемости и смертности населения). Из них: 1,5 миллионов дворян (1 %), 600 тысяч представителей духовенства (0,5 %), 600 тысяч купцов (0,5 %), 600 тысяч чиновников (0,5 %), 13,5 миллионов мещан и горожан (11 %), 2,5 миллиона рабочих (2 %), 3 миллиона казаков (2 %), 97 миллионов крестьян (77 %). В армии 50 % офицеров и 90 % генералов были дворянами, среди чиновников 70 % были дворянами. Фактически, вся власть в стране находилась в руках дворянства и чиновничества – прежде всего на эти 1–2 процента населения опирался и ориентировался в своей политике император.
Важнейшим направлением внутренней политики Александра III было восстановление подорванного реформами 1860-ых – 1870-ых годов сословного строя и укрепление позиций дворянства (которое в значительной мере разорялось и деградировало). Центральной идеей императора было восстановление экономического и политического преобладания дворянства и фактическое возвращение к временам крепостного права (пусть и в неявном виде). В манифесте Александра III, изданном в 1885 году, было выражено пожелание, чтобы «дворяне российские сохраняли первенствующее место в предводительстве ратном, в делах местного управления и суда, в распространении примером своих правил веры и верности и духовных начал народного образования». «Русскость» понималась царём, прежде всего, как сословность, иерархичность, власть государя и дворянства над народом. По словам видного дворянского деятеля контрреформ А.Д. Пазухина: «утрачивая все сословно-бытовые особенности, русский человек утрачивает все национальные черты». Необходимо было «восстановить порушенное» в ходе реформ Александра II господство дворян в России.
Александр III всеми силами стремился сплотить и возвысить дворянство как привилегированную корпорацию – опору трона, хозяйку в деревне, ведущую полицейскую, военную, судебную, административную силу, помыкающую общиной, владеющую землей и абсолютно доминирующую в земствах. В своей статье «Современное состояние России и сословный вопрос» А.Д. Пазухин прямо обличал «бессословное общество, недавно получившее название интеллигенции», в которое «входит всё то, что находится вне сословного быта…» Интеллигенция, полагал он, своекорыстно стремится к потрясению основ. Потому надо вернуться к сословному устройству общества.
Выступая перед сельскими волостными старшинами на своей коронации 21 мая 1883 года, Александр III призвал крестьян: «Следуйте советам и руководству ваших предводителей дворянства и не верьте вздорным слухам и толкам о переделах земли, даровых прирезках и тому подобном». (То есть подразумевалось, что предводитель дворянства есть глава всякой власти в уезде). Через усиление дворянства и чиновничества должна была наконец воплотиться петровская и николаевская утопия тотальной государственной опеки над крестьянством и осуществиться возвращение к патриархальному строю в деревне и стране – главная цель контрреформ.
Первой важной мерой в этом направлении явилось создание государством 21 апреля 1885 года Дворянского банка, который должен был поддерживать ссудами на чрезвычайно льготных условиях дворянское землевладение (ссуды давались под залог дворянских земель). Таким образом государство фактически, одной рукой изымая колоссальные средства у крестьян (через подати, налоговый пресс и выкупные платежи), другой рукой почти безвозмездно субсидировало дворян. Однако те большей частью проедали, пропивали и проигрывали полученные деньги, пуская их на ветер и не возвращая назад. (Дворянство слабо приспосабливалось к новым, капиталистическим условиям хозяйствования). Огромные средства, выкачиваемые самодержавным государством из крестьян и передаваемые дворянству, мало пошли ему впрок. Размеры операций Дворянского банка в восемь (!) раз превосходили размеры операций созданного в те же годы Крестьянского банка, дающего крестьянам ссуды на куда менее выгодных условиях.
Главной же мерой крестьянской контрреформы («симметричной» освобождению крестьян в 1861 году, но только с «обратным вектором»), восстанавливающей власть помещиков над крестьянами, явилось изданное 12 июля 1889 года «Положение о земских участковых начальниках». По нему в сорока губерниях России создавалось 2200 участков (по 4–5 на уезд) во главе с «земскими начальниками», назначенными министром внутренних дел по согласованию с губернаторами и местными предводителями дворянства из числа потомственных помещиков-дворян. Земский начальник соединял в своем лице административную, полицейскую и судебную власти (принимая, в частности, полномочия упраздненных мировых судей). Его полномочия были огромны и почти безграничны: он мог отменять любые постановления крестьянских сходов (сельских и волостных), отстранять от должности выбранных крестьянских старост, арестовывать, пороть и штрафовать крестьян, назначать членов волостных судов (ранее избираемых крестьянами). Эта мера обосновывалась заботой о дворянстве и крестьянстве и возвращением к государственному «попечению» над вторым посредством первого.
В условиях всё обострявшихся конфликтов между крестьянской общиной и помещиками по вопросам землевладения, аренды, найма, выгонов, пастбищ, лесов и пр., подобное нововведение (точнее, введение старого!) не могло не вести к росту социальной напряженности в деревне. Крестьяне справедливо восприняли введение института земских начальников как восстановление прежней помещичьей власти над ними, «второе издание крепостного права». Земские начальники грубо вмешивались в дела крестьянской общины (повсеместно прибегая к поркам, мордобою и взяткам), выступали арбитрами в спорах между крестьянами и помещиками и, естественно, почти всегда на стороне последних, повсеместно практиковали чудовищный произвол, унижали человеческое достоинство крестьян. Они надзирали над крестьянским «миром», вершили суд, назначали наказания (штрафы, аресты, порки), смещали должностных лиц. Крестьяне не имели права жаловаться на земских начальников (как раньше они были лишены права жаловаться на «своих» господ). Сельский «мир» был существенно ограничен в своих правах, мировые суды уничтожены, разделение судебной и административной властей на самом низшем – самом важном – уровне было отменено. Всё это вызывало рост негодования, отчаянья, озлобления и ожесточения у крестьян против помещиков и царских властей, делало, в условиях малоземелья и нищеты крестьян, ситуацию в деревне взрывоопасной.
Показательно, что введение института земских начальников (по инициативе Д.А. Толстого) счёл вредной и чересчур реакционной мерой даже сам К.П. Победоносцев! В Государственном Совете за этот закон проголосовали лишь 13 членов, а 39 – против, настолько он казался чудовищным. Однако император подписал закон и настоял на его проведении в жизнь. Отныне все права крестьян, самоуправление, община, сама личность крестьянина отдавались на произвол дворян – земских начальников. Отныне Александра III в народе стали называть не «Царем-Миротворцем» (как в придворных кругах), но «Царем-Миропорцем». Дворянство, таким образом, вернуло себе значительную часть своей прежней, дореформенной вотчинно-полицейской власти над крестьянами. По мнению С.Ю. Витте, Александр III настоял на этой мере «именно потому, что он был соблазнён мыслью, что вся Россия будет разбита на земские участки, что в каждом участке будет почтенный дворянин, который пользуется в данной местности общим уважением, что этот почтенный дворянин-помещик будет опекать крестьян, судить их и рядить». Идея тотальной регламентации всей жизни населения и «отеческой опеки» над ним со стороны государства посредством дворян и чиновников неукоснительно проводилась императором в жизнь. Однако ему не удалось создать местную «крепкую и близкую к народу власть» из помещиков, осуществляющих судебно-полицейско-административную опеку, и вернуть дворянам власть над крестьянами и лидирующее место в сельской жизни, поскольку крестьянство роптало, а дворянство стремительно деградировало и разорялось.
В 1886 году был издан закон о найме сельскохозяйственных рабочих. По нему рабочий при найме должен был подписать «договорный лист», позволявший помещику в случае досрочного ухода рабочего предавать его суду. Помещик же, со своей стороны, мог уволить рабочего в любое время. Закон от 13 июня 1889 года существенно ограничивал переселение крестьян, чтобы обеспечить помещиков дешёвой рабочей силой. Самовольные переселенцы административно высылались по этапу на прежнее место жительства. Подобные меры ещё более напоминали крестьянам восстановление крепостного права.
Одновременно с курсом на усиление экономической и политической власти помещиков, правительство стремилось укрепить, законсервировать крестьянскую общину и затруднить крестьянам выход из неё. Община рассматривалась государством как патриархальное учреждение, социальная опора трона, удобная фискальная (налоговая) единица, полицейский инструмент надзора за деревней, а также как средство, защищающее крестьян от окончательного разорения и пролетаризации. И в самом деле, крестьяне крепко держались за общинную форму землевладения и социальной жизни, поскольку она помогала выжить нищим, увечным, сиротам, спасала крестьян в голодные годы. Принципы регулярных переделов земли (раз в пять-десять лет), взаимной поддержки и решения всех вопросов сельским сходом давно сформировали всё крестьянское мироощущение. А круговая порука крестьян при выплате налогов и выкупных платежей вполне устраивала правительство. Поэтому указы 1886 и 1893 годов усложнили выход крестьян из общины, обеспечивали соблюдение регулярности перераспределения земли внутри общины, консервировали её, как фискальную единицу и социальную основу самодержавия. Отныне разделы больших крестьянских семей могли происходить только с согласия главы семьи («большака») и с разрешения не менее чем 2⁄3 домохозяев на сельском сходе. Законодательно ограничивалась продажа земли, выделенной в собственность крестьян.
Однако усиление конфликтов между крестьянами и помещиками, за которыми стояла царская власть, радикализировало и консолидировало общину и толкало ее на путь революционной борьбы с дворянством и государством. Крестьяне мечтали о захвате и переделе помещичьих земель и об уничтожении правительственного гнёта. Народнические лозунги крестьянского самоуправления и общинного землевладения всё лучше воспринимались в деревне. Именно этот «тектонический сдвиг» в самом глубинном основании русской жизни – крестьянской общине: от лояльности трону и веры в «доброго царя» к революционности – и послужил главной причиной революции 1905–1907 годов. Наиболее дальновидные царские министры (и прежде всего С.Ю. Витте), осознав такую опасность, призывали уравнять крестьян в юридических правах с другими сословиями империи (в частности, отменив унизительные телесные наказания для крестьян), обеспечить им свободу передвижения и начать целенаправленное разрушение общины, чтобы на её развалинах создать небольшой слой самостоятельных зажиточных фермеров, поддерживающих абсолютную монархию (позднее эти меры попытался на деле осуществить П.А. Столыпин). Однако до 1905 года подобная точка зрения не разделялась подавляющим большинством высших сановников империи, среди которых сохранялась иллюзорная вера в патриархальное единение государя и народа и в общину, как надежную и главную опору престола.
Между тем в конце ХIХ века положение крестьян в России непрерывно ухудшалось и стало совсем плачевным. Растущее малоземелье и перенаселение, сословное неравенство, крепостническая политика правительства, произвол со стороны дворян, кабальная отработка на земле помещиков, господство в деревне помещичьих латифундий, чудовищный налоговый пресс и непосильные выкупные платежи, мировой сельскохозяйственный кризис конца века – всё это в совокупности вело к обнищанию крестьян и росту социальной напряженности и недовольства в деревне.
Результатом крестьянских контрреформ стал страшный голод 1891 года, унёсший множество жизней крестьян по всей стране. Правительство не только не оказывало поддержки голодающей по его вине деревне, но и осуждало попытки общественности оказать такую помощь (в этих мероприятиях по помощи голодающим принял активное участие и Л.Н. Толстой). Александра III раздражали упоминания о голоде в печати, и он высочайше повелел заменить в газетах неприятное слово «голод» словом «недород».
Стремительный рост антагонизма между крестьянами и помещиками и решительная поддержка самодержавным режимом последних делала аграрный вопрос главным вопросом российской жизни и подготавливала крестьянскую революцию.
В. Земская и городская контрреформы
Земства и городские думы, возникшие в эпоху реформ 1860-ых – 1870-ых годов и основанные на принципах всесословности, выборности, самостоятельности и общественного самоуправления, были несовместимы с политикой контрреформ Александра III.
«Положение о губернских и уездных земских учреждениях» от 12 июня 1890 года, провозгласившее земскую контрреформу, вело к «одворяниванию» земств, подрыву в них всесословного и выборного начала, ограничению их прав и компетенции, парализующему их деятельность и к их растворению в государственно-чиновничьей машине. Если раньше губернатор мог отменить решение земств лишь по причине их «незаконности», то теперь – и по причине их «нецелесообразности» или «несоответствия общим государственным пользам» (с его, губернаторской, точки зрения). Все решения земств отныне утверждались губернатором и министром внутренних дел. Функции земств ограничивались только некоторыми хозяйственными вопросами, вопросами благоустройства и просвещения. Губернатор мог поставить на обсуждение земств любой вопрос. Крестьяне лишались своих выборных представителей в земствах. Отныне немногочисленных гласных (представителей) от крестьян назначал сам губернатор из числа кандидатов, предложенных ему земскими начальниками (помещиками!). Духовенство вовсе лишалось избирательных прав. Напротив, дворянская курия в земствах резко увеличивалась количественно – за счёт крестьянской.
Земства вводились в систему общегосударственных учреждений и становились бюрократическими органами (а не самостоятельными органами местного самоуправления).
Они отныне всецело подчинялись Министерству внутренних дел и губернаторам. Председатели земских управ теперь назначались правительством, а члены земств стали считаться чиновниками, состоявшими на государственной службе. Земства в обновленном виде становились чем-то средним между дворянскими собраниями и чиновничьими учреждениями. Местное самоуправление, основанное на независимости, выборности и всесословности фактически ликвидировалось, сливаясь с государственной «вертикалью власти» и становясь сословным дворянским органом. Удельный вес дворян в уездных земствах повысился в ходе контрреформы с половины до двух третей, а в губернских земствах – до 90 %! Число же крестьянских гласных в губернских земствах сократилось с 7 % до 2 %, а число гласных от буржуазии в губернских собраниях сократилось с 11 % до 8 %. Всё это превратило земства в декоративные, полуфиктивные учреждения, свело почти к нулю их выборность и всесословность, затруднило их деятельность даже в самых тесных, еще дозволенных рамках, но одновременно и усиливало оппозиционность либеральных элементов в земствах.
Аналогичной по целям и последствиям была и городская контрреформа. 11 июня 1892 года было принято «Городовое положение», ещё более урезавшее избирательные права горожан (за счет повышения и без того очень высокого имущественного ценза) и ограничивавшее функции городских дум. Избирателями оставались лишь дворяне-домовладельцы и представители наиболее крупной буржуазии. Так, в Санкт-Петербурге число избирателей в городскую думу сократилось с 21 тысячи до 6 тысяч человек, в Москве – с 23 тысяч до 7 тысяч. Таким образом, в столицах правом участия в выборах в городское самоуправление теперь пользовались 0,7 % населения! Во многих городах Империи число гласных равнялось числу участвовавших в выборах, а более половины городов страны и вовсе не имели никаких выборных органов городского самоуправления.
По новому «Городовому положению» губернатор контролировал и направлял всю деятельность городских дум и управ, тотально их опекая. Члены городских дум отныне становились состоявшими на государственной службе чиновниками, а не «избранными» представителями городского населения.
Г. Судебная контрреформа
Судебная контрреформа Александра III была призвана свести на нет такие принципы нового судопроизводства, введённого в предыдущее десятилетие, как независимость и несменяемость судей, публичность, гласность и состязательность судопроизводства. Независимость судов от администрации была ликвидирована в наиболее важном – низшем звене с отменой мирового суда и созданием института земских начальников, соединивших в своих руках административную и судебную власть. Была существенно ограничена и несменяемость судей: закон от 20 мая 1885 года учредил Высшее дисциплинарное присутствие Сената, правомочное смещать и перемещать судей по усмотрению министра юстиции. Гласность судопроизводства была ограничена законом 12 февраля 1887 года, дающим право министру юстиции закрывать от публики двери любых судов по своему усмотрению («в видах ограждения государственной власти» или по другим мотивам). Ограничивалась и состязательность судопроизводства: суды всячески содействовали прокуратуре и чинили препятствия обвиняемым и их адвокатам. С введением «Положения об усиленной охране» губернаторы и полиция могли без суда арестовывать и высылать любых лиц. Мировой суд был полностью ликвидирован в 37 губерниях и уцелел лишь в нескольких городах. Суд присяжных был существенно ограничен в правах и компетенции. В 1885 году К.П. Победоносцев писал императору о суде присяжных: «От этого учреждения необходимо отделаться». Из ведения судов присяжных законом от 7 июля 1889 года были выведены все политические дела.
В 1885 году была утверждена новая редакция Уложения о наказаниях (еще николаевского – 1845 года!). По нему политические преступления квалифицировались как во много раз более тяжкие, чем уголовные, причём безо всякого различия между «умыслом» и «поступком». Так, простое укрывательство лица, виновного в злоумышлении против государя, считалось в России более страшным преступлением, чем предумышленное убийство собственной матери! При этом запрещалась публикация отчётов и вообще всякой информации о политических процессах (чтобы лишить революционеров трибуны для пропаганды своих убеждений). Для присяжных резко повышался имущественный ценз, что отсекало всех небогатых людей и увеличивало число дворян и буржуа среди присяжных.
Победоносцев и другие вожди реакции требовали полной отмены суда присяжных, прекращения всякой гласности судопроизводства, ликвидации адвокатуры и восстановления назначаемости судей сверху вышестоящими чиновниками с отменой их несменяемости. Однако император не решился пойти на столь крайние меры: судебная контрреформа (как и большинство других) носила незавершённый, частичный характер. Полностью ликвидировать новую судебную систему и земства, также как и вернуть рекрутчину и крепостное право, всё же было бы уже невозможно.
Д. Военная контрреформа
После ухода с поста военного министра видного либерала Д.А. Милютина начинается серия контрреформ и в военной сфере. Император стремился вернуть доминирование дворянства в офицерской среде (что вело к дальнейшему отчуждению офицеров от рядовых). Происходила стремительная деградация военного руководства: среди генералов преобладали глубокие старцы, карьеристы, посредственности и бездарности, в военной науке воцарился застой (что способствовало столь же катастрофическому, сколь и неожиданному поражению Российской Империи в войне с Японией). Усиливалась и всячески поощрялась кастовость офицерства, стремление государства стеной отделить офицеров от общества (например, только офицерам отныне были дозволены дуэли, которые в их среде поощрялись, а среди гражданских лиц считались преступлениями). Усиливалась муштра, показуха, регламентация и палочная дисциплина, как во времена Николая I. Была восстановлена закрытость военно-учебных заведений. Военная реформа, проводившаяся Д.А. Милютиным, была остановлена.
Е. Контрреформы в сфере образования
В своей политике в сфере просвещения самодержавие стремилось восстановить сословные принципы системы образования (сделав среднее и высшее образование недоступным для низших сословий), поставить под жёсткий контроль университеты и вообще искоренить всяческое вольнодумство. На докладе о том, что в Тобольской губернии очень низка грамотность населения Александр III написал характерную резолюцию: «И слава Богу!» Он всячески одобрял и поддерживал сохранение невысокого уровня образованности в стране. А министр просвещения, ярый реакционер И.Д. Делянов на вопрос о том, почему он уволил заслуженного профессора, ответил до гениальности просто: «У него в голове мысли».
Главным законодательным актом, ознаменовавшим контрреформу в сфере высшего образования, явился новый университетский устав от 23 августа 1884 года. Он полностью ликвидировал университетскую автономию (предусмотренную уставом 1863 года) и ставил университет под контроль министерства. На должности ректоров, деканов и профессоров снова стали не избирать, а назначать чиновники (исходя не из «ученых качеств и заслуг» претендентов, а из их политической лояльности и благонадёжности). Студентам было запрещено создавать какие-либо союзы и корпорации. Была вновь введена форменная одежда для студентов в целях усиления надзора за ними во внеучебное время. За любые протесты студентов-смутьянов было предписано беспощадно отдавать в солдаты. Из университетов были изгнаны «неблагонадежные» профессора, составляющие цвет российской науки: социолог М.М. Ковалевский, историк В.И. Семевский, правовед С.А. Муромцев, биолог И.Н. Мечников. Для поступления на учёбу отныне требовалась выдаваемая в полиции характеристика о благонадежности. Плата за обучение в гимназиях и университетах была повышена в пять раз (!), что сделало обучение недоступным для малосостоятельных лиц. Фактически было ликвидировано высшее женское образование: были закрыты высшие женские курсы. Такими мерами правительству удалось в несколько раз сократить численность студенчества, но не смирить его. Студенты отвечали акциями протеста, за которые подвергались суровым репрессиям.
В ходе контрреформ, разумеется, не были забыты и средние и начальные учебные заведения. 5 июня 1887 года министром народного просвещения И.Д. Деляновым был издан печально знаменитый циркуляр, известный как «циркуляр о кухаркиных детях». По нему запрещалось принимать в гимназии и университеты детей низших сословий: лакеев, поваров, прачек, кучеров, мелких лавочников и прочих простолюдинов. Александр III однажды написал на прошении, поданном ему: «Это и ужасно – мужик, а тоже лезет в гимназию!» Теперь доступ мужиков в гимназию был надёжно перекрыт, а образование вновь становилось по преимуществу дворянской привилегией. Все начальные школы (двух-и четырехклассные и двухмесячные «школы грамоты») в 1884 году были переданы церковному ведомству. Лишь немногие школы остались в ведении земств, да и то только потому, что власти не желали тратить денег на их содержание, а земства соглашались платить только при условии их сохранения в качестве земских школ.
Студенчество и интеллигенция были ненавистны самодержавию, как главный оплот крамолы и подвергались всевозможным ограничениям, гонениям и репрессиям.
К счастью для царского режима, подавляющая часть населения Империи оставалась неграмотной и невежественной (что, впрочем, угрожало Империи иным бедствием – отставанием от Европы и военным крушением). По словам известного историка и общественного деятеля П.Н. Милюкова: «Политическая деятельность таких руководителей двух последних царей, как К.П. Победоносцев и Д.А. Толстой, была сознательно направлена к тому, чтобы задержать просвещение русского народа».
Ж. Контрреформа в области печати
27 августа 1882 года были изданы новые «Временные правила о печати». Отныне вводилась предварительная цензура, газетам фактически не позволялось печатать последние новости. Создавался новый надзорный орган в составе министра внутренних дел, министра просвещения, министра юстиции и обер-прокурора Синода. Этот орган мог навсегда прекратить издание «вредной» газеты или журнала и воспретить их редактору более издавать какой-либо печатный орган. В итоге в 1883–1885 годах власти закрыли все радикальные и многие самые влиятельные либеральные периодические издания: журнал М.Е. Салтыкова-Щедрина «Отечественные записки», «Дело» Н.В. Шелгунова, газеты «Голос», «Земство», «Страна», «Русский курьер», «Московский телеграф» и другие. За время царствования Александра III на прессу было наложено 174 взыскания, и 15 изданий были закрыты. Государь сопровождал доклады министров о репрессиях против печати следующими высочайшими резолюциями: «Очень хорошо!» и «Поделом этому скоту!»
6.3.4. Меры по смягчению социальной напряженности
Понимая, что управлять, опираясь исключительно на террор, репрессии и надзор невозможно, самодержавие в 1880-ых – 1890-ых годах предприняло также некоторые мероприятия с целью облегчения жизни крестьян и рабочих и уменьшения социальной напряженности.
По инициативе министра финансов Бунге и министра внутренних дел Игнатьева, 18 мая 1882 года государством был создан Крестьянский поземельный банк для выдачи ссуд крестьянам и крестьянским обществам на покупку земли (для того, чтобы смягчить остроту аграрного вопроса). Впрочем, за 10 лет существования Крестьянского банка размер крестьянского землевладения благодаря ему увеличился лишь на 1,2 %. В конце ХIХ века, по инициативе С.Ю. Витте, правительство занялось регулированием крестьянских переселений. Переселенцы на окраины из центра России получали пособие и освобождение от налогов на три года. В 1902 году были наконец отменены телесные наказания для крестьян, а в 1903 году – отменена круговая порука и облегчен выход из общины для зажиточных крестьян.
Были несколько снижены (примерно на 1⁄4—1⁄3) размеры выкупных платежей, с крестьян снята часть недоимок. А законом 18 мая 1886 года была отменена ненавистная подушная подать с податных сословий, введенная Петром I. Но одновременно существенно повышались другие подати, прямые и косвенные налоги на крестьян. При этом государство проводило курс на ограничение прав общины, укрепление власти помещиков над крестьянами, субсидировало дворян за счёт крестьян через Дворянский банк, вытеснило крестьянских представителей из земств, судов присяжных и предприняло меры к недопущению крестьянских детей в гимназии и университеты. Поэтому предпринятые, не слишком значительные, меры не смогли существенно облегчить тяжелейшее и всё ухудшающееся положение крестьян в России.
В конце ХIХ века в политике правительства чрезвычайную остроту приобретает рабочий вопрос в России. Число рабочих к этому времени достигло почти трёх миллионов человек. Роль этой категории населения в экономической и общественной жизни страны была довольно велика: от рабочих зависела работа транспорта и промышленности. 1890-ые годы ознаменовались подъёмом протестного рабочего движения, всё серьезнее угрожающего царскому режиму. Условия жизни рабочих были чудовищными: 14—15-часовой рабочий день, скученность людей в казармах-общежитиях, отсутствие пенсий и страховых пособий от несчастных случаев, отсутствие какой-либо охраны труда, широкая и неконтролируемая эксплуатация фабрикантами более дешёвого детского и женского труда, огромные штрафы за любые провинности (съедающие порой до половины зарплаты), подавление любых выступлений рабочих с применением войск. Заработная плата рабочих в России была в 4 раза ниже, чем в США, и в 2 раза ниже, чем в Англии (что делало Россию очень привлекательной страной для притока иностранных капиталов). Рабочие жили в тесных каморках, покупали продукты (часто некачественные) в фабричных лавках – часть зарплаты фабрикант выдавал им продуктами или товарами. Все эти обстоятельства радикализировали рабочих и революционизировали рабочее движение, способствовали распространению в их среде социалистической пропаганды, вызывали волнения и забастовки.
Государство, обеспокоенное подъёмом рабочего движения, предприняло ряд мер по регулированию отношений между рабочими и фабрикантами, начав формирование фабричного законодательства. В 1897 году был издан закон о сокращении рабочего дня до 11,5 часов и введении одного обязательного выходного дня. Законом от 1 июня 1882 года была ограничена эксплуатация труда женщин и детей (был запрещён их ночной труд). Фабричный закон 1886 года вводил расчетные книжки (оговаривающие условия найма), регулирующие вопросы выдачи зарплаты, ее регулярности, запрещающий выдавать зарплату товарами или продуктами. Этот же закон создавал фабричную инспекцию для надзора за условиями труда и для решения (в качестве третейского судьи) конфликтов между фабрикантами и рабочими. Одновременно вводились законодательно суровые меры против активистов рабочего движения: за подстрекательство к стачке следовало 4–8 месяцев тюрьмы, за участие в стачке – 2–4 месяца тюрьмы. В 1901 году были введены пенсии рабочим казённых предприятий, получившим увечье на производстве и потерявшим трудоспособность. В 1903 году была установлена ответственность предприятий за несчастные случаи с рабочими. Рабочим отныне было дозволено избирать фабричных старост, осуществлявших посредничество при общении с фабрикантами и государством. Законодательно были ограничены размеры штрафов, взимавшихся предпринимателями с рабочих. Были изданы обязательные правила, регламентирующие условия фабричной работы.
Правительство, таким образом, пыталось играть роль Верховного Арбитра, стоящего над схваткой и регулирующего отношения между рабочими и фабрикантами, с одной стороны, жестоко пресекая попытки рабочих протестов, с другой, слегка ограничивая эксплуатацию и регламентируя вопросы труда и социального обеспечения. Для рабочих издавалась специальная религиозная литература, создавались православные общества, трезвеннические организации, чайные (клубы), проводились беседы на религиозно-нравственные темы.
Талантливый глава Московского Охранного отделения Сергей Васильевич Зубатов, хорошо понимая, что одних репрессий для борьбы с революционным движением недостаточно, предложил ввести систему «полицейского социализма» по образцу бисмарковской Пруссии. Идея состояла в том, что для того, чтобы в зародыше задушить рабочее движение, власти следовало… его возглавить и направить в безопасное русло чисто экономической (не политической!) борьбы. Полиция должна была под своим попечительством создавать легальные рабочие союзы. Эта идея понравилась правительственным чиновникам, и Зубатову было дано соответствующее разрешение: создавать легальные рабочие организации под полицейским контролем и началом, чтобы отвлечь рабочих от революционной борьбы. Сформировав полностью лояльную и во многом сросшуюся с ним буржуазию, Российское Государство хотело теперь также сформировать «свое», карманное рабочее движение. С 1901 года начинают создаваться такие зубатовские полицейские «рабочие организации»: читались лекции, велись беседы, создавались многочисленные чайные (чтобы отучить рабочих от алкоголя), библиотеки, потребительские общества, кассы взаимной помощи, в ряде случаев даже дозволялось проводить стачки с требованием повышения заработной платы. «Зубатовские» рабочие организации в 1901–1903 годах были созданы в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Харькове, Киеве и многих других местах и насчитывали десятки тысяч членов.
На практике эти попытки вовлечь рабочих в общественную жизнь, не решая по существу рабочий вопрос, вызывали радикализацию рабочих и негодование со стороны предпринимателей и подготавливали революционный взрыв. В условиях жесточайших социальных и политических противоречий эта попытка введения «полицейского социализма» быстро себя дискредитировала и рухнула под ударами с двух сторон. С одной стороны, фабриканты искренне возмущались тем, что полиция иногда поддерживала рабочие стачки с экономическими требованиями. С другой стороны, в условиях роста острейших противоречий российской жизни, не знавшей «золотой середины» между свободой и деспотизмом, богатством и нищетой, очень быстро «зубатовские» рабочие союзы революционизировались, сбрасывали полицейский контроль и выходили за установленные им Империей рамки, попадая под влияние социалистов и революционеров.
6.3.5. «Россия для русских!»: национальная политика в 1881–1904 годах
Главным лозунгом самодержавия в годы правления Александра III и в начале царствования Николая II стал лозунг: «Россия для русских!» Недовольство народных масс ухудшением их жизни власти стремились направить против «иноверцев» и «инородцев», особенно против евреев и поляков, создавая из них «образ врага». 1880-ые – 1890-ые годы ознаменовались русификацией окраин, воинствующим национализмом и шовинизмом, гонениями на евреев, поляков, студентов, интеллигентов, сектантов, униатов, финнов, староверов, лютеран, профессоров и либералов. В отдалённых уголках Империи повсеместно принудительно насаждались русский язык и «русская вера» (то есть казенное православие). «Русскость», отождествляемая с лояльностью государственной власти, стала главным понятием официальной идеологии. При Александре III и Николае II русификация (которая практиковалась и раньше) приобрела характер систематической политики по отношению ко всем покорённым Империей народам.
«Русский дух», «русская почва» нуждались в защите от любых разрушительных идей, от происков инородцев и «иных культурных типов». Славянофил Николай Яковлевич Данилевский в своей книге «Россия и Европа» «научно обосновал» превосходство русских над иными народами. А Н.М. Катков в 1882 году писал в «Московских ведомостях» (главном «рупоре» режима): «Россия может иметь только одну государственную нацию».
Критерии «русскости» носили отчетливо выраженный политический характер. По словам историков И.В. Карацубы, И.В. Курукина и Н.П. Соколова, «при Александре III слово «русский» теряет связь с культурными и вероисповедными качествами и становится исключительно политической характеристикой настолько, что никому уже не казалось странным, что «истинно русским» называют главного московского черносотенного публициста Грингмута, ставшего после смерти Каткова редактором «Московских ведомостей», или ялтинского градоначальника Думбадзе, отличавшегося особой полицейской свирепостью». Русский человек по определению не может быть либералом, атеистом или революционером.
Александр III решительно возглавил «партию истинно русских людей» – отменив традиционные особые привилегии немцев в Курляндской, Лифляндской и Эстляндской губерниях. Теперь немецкий язык и лютеранство, дозволенные со времён завоевания Прибалтики Петром I, теперь оказались там под запретом. Немецкие училища Прибалтики отныне переводились на русский язык преподавания. В 1885 году приходские школы армянской григорианской церкви были преобразованы в русские – породив сильнейшее негодование в среде ранее лояльных Петербургу армян и дав толчок развитию армянского национализма. В 1903 году имперские власти конфисковали имущество армянской церкви, вызвав взлет протестов по всей Армении. В 1890 году русский язык преподавания был введён в школах и духовных семинариях Грузии.
Однако главные гонения обрушились на евреев. Царь ненавидел инородцев. Среди врагов Российского государства на первое место были официально поставлены поляки, на второе – евреи, и только на третье – либералы, студенты, революционеры и интеллигенция, объявленные всего лишь орудием в руках «польско-жидовского заговора». В 1881 году по стране прокатилась первая волна еврейских погромов. Затем они стали регулярными – при бездействии полиции. Когда герой русско-турецкой войны 1877–1878 годов, генерал И.В. Гурко пожаловался государю на то, что войска бездействуют во время еврейских погромов, император Александр III искренне ответил: «А я, знаете, и сам всегда рад в глубине души, когда евреев бьют».
Славянофил Иван Сергеевич Аксаков доказывал в своих статьях, что евреи составляют в России «государство в государстве» и направляются из зарубежного центра с целью установления всемирной власти еврейского народа, стремясь достичь «миродержавства антихристианской идеи во образе миродержавства еврейского».
3 мая 1882 года были изданы «Временные правила о евреях», существенно ограничивавшие их права. Была резко сокращена «черта оседлости» (территория, где дозволялось селиться евреям). В «черте оседлости» евреям запрещалось жить вне городов и местечек, ограничивалась их экономическая деятельность, запрещалось возглавлять банки, владеть недвижимостью в сельской местности, заниматься сельским хозяйством. Из Москвы и Московской губернии были принудительно выселены и при этом ограблены 17 тысяч евреев-ремесленников – наименее обеспеченная часть еврейского населения. Жёстко ограничивался доступ евреев к образованию: устанавливались квоты – не более 10 % в университетах в черте оседлости, не более 5 % – вне её, не более 3 % – в столицах. В 1889 году евреям было запрещено заседать в судах присяжных. Были введены запреты на доступ евреев к ряду профессий. В 1887 году Ростов-на-Дону и Таганрог были изъяты из черты оседлости. Антисемитизм был объявлен официальной политикой и повсеместно пропагандировался в печати. Евреев травили, объявляли главным внутренним врагом России, оплотом революционного движения. Не удивительно, что подобные меры властей и в самом деле толкали многих евреев в ряды революционеров.
Подобные же гонения обрушились в эти годы и на поляков: запреты на польский язык и культуру, закрытие костёлов, запрещение изучать польский язык в школах. С 1860-ых годов, после подавления героического польского восстания, бывшее Царство Польское презрительно именовалось официально Привисленским краем. В школах и в делопроизводстве допускался исключительно русский язык. Ставилась задача уничтожения польской культуры и принудительного обрусения мятежных поляков. Тысячи из них были депортированы в Сибирь. Поляки не допускались к занятию важных государственных постов. «Поляк» означал для власти и обывателя: «революционер», «крамольник», «подозрительный человек». Широко практиковалось принудительное обращение поляков в православие.
Точно также принудительно обращали в православие униатов на западе России и в Польше, «инородцев» мусульман на востоке страны, лютеран в прибалтийских губерниях, ламаистов (калмыков и бурят). Отказывающимся переходить в официальную веру запрещалось строить свои храмы и проводить богослужение. Особенно жестоким гонениям были подвергнуты староверы и сектанты (духоборы, штундисты), у которых власти нередко отнимали детей, запрещали им молитвенные собрания, ссылали в Сибирь. Велась суровая борьба с местными языками на окраинах: повсеместно насаждались русский язык и православная вера.
В эти годы фактически была уничтожена автономия Великого княжества Финляндского в составе России. Были серьезно ограничены права финляндского сейма, на все ключевые посты были поставлены русские, официальное делопроизводство было переведено на русский язык, была упразднена самостоятельная финляндская армия. Это, естественно, вызвало существенный подъем сепаратистского и революционного движения в Финляндии, бывшей до того одной из самых спокойных частей Империи, а к началу ХХ века превратившейся в клокочущий вулкан: с массовой легальной оппозицией самодержавию и влиятельным вооружённым подпольем.
Официальный антисемитизм, антиполонизм, насильственная русификация окраин, дискриминация «инородцев» и «иноверцев», натравливание на них русского населения и насаждение ненависти между этими народами и «истинно русскими людьми», религиозный и национальный гнёт в Финляндии, Польше, Прибалтике, Средней Азии, на Кавказе, – не столько сплотили русский народ вокруг императорского трона, сколько породили широкие движения протеста на окраинах огромной Российской Империи. Угнетаемые и завоёванные народы не желали более терпеть иго Российского Государства. Подобная политика самодержавия не столько «выпускала пар» недовольства, сколько подготавливала мощнейший общественный взрыв, который и произошёл в самом начале ХХ века.
6.3.6. Экономические реформы С.Ю. Витте: очередная попытка индустриализации России
Контрреформы и жесточайшая реакция в политической, духовной и социальной сферах сочеталась в 1880-ые – 1890-ые годы с бурными экономическими преобразованиями. Если на посту министров внутренних дел находились крайние реакционеры (Толстой, потом Сипягин и, наконец, Плеве), то на другом ключевом посту в правительстве – министра финансов – находились более либеральные чиновники, сочетавшие консерватизм и охранительство с реформаторством: Бунге, Вышнеградский и, наконец, Сергей Юльевич Витте, с именем которого связана очередная попытка ускоренной индустриализации России. По своим целям и стратегии эта попытка напоминает как предшествующую (времён Петра I), так и последующую (эпохи И.В. Сталина). Как и в других названных случаях целью индустриального скачка было ускоренное развитие российской военной машины (чтобы она не отстала от Европы), а главным источником средств на индустриализацию послужило принудительное выкачивание средств из крестьянства. Жертвой промышленного роста оставалась, как и в других случаях, разоряемая государством деревня. В виттевской индустриализации решающую роль как всегда играло государство, насаждающее сверху капитализм, контролирующее и организующее промышленность посредством государственных заказов, кредитов, субсидий, ввоза иностранных капиталов, формирования собственной буржуазии около себя и под своим неусыпным контролем.
Убежденный монархист, способный на многое чиновник, талантливый ученый-экономист, стратегически мыслящий политик и администратор, ловкий интриган и делец, умный, тщеславный, циничный, целеустремленный, беспринципный человек, прошедший путь от скромного железнодорожного чиновника до всемогущего царедворца и сановника, Сергей Юльевич Витте, в значительной степени руководивший внутренней и внешней политикой России в последнее десятилетие ХIХ века, разработал и в значительной мере осуществил в эти годы серию масштабных экономических мероприятий, призванных привести к индустриальному рывку России. Основными из этих мероприятий были следующие.
Витте настоял на введении жёсткого протекционизма в таможенной сфере – повышении пошлин, призванных поддержать слабую и неконкурентоспособную российскую промышленность и остановить захват российского рынка дешевыми и качественными зарубежными товарами. При этом вывоз российских товаров за границу (в основном, в Азию) всячески поощрялся. Это привело к «таможенной войне» с Германией, в процессе которой в России были обложены огромными таможенными пошлинами ввозимые в страну германские промышленные товары (в интересах российской буржуазии), а в Германии такими же огромными таможенными сборами (в интересах германских помещиков-юнкеров) было обложено ввозимое из России зерно.
Другой важной мерой, проведённой по настоянию Витте, было введение (под предлогом борьбы с пьянством и газетную шумиху против алкоголизма, а на самом деле в целях пополнения казны) в 1894 году государственной монополии на торговлю вином и водкой (аналогичные, весьма прибыльные, государственные монополии на чай, соль, сахар и табак действовали уже и раньше). Это позволило резко повысить доходы казны за счет активно спаиваемого населения: около 25–30 % всех доходов госбюджета в 1890-ые годы поступали по «пьяным» статьям (таможенный доход составлял 15 %, табачный доход – 3 %, подати – 6 % и т. д.). Что касается статей расходов, то 70 % бюджета тратилось на государственный кредит, 25 % – на армию, 10 % – на полицию и 2,5 % – на народное образование.
Третьей важной мерой была осуществленная Витте в 1897 году денежная реформа – введение твёрдого, обеспеченного драгоценными металлами золотого рубля (в котором, правда, была уменьшена доля золота) вместо бывшего раньше нестабильного серебряного рубля. Подобная мера, с одной стороны, привела к ухудшению положения населения, росту цен, инфляции, но с другой стороны, – укрепила русскую валюту и привлекла в Россию иностранные капиталы. Именно привлечение иностранного капитала в страну, по убеждению Витте, должно было стать двигателем российской индустриализации. Если вспомнить, что российские рабочие были наиболее низкооплачиваемыми в Европе, понятно, что западные капиталисты были заинтересованы во вкладывании своих средств в развитие русской промышленности и активно инвестировали их в неё.
Очень быстро основные сферы российской индустрии оказались под контролем французского, бельгийского и, в меньшей степени, английского и немецкого капитала. Две трети промышленных акционерных обществ наиболее развивающегося индустриального региона страны – юга России – были полностью иностранными, а остальные – смешанными. Иностранный капитал господствовал в энергетике, тяжёлой индустрии, электротехническом и химическом производствах. Так в электротехнической промышленности России преобладали немцы, в табачной промышленности – англичане, в добыче золота и нефти – шведы и американцы. Иностранные капиталисты получали отличные сверхприбыли за счёт эксплуатации российских рабочих и за счёт извлечения российским государством колоссальных средств из крестьянской общины (затем эти средства передавались иностранным предпринимателям).
Главная, непосильная тяжесть индустриализации, как обычно, пала на нищающую российскую деревню. Если в середине 1880-ых годов из России вывозили за границу на продажу 17 % от общего производства зерна, то к началу 1890-ых годов – уже 25 %. (Одновременно русскую деревню поразил голод. Министр финансов И.А. Вышнеградский во время страшного голода 1891 года, унесшего жизни многих крестьян, откровенно заявил: «Сами не будем есть, но будем вывозить». Этот бесчеловечный принцип «не доедим, но вывезем» – лёг в основу индустриализации России и при Витте, и через полвека – при Сталине.) Государство различными путями «выкачивало» из крестьян зерно, продавало его на Запад и на вырученные таким образом деньги субсидировало строительство фабрик, закупало оборудование и машины для проведения индустриализации. Посредством высоких налогов, выкупных платежей, винной государственной монополии крестьяне, сами того не желая, оплачивали растущую индустрию – прежде всего, военную.
По словам известного экономиста России конца ХIХ века, теоретика кооперации М.И. Туган-Барановского: «Русский промышленный капитал питается не только соками эксплуатируемых им рабочих, но и соками других, не капиталистических производителей, прежде всего земледельца-крестьянина. Земледелец, который покупает плуг или косу по цене, вдвое высшей стоимости производства, ещё больше участвует в создании высокой нормы прибыли Юзов, Конкерилей и прочих владельцев металлических заводов, чем их собственные рабочие. В этой возможности стричь овец, так сказать, вдвойне, жечь свечу с обоих концов, и заключается секрет привлекательности России для иностранных капиталистов».
А известный знаток сельского хозяйства в России А.Н. Энгельгардт констатировал в своих «Письмах из деревни»: «Американец продаёт избыток, а мы продаём необходимый насущный хлеб… Пшеницу, хорошую чистую рожь мы отправляем за границу, к немцам, которые не станут есть всякую дрянь… Но мало того, что мужик ест самый худший хлеб, он еще недоедает». Отсюда проистекал один из самых горьких парадоксов российской жизни: крестьяне, разоряемые государственными податями и помещичьими латифундиями, зачастую голодали, отдавая государству почти весь хлеб, а потом этот хлеб продавался за границу.
Дивиденды французских капиталистов от вложенных в российскую экономику денег достигали 40 %, тогда как во Франции они приносили в сходных сферах экономики всего 2 %. Естественно, зависимость российской промышленности от французских капиталов всё время возрастала, а российская государственная политика всё сильнее оказывалась в фарватере Франции (что в итоге привело Россию к участию в Первой мировой войне на стороне своей «финансовой метрополии»). По словам современного исследователя Б.Ю. Кагарлицкого: «Проблема иностранных инвестиций в том, что за них нужно платить. Там, где есть ввоз капитала, должен быть и вывоз прибыли. Сверхприбыль, получаемая в России, обслуживала процесс накопления капитала во Франции и других западных странах». Российское государство, усиливая свой финансовый пресс в отношении крестьян, таким образом оплачивало индустриализацию и обеспечивало сверхприбыли западному капиталу.
Политика индустриализации, проводимая Витте, обернулась разорением деревни, повторяющимся голодом, революцией 1905–1907 годов, катастрофическим ростом международных долгов России и уменьшением суверенитета имперских властей. За 30 лет (1881–1913) Россия выплатила по займам и процентам в 1,5 раза больше того, что получила. То есть, фактически, Россия не ввозила, а вывозила капитал за границу. Роль заграничного капитала в российской промышленности неуклонно росла, а самодержавное правительство все больше запутывалось в долгах. Банковская сфера, промышленность и транспорт России во многом находились под контролем иностранного капитала, начинающего определять и внешнюю политику Империи. Государственный долг России при Витте вырос в два раза. Расплачиваться за него пришлось как сотням крестьян, умершим от голода, так и миллиону русских солдат, погибших на полях Первой мировой войны.
Государственный патернализм по отношению к развитию индустрии и посредничество государства в отношениях с международным капиталом были решающими факторами виттевской индустриализации. Государство выкачивало из крестьянства средства (посредством податей, монополий и разнообразных налогов), брало иностранные кредиты и гарантировало их возврат с процентами, раздавало государственные заказы, подавляло рабочие выступления (сохраняя низкую зарплату рабочих и высокую норму прибыли от их эксплуатации, создавая привлекательность России для западного капитала), формировало новую буржуазию – крайне бюрократизированную, криминализированную и коррумпированную.
Однако в конце ХIХ века разразился мировой экономический кризис: упали мировые цены на хлеб и сырье, началось бегство капиталов из России. Это привело к глубокому кризису российской экономики. В 1901 году неурожай вызвал новый голод в России. В 1900–1903 годах в России были закрыты три тысячи промышленных предприятий (одна восьмая часть от их общего числа!).
Тем не менее, ценой разорения деревни и усиления зависимости страны от международного капитала, ценой роста государственного долга и обострения социальной напряженности в деревне и городе, Сергею Юльевичу Витте к началу ХХ века удалось достигнуть довольно впечатляющих результатов на пути ускоренной индустриализации страны.
Главным «мотором» индустриализации было ускоренное (и приносящее фантастические прибыли капиталистам и столь же фантастические взятки чиновникам) строительство железных дорог – настоящая «железнодорожная лихорадка». Государство вкладывало огромные средства в развитие сети железных дорог, прежде всего, для военных целей, подчиняло себе частные железные дороги. Была построена, в преддверии ожидавшейся войны с Японией, Великая Сибирская железная дорога (Транссиб), позволявшая перебрасывать войска из центральной России на Дальний Восток (во Владивосток и Порт-Артур) – направление главной экспансии Российской Империи. За 1892–1903 годы было построено 27 тысяч километров железной дороги (к 1892 году в России было лишь 3100 километров железных дорог).
В конце ХIХ века Россия вышла на пятое место в мире по экономическому развитию (после Англии, США, Германии и Франции). Добыча нефти за 40 лет выросла в 1300 раз, и Россия вышла на первое место в мире по этому показателю. Добыча угля выросла в 54 раза. Был создан новый главный индустриальный центр страны (на смену пришедшему в упадок Уралу) – Донбасс, где были открыты залежи каменного угля и построены крупные металлургические заводы. Центром нефтедобычи стал город Баку.
Мировой экономический кризис и борьба бюрократических ведомств, а затем и революция приостановили индустриализацию России. Министерство внутренних дел (в начале ХХ века возглавляемое сначала Сипягиным, а потом и Плеве – они оба были убиты революционерами), в противовес министерству финансов, возглавляемому Витте, выступало во внешней политике – за «маленькую победоносную войну» с Японией (как способ решить внешние и внутренние проблемы) и за недопущение никаких реформ внутри страны. Напротив, Витте, умело сочетавший либеральные и консервативные начала в своей политике, предлагал во внешней политике экономическую и дипломатическую, а не военную экспансию в Азии, и проведение ряда реформ в России с целью уравнивания крестьян с другими сословиями, переселения части крестьян на окраины Империи и развала крестьянской общины. Николай II, не любивший чересчур сильных, умных и самостоятельных людей около себя, предпочёл в 1903 году отправить Витте в почётную отставку и сделать выбор в пользу силового решения тяжелейших внешних и внутренних проблем. Этот выбор и ставка царя на «силовиков» непосредственно вели к революции.
6.3.7. Внешняя политика России в 1881–1904 годах
В годы правления «Царя-Миротворца» Россия не вела войн. Империя, располагавшая самой большой армией в мире (1 миллион 300 тысяч солдат), не стремилась более ни к каким европейским завоеваниям, но лишь к удержанию захваченных в течение предыдущего столетия территорий (Польши, Финляндии, Кавказа). Империя желала поддержания европейского мира и баланса, сохранения своего доминирования на Балканах (Болгария была оккупирована русскими войсками и фактически управлялась русскими генералами, Черногория и Сербия оставались верными сателлитами России). Только Стамбул (Константинополь) и проливы, ведущие из Чёрного моря в Средиземное, по-прежнему неотступно манили самодержавие: через Чёрное море шло 50 % всего зерна, вывозимого из страны за рубеж.
По словам Александра III, России теперь не было надобности ни вмешиваться в дела Европы, ни искать чьего-либо союза в Европе. Он торжественно объявил князя крошечной Черногории своим единственным союзником в Европе. Хотя политике реакции и контрреформ, проводимой внутри России, соответствовал курс на изоляцию страны от Европы, однако усиление экономической зависимости Петербурга от Франции и логика складывания в 1890-ые годы коалиций ведущих империалистических государств, постепенно заставила самодержавие выйти из изоляции и примкнуть к франко-английскому союзу (Антанте).
На протяжении 1880-ых – 1890-ых годов происходило постепенное ухудшение отношений между Россией, с одной стороны, и Австро-Венгрией и Германией, с другой. Первым очагом раздора стали Балканы. В результате переворота в Болгарии эта страна освободилась из-под российского диктата и… оказалась в фарватере политики Австро-Венгрии и Германии, что (как и оккупация Австрией Боснии и Герцеговины) вызвало ярость со стороны российского самодержавия. Кроме того «таможенная война» с Германией, её стремительное военное усиление (в 1870-ые годы вся Германия была оккупирована Пруссией и превратилась в Империю) вызывали растущее беспокойство в Петербурге. Россия в эти годы неоднократно предотвращала нападение Германии на Францию: страх перед войной на два фронта – против Парижа и Санкт-Петербурга, удерживал Бисмарка, однако враждебность между Россией и Германией накапливалась.
Узнав о заключении между Австро-Венгрией и Германией военного союза, направленного против Франции и России, Александр III резко и окончательно повернул внешнюю политику России в сторону Франции. (Хотя многолетние дипломатические связи, родственная близость монарших фамилий и имперское государственное устройство традиционно сближало Российское государство с Германией). Глашатаем антигерманского курса стал знаменитый «белый генерал», главный герой русско-турецкой войны 1877–1878 годов Михаил Дмитриевич Скобелев, в своих резких речах пропагандирующий союз России с Францией и войну против Германии. Этому союзу способствовали не только опасения перед коалицией Вены и Берлина, но и доминирование французского капитала в России. В 1891 году в Кронштадт с официальным визитом прибыла французская военная эскадра. Её встречал сам император Александр III, смиренно прослушавший стоя революционный гимн Франции «Марсельезу» (за исполнение которой в России людей преследовали, как за уголовное преступление). Многолетний стратегический союз России с Германией сменился решительным союзом с Францией. Со временем Франция сумела вовлечь Россию и в союз с Англией. В 1893 году был заключен франко-русский военный союз. Впрочем, он долго оставался тайным: даже наследник престола Николай II до своего воцарения не знал о нём – в этом проявилась любовь Александра III к единоличным решениям и секретной дипломатии, находившейся вне ведома не только российского общества, но даже его ближайшего окружения. Так началось неуклонное и роковое движение Европы к Первой мировой войне.
В 1899 году по инициативе нового императора России Николая II состоялась Международная Гаагская конференция по разоружению с участием представителей двадцати семи государств. На ней было осуждено жестокое ведение войн, был введен запрет на применение удушающих газов, создан Международный Гаагский суд для мирного разрешения международных конфликтов (он существует и по сей день). Была принята декларация о мирном разрешении военных споров, акты о законах и обычаях ведения сухопутной войны.
Главным направлением военной, экономической и политической экспансии Российской Империи в последней четверти ХIХ века стала Азия. Подвергаясь колонизации со стороны западного капитала, Российская Империя сама, в свою очередь, проводила колонизацию и осуществляла военную и экономическую экспансию на Востоке: захватывая новые территории, наводняя рынки своими товарами и выкачивая сырье из азиатских владений. В эти десятилетия завершается завоевание и колонизация Средней Азии русскими войсками, происходит активное экономическое и дипломатическое наступление в Персии, Корее и Китае.
Это породило острые конфликты с Великобританией, справедливо опасавшейся за свои индийские владения и претендовавшей на доминирование в Персии и Афганистане. Несколько раз Россия и Англия на протяжении 1880-ых годов (особенно в 1889 году, после захвата Россией Мерва – города у самой афганской границы) находились на грани войны. В итоге главные спорные вопросы о межимпериалистическом разделе Азии были урегулированы, сферы влияния империалистических держав разграничены: Средняя Азия и север Персии отошли России, южная Персия и Афганистан остались за Англией; Россия подтвердила свой отказ от покушения на Индию – главную жемчужину в короне Британской Империи. К началу ХХ века под влиянием Франции начинается постепенное сближение России и Англии.
На Дальнем Востоке Россия, проводя экспансию в Корее и стремясь к захвату Северного Китая, столкнулась с Японией, что вызвало войну в начале ХХ века. В России почти никто не сомневался, что эта война будет и «маленькой», и «победоносной» и приведёт как к укреплению самодержавия, так и к окончательному господству России в Китае. Ещё будучи наследником престола, Николай Александрович председательствовал в Сибирском Комитете, занимавшемся строительством Транссиба. Характерно и то, что Александр III отправил своего наследника – цесаревича Николая (будущего Николая II) в долгую заграничную поездку (в которые обычно ездили наследники трона) не в Европу, как было всегда раньше, а на Дальний Восток, указывая этим основное направление будущей российской экспансии. Во время этой поездки произошел досадный инцидент: в Японии на Николая во время прогулки было совершено покушение – один японский полицейский ударил его шашкой по голове и ранил. Это событие сформировало в Николае II глубокую ненависть и презрение к «макакам» (как он называл японцев) и во многом подтолкнуло его к войне с Японией, оказавшейся столь позорной для Российской Империи. По мнению осведомленного С.Ю. Витте, у юного императора Николая II «неоднократно рождалась мысль о дальнейшем расширении великой Российской империи в направлении к Дальнему Востоку, о подчинении китайского богдыхана, подобно бухарскому эмиру, и чуть ли не о приобщении к титулу русского императора дальнейших титулов, например: богдыхан китайский, микадо японский и пр.».
6.3.8. Начало правления Николая II: продолжение реакции и приближение революции
Император Александр III в 1894 году умер в Ялте от болезни почек. Два обстоятельства ускорили его смерть: крушение царского поезда в 1888 году у станции Борки, в ходе которого здоровье императора пострадало, и чрезмерное пристрастие монарха к алкоголю (таким образом государь стремился заглушить постоянный страх перед покушениями).
Поскольку давней и устойчивой закономерностью российской внутриполитической жизни стала смена на престоле консервативных, реакционных императоров императорами-реформаторами, широкие круги российского общества с нетерпением ждали смерти Александра III и того часа, когда на престол взойдет, на смену Александру III, его сын и наследник Николай, с которым связывались надежды на либеральные послабления земствам, прекращение политики контрреформ и введение политических свобод в России. Эти надежды очень скоро обнаружили всю свою иллюзорность.
Воспитанный К.П. Победоносцевым, Николай, подобно своему отцу, объявил дворянство «исконным оплотом порядка и нравственной силой России» и обещал во время своей коронации, что «нужды его не будут забыты». Новый монарх был человеком довольно ограниченным, не слишком умным, скрытным, хорошим семьянином, воспитанным, заурядным, привязанным к частной жизни и слабо понимающим смысл происходящих вокруг событий человеком, склонным попадать под влияние более ярких и сильных личностей – Победоносцева, своей жены-немки Александры Федоровны (властной и несколько истеричной особы), великих князей – своих дядьёв. В то же время он, как многие слабохарактерные люди, не любил сильных и незаурядных личностей и стремился удалить их (как С.Ю. Виттте), предпочитая окружить себя посредственностями, ещё более ничтожными, чем он сам.
Победоносцев внушил новому царю, что любые попытки реформировать самодержавие приведут к тому, что «всё рухнет», и потому Россию надо неустанно «подмораживать». Николай II, как и его отец, ненавидел западную демократию, общественное мнение и интеллигенцию: «безответственную» и «продажную». Слово «интеллигенция» до такой степени было противно императору, что он предлагал даже вычеркнуть его из русского словаря, надеясь, что, отменив это понятие, можно будет покончить раз и навсегда и с самим явлением. Николай II мечтал «соединиться с народом», незамутнённым ни бюрократией, ни интеллигенцией. За 22 года правления Николая II было канонизировано больше святых, чем за четыре предыдущих царствования. Однако на просьбы освободить церковь из-под гнёта Империи, дозволить созыв церковного собора и возрождение патриаршества, Николай II (формально бывший главой церкви) отвечал уклончиво и неопределённо. Царь был очень мало способен к управлению страной. Вместо него правили его дяди – великие князья, его мать-датчанка, его жена-немка, Победоносцев, Витте, Плеве, Распутин и другие влиятельные, консервативные и своекорыстные люди из окружения императора. По убеждению Николая II, он был «помазанником Божиим», «хозяином земли Русской» (русскую землю он, по традиции московских князей, воспринимал, как своё поместье, а его частная семейная жизнь была куда важнее всех политических дел). По его убеждению, народ любил и почитал Бога и царя, но лишь искушался ненавистной интеллигенцией, враждебной православию и самодержавию.
Либеральная общественность ожидала, что император Николай II вновь, подобно своему деду Александру II, обратится к реформам. Но 17 января 1895 года в своей речи перед представителями земств, городов и дворянства, новый император призвал их «оставить бессмысленные мечтания» о реформах и об участии земств в управлении страной. Общество не будет допущено к участию в делах государства, самодержавный строй останется прежним, будет продолжаться реакционная политика Александра III по «отеческому управлению Россией», – таков был смысл его программной речи. Самодержавие резко пресекало попытки совместных действий и совещаний представителей от местных земств, опасаясь возникновения таким путем парламентаризма в стране.
В мае 1896 года во время коронационных торжеств произошла страшная трагедия на Ходынском поле в Москве, где собралось 500 тысяч человек получать подарки. В результате давки 1400 человек погибли, были затоптаны и раздавлены, примерно столько же человек были изувечены. Тем не менее, царь вечером того же дня танцевал на праздничном балу, торжества продолжались, как ни в чем не бывало. Это продемонстрировало всю степень бездушия и бесчеловечности царского режима, его полное отчуждение от подданных и безразличие к их жизням. Государь же был больше всего на свете озабочен одной-единственной государственной задачей – произведением на свет наследника трона (что давалось ему довольно плохо). Власть была дискредитирована в глазах общества. Отнюдь не революционно настроенный поэт Бальмонт пророчески предрекал неизбежность возмездия Романовым: «кто начал царствовать Ходынкой, тот кончит – встав на эшафот».
Два десятка лет Александр III и его сын пытались повернуть жизнь страны вспять под лозунгом возвращения России на здоровые исторические основания. Лимит на «подмораживание России», на реакцию и застой был полностью исчерпан. Всей своей политикой: в деревне, в среде рабочих, на национальных окраинах – царский режим подготавливал грандиозную социальную революцию: загоняя проблемы внутрь, затыкая рты несогласным, «закручивая гайки», отказываясь от диалога с обществом, подавляя в стране всё, что «движется» и «шевелится». Роптали задавленные чиновниками и превращённые сами в чиновников земцы, возмущались жесткой русификацией и религиозным гнетом поляки, финны, евреи, униаты, староверы, сектанты, ламаисты, лютеране, протестовало студенчество. Аграрный, рабочий, национальный вопросы слились воедино, сочетаясь с деградацией правящей элиты и потерей ею опоры в обществе. Деградировало, несмотря на все усилия власти, дворянство, проедая и пропивая огромные деньги, переданные ему казной за счет беднеющих крестьян. Стагнировала армия, погрязшая в муштре и управляемая бездарными старцами. Происходил рост рабочего движения и назревал социальный взрыв в среде голодающего, нищающего малоземельного крестьянства, отданного царём вновь во власть помещиков. Произошли крупные крестьянские восстания в Грузии и Средней Азии. В 1899 году страна была охвачена первой всероссийской политической студенческой забастовкой. Царские министры – гонители студенчества и душители общественного движения: Боголепов, Сипягин, Плеве, – пали, казнённые пулями и бомбами революционеров, понеся справедливое возмездие за свои преступления, к радости рассерженного общества.
Два десятилетия контрреформ вели к стагнации и разложению царского режима, росту всеобщего недовольства в обществе, страшному обострению социальных конфликтов, вырождению правящей верхушки (погружённой в интриги, коррупцию, взяточничество). Начало ХХ века было ознаменовано всемирным экономическим кризисом, рабочими забастовками, брожением среди деятелей земств, революционизацией крестьянской общины, волнениями на национальных окраинах. Избранные в качестве государственной стратегии патриархальная инерция и тотальные контрреформы отсрочили взрыв, но не решили проблем России, а лишь усугубили их и на время загнали вглубь. Абсолютизм полностью потерял инициативу и во многом лишился поддержки со стороны общества. Ставка императора на дворянство и общину оказалась неудачной. Дворянство частично обуржуазивалось, проникаясь оппозиционными либеральными настроениями, частично – разорялось, деградировало и сходило со сцены. А консолидировавшаяся крестьянская община из опоры трона к началу ХХ века стала его главной угрозой.
«Подмораживая Россию» в политической сфере и возвращая её к крепостническим временам, усиливая сословность общества и влияние в нём дворянства, императорская власть одновременно была вынуждена проводить капиталистическую индустриализацию (чтобы в военном отношении не отстать от Запада совсем безнадежно), насаждала в многонациональной и многоконфессиональной стране национализм. Всё это разоряло дворянство и крестьянство, усиливало зависимость страны от иностранного капитала. Эти две противоположные тенденции во внутренней политике вступали в неразрешимое противоречие друг с другом.
Оппозиция режиму была ослаблена репрессиями, но не уничтожена (как в эпоху Николая I). В Польше, Армении, Грузии, Финляндии, Средней Азии, на Кавказе усилились сепаратистские движения, в земствах росли либеральные настроения, продолжали свою деятельность народники, возникли марксистские кружки. Страну сотрясали крестьянские, рабочие и студенческие выступления. В начале ХХ века начинают возникать как национальные, так и общероссийские политические партии: либеральные, революционные и социалистические (народнические и марксистские), предлагающие свои альтернативы существующему невыносимому и постыдному порядку вещей. И, чем сильнее был гнет самодержавия, тем сильнее противодействие общества, выбирающего революционные пути – ничего среднего не было дано России. Социальная, культурная, экономическая, военная, политическая отсталость России усугубилась за эти два «потерянные» страной десятилетия контрреформ. Мировой экономический кризис начала ХХ века, новый голод в деревне и разгром Российской Империи в войне с Японией (разгром столь же сокрушительный, сколь и неожиданный) сделали системный кризис российского государства всеобъемлющим и очевидным и породили Революцию – прямое и неизбежное следствие реакции двух предыдущих десятилетий.
Литература
• Анисимов Е.В. Время петровских реформ. Л., 1989
• Гордин Я. Меж рабством и свободой: причины исторической катастрофы. СПб., 2015
• Гордин Я. Мятеж реформаторов: когда решалась судьба России. СПб., 2015
• Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (XII–XIV вв.). М., 2001
• Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.). М., 2001
• Дворцовые перевороты в России. 1725–1825. Ростов-на-Дону, 1998
• Зимин А.А. Витязь на распутье. Феодальная война в России в XV веке. М., 1991
• История Отечества: люди, идеи, решения. (Сост. В. Мироненко). Т.1, 2. М., 1991
• История терроризма в России. (Сост. О. Будницкий). Ростов-на-Дону, 1996
• Кагарлицкий Б. Периферийная империя: Россия и миросистема. М., 2004
• Карацуба И.В., Курукин И.В., Соколов Н.П. Выбирая свою историю. «Развилки» на пути России: от Рюриковичей до олигархов. М., 2006
• Кобрин В. Иван Грозный. М., 1989
• Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII– начало XIX века). СПб., 1994
• Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. В 3-х тт. М., 1994
• Пушкарёв С.Г. Обзор русской истории. Ставрополь, 1993
• Скрынников Р.Г. Государство и церковь на Руси в XIV–XVI веках. Новосибирск, 1991
• Троицкий Н.А. Россия в XIX веке. М., 1997
• Чулков Г. И. Императоры: психологические портреты. М., 1991
• Янов А.Л. Россия: у истоков трагедии. 1462–1584. Заметки о природе и происхождении русской государственности. М., 2001

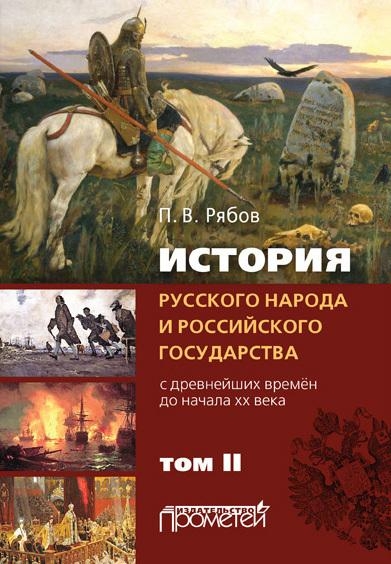

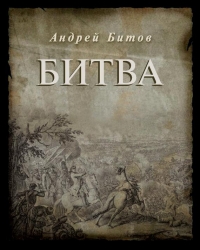
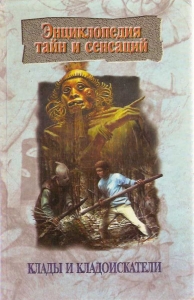
Комментарии к книге «История русского народа и российского государства. С древнейших времен до начала ХХ века. Том II», Петр Владимирович Рябов
Всего 0 комментариев