Марк Амусин Огонь столетий
© М. Амусин, 2015
© ООО «Издательство К. Тублина», макет, 2015
© А. Веселов, оформление, 2015
* * *
Раздел I. Ретроспектива пунктиром
Памяти Герцена (не по Ленину, не по Коржавину)
Наступает герценовский юбилей – 200-летие со дня рождения. А, собственно, кто он такой – Александр Иванович Герцен? Смутная какая-то фигура, где-то между Державиным, Пушкиным и Достоевским. Ну, кто-то его разбудил, декабристы, что ли, ну, боролся он против самодержавия, проповедовал утопический социализм, кажется, призывал к топору… Забыто, неинтересно.
Так, признаться, собирался я начать и продолжать эту статью, в тоне укоризны нашему ленивому и не помнящему родства общественному сознанию, нашему ко всему равнодушному времени. Но вдруг осекся: стоп – а Стоппард? Томас Стоппард, знаменитый британский драматург, возведенный в рыцарское достоинство, который в начале этого тысячелетия написал трилогию «Берег утопии», ставшую настолько популярной, что ее даже перевели и поставили в Москве? А ведь центральный персонаж этого театрального проекта – как раз Герцен, окруженный со всех сторон Белинским и Огаревым, Бакуниным и Тургеневым, Грановским и Марксом, etc.
Эх, ну почему опять отдали на откуп концессионеру-иностранцу эту поистине золотую жилу? Ведь биография Герцена с ее затейливыми, полными пафоса и мелодраматизма зигзагами – просто готовый сюжет для эффектного исторического сериала. Нарочно не придумаешь: незаконнорожденный сын магната-нелюдима екатерининской эпохи, детство, проведенное в одиночестве и пылких шиллеровских мечтах, встреча с другом на всю жизнь (Огаревым), совместная детская клятва на Воробьевых горах бороться с деспотизмом; удалые студенческие годы, ссылка, потом другая, романтичнейшая женитьба на кузине, штурмовой прорыв в центр российской литературной жизни. Потом эмиграция, вовлеченность в революционный водоворот 1848 года, энтузиазм и разочарования, случайная гибель близких, жестокий романс – жена, изменившая с другом. Далее – смерть жены, глубокий личностный кризис, стимулировавший написание «Былого и дум», успешнейшая пропагандистская кампания – издание журнала «Колокол», ставшего на несколько лет властителем дум в России. Наконец – спад популярности и влияния, пора тоски и сомнений, преждевременная смерть. Сюжетная канва получается покруче, чем в недавнем шлягере о Достоевском с Мироновым в заглавной роли. Или это по нынешним временам слишком сложно и неудобоваримо – даже для избранной телевизионной аудитории?
Пожалуй, что так. А ведь Герцен был культовой фигурой для российской интеллигенции на протяжении, по меньшей мере, ста лет. Писатели, мыслители, общественные деятели обращали к нему свои взоры – среди них Тургенев и Толстой, Михайловский и Ленин, Мандельштам и Лидия Гинзбург. Достоевский приберегал для него самые пылкие и самые ядовитые свои филиппики.
Это продолжалось и на протяжении двух третей XX века. В известных «Записках об Анне Ахматовой» Лидии Корнеевны Чуковской имя Герцена всплывает десятки раз – а ведь она пишет совсем о другой эпохе, о других людях, другой литературе. Ну, допустим, Чуковская ощущала «избирательное сродство» с Герценом, его манерой и складом мыслей. Но ведь и для Наума Коржавина, позволявшего себе злую иронию по отношению к герценовскому мифу, сама эта фигура – несомненно, точка отсчета. А Андрей Вознесенский, кумир молодежи 1960–70-х годов, именно в ту пору восклицал: «Интеллигенция! Как ты изолгалась. // Читаешь Герцена, для порки заголясь!» Из поколения в поколение люди мысленно обращались к нему – через бездну времени – за помощью и ободрением в их «немой борьбе».
Все это было. В чем же секрет? Прежде всего, конечно, в неизменной, переходящей из одной политической эпохи в другую, от Николая I до наших дней, необходимости сопротивляться произволу и преследованиям властей. В судьбе нашего героя это неизменное российское противостояние «власть – интеллигенция, деспотизм – порыв к свободе» проявляется с образцовой ясностью и наглядностью. Герцен своей не слишком долгой, но драматически насыщенной жизнью являл общезначимый пример: претворения свободы в образ мыслей и жизненное поведение, в стать, повадку, жестикуляцию.
Свободы, подчеркну, а не «воли», что более естественно для российского человека. Не бунт, не забубенный разгул, часто сменяющийся приступами раскаяния и смирения, демонстрировал Герцен, а способность строить жизнь по собственному независимому разумению (корень «разум» здесь особенно значим). Думаю, что «свобода» означала для него нечто иное, чем то, что мы сегодня понимаем под этим словом: не просто отсутствие принуждения со стороны лиц и учреждений, а еще и возможность не приспосабливаться к обстоятельствам и готовым мнениям, к предрассудкам и обычаям среды, к требованиям моды и «общественному вкусу». Она была для него в гораздо большей степени свободой «для», чем свободой «от».
Хотя не стоит забывать и о самых банальных аспектах его свободолюбия: Герцен-человек категорически отказывался склоняться перед авторитетами, включая авторитет императорской власти, гнуть шею перед стоящими выше в какой бы то ни было иерархии. Он был противником иерархий вообще, в том числе и в сфере духа. Он ценил независимость и свое человеческое достоинство – и, дабы не поступиться ими, дважды отправлялся в ссылку, а потом пожизненно – в эмиграцию. А ведь вполне мог бы с комфортом устроиться на родине, слегка согнувшись, чуть-чуть применившись к власти и подлости.
Однако – мало ли было в российской истории мужественных борцов против Системы? Бакунин и Чернышевский, Кропоткин и Короленко, народовольцы, эсеры и – да-да! – большевики, и так далее – до Сахарова и Солженицына. Участь Герцена среди них – не самая тяжкая, а деятельность – не самая героическая. Существовали, значит, и другие причины неодолимой притягательности этой фигуры. И самая очевидная из них – его огромная и очень яркая литературная одаренность. Повторено много раз и звучит банально – но проза Герцена, будь то его публицистика, философская эссеистика или прославленные мемуары «Былое и думы», действительно глубоко своеобразна и обладает мощной притягательностью. Собственно художественные сочинения Герцена, по общему мнению, заметно уступают его «паралитературному» творчеству. Белинский очень точно обозначил особенный склад его таланта: «У тебя, как у натуры по преимуществу мыслящей и сознательной… талант и фантазия ушли в ум, оживленный и согретый, осердеченный гуманистическим направлением…»
Темы его сочинений воистину далеки от наших сегодняшних забот и интересов. Казалось бы, это никого не может затрагивать, кроме специалистов, и так ведь было уже много десятилетий назад. А вот факт – начав читать «Былое и думы» или «С того берега», «К старому товарищу» или даже «Письма об изучении природы», трудно прервать чтение, вырваться из этого искрящегося и насыщенного потока. Говоря о его публицистике, Лидия Чуковская поминает «несколько моих любимых статей – те, где мысли ходят валами ритма» – и этот образ точно передает суть дела.
Самое известное в литературном плане его произведение – нетрадиционная автобиография «Былое и думы», построенная на богатейшем жизненном материале. Герцен извлекает из памяти колоритные картины прошлого – своего детства в доме чудака-отца, университетской юности, пребывания в ссылке, десятилетий эмигрантской жизни. Тут возникает галерея портретов, то детализированных, то набросанных несколькими острыми штрихами, но всегда живых и метких. Вот, для примера, зарисовка двоюродного брата Голохвастова, успешного чиновника: «С летами фигура его все больше и больше выражала чувство полного уважения к себе и какой-то психической сытости собою. Он тогда стал щурить не только глазами, но и ноздрями особенного, довольно удачного покроя».
Жизненные сцены воссоздаются достоверно и рельефно, окрашены юмором, порой весьма едким. При этом бытовая, фактографическая сторона описания для автора не главное. Все это самоценное «сырье» существует и преобразуется в напряженном силовом поле герценовской мысли, которая всегда готова взлететь от единичного случая, факта к широким суждениям и обобщениям. Уже начальные, «детские» главы «Былого и дум» наполнены интереснейшими размышлениями о детской психологии, о взаимоотношениях бар и дворни, о причудливости человеческих типов, которые порождала российская действительность в эпохи Екатерины, Павла, Александра.
Как ни странно, но при чтении первых частей «Былого и дум» у меня возникали ассоциации с воспоминаниями Набокова, например, с «Другими берегами». Помимо жанрового сходства (но кто не писал мемуаров!) бросается в глаза «равновеликость» литературных дарований обоих авторов, как и разительное их различие. Конечно, Набоков – писатель другого века и других художественных задач. Его словесная лепнина изощреннее и рельефнее, чем у Герцена, его картины имеют более сложную перспективу и богаче нюансами. Зато проза Герцена как-то непринужденнее, а главное – она более «сообщительна». Набоков погружен в совершенное блаженство своего детского «рая», он стремится как можно точнее и выразительнее представить читателю его детали. Каким-то образом «относиться» к этой прекрасной объективности ему нет нужды.
В воспоминаниях Герцена все – отношение, оценка, суждение, часто субъективные, не всегда справедливые, но обязательно проникнутые личностным чувством. Объекты его воспоминаний – люди и положения – постоянно испытывают напор его духовной активности, формируются и оживляются ею.
Очень трудно дать представление о его манере тем, кто Герцена не читал – тут приходится довольствоваться описательными характеристиками, подкрепляя их иллюстрациями-цитатами. Он пишет удивительно свободно, непринужденно, даже как будто небрежно, фразы и периоды его часто не закруглены, не причесаны. Но в них блещут афористичность, поэтическая яркость и точность образов, неожиданность ассоциаций и поворотов мысли. Вот несколько примеров. Облик Николая I напоминает ему изображения римских полководцев – «монахов властолюбия». Про поведение одной из приживалок, столовавшихся у отца: «унижаясь глазами и пальцами». О субтильном и безличном адъютанте некоего генерала: «эта жимолость в мундире». О ректоре университета Двигубском: «Вид его был так назидателен, что какой-то студент из семинаристов, приходя за табелью, подошел к нему под благословение и постоянно называл его “отец ректор”. Притом он был страшно похож на сову с Анной на шее…». А вот снова об императоре: «Но в этих случаях толковать с Николаем было невозможно: его упорность доходила до безумия беременных женщин, когда они чего-нибудь хотят животом».
Я написал: афористичность. Это, пожалуй, не совсем верно. Да, многие фразы Герцена необычайно метки и выразительны, они врезаются в память, как дротики. Но афоризм в точном смысле слова – замкнут на себя, высокомерен, что ли, он – Нарцисс. Речения Герцена, даже самые яркие и лаконичные, всегда соотносятся с контекстом, они получают развитие и обогащение в обтекающем потоке слов и мыслей.
И все же художественные достоинства прозы Герцена лишь отчасти объясняют влиятельность и привлекательность этой фигуры на протяжении столетия российской истории. Содержательная сторона его воззрений – вот то, что мощно влекло к нему умы и сердца поколений читателей. Но именно эта-то сторона нынче, как будто, устарела безнадежно?
Конечно, мировоззрение, строй убеждений, «чувство жизни» Герцена сильно привязаны к бурному и судьбоносному историческому отрезку, в котором он выступал активным деятелем. Точки соприкосновения этого периода, его проблематики с нашим днем – неочевидны. Да и позиция Герцена по отношению к тогдашним реалиям и «мировым вопросам» выглядит сегодня сомнительной и как минимум архаичной. Да, он был непримиримым противником царизма, николаевского деспотизма, крепостного права, погрузившего народ в болото бесправия, невежества и пассивности. Но он призывал к насильственному перевороту – а положение начало исправляться благодаря мирным реформам, инициированным царем-освободителем. А его вера в социализм, к тому же русский, крестьянско-общинный? К чему она привела? А его разочарованность в Европе, убежденность в том, что западно-христианская цивилизация стоит на краю гибели или вырождения и не способна к творческому развитию? Где сейчас упования и предсказания Герцена? Социалистический эксперимент провалился. И разве мы не пользуемся сейчас всеми благами той самой цивилизации, добившейся поразительного прогресса – научно-технического, экономического, социального? Нет, недаром многие критики революционаризма на протяжении все того же столетия горько пеняли Герцену за роль, которую он сыграл в раздувании будущего пожара. Да и тон упоминаний о Герцене в постсоветское время очень далек от панегиричности – смотри, например, статью профессора В. Кантора «Пути и катастрофы русской мысли» (журнал «Вопросы литературы», вып. 4 за 2009 г.).
При более внимательном рассмотрении вопрос о грехах и заблуждениях Герцена оказывается не таким простым. Специфика человеческой истории – как процесса и как предмета изучения – в том, что она никогда не дает однозначных ответов и уроков, не предполагает точных и окончательных выводов. Похоже, что историческое движение действительно совершается – правы, правы были «диалектики» – по спирали. На новых, далеко отстоящих от предыдущих, витках развития возникают вдруг коллизии и вызовы, болезненно напоминающие о том, что, казалось бы, давно разрешено и похоронено. А взгляды и суждения отдельных мыслителей, при рассмотрении в хронологической перспективе, могут оборачиваться попеременно то грубыми заблуждениями, то прозрениями.
В 1867 году, завершая «Былое и думы», Герцен пророчествует о безрадостном будущем Европы – ее мирная, мещански усредненная жизнь под властью французского и германского цезаризма должна взорваться катаклизмом войны: «Теперь пойдут озера крови, моря крови, горы трупов… а там тиф, голод, пожары, пустыри». В какой степени сбылся этот апокалиптический прогноз?
Спустя 2–3 года действительно разразилась кровопролитная по тем временам франко-прусская война, а ее прямым следствием явилось восстание французских пролетариев – Парижская коммуна с ее эксцессами, а также не менее жестокое ее подавление. Но за этим последовали не всеобщее разрушение и хаос, а сорок лет благополучного европейского развития, которое привело и к улучшению положения трудящихся классов. Казалось бы, вопреки предсказаниям Герцена, реакция отступила, призрак революции рассеялся, реформизм восторжествовал. (О борьбе этих трех начал – революции, эволюции и реакции – Герцен постоянно и напряженно размышлял.) Но потом случилась Первая мировая, с которой и начался «настоящий, не календарный» XX век – со всеми его виражами, миражами и жестокими чудесами. Так прав оказался Герцен или ошибся? Каверзный вопрос!
Особый разговор о «социалистических заблуждениях» нашего героя. Начиная с 40-х годов XIX века идея отмены частной собственности и организации общежития на новых экономических основаниях стала «хитом» в кругах тогдашних продвинутых интеллектуалов Европы. Для этого в Европе было достаточно оснований: пролетаризация значительных слоев населения, постоянное ухудшение условий жизни промышленных рабочих. Массы неимущих были близки к отчаянию, их протест все чаще принимал насильственные формы, пока дело не дошло до грандиозного и кровавого Июньского восстания 1848 года в Париже. Пресловутый призрак, бродящий по Европе, не был досужей выдумкой Маркса и Энгельса.
Примкнул ли Герцен, созревавший как мыслитель в патриархальных российских условиях, к социалистам исключительно в силу интеллектуальной моды? Пожалуй, в этом что-то есть, хотя нельзя недооценивать и общий гуманистический посыл социалистического учения: возмущение крепостничеством, собственностью на людей легко распространялось на всякую собственность. А наблюдая – в эмиграции – вблизи весь драматизм «рабочего вопроса», Герцен уверился в том, что разрешить его мирным, эволюционным путем не удастся.
Тут его можно упрекнуть за неправильную оценку ситуации – как и Прудона, Бакунина, Луи Блана, основоположников марксизма и других. Капиталистический способ производства – или, говоря шире и в герценовской терминологии, весь общественно-культурный строй европейской жизни – оказался намного гибче, способнее к самоизменению, чем предполагалось его критиками. Значит ли это, что Герцен по отношению к социализму был кругом не прав и повинен в распространении ошибочного и вредоносного учения на российской почве, в приготовлении этой почвы к большевистскому перевороту?
Социалистический идеал в ретроспективе вовсе не заслуживает чисто негативной оценки. Я уж не говорю о том, что именно готовность пролетариев к самым отчаянным действиям, вызванная как объективной безысходностью их положения, так и активностью социалистической пропаганды, побудила имущие классы поделиться частью своей экономической и политической власти. Сверх того – принципы социальной справедливости, социальной демократии наложили мощный отпечаток на всю историю XX века и во многом отчеканили профиль современной европейской цивилизации (то, что сегодня этот профиль резко меняется – совсем другая тема).
Но и по отношению к собственным убеждениям Герцен вовсе не был догматиком – и этим заметно отличался от следующих поколений «борцов за идею», от Нечаева до Троцкого и Сталина. В последние годы своей жизни он изрядно разошелся с неистовым и нетерпеливым ниспровергателем всего сущего Бакуниным и проповедовал социальные перемены, синхронизированные с темпом изменений коллективного сознания народных масс.
Впрочем, и задолго до этого Герцен был очень далек от идей казарменного коммунизма, декретирования революции, вкоренения коммунистического учения посредством гильотины или государственной монополии на мысль. Вот уж в чем его нельзя было упрекнуть, так это в доктринерстве, будь то революционном или коммунистическом. Герцен писал, что «исполнение социализма» явит собой «неожиданное сочетание отвлеченного учения с существующими фактами». Он, как и другие «свободные умы», совершенно не стремился предугадать, тем более регламентировать конкретное устройство нового, справедливого общества – для него был важен сам принцип преодоления частной собственности.
Совершенно очевидно, что «государственный социализм» сталинского образца его возмутил бы ничуть не меньше, чем имперский николаевский порядок. На административные мечтания Фурье или немецких уравнительных коммунистов он смотрел снисходительно, как на неизбежные детские болезни, но мириться с ними не соглашался. Гораздо ближе ему был воспитательно-педагогический подход Роберта Оуэна.
Что же до его критики буржуазного порядка, то в ней есть немало применимого и к сегодняшней реальности. Герцен, конечно, не мог предвидеть постиндустриализма, общества потребления, информационной революции, постмодернизма и прочих атрибутов нашего бытия. Однако некоторые эпохальные тенденции он уловил еще тогда, когда XIX век только перевалил за середину. Многие его суждения: о консолидации общественной и культурной жизни на уровне посредственности, о тирании материальных интересов, о власти привычки и инерции, о распылении «больших смыслов» – кажутся очень точными по отношению к нашему времени. У меня порой создается впечатление, что Герцен лучше понимал будущее, чем многие наши современники – прошлое.
Кстати, совсем не лишены актуальности и практического смысла в условиях современной России соображения Герцена о необходимости общественной «самодеятельности», гражданской самоорганизации на местном уровне, о пагубности чрезмерной централизации.
Если отвлечься от конкретного содержания герценовского мировоззрения, от его исторически обусловленных убеждений, притяжений и отталкиваний, то в его наследии остается еще то, что я определил бы как «правила интеллектуальной и идеологической гигиены». Правда, сегодня, в «не мытой России», равно как и в столь же замызганной «мировой деревне», они звучат несколько странно, как наставления каннибалам чистить зубы перед сном. И все же – вот некоторые из них. Правота не есть функция национальной или религиозной принадлежности. Оппонента не только следует выслушивать, но стоит еще и вдумываться в его аргументацию. Несогласные с тобой тоже могут стремиться к истине и благу. Не следует творить себе кумира из собственных убеждений и даже устоев – их нужно периодически поверять сомнением и критикой.
Последнее положение стоит развить и чуть подробнее сказать о герценовском «методе», об отношении Герцена-теоретика к объектам его размышлений и исследований, о его понимании истины. Все это с легкостью вычленяется из словесной ткани его сочинений. Самое существенное тут – естественный, как дыхание, антидогматизм, отсутствие самоуспокоенности, довольства собою. Сам писатель не раз провозглашал, что вовсе не претендует на владение истиной в последней инстанции, на окончательные выводы и приговоры. В самой лаконичном виде это выражено знаменитой формулой: «Мы вовсе не врачи – мы боль. Лекарств не знаем, да и в хирургию мало верим» (это, кстати, ответ многим критикам, упрекавшим Герцена в революционаристской, «хирургической» безжалостности). Но есть и более показательный, хотя и реже цитируемый пассаж на сходную тему: «…доктрина исключает сомнение. Сомнение – открытый вопрос, доктрина – вопрос закрытый, решенный. Оттого всякая доктрина исключительна и неуступчива, а сомнение – никогда не достигает такой резкой законченности; оно потому и сомнение, что готово согласиться с говорящим или добросовестно искать смысл в его словах, теряя драгоценное время, необходимое на приискивание возражений».
Между тем мы плавно переходим от анализа мировоззренческих принципов Герцена (которые он разделял со многими) к его совершенно уникальному, своеобразному личностному строю, к характеру и темпераменту его интеллекта, к его «чувству жизни».
В основе тут лежит рано созревшее чувство независимости и собственного достоинства, которое Герцен полагал неотъемлемым свойством любого человека, хотя и в разной степени развитым или, наоборот, задавленным условиями жизни и воспитания. Отсюда – его демократизм и нетерпимость к неволе, угнетению, эксплуатации.
Далее – «протестный» склад его натуры. Герцен с юности был заядлым спорщиком, забиякой, «диалектиком» не в философском, а в риторическом смысле понятия – он любил словесные ристалища, любил озадачивать и сбивать с толку противников неожиданными прорывами или обходными маневрами своей мысли. Оружием иронии и насмешки он пользовался искусно, и не только в устных баталиях. Многие его фельетоны начала 40-х годов уморительно смешны.
При этом важно, что полемические свои способности он использовал главным образом для дискредитации чуждых мнений, а не для изничтожения оппонентов. Герцен воевал с идеями, убеждениями, а не с лицами, и этим отличался, например, от своего старшего современника, остроумнейшего и злейшего спорщика эпохи Генриха Гейне.
Но самое главное, самое характерное в его личностном строе – это редкостная целостность: идеология, убеждения вошли в плоть и кровь, сделались стержнем его натуры, а полемическая закваска и природный артистизм мощно повлияли на пути движения мысли и способы ее выражения. Вопросы общественные и политические, философские контроверзы он переживал со страстностью, которая большинству людей и не снилась в сфере их частной жизни. Мало было в ту пору, да и во все времена, мыслителей, у которых теоретические установки до такой степени сплавлялись с образом действий, с практической активностью, с жизненным поведением в самом широком смысле.
Сделаю здесь небольшое отступление. Мой товарищ, ценящий Герцена и одобривший мое намерение писать о нем, одновременно заметил, что слишком уж этот публицист и мыслитель погружен в актуальное, злободневное и эмпирическое. Все, мол, о политическом устройстве, о гражданских правах да о распределении богатств – а о звездах и нравственном законе, о мучительных, неискоренимых коллизиях человеческой экзистенции он, Герцен, помышлял недостаточно.
По-моему, все абсолютно не так. Вчитываясь в его книги и статьи, рассматривая извивы его судьбы, приобщаешься к напряженной и увлекающей личностной драме, которая одновременно является и «драмой идей». Герцен явил собой яркое воплощение Гамлета как человеческого типа – Гамлета на арене общественной и философской борьбы. Только что рефлексия, сколь угодно мучительная, не парализовала его способность суждения и действия.
Он нащупал свой путь в 40-е годы, как раз тогда, когда и философия, и естествознание, и общественные дисциплины переживали бурный расцвет. Нам, с нашим современным ленивым полу– и четверть-знанием, трудно себе вообразить состояние носителей Zeitgeist, духа времени, то есть людей, находившихся на уровне высших достижений тогдашних науки и философии. Состояние это было одновременно горделивым, почти восторженным – и тревожным. Герцен – сверстник и погодок не только Белинского, Бакунина, Огарева, но и Кьеркегора, родоначальника экзистенциализма.
То была короткая и бурная эпоха общественного энтузиазма и познавательного оптимизма. Распахивались горизонты развития, ключи к разгадкам всех тайн природы и общества были, казалось, в руках.
Взять хотя бы социальное устройство. Есть «старый режим», деспотический порядок, давящий на человека разными формами угнетения – неволей крепостного права и имперской бюрократии в России, жестоким имущественным неравенством и эксплуатацией трудящихся в Европе. Сохранению «старого порядка» помогают церковь и политические реакционеры или консерваторы всех мастей. Нужна лишь революция, мощный, идущий из толщи народной, катаклизм, чтобы снести обветшалый порядок и создать на его обломках новое, справедливое и свободное общество.
Что-то похожее – в области теоретической мысли, понимания законов природы, путей человеческого познания и самопознания. Гегелевская диалектика, соединенная с новейшими данными положительных наук, дает картину бытия, последовательную и прозрачную, по крайней мере, в плане основополагающих принципов.
Герцен был среди самых горячих сторонников этого освобождающего подхода – будь то в обществоведении или природоведении. Никаких догм, авторитетов, никакой власти традиций – все решают ясный как солнце разум, логика, постижение диалектики истории. И он же был одним из первых, кто почувствовал: подобное мировоззрение – не сплошь торжество и праздник!.. Оно требует много мужества, внутренней силы, готовности превозмогать разочарования, умения спокойно сносить давление равнодушного к человеку мироздания.
…По сути, Герцен первым на российской почве, и задолго до Ницше, поставил экзистенциальную проблему: что делать, на что опираться в ситуации, когда Бог умер. Под Богом тут понимается не только высшее существо, ответственное за мироздание и управляющее им. Бог в этом контексте – и застывшие окончательные истины, и вечные ценности, и нерассуждающая вера в правильность и достижимость неких предзаданных идеалов, т. е. все то, чем люди на протяжении веков оправдывали и стимулировали свою целенаправленную деятельность.
После поражения революции 1848 года, в один из самых тяжелых периодов своей жизни, Герцен публикует книгу «С другого берега» – горькую исповедь проигравшего и одновременно горделивую декларацию несгибаемого приверженца разума, готового принимать самые безотрадные его аргументы.
Дискуссия о соотношении «субъективности» и «объективности» составляет содержание первой главы книги – «Перед грозой». Похоже, что участники этого спора – две стороны души, две ипостаси самого автора, воплощенные в двух образах – «молодого человека» и «человека средних лет». Первый представляет «идеалистическое» мирочувствование, взыскующее ясных и достижимых целей, утешительной осмысленности действия, воздаяния за труды и жертвы. Второй стоит на объективистской позиции, которую и развивает во всей ее логической последовательности. В царстве природы (а общество – его естественное продолжение) человеческой личности не на что жаловаться, некому предъявлять обиды и претензии. Природа движется своим путем, ей дела нет до людских страхов, иллюзий, упований.
«Объективист» даже несколько бравирует своим мужественным приятием данностей. Жалобы своего молодого оппонента на видимую бесцельность исторического развития, на внеморальность как природы, так и цивилизации он отвергает. Нужно не хныкать, не тосковать по общей формуле конечной мировой гармонии, всегда лежащей за пределами единичной человеческой судьбы, – а наделять смыслом и нравственным содержанием то, что сам делаешь в меру своего разумения.
Рассуждая о том, как сочетать необходимость и свободу, знание и воление, трезвое постижение реального положения вещей и идеалы, как обрести научный в широком смысле слова взгляд на мир – и остаться человеком, Герцен находит лаконичные и убедительные формулировки: «Будущего нет, его образует совокупность тысячи условий, необходимых и случайных, да воля человеческая, придающая нежданные драматические развязки и coups de theatre». Или: «Если прогресс – цель, то для кого мы работаем? кто этот Молох, который, по мере приближения к нему тружеников, вместо награды пятится и, в утешение изнуренным и обреченным на гибель толпам… только и умеет ответить горькой насмешкой, что после их смерти будет прекрасно на земле? Неужели и вы обрекаете современных людей… на то, чтоб быть несчастными работниками, которые, по колено в грязи, тащат барку с таинственным руном и с смиренной надписью “Прогресс в будущем” на флаге?»
Герцен – непримиримый враг всякого фетишизма, в том числе и революционного, и социального. Он исходит из того – и в этом, может быть, перекликается с постмодернизмом, – что никакой предустановленной цели ни у природы, ни у истории, ни у развития общества нет. Человек, отдаваясь какому-то убеждению, вступая ради него в борьбу, сколь угодно героическую и самоотверженную, не может быть уверен, что сражается за абсолютную истину или что исход борьбы, хотя бы в далекой исторической перспективе, предрешен. Из этого у него вытекает и вывод о том, что личность нельзя приносить в жертву мировому духу, «высшим предначертаниям», вселенским идеалам.
Но в этом как бы скептическом убеждении лежит и источник гордости, и стимул к действию: ничто не предрешено, все может оказаться достижимым. А награда лежит в самом процессе познания и действия, в приложении своей силы, в реализации творческого потенциала: «Не имея ни программы, ни заданной темы, ни неминуемой развязки, растрепанная импровизация истории готова идти с каждым, каждый может вставить в нее свой стих, и если он звучен, он останется его стихом, пока поэма не оборвется… Человеческое участие велико и полно поэзии, это своего рода творчество… Только отнимая у истории всякий предназначенный путь, человек и история делаются чем-то серьезным, действительным и исполненным глубокого интереса». (Последние цитаты, правда, из «Былого и дум», но они проникнуты духом, господствующим в «С другого берега».)
Итог же этой бурной философско-психологической рефлексии в том, что фаталистическое равнодушие и смирение перед лицом «фактов» отвергаются. Крушение иллюзий, разочарование в определенных принципах и идеалах, расхождение с друзьями и союзниками – не причина для отчаяния или цинизма. Автор – одновременно выступающий и героем этой книги – выбирает мужественное продолжение борьбы и поиска, он остается верен главной страсти, владеющей им – страсти к познанию и действию, преображающему как внешнюю реальность, так и самого субъекта этого действия. Таким образом, ответ Герцена на коренной вызов обезбоженного бытия заметно отличается от варианта Ницше – не одинокое аристократическое презрение и обличение всего массовидного, «человеческого, слишком человеческого», а приятие на свои плечи трудоемкого удела – не Атланта, не Прометея, но организатора и участника повседневной, часто утомительной и неблагодарной, общественной борьбы.
Герцен не только провозгласил такую позицию, но и осуществил ее. Разочаровавшись в способности Запада к обновлению, он с тем большей энергией принялся работать в целях обновления России, развития там самосознания, человеческого достоинства, свободной мысли. Воздействие его «Вольной русской типографии», альманаха «Полярная звезда», не говоря уже о знаменитом «Колоколе», было огромным. «Колокол» явочным порядком вводил гласность в полунемую общественную жизнь в России. Среди корреспондентов «Колокола» были, помимо оппозиционеров-либералов, правительственные чиновники и члены Святейшего Синода. Министры и сам император Александр II были внимательными читателями этого издания. Значительная часть материалов «Колокола» была написана самим Герценом.
Потом, после 1863 года, его влияние пошло на спад. В России понемногу вырабатывались свои органы независимого общественного мнения. Для разночинной же стаи «молодых волков» революции Герцен был недостаточно радикален и слишком отягощен грузом образованности, рефлексии. Он не отступался, не опускал рук, но чувствовал, что пьеса его жизни близится к финалу.
А кстати – была ли в бурной эмигрантской активности Герцена толика театральности, не упивался ли он порой своей ролью на европейской и российской авансцене? Может быть, но это простительно, а для такой артистической личности, как он, даже естественно. Он и впрямь напоминает героя драмы или, скорее, экзистенциалистской трагедии, написанной и поставленной им самим. Конкретное содержание его убеждений и сомнений несколько расплывается в исторической перспективе – зато скульптурная пластика его мысли, непосредственная жестикуляция и мимика героя, стоящего на безотрадной земле, под опустевшими небесами, разрывающегося между отчаянием, усталостью и непокорством, предстают в его текстах крупным планом и с впечатляющей экспрессией.
А мы ведь еще не коснулись самой воистину театральной, чтобы не сказать мелодраматической, главы его судьбы. Речь идет о центральном эпизоде семейной жизни Герцена. Необходимо его изложить, пусть и вкратце – такого слова из песни не выкинешь.
В 1849 году жена Герцена Наталья Александровна увлеклась молодым немецким поэтом и революционером Гервегом, они стали любовниками. Герцен что-то чувствовал, подозревал, и когда подозрения подтвердились, это стало для него тяжелым ударом. Дело усугублялось тем, что Герцены и Гервеги жили перед этим в Швейцарии под знаком идиллического дружеского союза, который в их глазах мог служить примером будущей идеальной модели межсемейного содружества.
Характерно тут то, что Герцен, как и Гервег, в качестве социалиста и сторонника феминистских теорий Жорж Санд, исповедовал «раскрепощение плоти» и высокую степень свободы женщины в ее душевных и телесных влечениях. Однако примириться с практическим осуществлением этих принципов для него оказалось очень трудно. Гервег призывал своего соперника дать супруге «вольную». Герцен не хотел и слышать об этом. Произошло объяснение с Натальей Александровной, после которого она прервала отношения с Гервегом, а с мужем полностью примирилась.
Но Герцену было важно изобличить и наказать «совратителя». И здесь он как раз решил не использовать традиционные средства восстановления чести – например, дуэль, – а идти путем «нового человека». Он попытался учинить над Гервегом трибунал международной демократии, обратившись с этой целью к ряду видных фигур прогрессивного движения – к Прудону, Жорж Санд, Вагнеру и др.
Из затеи этой ничего не вышло – суд над Гервегом не состоялся, поскольку мнения о сути происшедшего разделились. Многие из потенциальных экспертов осудили как раз ревнивого мужа – за несоответствие его действий теоретическим постулатам, за семейный деспотизм. Вскоре Наталья Александровна умерла при преждевременных родах. Несомненно, она была нравственно измучена жестокими перипетиями своих любовных метаний. Герцена трагический финал этой истории потряс – не забудем, что за год до этого он потерял мать и сына Колю, погибших в кораблекрушении.
Неудача в попытке добиться морального осуждения Гервега побудила Герцена искать другие пути. Вероятно, все грандиозное здание его мемуаров «Былое и думы» выросло из этого зерна – желания рассказать «городу и миру» всю эту печальную историю так, как она представлялась его внутреннему взору. Интересно, однако, что когда встал вопрос о публикации «Былого и дум», сам автор отказался включить в издание главу «Рассказ о семейной драме» – очевидно, боль была еще слишком живой. Страсти вокруг публикации/непубликации главы, как и вокруг всего этого весьма неоднозначного сюжета, кипели еще долго. Семейная драма Герценов – Гервегов стала для всего круга европейских «новых людей» источником острого интереса, слухов, интерпретаций, подспудной борьбы.
Не будем забывать: Герцен и люди его круга ставили на себе авангардистские по тем временам эксперименты: отношения между мужчиной и женщиной вне институтов религии и собственности, реформа брака и семьи, воспитание новой дисциплины чувств и страстей. Они проверяли: может ли практика, в основе которой лежит свобода личности, заменить в человеческом общении традиции, освященные церковью и законами. Они жаждали искренности, доверия, душевной гармонии. С этим не все оказалось ладно – любовные объятья, братско-дружеские жесты наносили порой глубокие раны. Злорадствовать по этому поводу неблагородно. Что ни говори, а следующие поколения, практиковавшие новые формы и модели межчеловеческих связей, во многом шли по их следам.
…Что остается сказать, заключая поневоле слишком короткий очерк этого в высшей степени яркого культурно-исторического явления по имени Александр Герцен? Может быть, стоит задаться вопросом: был ли Герцен по-человечески счастлив в своей мятежной жизни? (Такой ракурс рассмотрения как-то приближает, делает соразмернее нам столь масштабную и самобытную фигуру.) Вопрос уместный – ведь мировоззрение, которое исповедовал наш герой, не несло в себе никаких обещаний и утешений, которыми поддерживают свой дух более ординарные натуры. Даже в грядущее торжество своих принципов и идеалов Герцен не веровал так, как верят в лотерейный выигрыш или в бессмертие души. В личном плане судьба его не щадила. А в интонациях его сочинений, особенно ближе к концу жизни, часто различимы горечь, досада, разочарование.
Однако, читая его, ясно ощущаешь, что весь этот экклезиастов осадок растворяется в некоем подспудном, но мощном чувстве. Статьи и книги Герцена проникнуты удовольствием (и я не боюсь этого слова) от процесса познания и пользования мыслью. Это не убежденность в верховной власти разума над миром природы и человеческих отношений, не лихорадка приобщенности к источнику волшебной силы – он прекрасно понимал, что действительность далеко не всегда подчиняется скипетру ratio. Герцен испытывает – во все периоды своей жизни – бескорыстное наслаждение неисчерпаемым богатством человеческого разума, остротой и гибкостью его инструментов, его способностью схватывать жизнь-Протея в разных ее формах, проникать все глубже под ее внешние покровы, приближаться к недостижимой сути…
И в этом – его концы и начала, оправдание его жизни, приятие жизни вообще – со всем ее смыслом и бессмыслицей. Лучшим завершением этого текста будет опять же цитата из Герцена: «…Да какой же вывод из всего этого?.. Понимание дела – вот и вывод, освобождение от лжи – вот и нравоучение… За все вынесенное, за поломанные кости, за помятую душу, за потери, за ошибки, за заблуждения, – по крайней мере, разобрать несколько букв таинственной грамоты, понять общий смысл того, что делается около нас… Это страшно много!»
2012
Под знаком памяти
Когда я открыл для себя Трифонова? Явно задолго до эффектного явления «Дома на набережной» в 1976 году. Началось ли это с «Обмена» (напечатанного еще в «твардовском» «Новом мире»), где сошлись на рандеву призраки революционного максимализма-идеализма и низкие истины повседневности? С «Предварительных итогов» (появившихся в том же «Новом мире» уже после отставки легендарного главреда), где мышиное шуршание конформизма, компромисса, самопопустительства становится почти нестерпимым? «В доме повешенного не говорят о веревке, в доме помешанного не говорят о жировке»… А потом были и «Нетерпение», и «Другая жизнь». Но «Другая жизнь», кажется, читана мной после «Дома на набережной» – или до? Или вовсе вначале были рассказы, про Москву и голубей, про Среднюю Азию с ее пылью и жарой, урюком и арыками, с испанцами, занесенными туда ветрами истории? Но в какой книге я их читал – не помню, точно не в «Кепке с большим козырьком», которая появилась в доме вместе с «приданым» жены, а это было уже после «Дома»…
Думаю, именно таким образом правильно начать статью о Трифонове, не о творчестве этого замечательного прозаика вообще, а о месте и значении памяти в его книгах, в его мире. Память, воспоминания, припоминание – как модус жизни, как смысловая установка и как прием.
Но сначала – хотя бы кратко о самом этом мире, о его устройстве и параметрах. Трифонов так поставил себя в обстоятельствах советской эпохи, что все – и современники, и последующие поколения – относились к нему как к писателю ангажированному, и потому ангажированно. Соответственно, оценки его прозы были эстетическими в последнюю очередь. В советское время консерваторы и охранители ругали его как бы за бытовизм и мелкотемье, а подразумевали неблагонадежность, скрытую оппозиционность. Еще бы – ведь он вспоминал в своих книгах о «большом терроре», о выбывших в смерть, в лагеря, в безвестность; он откровенно говорил о том, что и в 60–70-е годы людям, особенно творческим, трудно работается и дышится.
А другие, с других позиций и из других времен, упрекали Трифонова в излишней осторожности, в недоговоренности, в компромиссах с властью. Ему пеняли за то, что он не пошел, как Солженицын, на прямую конфронтацию с режимом, за то, что оставался формально лояльным советским писателем.
Недовольство с обеих сторон было по-своему логичным. Но, разумеется, не схватывало самой сути трифоновского феномена. Писателю было необходимо высказаться – пусть не прямым текстом, а образом, намеком, околичностью – о сталинских репрессиях и сегодняшней «мягкой» диктатуре бюрократии, о цензуре и нехватке воздуха, как и о драмах и трагедиях первых послереволюционных лет, о жесткости, жестокости, догматизме «кожаных курток». И шире – он хотел донести до читателя свои мысли о России, о ее уникально трагическом пути, особенно в последнее столетие. Но еще важнее были для Трифонова принципы его художественной правды, главный из которых – «проникновение». Под этим я подразумеваю стремление понять любого человека раньше, чем оценить, осудить или превознести его как литературного персонажа. А понять – значит увидеть, изобразить его во всей полноте и перепутанности связей с «временем и местом», с историческими обстоятельствами, о которых «изображаемый» чаще всего не подозревает. И еще – в мельчайших подробностях его стремлений, надежд, страхов, предрассудков, привычек, иллюзий, убеждений, вожделений – в теплой, пахучей, розановской оболочке быта. Все это автор обязан ясно представить в своем воображении и воплотить в слове.
Рецепт трифоновской прозы – житейская эмпирика, густая, подробная, подлинная, на фоне исторических потрясений, идейных сшибок, которые и были «российской судьбой» на протяжении полутора веков. И в состав «конечного продукта» – его замечательных романов и повестей 60–70-х годов – важнейшим ингредиентом входили эффекты и механизмы воссоздания прошлого, «фигуры памяти и забвения», которыми автор мастерски пользовался. Сказанное, конечно, относится и к «Долгому прощанию», и к «Другой жизни», но особенно ярко проявляется в поздних его произведениях: «Дом на набережной», «Старик», «Время и место».
Память вообще – субстанция тонкая, загадочная, чуть ли не магическая. Мы живем, оставляя все больше прошлого – и все дальше – за спиной. И оно, пережитое, пребывает с нами, но затянутое дымкой или туманом, то плотным, то с промывами, сквозь которые промелькивают расплывчатые контуры былого. А иногда туман забвения разрывается – и картины прошлого возникают перед нами резче и яснее, чем многие моменты текущей, рутинной жизни. Мы вглядываемся в эти картины – и это занятие дарит нам радость или горечь, но равно интенсивные, а значит, ценные.
Но – к Трифонову и его текстам. «Дом на набережной» строится как череда воспоминаний главного героя Глебова, с прослойками его сегодняшней жизни, т. е. хронологического момента, «из которого» он вспоминает (конкретно – «жаркого лета» 1972 года). Повествовательная и оценочная перспектива романа сложны. Задача автора, вспомним, в первую очередь, – погрузить читателя в жизненную атмосферу советских 30–40-х годов, с их страшными испытаниями – репрессиями, войной, эвакуациями и переселениями, чистками и «атмосферным давлением» страха, но и с энтузиазмом, чистотой, наивным идеализмом…
Главный инструмент такого «погружения» – память, в первую очередь самого Глебова. Изображаемые в повести события мы видим проходящими через фильтр памяти героя, т. е. окрашенными его личностным отношением. Но – тонкий нюанс – в этих воспоминаниях заметно присутствие невидимого Автора, уточняющего, корректирующего «поток памяти» главного героя.
Для начала Автор дает нам знать, что вспоминать прошлое Глебову не хочется – только случайная встреча с Шулепой побуждает его к этому. В тексте есть «подсказка»: «Глебов ненавидел те времена, потому что они были его детством». Это замечание, ставящее под сомнение объективность героя, призвано воздействовать на читательское восприятие, «насторожить» его по отношению к глебовским свидетельствам.
При внимательном чтении мы обнаруживаем, что Глебов вспоминает не сам по себе, а «на пару» с Автором. Точнее, картины, возникающие в его сознании, лишь иногда отображают «аутентичные» ощущения и мысли Глебова-подростка и юноши, как, например, при описании его свидания с одноклассницей: «Они засмеялись. Дина внезапно приблизилась к нему толстым жарким лицом, и он почувствовал прикосновение – на одну секунду – чего-то влажно-летучего возле своих губ, и это был первый поцелуй в его жизни. Ничего особенно приятного, просто облегчение. Они сбежали по лестнице вниз и тут же, у подъезда, расстались…».
Чаще же содержимое памяти героя дается отстраненно, с оттенками значений и оценок, привнесенных извне. Вот как описываются его чувства по отношению к Шулепникову, которому на долю выпало привилегированное детство: «Как Глебова ни тянуло прикоснуться ко всей этой увлекательной житухе… Глебов держался вдалеке: тут было не только самолюбивое нежелание быть десятой спицей в колеснице, но и природная глебовская осторожность, проявлявшаяся иногда без всяких поводов, по наитию». Или, много позже, когда уже начинает разворачиваться главная фабульная интрига – подкоп под Ганчука: «Если бы знать, куда дело загнется! Но Глебов всегда был в чем-то туг и недальновиден. Сложные ходы, которые потом обнаружились, были для него тайной за семью печатями».
Сверх того – работа памяти главного героя перебивается другим потоком воспоминаний. Они принадлежат анонимному повествующему «я», одному из детской компании конца 30-х, к которой примыкал и Глебов. Этот оппонирующий голос вторгается в регулярное повествование, благодаря ему изображение обретает новые грани и оттенки.
Глебов и «я» вспоминают по-разному – и разное. У главного героя в памяти всплывают прежде всего «материальные» подробности: детали быта, факты повседневной жизни его семьи и друзей. Идет постоянное сравнение его собственного «маленького домишки», Дерюгинского подворья, и соседнего, того самого «дома на набережной»: «Серая громада висела над переулочком, по утрам застила солнце, а вечерами сверху летели голоса радио, музыка патефона. Там, в поднебесных этажах, шла, казалось, совсем иная жизнь, чем внизу, в мелкоте, крашенной по столетней традиции желтой краской. Вот и несоответствие!» Его эмоции и ощущения замешаны в основном на чувстве неравенства, на зависти, на подспудной жажде реванша.
К этому добавляется страх, то хронический, почти не ощутимый, то резко обостряющийся, когда ситуация становится по-настоящему неуютной, требующей выбора. Как, например, когда от него требуют «расколоться», рассказать, кто придумал в школе «темную» Шулепе. И тут снова Автор приподнимает завесу над механизмом памяти главного героя: «Все ушло в такую даль, так исказилось, затуманилось, расползлось, как гнилая ткань, на кусочки, что теперь не поймешь: что же там было на самом деле?.. И почему он поступил так, а не по-другому? Отчетливо сохраняется чепуха. Она нетленна, бессмертна. Например, бурчание в животе [Это от страха перед допрашивавшим его грозным отцом Шулепы]».
Внутренний монолог «альтернативного рассказчика» вроде бы подхватывает мотив: «Я помню всю эту чепуху детства, потери, находки, то, как я страдал из-за него, когда он не хотел меня ждать и шел в школу с другим… и еще то, что во дворах всегда был сырой воздух, пахло рекой, и запах реки был в комнатах… и, когда шел трамвай по мосту, металлическое бренчание и лязг колес были слышны далеко». Но мы сразу чувствуем разницу: воспоминания «анонима» красочнее, образнее, эмоционально разнообразнее и точнее. Встречаются здесь и афористические обобщения: «Все детство окутывало багряное облако тщеславия».
В них присутствуют и события большого мира, когда индивидуальные судьбы плотно вплетаются в ткань истории. Мы понимаем: «аноним» и Глебов в трифоновской картине мира воплощают разные начала, разные грани той эпохи. Глебов – конформизм, «умеренность и аккуратность», осторожность, опасливый эгоизм. Альтернативный рассказчик – стремление жить всеобщими интересами, готовность к самопожертвованию, юношеское благородство. Они – антиподы в мире повести, они соперничают и не терпят друг друга, и не только из-за Сони Ганчук. Точнее, это соперничество одностороннее, потому что в глебовской-то памяти его знакомец-«аноним» отсутствует.
Подспудное, глухое соревнование двух «монологов памяти» идет до самой развязки, до момента, поменявшего всю жизнь Глебова: момента слабодушия, предательства по отношению к Ганчуку и Соне, подретушированного смертью бабы Нилы, которая дала ему повод не выступать на разгромном ученом совете. После этого момента Автор уже в полной мере демонстрирует избирательность и недобросовестность воспоминаний героя, их функцию самооправдания, уклонения от истины. Рефреном идут примеры вычеркивания, стирания лиц и событий: «Вот что Глебов старался не помнить: того, что сказал ему Куно Иванович… Вот это застывшее лицо он сильно старался забыть, потому что память – сеть, которую не следует чересчур напрягать, чтобы удержать тяжелые грузы… Иначе жить в постоянном напряжении… Все было, может, не совсем так, потому что он старался не помнить. То, что не помнилось, переставало существовать».
Зато Глебов и четверть века спустя ясно видит перед собой лицо Ганчука, жадно поедающего в кондитерской пирожное наполеон после второго, добившего его, собрания. Этот эпизод наглядно подтверждает направленную избирательность памяти Глебова: запомнившаяся картина говорит о витальности, «выживаемости» преданного героем учителя и тем самым оправдывает само убеждение Глебова: ничего постыдного, непоправимого он не совершил, жизнь после его п(р)оступка течет своим обычным, естественным руслом.
Итак, в «Доме на набережной» мозаика воспоминаний главного героя и его неназванного оппонента помогает создать объемный, многогранный образ времени, 30–40-х годов, со сложной игрой светотени, с выявлением противоречивых тенденций, хотя доминирующей характеристикой его – и Трифонов показывает это вполне однозначно – являлся всепроникающий страх.
Одновременно тонкими средствами решается нравственно-художественная задача: без прямых инвектив, как бы от имени самого героя выявить его ущербность, человеческую недоброкачественность, органически ему присущую, но «активированную» временем. Глебов, по Трифонову, напоминает Генриха, сына бургомистра, из «Дракона» Шварца:
«– Если глубоко рассмотреть, то я лично ни в чем не виноват. Меня так учили.
– Всех учили. Но зачем ты оказался первым учеником..?»
Так автор демонстрирует совершающуюся на глубине, на молекулярном уровне взаимную диффузию «частного» и эпохального.
Роман «Старик» продолжает ту же линию двухфокусного изображения: конкретной личности в ее уникальной жизненной ситуации – и исторического времени, с его атмосферой, «родимыми пятнами», могучими силовыми полями. Однако есть и заметные различия. Во-первых, в «Старике» отсутствует «обвинительный уклон» в отношении главного героя. Павел Евграфович Летунов, в ранней юности захваченный «железным потоком» Гражданской войны, а нынче, на склоне лет, мучительно разбирающийся в кровавых узлах и противоречиях тех далеких событий, – фигура, вызывающая симпатию. Во-вторых, Трифонов здесь стремится передать дух и облик двух очень разных эпох: ранней пореволюционной поры – и середины 70-х годов, которые позже, задним числом, обозначат как «эпоха застоя».
Летунов – старый человек, и это обстоятельство, подчеркнутое в названии романа, получает в повествовании глубокую, психологически достоверную разработку. Автор ненавязчиво выявляет особенности миро– и самоощущения старика: его замкнутость на собственных переживаниях и воспоминаниях, желание отгородиться от назойливых вторжений текущей жизни, которая ему во многом непонятна, чужда. Есть в этом и нарастающая с годами заскорузлость восприятия, и «усталость материала», и эгоизм, вызываемый малостью оставшихся жизненных сил, желанием сосредоточиться на том, что нужно додумать, понять, оценить для себя – а окружающие мешают, отвлекают.
Тем не менее на точность и ясность воспоминаний героя возраст, как будто, не влияет. Они на редкость фигуративны, насыщены подробностями, живыми эпизодами, прототипами реальных исторических персонажей. Дело в том, что и здесь у Трифонова есть в повествовании побочная цель: заново рассмотреть и рассудить давний «казус Миронова» (в романе он фигурирует под фамилией Мигулин), красного казачьего атамана, казненного в конце Гражданской войны по несправедливому обвинению. Именно по этой причине роман порой оказывается перегружен фактографией событий полувековой давности. Героя, в отличие от Вадима Глебова, можно, скорее, заподозрить в избыточности воспоминаний, а автора – в чрезмерной эксплуатации памяти Павла Евграфовича.
Герой романа начал заниматься реабилитацией Мигулина еще давно, в стремлении восстановить историческую истину. Но письмо, полученное от сверстницы, участницы тех событий, которую он страстно любил когда-то, – заставляет его погрузиться в прошлое еще глубже и безогляднее, привносит в его воспоминания драматизм и личностный окрас.
Сам Летунов немало размышляет о свойствах памяти, о месте, которое она занимает в человеческой жизни, особенно на ее исходе: «Дни мои все более переливаются в память. И жизнь превращается в нечто странное, двойное: есть одна, всамделишная, и другая, призрачная, изделие памяти, и они существуют рядом… И вот задумываюсь: что же есть память? Благо или мука? Для чего нам дана?.. Память – это оплата за самое дорогое, что отнимают у человека. Памятью природа расквитывается с нами за смерть. Тут и есть наше бедное бессмертие».
Это рассуждение служит неким введением в череду картин прошлого, времен революции и гражданской войны, которые оживают в сознании Павла Евграфовича. Картины эти всплывают вне всякой хронологической последовательности, как и подобает спонтанным порождениям памяти. Самое первое воспоминание – о шоке, который он, совсем еще юным, испытал, увидев в станице Михайлинской тела ревкомовцев, изрубленных белоказаками. И среди них тело Аси, которая, оказывается, жива, которую он давно и безнадежно любит…
А дальше – временные скачки и зигзаги, возвращения в детство, перетасованные эпизоды событий между Февралем и Октябрем, буря на Дону: красный террор, белый террор, расказачивание, мятежи, прорывы фронтов, наступления и отступления. Трифонову важно погрузить читателя в атмосферу времени, смыть с событий «хрестоматийный глянец», наполнить изображение, пусть и мозаичное, конкретными, подлинными подробностями – войны и революции тоже ведь обрастают своим бытом. Апрель 1917-го в Петрограде: «…на улицах все та же сумятица, неразбериха, жутковатая качка толпы, митинги, драки, стрельба. Вижу, по Невскому идут вооруженные рабочие завода Парвиайнена со знаменем “Долой Временное правительство!” Им навстречу с Литейного сползает демонстрация студентов, офицеров, каких-то хорошо одетых дам, несут знамя “Да здравствует Милюков и Временное правительство!”… Две демонстрации вязнут друг в друге, вскрикивают женщины, свалка, падают, бегут, с треском рвется знамя, ломают древко…
И еще слышу, двое разговаривают, стоя у стены дома. Один вполголоса: “Эти толпы на улицах напоминают знаете что? Точно кишки вывалились из распоротого живота. Не оклемается Россия от этого ножа”. – “Господь с вами!” – “Вот увидите. Это смертельно. Но что приятно… – тихий смешок, – я умираю, и России конец, одним махом… Так что и умирать не жаль”».
Набрасывая портреты людей, окружавших в те годы юного Летунова – брата матери большевика Шуры и Мигулина, Шигонцева и Браславского, Наума Орлика и комиссара Янсона, юного идеалиста Володи и родственников Аси, находившихся на «другом берегу», – Трифонов одновременно очерчивает контуры главных идеологических, этических, психологических коллизий, которые определили судьбу России. Он занят персонификацией могучих тенденций и стихий времени. Дядя Шура, Володя представляют, по Трифонову, разумно-гуманное начало революции. Они преданы коммунистическому идеалу, но не готовы приносить массовые жертвы на его алтарь. А главное, считают, что безоглядный, беспощадный террор не совместим с интересами дела.
Но преобладают другие – доктринеры, фанатики, «мученики догмата», вроде Шигонцева и Браславского. «Время пережгло их дотла». Те считают, что только прямые и кратчайшие пути ведут к цели, и прорубать их надо сквозь человеческий лес. Трифонов старается соблюсти равновесие в своем описании-анализе: революционную устремленность этих людей (невольно внушающую уважение) он показывает подробно, а зловещее в них – властолюбие, скудоумие, презрение к человеку – дает лишь в намеках. Они в романе – именно что жертвы, кто логики истории, кто обстоятельств, как Браславский, семью которого казаки вырезали в екатеринославском погроме в 1905 году. Теперь, в 1919-м, он объявляет: «По этому хутору [казацкому] я пройду Карфагеном!»
Писатель, сознательно оставаясь в пределах советско-коммунистической парадигмы, пытается понять, был ли у революции и последующей советской истории другой, альтернативный маршрут, если бы в те первые годы верх одержали люди вроде дяди Шуры из романа. А за этим образом явно просвечивают фигуры из его собственной памяти, из его прошлого: отца и дяди, Валентина и Евгения Трифоновых, ставших жертвами репрессий.
В «Старике», однако, обширным «флешбэкам», погружениям в прошлое, сопоставлены лаконичные, но очень насыщенные и выразительные картины советской жизни середины 70-х годов. Здесь напряженная, на грани фола, борьба за домики и сотки дачных участков, неуклонное, как путь танка, выстраивание карьеры, безграничное пьянство и раздолбайство народонаселения, бесконечные споры интеллигентов о судьбах России… Трифонов достигает здесь виртуозности в создании портретов-миниатюр, в запечатлении характера или человеческого типа несколькими мазками или штрихами, на одной-двух страницах текста.
Характерно, что и в этих, сегодняшних, сиюминутных делах и заботах тоже есть место светотеневой игре памяти и забвения. Люди пожилые припоминают старые обиды или стремятся вычеркнуть куски собственной жизни, потому что и то, и другое тесно связано с грозной (а часто и грязной) историей последних десятилетий: партийными чистками, репрессиями, доносами или – экзотикой вроде нудистских обществ 20–30-х годов.
А интеллигенты, что помоложе, постоянно обращаются к памяти исторической, к смутным и грозным образам далекого прошлого, используемым в качестве аргументов в идеологических (платонических) спорах: к Ивану Грозному и опричнине, к Варфоломеевской ночи и кострам инквизиции… При этом им совсем неинтересны те конкретные, укорененные в почве времени загадки и вопросы, которыми мучится Летунов. Так же полвека с лишним назад Шигонцев и другие бойцы Стального отряда постоянно оглядывались на события Великой Французской революции – она служила для них обобщенным, величественным примером: «Не надо бояться крови! Молоко служит пропитанием для детей, а кровь есть пища для детей свободы, говорил депутат Жюльен…».
Память Летунова в романе – главная субстанция повествования, из нее соткан насыщенный деталями исторический гобелен: предреволюционная жизнь, революция, Гражданская война. Но в ней же совершается и чудо оживления давно прошедшей любви героя. И уже не понять, чего больше в его погружении в прошлое: воли к истине и справедливости или стремления вновь пережить тогдашнее состояние духа – смесь восторга, боли, зависти, досады, надежды завоевать Асю и страха ее потерять. Трифонов очень тонко и убедительно подчеркивает в тексте момент «смятения чувств» Павла Евграфовича, непроизвольности его воспоминаний. Это проявляется, например, во внезапных, как бы необязательных вспышках ассоциаций, в совмещениях прошлого и настоящего: «Не так уж хочется есть мороженое, но все вокруг покупают снарядики и грызут, как мы когда-то грызли морковь на даче в Сиверской, воровали с чухонского огорода. Мама однажды сильно побила. Я возвращаюсь в Сивер-скую… Я мечтаю хотя бы ночью, летними потемками пробежать мимо дачи, где на втором этаже окно Асиной комнаты всегда полуоткрыто, колеблется, как живое… Ася спит и не знает, что я бегу по песчаной дороге мимо. Но завтра я с ней увижусь утром… Вафельный снарядик несъедобен. По вкусу он напоминает ледышки, которые я любил когда-то в незапамятные времена, до Сиверской».
Особенно трогательны и достоверны возникающие в памяти героя «склейки» образов Гали и Аси, умершей жены и возникшей из небытия возлюбленной: «Опять вспомнилось письмо от Гали и потянуло прочесть. Бог ты мой, почему от Гали? Не от Гали, а от Аси. Он испугался. Как-то странно и легко перепуталось». Или: «Ливень, беседка, мокрое платье, испуганное Галино лицо – из какого-то гимназического далека… Вдруг: не Галя, а Ася. Это Ася в беседке! В саду дома уездного воинского начальника».
Так в «Старике» подтверждается важнейшая, жизнеобразующая роль человеческой памяти. И в следующем произведении Трифонова, романе «Время и место», этот мотив получает дальнейшее развитие. «Надо ли вспоминать…» – этот риторический зачин рефреном прошивает начало романа. А заканчивается первая его глава почти патетическим утверждением: «Надо ли вспоминать? Бог ты мой, так же глупо, как: надо ли жить? Ведь вспоминать и жить – это цельно, слитно, не уничтожаемо одно без другого и составляет вместе некий глагол, которому названия нет».
Однако, вопрос: кто же «вспоминающий субъект» повествования? Главный герой, Александр Антипов, существует только в своем настоящем, которое тянется из детства, из 30-х, через десятилетия, до конца 70-х. Он переживает все события и повороты своей судьбы как происходящие здесь и сейчас, в качестве их непосредственного участника, «актанта».
Есть в романе и условный рассказчик, повествующее «я» (прием, отработанный в «Доме на набережной»), глазами которого мы видим и некоторые сцены, разыгрывающиеся в Москве осенью 41-го, и Антипова, который вместе с рассказчиком работает в годы войны на авиационном заводе. Однако на самом деле рассказчик и Антипов – «близнецы-братья», раздвоение единого личностного ствола. Повествующее «я» служит в романе лишь для расширения картины и для того, чтобы на главного героя можно было бы бросить объективный, несколько отчужденный взгляд со стороны. В эпизодах, рассказанных от его лица, интерференция прошлого и настоящего возникает лишь изредка.
В конце концов становится ясно: тот, кто вспоминает – это сам невидимый Автор, в сознании которого существуют все события, отношения и коллизии романа. Это его память в сочетании с воображением образует череду рельефных картин, охватывающую десятки лет биографии героев и истории страны, создает достовернейший жизненный фон, в том числе и с помощью таких второстепенных фигур, как приятель Антипова Маркуша, книжный жучок, забулдыга и завсегдатай ипподрома.
Изображение здесь, таким образом, полностью сливается с вспоминанием. Тем самым к неразрывному единству памяти и жизни, заявленному в начале романа, добавляется третий элемент: собственно творчество. Оно тоже неотделимо от памяти.
Это не значит, однако, что в последнем романе Трифонова нет специфических мотивов памяти, выделяющихся из общей ткани повествования. И снова писатель делает их «агентами» людей, пребывающих на склоне своих лет. В потоке актуальных событий и переживаний порой возникают «врезки» давно прошедшего. К Москве подступают немцы, близкие хлопочут об эвакуации больной и беспомощной старухи Елизаветы Гавриловны – а она, безучастная к происходящему вокруг, погружается в воспоминания о своем революционном прошлом, о ссылке в Сибири и побеге… Но безучастность кажущаяся – к воспоминаниям примешиваются впечатления от происходящего здесь и сейчас, только с искажениями и инверсиями помраченного сознания: «Всякую секунду могут вломиться стражники… мы с Дашей скрываемся третий день, убежали из-под надзора… Ледяной ветер врывается в каморку, гудит машина, шлепает колесо, брызги влетают сквозь щель, громадная жизнь впереди, она останавливается, как колесо, просто брызги перестают лететь, машина не гудит, бедные дети пьют чай, как будто ничего не случилось. Они погибают… прикованные к постели, не могут двигаться, говорить, я должна кормить их с ложечки, убирать за ними, переодевать их…».
В смысловой системе романа это, казалось бы, не несет никакой функциональной нагрузки, зато повышает психологическую достоверность повествования, придает ему объемность, пронзительный драматизм: как контрастируют внутренние состояния людей, находящихся в потоке повседневных забот – и на пороге небытия!
Есть здесь и моменты, которые я назвал бы «притчами памяти». Это, в первую очередь, история отношений бывших друзей, писателей Костина и Тетерина. Один – «проскочивший» в 30-е годы, другой – «пострадавший». Универсальная коллизия возвращения невинно осужденных из лагерей получает в романе сугубо индивидуальную разработку. В сознании Костина это – «точка боли»: «Возвращение Михаила, о чем я прежде так сильно и горячо мечтал, превратилось для меня в какое-то мучительное, все более жестокое истязание. Суть муки в том, что я чувствую свою перед ним вину».
Мечтал он о возвращении друга в том числе и потому, что у них – одна на двоих память об общем прошлом. А мучается из-за «казуса». Когда-то они написали совместно пьесу. Над Тетериным сгустились тучи, и он – с глазу на глаз – попросил друга в случае своего ареста снять его, Тетерина, фамилию, а гонорарными деньгами поддержать его семью. Костин так и сделал. Но потом поползли слухи о том, что он ограбил опального соавтора.
Так все обстоит в сознании, в памяти Кос тина. Когда же он, наконец, встречается с другом и заговаривает об этом, больном, Тетерин отказывается подтвердить его версию: «Костин спросил: “Помнишь, ты просил снять фамилию с пьесы, а деньги посылать Татьяне?” – “Когда? – хрипел Тетерин. – Не помню… Ни черта не помню… Забыл, Боря…”».
Конечно, в забывчивости Тетерина есть, пожалуй, оттенок мстительной насмешки над товарищем, когда-то спасовавшим и тем спасшимся. Но нельзя исключить и того, что вся история с просьбой Тетерина – плод адвокатской работы памяти, стремления Костина оправдать свою тогдашнюю слабость в глазах других, да и в собственных. И не только в связи с пьесой. Тетерин тогда, в 37-м, отказался поддержать травлю товарища, а он, Костин, поплыл по течению. И это мучит его глубже, чем история с «ограблением».
Так или иначе, а нестыковка воспоминаний становится для Костина последней каплей – он кончает жизнь самоубийством. И этот поворот сюжета в очередной раз подтверждает глубинную мысль автора о судьбоносной роли памяти, о ее способности выстраивать жизнь и разрушать ее.
…Память всегда была притягательной, «центровой» темой в мировой литературе – достаточно вспомнить Пруста. В последнее время писатели Востока и Запада все активнее эксплуатируют ресурсы «субстанции памяти» – в нашем бешено меняющемся мире соединение разбегающихся галактик человеческого микрокосма становится экзистенциальной потребностью. Испытываются разные способы соединения настоящего с прошлым, исследуются функции и эффекты памяти, строится «этика воспоминания».
Навскидку – в нашумевшем недавно романе Джулиана Барнса «Предчувствие конца» сюжет строится на двукратном обозрении героем его прошлого. В первой части он излагает каноническую версию автобиографии, события которой предстают весьма обычными, банальными. Единственное, что тут из ряду вон, – это кажущееся нелепым самоубийство друга в возрасте 22 лет. Во второй части романа – прошлое посылает герою-рассказчику «артефакты», подсказки, возникает совсем другая конфигурация событий и отношений, герой должен понять случившееся в молодости как смесь случайности, ошибок и недоразумений, собственной – вольной или невольной – вины. В итоге – тень вселенского абсурда, ненавязчивые моралите экзистенциалистского толка…
Новоиспеченный нобелевский лауреат Патрик Модиано сделал узоры памяти своим брендом. В его книгах – «Кафе утраченной молодости», «Улицы темных лавок», «Горизонт» – раз за разом воспроизводится одна и та же матрица: герой совершает экскурсии из настоящего в прошлое, то в поисках утраченного, то в желании понять, кто же он на самом деле, то вовсе непроизвольные. Воспоминания всплывают в его памяти причудливыми, обрывистыми тенями, фрагментами развалившегося «пазла». Прошлое окутано аурой загадочности, смутной тревоги, и для сохранения ее автор прикладывает слишком заметные усилия: чтобы не сказать лишнего, не объяснить, не прояснить…
И Барнс, и Модиано демонстрируют нам не работу памяти, а выборочные ее результаты, то более, то менее убеждающие и впечатляющие.
Ассоциации эти, конечно, вполне произвольны и необязательны. Отношение к памяти, к прошлому у Трифонова совсем другое, чем у названных авторов. Это обусловлено не только несходством индивидуальных дарований, но и противоположностью культурных контекстов и творческих устремлений.
Трифоновскому «детерминизму» новая эпоха – в лице Барнса, Модиано и др. – противопоставляет вольный художнический импрессионизм. Может быть, наш автор, с его стремлением «во всем дойти до самой сути», до истоков и глубинных связей, просто устарел, отстал от «мейнстрима»?
Может, и так. Нужно, однако, сказать: необычайно плотная застроенность, заселенность мира Трифонова – вовсе не дань натурализму, бытовизму, эмпиризму или прочим «измам». В ней проявляется мощная воля писателя к целостности и осмысленности мира, сопротивление пустоте. В личностном измерении аналог пустоты – беспамятство (забвение). В социальном пространстве этому соответствует распад цепи времен, обрыв нитей, волокон, соединяющих людей друг с другом и с «общим» бытия. Итог – атомизация, утрата смыслов, рост энтропии.
«Вспоминающее усилие», которым проникнуто все творчество Юрия Трифонова, может быть, действительно не в духе времени. Но оно – прекрасный лечебный настой от постмодернистской расслабленности, разреженности. От этого усилия «вещество жизни» стягивается к центру, сгущается, обретает предметные формы. Люди, погруженные в потоки истории и в болота быта, в лаву страстей и в рутину привычек… Связанные между собой события, обстоятельства, поступки, акты выбора и уклонения от выбора… Создание подобного словесного макрокосма «под знаком памяти» – высокое антиэнтропийное действо. И Трифонов был усердным, иногда скромным, иногда горделивым, мастером этого действа.
2015
Маканин. Не-юбилейное
Поговорим о Владимире Маканине – в свете приближающегося его 70-летия – без восхищения и гнева, без эмоциональных оценочных восклицаний, которые, парадоксальным образом, в изобилии порождала его крайне взвешенная и рациональная, внутренне спокойная проза. Попробуем отнестись к нему отстраненно и аналитично, именно так, как он сам поступает со своими темами и персонажами.
При этом не обойтись без вступительных – и весомых – констатаций. Маканин – это можно сказать с полной определенностью – обрел в современной российской литературе (или в том, что от нее осталось) совершенно особый статус. Он не просто мэтр, не просто самый плодовитый, публикуемый и награждаемый из «серьезных» авторов наших дней – он главный психоаналитик всея Руси, на протяжении десятилетий извлекающий из национального «коллективного бессознательного» его – пусть нехитрые и малоприглядные – секреты. К тому же он оказался практически единственным литератором, который своим творчеством сумел склеить позвонки двух столетий, более того – двух контрастных эпох российского бытия. Другого такого нет – против него в этом отношении пасуют те же А. Битов и Л. Петрушевская, В. Попов и Т. Толстая, Р. Киреев и Ю. Мамлеев.
И при всем при этом, даже учитывая, что за последние тридцать лет о нем писали лучшие критические перья советского и постсоветского периода, – сколь-нибудь цельного «метаописания», тем более объяснения его феномена, пожалуй, нет. Отдельные верные и остроумные наблюдения, суждения, полемические или комплиментарные пассажи относительно маканинских произведений никак не складываются в законченный портрет писателя. И нельзя сказать, что объясняется это какой-то особой протеистичностью автора, намеренной стратегией ускользания от анализа и определений. Наоборот, Маканин, хоть и написал множество опусов разного тематического и жанрового покроя, демонстрирует завидную верность нескольким базовым константам, эстетическим и мировоззренческим. Конечно, у его «колобочности» («от Н. Ивановой ушел, от А. Немзера ушел», то же с Л. Аннинским, И. Роднянской, покойным И. Дедковым или живыми В. Бондаренко и А. Латыниной) есть свои причины. Но вместо того, чтобы рассуждать о них теоретически и всуе, – лучше предложить свою версию «феномена Маканина».
Истоки
Когда Владимир Маканин начинал на рубеже 60–70-х, заметившие его предпочитали рассматривать дебютанта в «трифоновской» системе координат. Сходство действительно было налицо – прежде всего, в жизненном материале. Тот же «быт», те же каждодневные, до боли знакомые ситуации, отношения, надежды, влечения, заботы и неурядицы. Те же браки и разводы, мимолетные романы и расставания, квартирные обмены, карьерные хлопоты, предательства. Сюжетно-ситуационные параллели подчеркивались перекличками названий («Обмен» – «Полоса обменов», «Под солнцем» – «Место под солнцем»).
Но и в ту пору можно было понять, что по отношению к Трифонову Маканин – не эпигон и даже не ученик. Направленность и фокусировка взгляда были своими, не заемными. Для иллюстрации сопоставим рассказ Трифонова «В грибную осень» с маленькой маканинской повестью «Река с быстрым течением». В центре обоих произведений – смерть и то действие, которое она оказывает на обычный ход вещей. У Трифонова само событие смерти за кадром, она лишь камень, падающий в пруд повседневности. Писатель тщательно прослеживает круги, разбегающиеся по воде, искажения, которые трагическое событие вносит в привычный жизненный порядок. Главное в рассказе – демонстрация того, как неостановимый бег жизни «перемалывает» смерть, чуть ли не насильственно возвращая потрясенную горем героиню к равновесному состоянию…
В «Реке с быстрым течением» хронологическая перспектива обратная. Смерть впереди, она пока присутствует лишь в сознании героя, узнавшего о неизлечимой болезни жены, и задает фон действия. Само же действие разворачивается в формате иронической игры – с анекдотическими поворотами сюжета, нарочитыми инверсиями и т. д. Герой подозревает жену в неверности, в том, что она «загуляла», и поначалу даже известие о ее болезни не может превозмочь ревность. Игнатьев даже собирается развестись, и для ускорения процедуры готов расстаться с ценной книгой по искусству – «подмазать» где следует. Постепенно, однако, печаль берет свое, Игнатьев с горя запивает. Теперь уже жена, не подозревающая о своем близком конце, гневается на мужа. Однажды Игнатьев не находит ту самую книгу на обычном месте. Оказывается, жена подала на развод и первой реализовала задумку Игнатьева.
В финале рассказа горюющий и привычно уже пьяненький герой находит, наконец, утешение после смерти жены, раскладывая перед собой ее фотографии из семейного альбома. Вот где ее образ навсегда пребудет неизменным, нетленным. Вот чем можно «остановить мгновение», победить качку жизни. Гротесковая трактовка трагической ситуации, с одной стороны, снижает ее, низводит смерть до статуса обыденного житейского феномена, вроде ревности или пьянства, с другой же – направляет читательское восприятие в новое русло.
Маканин, с его широким и разнородным жизненным опытом, не вписывался и в круг молодых дарований, группировавшихся вокруг журнала «Юность». Вскоре стало очевидно, что Маканин вообще выпадает из принятых жанрово-эстетических подразделений и «обойм». Он, например, не претендовал на патентованный психологизм, хотя был искусен и достоверен в передаче отдельной, уникальной эмоции, настроения, душевного состояния. Сплошной, вязкий поток жизни и ее переживания, как в «московских повестях» Трифонова, не по нем, равно как и тонкий импрессионизм детско-юношеских опусов Битова (хотя нечто вроде «Пенелопы» он мог бы написать).
Маканин – вслед за Шукшиным, пожалуй, – увлечен в эту пору бесчисленностью и своеобычностью отдельных явлений, ситуаций, ракурсов, характеров. Он словно в лупу рассматривает кусочки смальты, образующие в совокупности жизненную мозаику, и приглашает читателей полюбоваться причудливыми очертаниями и окраской каждого их них.
Не так прост, как кажется
В произведениях этого его периода привлекала прежде всего широта охвата жизненных явлений, точность наблюдений, отсутствие штампов, будь то эстетических или идеологических. Свежестью и подлинностью веяло от его повестей «Солдат и солдатка», «Безотцовщина», «Валечка Чекина», «Повесть о Старом Поселке».
Но эмпирическая непритязательность ран него Маканина была обманчивой. В основе перечисленных произведений – простые житейские истории, но почти в каждой из них ощущается встроенный потенциал притчи.
Вот, к примеру, сильная и вроде бы бытовая повесть «Безотцовщина». Следователь Юра Лапин – бывший детдомовец. Доминантой его натуры становится потребность заботиться о бывших и новых однокашниках, особенно ущербных или оступившихся. Комната Лапина превращается в «коммуну», в перевалочный пункт, где его товарищи по судьбе набираются сил и опыта перед окончательным выходом в самостоятельную жизнь. Лапин бескорыстно пестует своих подопечных, тратит на них время и силы, согревает их теплом своей души, отказывается ради них от устройства личной жизни. И в результате – остается в одиночестве. «Птенцы» один за другим покидают гнездо, где они оперились, шумное жилище Лапина пустеет. Пустота заползает и в душу героя. Он расплатился веществом своей жизни за благополучие друзей – а сам умалился, стушевался, начал словно бы таять… Отданное не возвратилось. Запомним этот вывод.
Очень скоро понимающему стало ясно, что Маканин исподволь ревизует господствовавшую в советской литературе жизненную типологию и схематику. Он отказывался принимать на веру и литературно использовать принятые, расхожие представления о мотивах человеческого поведения, о диалектике добра и зла, альтруизма и эгоизма, коллективизма и индивидуального начала. С действительности, какой она представала у Маканина, осыпалась шелуха шаблонов, не только официозных, но и продиктованных самым искренним гуманизмом, прогрессизмом, народолюбием. Вместо всего этого писатель, поначалу еще несмело, с оглядкой, вырабатывает собственные суждения о закономерностях бытия, о сущности и проявлениях человеческой природы…
И еще одно – Маканин работает в широком жанровом диапазоне. Наряду со спокойными, как бы бытоописательными, полотнами у него появляются повести вроде «Старых книг» и «Погони», где правит бал почти авантюрная фабула с выходящими за грань вероятия событиями и ситуациями, или «На первом дыхании» – некий пара фраз в духе плутовского романа стереотипов молодежной (аксеновской, в частности) прозы. В этих сочинениях возникают какие-то непривычные для той советской литературы персонажи. В центре первых двух повестей – юная социальная хищница Светик, выписанная необычайно живо. Она, провинциалка, рвущаяся к «сладкой жизни», по-акульи неразборчива в средствах, но и ничто человеческо-женское ей не чуждо. Да и Игорь из «На первом дыхании» – скорее завоеватель жизни растиньяковского типа, чем типичный молодой инженер, романтик и искатель.
Этапным в этом смысле стал роман «Портрет и вокруг». Герой его, начинающий литератор Игорь, в почти детективном азарте идет по жизненным следам маститого киносценариста Старохатова, пытаясь разгадать загадку его натуры, постичь закон, побуждающий того то бескорыстно помогать начинающим авторам, то грубо обирать их, навязывая соавторство. «Случай Старохатова» влечет его, не дает покоя. Какие только сети не использует Игорь для уловления старохатовской сущности: и теорию среды, и идею наследственности, и представление о циклическом функционировании нравственного начала. Увы – все эти объяснительные схемы захватывают только воздух.
В результате разысканий Игорь приходит к выводу: сути нет. Нет закона, управляющего поведением Старохатова, сводящего все противоречивые проявления его натуры к единой основе. Нет ничего, кроме самой натуры, произвольно раскачивающейся, словно маятник, между полюсами альтруизма и шкурничества, щедрости и скаредности. Да еще – мощного давления среды, жизненной инерции, под влиянием которых с человеком происходят «перемены». От идеалов, порывов молодости, бескорыстного любопытства он переходит к обустройству, присвоению, самоублажению.
Ближе к финалу романа Игорь и сам чувствует, что захвачен процессом «перемен». Таков закон жизни!
Философия: бытие и время
Итог этот по-своему весьма знаменателен. Ясно, что писатель стремится «по-новому сиять заставить» избитое и всеобъемлющее понятие «жизнь», прославить ее безраздельное могущество. Казалось бы – вот новость! Да не об этом ли написана еще «Обыкновенная история» Гончарова? Однако Маканин не довольствуется тем, чтобы добросовестно демонстрировать – на манер того же Гончарова или, ближе к нашим дням, Ю. Трифонова, И. Грековой, Р. Киреева, – каким образом жизнь загоняет человека в достодолжную колею.
Маканин недаром окончил матмех МГУ. Он говорит: за прихотливым бурлением и пузырением обыденной жизни, за кулисами общественно-политических и культурных борений действуют простые и немногочисленные, но весомые «первофеномены», которые можно выразить прозрачными, четкими формулами и постулатами. Маканинские постулаты явно навеяны энергетическими представлениями: тут и принципы сохранения в сочетании с идеей «сообщающихся сосудов»; и ограниченность в мире всякого блага, точнее – добра, материального и нематериального; и вытекающая отсюда мысль о конкуренции за «место под солнцем» как основополагающем законе жизни; и наличие в человеческом мире энтропии с неуклонным ее ростом… Добавим к этому подчеркнутое обнажение неумолимых данностей человеческого существования, подчиненного неизменному циклу «рождение – созревание – старение – смерть» (как у Гессе: «Но помним мы насущности закон: // Зачатье и рожденье, боль и смерть»); демонстрацию его уязвимости перед лицом болезней, насилия, страха – и вот перед нами законченная система «экзистенциалов», совокупность базовых элементов и закономерностей неизменных, универсальных.
Складывается у писателя и своя концепция времени. Художественный мир Маканина – до определенного момента, замечу, – оставался жестко герметизированным, отгороженным от сферы актуальной истории. При этом хронологическая компонента в нем все же присутствует, но время Маканина – подчеркнуто не историческое. Оно легендарно, мифологично, оно выражает связь эпох, не сменяющих одна другую, но сосуществующих под знаком вечности. Подобная связь впервые, еще несколько юмористически, декларируется в повести «Голоса», чтобы получить вполне серьезное и развернутое воплощение в более поздних «Отставшем» и «Утрате». В таком понимании времени – и отголоски ницшевской теории «вечного возвращения», и отражение ситуации советского застоя, когда с течением лет ничего не происходило, не менялось.
Вопрос – можно ли такую литературу назвать экзистенциальной? Ведь именно это определение стали понемногу применять к прозе Маканина «продвинутые» критики того времени. Наверное – да. Замечу лишь, что это имеет мало общего с собственно экзистенциалистской парадигмой, поскольку центральное для той измерение человеческой свободы у Маканина заведомо редуцировано. Кроме того, от человеческого бытия он тщательно отсекает пласты и уровни, в которых зарождаются, циркулируют высшие ценности: альтруистические порывы духа, творческие импульсы, воля к бессмертию и т. д.
Но ведь он же мастер, мастер?
В мастерстве Маканина, при этом виртуозном, как и в оригинальности его стилистики, нет никаких сомнений. Случалось, писателя упрекали/хвалили за некую «наготу», безыскусность, даже обедненность его прозы. Это несправедливо. Маканин, верно, оперирует скупыми языковыми средствами, пишет без установки на самодостаточную яркость образа или абсолютно точное воссоздание внутренней жизни персонажей. Однако при этом он очень мастеровито, изобретательно пользуется обширным набором изобразительных и композиционных приемов. Например, интонацией. Чаще всего он использует в повествовании тон почти нейтральный, холодновато-отстраненный, чуть насмешливый. Однако интонационные регистры меняет виртуозно – иногда скачком, иногда плавно, подключая то язвительность, то сочувствие, то философическую рефлексию. Неспешное, чуть вязнущее в подробностях, а то и повторах повествование порой сменяют резко экспрессивные сцены. И очень умело, в точно выбранные моменты, он включает механизмы, стимулирующие читательскую вовлеченность, сопереживание.
Нестандартна у Маканина и «позиция автора». Уже начиная с повести «Голоса» (1977 г.) он отказывается от сугубо линейного способа повествования. В «Голосах» нарратив выстраивается замысловато, многослойно и многоконтурно. Тут и пучок ассоциативно, весьма нестрого связанных фабульных историй, и изощренная система авторских отступлений-рассуждений на разные темы с вкрапленными в эти рассуждения осколочными примерами-иллюстрациями. Таким способом и устанавливается новая конвенция отношений между автором и читателем, и как бы приотворяется – модное тогда поветрие – дверь в писательскую лабораторию.
В «Голосах» программно утверждается и необычная для тех времен зоркость, жесткость и нестеснительность писательского взгляда. Маканин не чурается самых рискованных «кадров», искусно помещая в фокус читательского внимания то, от чего обычно мы в жизни отводим взгляд брезгливо или ханжески: пограничные психосоматические феномены, ситуации тяжелой болезни, старости, приближающейся смерти – и смертного страха. Это ощущалось и раньше – достаточно вспомнить страшный эпизод убийства матери Сережи Стремоухова в «Безотцовщине» или зарисовки быта палаты тяжелых «спинальников» в рассказе «Пойте им тихо». Пожалуй, после Бабеля в советской литературе не было такого «жестокого таланта». И при этом – свирепость маканинских описаний часто уравновешивается какой-то показательной невозмутимостью, каталогизирующей дотошностью, купирующей эмоциональный взрыв у читателя. Вот показательный отрывок из «Голосов»: «…И тогда тот, с моложавым лицом, легко и небрежно швырнул или метнул небольшое копье в мою сторону… и мое тело издало звук, который издает раздувшаяся от жары рыба, когда в нее на пробу втыкают нож: попал… Копье вошло с правой стороны под последним ребром – пробило кожную ткань, проскочило эпителий, протиснулось острием в густую кашеобразную массу печени, а потом вышло вон, насквозь».
Вырабатывает писатель и вполне своеобразную композиционную технику, очень далекую от линеарности. Манера эта, кажется, сродни музыкальной. Общая тема первоначально набрасывается прерывистым контуром, несколькими штрихами и деталями. Потом автор неоднократно возвращается к одним и тем же эпизодам, обогащает разработку новыми подробностями, вводит дополнительные мотивы, углубляет анализ. Повествование идет расширяющимися концентрическими кругами, включающими в себя новые ракурсы, иногда сдвигающими тему в неожиданный регистр. После этого сюжет движется к финалу – за которым может последовать альтернативная его версия, а то и озадачивающий эпилог. Характернейшие примеры такой композиции – в «Предтече», «Утрате», романе «Один и одна», о которых речь впереди.
Превратности метода
Философские предпосылки и повествовательная техника, как известно, в литературе решают не все. Главное – насколько органично они сращиваются в художественной плоти произведений. Маканин со временем вырабатывает только ему присущий изобразительный метод, точнее, стратегию, имеющую разные изводы. Главное ее качество – неизменное и абсолютное господство автора над материалом. Критик И. Соловьева написала как-то в одной из статей, что Маканиным во второй половине 80-х овладевают мотивы суеты, тщеты, общности, смертности, воздаяния… Неверно. Писатель всегда сам владеет своими мотивами, жестко и осознанно, он, в зависимости от конкретной задачи, приглушает одни, подчеркивает другие, порой смешивает их в головокружительный коктейль.
Другой центральный момент маканинской дальнодействующей стратегии – изменчивость как изобразительных ракурсов и планов, так и объяснительных кодов. В повестях конца 70-х – начала 80-х годов он, вооруженный своим методом, приступает к прикладному социально-психологическому портретированию – а может, правильнее сказать рентгенографии – общества.
При этом Маканин последовательно, с завораживающей точностью деталей создает иллюзию жизнеподобия, выписывает рисунок привычной, трижды знакомой жизни, которая под его пером, однако, обретает особую значимость. Существенные приметы времени запечатлеваются с эмблематической выразительностью.
Возникает целая серия опусов, в которых с графической четкостью изображены психологические типы советских обывателей, их характерные взаимоотношения друг с другом и со средой. Это мебельщик Михайлов и математик Стрепетов («Отдушина»), которые завершают долгое соперничество за место в душе и постели поэтессы Алевтины полюбовным соглашением: я уступаю тебе женщину, а ты пристраиваешь в университет моих сыновей. Это жалкий Митя Родионцев («Человек свиты»), чахнущий, когда его лишают привычного места под солнцем, то бишь под люстрой директорской приемной. Это строитель Павел Алексеевич («Гражданин убегающий»), восточно-сибирский донжуан, пытающийся оторваться от шлейфа своих «случайных связей». Это тихий слесарь-сантехник Толя Куренков («Антилидер»), одержимый маниакальной ненавистью к любому в его окружении, кто хоть как-то выделяется на общем фоне.
Такие зарисовки были новыми, освежающими, убеждающими. По советским временам даже смелыми: вот они каковы – те, кого официальная пропаганда числит честными тружениками и строителями коммунизма. Человек у Маканина на фоне времени представал податливым, падким на элементарные материальные блага, охотно распластывающимся по контурам заданных обстоятельств. А главное – элементарным, предсказуемым.
Соблазнительно определить Маканина как нашего отечественного Брехта времен застоя. Сходство действительно есть. Та же насмешливая деконструкция «здравого смысла» и расхожих общих мнений. Та же настойчивая демонстрация публике зияющих разрывов между внешней, казовой стороной вещей – и их реальной изнанкой. Та же издевка над официальной моралью – буржуазной в случае Брехта, социалистической в случае Маканина.
Однако и существенная разница налицо. Брехт рассматривал свой «эпический метод» в качестве освобождающего проекта. Он провозглашал своей целью общественное изменение и интеллектуальное раскрепощение личности. Маканин же, напротив, декларировал сущностную неизменность существующего миропорядка, неподвижность китов-постулатов, на котором тот держится. В «мессидже», пронизывающем все его произведения этого периода, явственно звучит рефрен: «Смирись, гордый человек». Жизнь есть жизнь, она неизменна в своих глубочайших, молекулярных основах. Всякая «высшая деятельность» – принципы, убеждения, попытки совершенствовать мир или самих себя – это все иллюзии, бесполезные и часто опасные.
Со временем писатель усложняет свою структурную схему жизни, начинает конструировать из кубиков-архетипов менее жесткие модели. В фокусе все чаще оказывается рельеф бытийных первоформ, на которые пестрая материя повседневности натянута лишь тонкой пленкой. Житейская эмпирика подсвечивается маревом загоризонтных, метафизических истин. В том же «Гражданине убегающем» история Павла Алексеевича вдруг детонирует горькими образами тотальной войны человека против природы и рефлексией о «кочевом» начале, глубоко залегающем в национальном характере.
А позже в его прозе возникает порой смутный гул циркулирующих в неведомых глубинах потоков первородной жизненной субстанции/энергии – и тогда предметный, привычный мир предстает ненадежным, призрачным. Появляются вещи с блуждающей фабулой, с ассоциативными скачками и трансформациями реальности в сон и обратно, с проницаемостью времен и сюжетов («Отставший», «Утрата»).
Но пока мы еще в классическом периоде. Вот небольшая повесть «Голубое и красное» (1980), рассказывающая о лете, проведенном мальчиком из тесного барачного поселка – на воле, в деревне, об опытах детского освоения расширившегося мира. Но истинная тема повести – борьба, которую ведут за душу ребенка (маленького Ключарева, сквозного героя Маканина) две его бабки, Матрена и Натали, представляющие соответственно «народную стихию» и «дворянско-интеллигентское начало». Голубое и красное – чувственные обозначения психологических полюсов человеческой натуры, социально обусловленных, к тому же. Голубое – утонченность, гордость, достоинство, непрактичность, житейская неприспособленность. Красное – укорененность, расчетливость, терпеливость, навык выживания в трудных обстоятельствах. Эта экзистенциальная антиномия представлена в повести с обычной для Маканина резкостью, но без назидательности и схематизма, в достоверных, часто пронзительных проявлениях.
Сильный эффект произвела в свое время повесть «Предтеча». В ней писатель скупыми, обидными штрихами изобразил преобладающий психологический фон 70–80-х: прогрессирующую бездуховность, утрату ценностных ориентиров, распад всяких устойчивых убеждений и верований. Квинтэссенцией всех этих свойств и тенденций Маканин делает повальное увлечение нетрадиционной медициной, целительством, а так же поиски харизматических личностей, «гуру». Люди, в полном соответствии с формулой Достоевского, ищут «веры, тайны и авторитета». Таким доморощенным мессией в повести становится Якушкин – медик-самоучка, воздействующий на своих почитателей смесью особой личностной «энергетики», природными рецептами и призывами к очищению, нравственному образу жизни и отказу от соблазнов растленной цивилизации.
Якушкин представлен Маканиным в двойственной перспективе: он и «стихийный богатырь», прикосновенный к таинственным источникам витальной природной энергии, неотесанный, порой агрессивный и грубый, но сильный и по-своему подлинный. С другой стороны, его дар, его энергетический потенциал – невозобновим, он исчерпывается со временем, а без него (или вне веры в него) Якушкин – просто нелепый старик, упивающийся, к тому же, своей властью над «паствой». Стадии жизненного цикла «феномена Якушкина» Маканин выписывает ярко и с неподдельным драматизмом.
Наконец, маленький шедевр этого периода – «Где сходилось небо с холмами». Здесь, как будто, снова возврат к становой идее: закону сохранения и превращения энергии. Причем демонстрируется этот закон подчеркнуто фронтально. Композитор Башилов, выросший в уральском рабочем поселке с его сокровищницей хорового мелоса, использует это «всеобщее достояние» для построения своих изощренных музыкальных опусов. Но параллельно с этим почва, питавшая его творчество, оскудевает, засыхает: в поселке поют все меньше и глуше. Механизм оскудения двояк. Есть в нем некая мистическая «перекачка» из одного сосуда в другой. А есть и вполне рациональное обратное воздействие популярной, шлягерной музыки, адаптировавшей находки Башилова, на слух обитателей поселка. Чего ж трудиться, напряженно выводить многоголосный строй и ряд, когда вот он – даровой музыкальный продукт, гладкий и звучный, льется из любого транзистора…
Схема, однако, осложняется мыслями о драме индивидуализации, выделения личностного начала из блаженной коллективной целостности. О цене, которую приходится (кому-то) платить за любое, в данном случае художественное, приращение, совершенствование. Композитор не на шутку мучится своей виной, полагая, что высосал из родного поселка не только его песенный потенциал, но и саму жизнь. Нюансы морально-психологических переживаний выписаны на фантасмагоричном фоне его родного «аварийного поселка» по соседству с химическим заводом, где взрывы и пожары – рутина, где люди буднично пребывают в «пограничной ситуации», чуть ли не ежедневно вступая в схватку со стихией огня.
Возвращение истории?
Декларируемая Маканиным жизненная философия почти идеально укладывалась в парадигму «реально-социалистического» застоя с его стабильностью, чуть застенчивым цинизмом и реваншем «человеческого, слишком человеческого». И вот, когда казалось, что жизнь будет неизменно подтверждать правильность маканинской «статики», грянула нежданная общественная трансформация – перестройка.
Тут уместно задаться вопросом: каким был статус писателя в период застоя? Если в журналах той поры Маканин появлялся не слишком часто, то в самых разных государственных издательствах его произведения пользовались режимом «наибольшего благоприятствования». Странно, казалось бы. Ведь не надо было обладать особой идеологической чуткостью, чтобы понять: романы и повести Маканина исподволь подрывают всю официальную аксиоматику и уж точно идут вразрез с канонами и рецептами литературы социалистического реализма. Но, во-первых, знакомые с идеологической ситуацией брежневской поры знают, что можно было протащить в литературу какие угодно смысловые ереси, отклонения от догм (которые по умолчанию были признаны мертвыми), лишь бы те были хоть как-то словесно замаскированы и не затрагивали некоего ограниченного списка «священных коров». Главное же – опусы Маканина, при всем их «подрывном», дезиллюзионистском характере, выполняли некую функцию, которая могла представляться полезной в глазах цензоров и идеологических надзирателей поумнее: функцию убеждения публики в неизменности сущего, устойчивости привычного миропорядка, частью которого был и социально-политический режим СССР.
С другой стороны, многочисленные книги Маканина, уже привлекавшие к себе внимание маститых критиков, никогда не попадали в центр общественно-идеологических бурь и скандалов, столь характерных для 60-х годов. Вокруг них не вздымались волны полемики, иногда самопроизвольной, иногда стимулированной решениями и резолюциями «инстанций», но неизменно работавшей на «имидж» автора. Если даже отвлечься от крайнего случая Солженицына – какие сшибки возникали вокруг имен и произведений Евтушенко и Вознесенского, Аксенова и Войновича, Владимова и Искандера, Стругацких и Шукшина!
В этом смысле Маканин то ли опоздал, то ли выбрал стратегию сознательного неучастия в громких акциях. Отсутствие острого общественного интереса к его творчеству было ценой, которой приходилось расплачиваться за верность своей холодновато-аналитичной и в то же время мифотворческой манере. Думается, в глубине души автор не мог не чувствовать себя несколько уязвленным. Поэтому неудивительно, что первым откликом Маканина на изменившиеся времена, когда общественная проблематика оказалась в фокусе внимания, первым его опусом с историческим измерением стал роман «Один и одна» (1987).
В нем повествуется о печальной участи двух типичных «шестидесятников», Геннадия Павловича и Нинели Николаевны, полностью сформировавшихся в атмосфере того десятилетия, переживших тогда свои звездные часы – а потом, в изменившейся ситуации, безнадежно угасающих. Но по сути – это последовательное, часто раздраженное (что обычно Маканину не свойственно) сведение счетов с «шестидесятничеством» как явлением. Правда, автор (отношение которого к его персонажам опосредовано отчужденно-заинтересованным взглядом рассказчика, писателя Игоря) прежде всего демонстрирует объективность. Он отмечает привлекательные черты генерации, включившейся тогда в «процесс обновления»: идеализм, жажду справедливости, непочтительность к авторитетам и к начальству. В голосе рассказчика порой звучат нотки ностальгии по тому времени, правда, иронически окрашенной: «Традиционно пьянило слово “справедливость”, но еще более Геннадия Голощекова пьянило само общение людей, новизна общения… Сопричастность была огромна. Стоял зеленый шум».
Сделав реверанс в сторону обобщенного образа времени, Маканин с тем большей настойчивостью и изобретательностью иллюстрирует оборотные стороны психологии шестидесятников, или, если угодно, романтического сознания, выражением которого эта психология служит. Автор не без нажима показывает, как энтузиазм оборачивается бесполезным словоговорением, принципиальность – узостью, догматическим нежеланием понимать других, склонность к самоанализу – нарциссизмом, одухотворенность – замыканием в кругу книжных представлений.
Но главное, что инкриминирует автор своим персонажам – а в их лице всей генерации интеллигентов-энтузиастов 60-х годов, – это «непопадание в жизнь», неспособность соответствовать ее требованиям. «Один» и «одна» так и остались в своем прошлом, застыли в нем, как мухи в янтаре. Протекающей же вокруг них повседневностью и Геннадий Павлович, и Нинель Николаевна отторгнуты. Друзей они растеряли, семьями не сумели обзавестись, сослуживцы их не терпят. Оба непоправимо выпали из системы жизненных связей. А Геннадий Павлович, для вящего прояснения ситуации, еще и выпадает – точнее, его выталкивают – из вагона электрички, т. е. из «поезда жизни».
В романе «Один и одна» вся виртуозная композиционная техника, о которой было сказано выше, подчинена единой задаче: тонко, но безоговорочно дискредитировать героев повествования, развенчать их претензии на значительность, достоинство, даже простую искренность.
Гораздо более сложное и проникновенное выражение отношение Маканина к шестидесятым годам получило в повести «Отставший», опубликованной в том же 1987 году. Действие ее развертывается в боевой атмосфере десятилетия, насыщенной грозовыми разрядами разоблачений сталинизма, клубящейся спорами о прошлом и будущем страны. Жизнь героев повести, студентов Гены (рассказчика) и Леры, отмечена, хоть и по-разному, причастностью к событиям. Гена, возбужденный новомировскими публикациями, красноречиво рассуждает о судьбах невинно пострадавших в эпоху культа, не без задней при этом мысли – произвести своей риторикой впечатление на Леру. У самой девушки, как выясняется, репрессированный отец умер в ссылке накануне реабилитации. А дальше – Маканин выстраивает сложную сюжетно-композиционную конструкцию под знаком многозначного феномена «отставания» – говоря шире, «непопадания», несовпадения человека со временем, его представлений – с реальной действительностью, его намерений и усилий – с результатами и т. д.
Метафора «отставания» реализуется на разных этажах повествования. Герои оказываются в Зауралье, где погиб отец Леры. И тут зажигательные речи Гены о сочувствии к тем, кто «хоть однажды отведал тюремной похлебки», приводят к неожиданному повороту: Лера по уши влюбляется в бывшего зэка-уголовника Васю, приблатненного шоферюгу, который вообще, может быть, не что иное, как сконденсировавшийся образ воображения Гены. Ибо тот – начинающий прозаик, он пишет повесть («текст в тексте») на своем корневом, уральском материале – о мальчике, наделенном способностью чуять золото, о том, как этот дар исковеркал его жизнь, сделал изгоем, «отставшим».
Закончив повесть, Гена долго собирается отнести ее в «Новый мир», приобщившись тем самым к славной когорте авторов и сотрудников знаменитого журнала. Когда же он решается на это, выясняется, что время упущено – Твардовский отстранен и того, аутентичного «Нового мира» уже нет.
Наконец, повествование обрамляется и пронизывается (уже в хронотопе 80-х) историей отца рассказчика, старого строителя. Ему является один и тот же мучительный сон – об опоздании на автобус или поезд, выпадении из круга «своих», одиночестве. И в этом старческом неврозе совмещаются чисто биологическое ощущение заката – и горькое сознание обесценивания собственной жизни в свете бурных общественных перемен.
А в повести «Утрата» писатель вновь отстраняется от актуалий и создает насыщенную символами и метафорами притчу – о связи всего со всем, о человеческой тоске по свершению и бессмертию (как в истории вздорного купчика Пекалова, задумавшего прорыть тоннель под рекой Урал).
Сюрреалистические скачки из реальности в бред или творческий вымысел, из сегодня – в прошлый век, из больничных коридоров – под своды подземного хода сопровождаются авторскими рассуждениями о природе легенды, о способах ее сотворения, о ее жизненном цикле… Кафкианская тональность и фантасмагорические прорывы Кортасара, вполне различимые, ничуть не нарушают здесь органичной и оригинальной образной ткани повествования.
В обоих этих произведениях обычная маканинская схематика жизненной закономерности и подчиненности ей человека преодолевается мощной и пронзительной нотой горечи, заразительным чувством вселенской обделенности и трагиабсурдизма бытия.
Сквозь лаз 90-х
Российская жизнь вступила в «ревущие 90-е», в постсоветскую реальность, и Маканин вместе с нею. Писатель – даром что раньше ставил на неподвижность и неизменность – оказался лучше многих своих коллег приспособлен к требованиям менявшегося времени. Очевидно, помогала выработавшаяся «дисциплина труда», привычка работать, не оглядываясь на внешний фон. Хотя успех в новых обстоятельствах нарабатывался, конечно, методом проб и ошибок.
Повесть «Лаз» 1990 года – антиутопия ближнего прицела, напоминающая «Невозвращенца» А. Кабакова, но с сильным вторым планом, притчево-метафорическим. Реальность в повести расслаивается на страшное, дегуманизированное пространство разрухи, запустения и звериной войны всех против всех (умеренная экстраполяция тенденций позднеперестроечного периода) – и сферу тепла, благополучия, нормы, где господствует перебор высоких слов, нескончаемая интеллектуальная дискуссия (рай? умопостигаемый мир текста?). Сфера эта если и дезавуируется, то очень деликатно: за идеалами, обменом идеями, за Словом признается важная функция выживания, по крайней мере, интеллигентского.
Как обычно, Маканин подробен, детален, почти гипнотически достоверен, постепенно смещая реальность в фантасмагорическое измерение. Как обычно, присутствует физиологичность, но здесь сублимированная, скомпактированная: смерть, помеченная пятнышком от мочи, вылившейся из расслабленного мочевого пузыря умирающего.
При этом сам образ «лаза», узкого прохода, связывающего разделившиеся уровни бытия, выглядит, при всей его фактурности, несколько умозрительным.
А потом – успехи и неудачи чередуются почти регулярно, да кто тогда брал на себя труд их различать? «Стол, покрытый сукном и с графином посередине» – довольно схематичная, к тому же явно запоздалая развертка социально-психологического противостояния личности и наделенного «полномочиями» коллектива, через ситуацию «вечного допроса». А ведь опус этот удостоился премии «Букер» за 1993 год.
Явно неудачной оказалась повесть-эссе «Квази» – иллюстрированное примерами рассуждение на тему о том, что революция, большевизм, как и прочие тоталитарные проекты века – суть выражения коллективного мифологического мышления, опыты построения квазирелигии… Вообще, отвлеченная рефлексия на историко-философские темы Маканину не дается – там он сух, вял, вторичен.
Зато в короткой повести «Кавказский пленный» соединились все сильные стороны писателя. Четкость деталей и линий в изображении вековечной, повторяющейся ситуации: солдат в горах, Россия на Кавказе, сочетание обыденности, «пограничности» и абсурда. Красота, любовь, смерть, грязь, человеческий интерес… Маканин создает здесь свою версию трагикомического балета на кавказскую тему, завещанного когда-то Лермонтовым. Достовернейше выписанная экзистенциальная картина, помещенная в рамку горного пейзажа и в координаты «вечного возвращения», создает по-настоящему сильный эффект.
«Буква А» и «Удавшийся рассказ о любви» – два условных попадания, с некоторым все же недолетом. Первая повесть – разработка чернушно-лагерной темы, с дозированными элементами жестокости и абсурда и с неновой моралью: несчастному народу русскому свобода, послабление столь же вредны и чреваты, как изголодавшемуся – обильная пища. В «Удавшемся рассказе…» едкая насмешка над постсоветскими временами и нравами дополняется привычным мотивом взаимопроницаемости, сообщаемости времен и пространств. Правда, в перелетах героев из настоящего в прошлое и обратно присутствует момент «проталкивания» с усилием сквозь «узкое место», а эротические коннотации, в самом «Лазе» приглушенные, выходят здесь на первый план, образуя глумливо-похотливый фон повествования.
Глыба «Андеграунда»
В самом конце века и тысячелетия Маканин громко «выстрелил» – выпустил толстый роман «Андеграунд, или Герой нашего времени». Тоже ведь надо было расчислить сроки написания и публикации, чтобы попасть в узкую зону особой напряженности общественного сознания, как бы апокалиптических ощущений и ожиданий. В этом колоссальном, растянувшемся на 600 книжных страниц опусе автор намеревался, очевидно, сказать решающее слово обо всем, о чем раньше не успел.
Сказалось – тематически – действительно о многом: о российском национальном характере и истории, о тоталитаризме и перестройке, о достоинстве слова и молчания, о жизненной суете и бытийных горизонтах. Автор уже в который раз использует здесь фигуру писателя-посредника, но на этот раз писателя, не ищущего успеха, неудачливого, зато сохранившего свободу. Не столько даже творческую (герой давно уже ничего не пишет), сколько свободу от социальной роли и инерции, свободу поступка, памяти, ассоциации. Впервые Маканин пытается включить в ряд своих жизненных первооснов начало свободы, которую, стало быть, можно обрести на самом дне потенциальной жизненной ямы.
О романе трудно говорить однозначно – уж больно он ветвист, безразмерен и многомерен. Он слишком ясно распадается на сюжетные и тематические пласты, слабо связанные один с другим: опорный мотив коридора общаги, растягиваемого до символического образа мира; судьба брата рассказчика, талантливого художника Вени, загубленного «карательной медициной»; убийство героем кавказца и сопутствующая детективно-психологическая линия. Писателю трудно удержать на всем пространстве текста ту сюжетную и смысловую напряженность, которой отмечены многие фрагменты романа. Каким сильным ходом завершается, например, первая часть: страшный, наполненный яростью и чуть ли не предсмертной тоской эпизод ночевки героя в «ментуре» разрешается не сюжетно, а сменой настроения, внутреннего состояния, океаническим чувством слияния с «черным квадратом» бытия.
Ткань повествования в «Андеграунде» особенно густа. Все пространство между главными сюжетными линиями заполнено почти осязаемой, разветвленной «биологической» системой клеток, сосудов и капилляров: мини-эпизодов, мельком набросанных, но достоверных образов, точных деталей, аналитических ходов, догадок и прозрений… Иногда это изобилие работает вхолостую, иногда утомляет, рассеивает – но чаще властно захватывает читательское внимание и ведет его по лабиринту авторского воображения.
И еще: герой «Андеграунда» Петрович – писатель по исконной своей природе, хоть давно отказался от ремесла. И роман, помимо прочего, оборачивается исследованием нескончаемых взаимных превращений помысла, слова – и поступка, жизни – и сюжета, доказательством того, что реальность – продолжение литературы другими средствами.
Вместо эпилога
Наше путешествие по литературной стране Маканина подходит к концу. О последнем проекте писателя – цикле «Высокая-высокая луна» – писать не хочется: сюжетные реализации старческо-эротических мечтаний героя выполнены, как всегда, мастеровито, но все же очень уж однообразны, банальны. Но не каждое же лыко автору в строку ставить.
Что сказать в заключение? Ну, стайер, ну, удержался на сложнейшей дистанции и вышел к финишу в лидеры – но ведь это суждение, относящееся к субъективным достоинствам Маканина, человека и литератора. А в координатах российской литературы, эпохи? На рандеву с исторической традицией, так сказать? Признаем, что он был занят не быто-, а бытие-писанием. Что был трезвее, жестче, проницательнее многих своих сверстников. Что открыл – точнее, ткнул в лицо – публике немало простых до унизительности и болезненных истин. Что неустанно трудился, изощряя изначальное дарование, добавляя к нему – и своему видению мира – новые грани и измерения, инструменты и насадки.
Замечу еще, избегая осуждающей тональности, что он не то чтобы добру и злу внимал равнодушно, а полагал эти оценочные понятия устарелыми, неадекватными, а главное – грубо приблизительными. Что же взамен? Поворот к субстанции жизни, многодонной и внеморальной, дифференциальное ее исчисление, все более тонкое и гибкое исследование ее индивидуальных форм и переходов, сохраняющих, однако, явную связь с порождающими архетипами.
На этом пути Маканин достиг многого. В лучших своих книгах – истинного пафоса «страшной жизни», подлинности и жути в изображении того, как «улица корчится безъязыкая», как плющит или пластает людей инертная масса бытия, безликая, темная участь, а иногда – ослепительно яркое постижение этой участи.
Маканин – сумрачный истолкователь и певец Закона, талантливый, неутомимый. Честь и хвала ему за это. А благодать, которой его проза почти начисто лишена, – это не по его части. По чьей же? Этот вопрос стоит, очевидно, адресовать самим себе.
2007
Избирательное сходство (Достоевский в мирах братьев Стругацких)
Недавно, перечитывая в очередной раз «Жука в муравейнике» Стругацких, я споткнулся на одной фразе. Рудольф Сикорски говорит прогрессору Абалкину: «Вы, дорогой, на службе, вы обязаны отчетом». Странность в том, что это не фразеология XX века (не говоря уже о XXII, в котором разворачивается действие повести, но не будем педантами – Стругацкие вовсе не претендуют на создание какого-то особенного языка будущего). Современник сказал бы: «Вы обязаны отчитаться» или «Вы обязаны представить отчет».
Сверх того, использованный Стругацкими оборот был мне смутно знаком, и, напрягши память, я вспомнил. Вспомнил, удивился, проверил и убедился, что так оно и есть. У Достоевского в «Бесах» Шигалев говорит Шатову: «Помните, что вы обязаны отчетом». Казалось бы, ничего удивительного. Ну, мало ли какие фразы из классической литературы западают в память, а потом всплывают посреди вполне современных текстов. Но в данном случае совпадение это показалось мне совершенно не случайным. Оно как-то направило в определенное русло прежде разрозненные, неоформленные ощущения и догадки, которые стали складываться в более отчетливую картину…
Цель настоящей статьи – не отыскание конкретных пересечений и перекличек, влияний, откликов и скрытых цитат. Этого у Стругацких по отношению к Достоевскому не так много, хотя сами по себе такие совпадения – вроде отмеченного выше – занятны и многозначительны. Я намереваюсь показать, что в книгах братьев Стругацких нередко возникали резонансные отзвуки тех духовных волн и импульсов, которые излучало творчество Достоевского. И – проследить смысловые параллели, возникающие в произведениях этих столь удаленных друг от друга авторов, поразмышлять над их закономерностью и значимостью.
Сопоставление Стругацких с Достоевским – не слишком ли это надуманно (иные, уверен, скажут – кощунственно)? Где они – и где Он, обретший статус непререкаемого и абсолютного классика (что подтверждается, среди прочего, и заметным ослаблением живого интереса к произведениям Достоевского)? А вот не скажите! Это только на самый поверхностный взгляд кажется, что ничего общего между этими авторами нет и быть не может. Что касается Стругацких, то мне давно уже стало ясно, насколько глубоко они укоренены в почве русской литературы, особенно классической. Они – ну в точности Антей, – стоя на этой почве, черпают из нее силы и соки, несмотря на всю футурологичность и «космополитичность» своих художественных устремлений. Верно, большая часть реминисценций, открытых и скрытых цитат «указывает» в сторону Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Алексея Толстого. Однако потенциального интереса к Достоевскому это никак не исключает.
Но и будучи рассмотренным с другой стороны, «неравенство» это не выглядит таким уж безнадежным. Ведь Достоевский, более чем кто-либо другой из классиков, имел предрасположенность к мышлению и видению, которые характерны для фантастической литературы – в современном ее понимании. Попытаюсь этот тезис обосновать.
Понятие «фантастический реализм» не случайно прочно ассоциируется с творческим методом Достоевского. Атмосфера фантасмагории пронизывает такие сочинения, как «Двойник» и «Хозяйка», «Крокодил» и «Бобок», но и в главных его произведениях – в «Преступлении и наказании», «Идиоте», «Подростке» – многие события и ситуации располагаются на грани ирреального, невероятного.
Наряду с этим Достоевский жадно и недоверчиво впитывал данные современной ему науки, в частности, новейшие изыскания в социологии и политэкономии, психиатрии и физиологии мозга. Влекли его проблемы, располагавшиеся на переднем крае человеческого познания, исполненном парадоксов и противоречий – например, разные версии неэвклидовой геометрии. Рассуждения на эти темы встречаются на страницах «Преступления и наказания» и «Идиота», «Подростка» и «Братьев Карамазовых».
Не был чужд Федор Михайлович и мотивов, которые в его время целиком лежали в сфере «научной фантастики» и могли бы звучать в романе, например, Жюля Верна – достаточно вспомнить знаменитую сцену разговора Ивана Карамазова с чертом. Собеседники вполне серьезно обсуждают тему топора, вознесенного на круговую космическую орбиту и становящегося спутником Земли.
Важнее, однако, другое. Глубинный склад мышления и дарования Достоевского был отмечен «проективностью» – напряженной устремленностью в будущее, с его угрозами и надеждами, в будущее, где таятся ответы на «вечные» вопросы мироустройства и человеческого общежития. Это действительно уникальная особенность его творческой личности. Ни у Бальзака со Стендалем, ни у Диккенса с Теккереем, ни у Флобера, Тургенева, Гоголя и Толстого не встретишь ничего подобного. Достоевский полагал, что универсальные постулаты веры, морали, христианского мировоззрения надысторичны, задают «вечную» ценностную перспективу – и вместе с тем он не переставал гадать о том, как разрешится тайна истории, в каком обличье предстанут человеческая душа и человеческое общежитие – под воздействием научно-технического прогресса и социальных катаклизмов – через пятьдесят или пятьсот лет. И это сближает его с проблемным полем современной футурологии и научной фантастики – каким этот жанр предстал в произведениях Уэллса и Шекли, Лема и братьев Стругацких.
…Известно, что в молодости Достоевский, принадлежа к кружку Буташевича-Петрашевского, горячо увлекался идеями фурьеризма. Пережив на каторге глубокий религиозный переворот, писатель вовсе не утратил вкуса к вопросам социального устройства, соотношения между христианским идеалом и конкретными формами жизнеустроения. Набиравшие тогда силу идеи светского гуманизма рассматривались им как великий соблазн и мировоззренческий вызов – и в то же время обладали для него чуть ли не магнетической притягательностью.
Двумя главными пунктами его полемики с социалистическими «благодетелями человечества» были: рационалистическая умозрительность их прожектов, не учитывающих реальную сложность человеческой природы; и опасность бездуховности, вытекающая из удовлетворения единственно материальных потребностей человечества.
Достоевский внимательно и пристрастно следил за развитием современных ему социалистических и прогрессистских концепций, поставивших на повестку дня вопрос о росте благосостояния человечества и справедливом распределении материальных благ. Увлеченный спором знаменитых эмигрантов Герцена и Печерина, он много размышлял о роли «материальной цивилизации», о «стуке колес повозок, подвозящих хлебы голодному человечеству». В «Дневнике писателя», в своих великих поздних романах Достоевский приходит к выводу: идея накормить голодных, избавить страждущих от нехватки и лишений есть «идея великая, но не первостепенная». Более того, в ней таится опасность для религиозного идеала. Писатель предрекал, что в новом мире, построенном по законам социальной гармонии и достигшем материального изобилия, но лишенном идеи бессмертия души, люди забудут о любви, милосердии, нравственном совершенствовании и придут в конечном итоге к выхолощенному гедонизму, к хаосу войны всех против всех или к жесточайшему деспотизму.
В этой связи Достоевский вспоминал об одном из евангельских искушений Христа – предложенном Дьяволом чуде превращения камней в хлебы. Он писал (в «Дневнике писателя»): «Дьяволова идея могла подходить только к человеку-скоту. Христос же знал, что одним хлебом не оживишь человека. Если притом не будет жизни духовной, идеала Красоты, то затоскует человек, умрет, с ума сойдет, убьет себя или пустится в языческие фантазии».
Но ведь очень схожая проблематика находилась в фокусе интересов и забот братьев Стругацких в начале их творческого пути!
В своих произведениях этого периода, еще брызжущих наивным оптимизмом и почти щенячьей радостью предвкушаемой будущей жизни, они задумываются и о том, что так волновало и раздражало Достоевского – о «душе человеческой при социализме», если воспользоваться названием известного эссе Оскара Уайльда. Как добиться того, чтобы она – душа – «трудилась», не зарастая жиром и коростой инерции, эгоизма, самодовольства? Как сохранить и приумножить духовность в жизненном пространстве человека?
Да какая такая духовность у «коммунаров», в атеистическом, обезбоженном обществе? – воскликнет кто-нибудь из неофитов православной ортодоксии. И при чем здесь, опять же, Достоевский? Но вот сам Достоевский ортодоксом не был и к коренным проблемам человеческого бытия подходил вовсе не догматически. Вспомним хотя бы воображенные Версиловым в «Подростке» картины грядущего Золотого Века человечества – после смерти Бога: «И люди вдруг поняли, что они остались совсем одни, и разом почувствовали великое сиротство… Осиротевшие люди тотчас же стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее; они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь они одни составляют все друг для друга. Исчезла бы великая идея бессмертия, и приходилось бы заменить ее; и весь великий избыток прежней любви к тому, кто и был бессмертие, обратился бы у всех на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо <…>. Они стали бы замечать и открыли бы в природе такие явления и тайны, каких и не предполагали прежде, ибо смотрели бы на природу новыми глазами, взглядом любовника на возлюбленную <…>. Они работали бы друг на друга, и каждый отдавал бы всем все свое и тем одним был бы счастлив. Каждый ребенок знал бы и чувствовал, что всякий на земле – ему как отец и мать».
Если отвлечься от «жалостного» колорита, похоже на отрывок из фантастического социально-утопического романа. Конечно, у Достоевского встречались и намного более суровые пророчества относительно будущего человечества «при атеизме» – вспомним хотя бы сон Раскольникова в эпилоге «Преступления и наказания» или мрачные периоды «Поэмы о Великом инквизиторе».
А что же Стругацкие? Они в этой фазе своего развития вовсе не обеспокоены перспективой сиротства человечества после отказа от «концепции Бога». «И никаких богов в помине – лишь только дела гром кругом» – эти слова Окуджавы они могли бы выбрать своим девизом. Однако это вовсе не значит, что в будущее они смотрели с бездумным оптимизмом, уповая, вместе с заскорузлыми догматиками, на автоматическое перерождение людей под влиянием коммунистического «способа производства». Нет, им было важно понять и предсказать, что конкретно изменится в материи повседневности, что побудит людей будущего жить и действовать по-новому. Они хотели в своих произведениях хотя бы эскизно представить modus vivendi и modus operandi «коммунаров».
Интересно при этом, что под ход Стругацких, если спроецировать его на актуальную полемику, которая велась в 60–70-е годы XIX века, оказывался, как ни странно, ближе к позиции Достоевского. В самом деле, его противники из «социалистического лагеря» – Герцен, Огарев, Михайловский, Ткачев и другие – видели в преодолении зол и язв современной им цивилизации главную практическую цель. Нищета, невежество, порабощение, эксплуатация, сословная иерархия – все это надлежало искоренить, и задача эта представлялась им столь эпохальной, запредельной, что о дальнейшем можно было пока не задумываться. «Сначала накорми, а потом и спрашивай с них добродетели». Достоевский же, органически приверженный духу философии «как если бы», своей мыслью легко преодолевал расстояния, барьеры, препятствия и говорил: «Ну вот, искомое состояние достигнуто – что дальше?»
Именно с этой позиции стартовали и Стругацкие. В начале 60-х годов, но уже XX века, задача избавления от голода и болезней, достижения материального изобилия выглядела все еще грандиозной, но уже достижимой для человечества как в его капиталистической, так и социалистической ипостаси. Поэтому связанные с этим вопрошания и предостережения Достоевского становились для Стругацких актуальнее, чем практический пафос тогдашних поборников науки и прогресса.
Сами того, скорее всего, не замечая, писатели в своих ранних произведениях – «Стажеры», «Полдень. XXII век», «Далекая Радуга» – пытаются ответить на идеологический вызов Достоевского. Персонажи этих книг, живущие в изобильном и благополучном будущем, заняты не своими частными интересами и проблемами, а трудом, расширением границ познания, покорением пространства и времени – ради всеобщего блага, но и для удовлетворения собственного любопытства, для ощущения полноты и радости жизни. Писатели помещают их в ситуации испытания, риска, этического выбора, заставляют их любить, ревновать, страдать. И все это для того, чтобы иметь право сказать: потомки будут не безликим покорным стадом и не скучающими, пресыщенными сибаритами, как опасался Достоевский. Их жизнью, напряженной и эмоционально насыщенной, будут править принципиально новые мотивы и ценности: солидарность, альтруизм, воля к максимальной творческой самореализации, благородная состязательность.
Герои «Полдня», да и сказочно-фантастической повести «Понедельник начинается в субботу» чуть ли не буквально реализуют метафору о «превращении камней в хлебы» – правда, начисто лишая этот процесс каких-либо демонических коннотаций, изображая его в оптимистических и юмористических красках.
Одновременно Стругацкие – особенно в «Стажерах» – затрагивают обобщенно и тему инерции человеческой природы, «пережитков», «родимых пятен». Их носителями в романе являются и ослепленные жаждой наживы «рудокопы» на Бамберге, и красавица Маша Юрковская – в изображении авторов матерая мещанка, озабоченная только развлечениями, успехом у мужчин и сохранением собственной привлекательности. Впрочем, в ее глазах герои-первопроходцы – люди, в свою очередь, скучные и ограниченные. В своих утопических феериях Стругацкие заразительны, ярки – но вовсе не до конца убедительны. Их герои наделены немалой человеческой привлекательностью, они умны, добры, любознательны, готовы к взаимопомощи и самопожертвованию в случае необходимости – при этом без сусальности, натужности и ложного пафоса. Однако сам процесс массового перехода земных обитателей-обывателей в это удивительное качество, сам механизм превращения остается за кадром. О нем остается лишь догадываться. Правда, к чудодейственным свойствам коммунистического «способа производства» и к могуществу науки писатели добавляют еще один важный фактор: высокую педагогику, последовательное и точечное воздействие на юные души для развития в них семян добра, ответственности и благоговения перед жизнью… Достоевский ведь тоже в «Братьях Карамазовых», через линию Алеши и «мальчиков», приходил к теме «учительства».
В «Далекой Радуге» Стругацкие предприняли интересную и недооцененную попытку углубления традиционной фантастической проблематики. Да, в центре повествования – впечатляюще нарисованная картина «оптимистической трагедии», в этом же духе выдержан и общий колорит. На экспериментальной планетке, облюбованной физиками для своих захватывающих дух экспериментов, возникает неожиданный и грозный «спецэффект» – все население Радуги должно погибнуть. Поведение «коммунаров» перед лицом этой беды, их стойкость, мужество, альтруизм, их дискуссии на тему, кем (конечно, детьми) и чем должен быть загружен единственный космический корабль, который сможет покинуть планету, – вот главный предмет изображения.
Но на полях этой трагедии разыгрывается скромная и примечательная психологическая драма. Один из персонажей повести – физик Роберт Скляров, наделенный незаурядной физической силой и красотой, но при этом удручающе заурядный в интеллектуальном плане. Особенно на фоне своих более или менее блестящих коллег. И тут вспоминается пассаж в «Идиоте» о незавидном положении обыкновенных людей, особенно тех, кто сознает свою обыкновенность: «…нет ничего досаднее, как быть, например, богатым, порядочной фамилии, приличной наружности, недурно образованным, неглупым, даже добрым, и в то же время не иметь никакого таланта, никакой особенности, никакого даже чудачества, ни одной своей собственной идеи…». Скляров, если отбросить сословно-имущественные определения, как раз из таких.
Стругацкие сосредоточивают свое и наше внимание именно на этом образе – закомплексованном, страдающем от сознания собственной серости, уязвленном. Герои без страха и упрека, ведущие себя согласно прописям и кодексам, занимают их меньше. Скляров же – персонаж «достоевского» склада, он совершает поступки нестандартные, не укладывающиеся в нормативную моральную схему.
Ради спасения любимой девушки он преступает непреложный императив: первыми спасают детей. Он оставляет группу детей в опасности – правда, они так и так, скорее всего, погибли бы, – а свою возлюбленную силком увозит к стартующему звездолету.
Как это квалифицировать? Как безудержный эгоизм, пусть и в превращенной форме (ведь Роберт заботится не о себе, а о дорогом ему лично человеке)? Как злостную «аморалку»? Да и сам он в финале квалифицирует себя как труса и преступника. Но всмотримся пристальнее – не узнается ли в атлетической фигуре Склярова, с которого ваяли скульптуру «Юность мира», «джентльмен с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливою физиономией», которого воображает себе герой «Записок из подполья»? Тот самый, который предлагает послать к черту благоразумие, логику и логарифмы и зажить «по своей глупой воле».
Самый интересный персонаж «Далекой Радуги» подтверждает своим предосудительным поступком, что человеческим действиям и в особенности их мотивам нет закона – даже если это не закон тождества и рассудочной логики, а закон безграничного альтруизма и отказа от себя ради блага многих.
Время шло, мировоззренческие горизонты братьев Стругацких все больше затягивало дымкой умудренного скептицизма. И как-то так получалось, что они, обретая вкус к нестандартным вопросам, коллизиям, ракурсам, пытаясь вообразить варианты будущего, словно бы наталкивались на вешки – предвидения и предостережения, – которыми загодя разметил это пространство Федор Михайлович.
В «Хищных вещах века» писатели набрасывают сценарий тупикового развития человеческого сообщества. «Страна дураков», где развертывается действие повести, – яркая иллюстрация опасности безграничного изобилия и комфорта при отсутствии духовной перспективы. Пресыщенные вещами и едой, безнадежно потерявшие смысл жизни, тамошние обитатели занимаются вандализмом, пускаются в самоубийственные приключения, спиваются или с головой погружаются в виртуальные электронно-наркотические миры.
И здесь, внешне неожиданным образом, в тексте возникает реминисценция Достоевского, в некотором смысле покаянная. Жилину, герою повести, после очередного столкновения с развеселой здешней реальностью, приходят на память слова Зосимы: «Понимая свободу как приумножение и скорое утоление потребностей, вспомнил я, искажают природу свою, ибо зарождают в себе много бессмысленных и глупых желаний, привычек и нелепейших выдумок… Бесценный Пек обожал цитировать старца Зосиму, когда кружил с потиранием рук вокруг накрытого стола. Тогда мы были сопливыми курсантами и совершенно серьезно воображали, будто такого рода изречения годятся в наше время лишь для того, чтобы блеснуть эрудицией и чувством юмора…».
В этой же повести впервые отчетливо проявляется черта поэтики Стругацких, объективно сближающая их с великим русским психологом. Достоевский охотно использовал детские образы и мотивы для заострения своих смысловых построений. Достаточно вспомнить девочку, обращающуюся в «продажную камелию» в больном сознании Свидригайлова, и несчастных детей пьяницы Мармеладова («Преступление и наказание»), другую «девочку лет восьми», перевернувшую душу героя рассказа «Сон смешного человека», маленького страдальца Илюшу Снегирева из «Братьев Карамазовых» и, в качестве квинтэссенции «детского» символизма Достоевского, – рассуждение Ивана Карамазова о мировой гармонии и слезе ребенка. Достоевский умело и целенаправленно пользовался образом страдающего дитяти, как тараном – для разрушения читательской «защиты», для прободения толщи равнодушия, комфортного душевного эгоизма, рассудочности.
Интересно, что братья Стругацкие тоже часто вводят детские образы – с повышенной смысловой нагрузкой – в свои реалистико-фантастические сюжеты. В «Далекой Радуге» отношение к детям становится оселком, на котором проверяется и зрелость, альтруизм общества в целом, и моральные качества отдельных его членов. В «Хищных вещах века» судьбы мальчиков, Лэна и Рюга, потенциальных жертв разбушевавшегося общества потребления, означивают символическое перепутье, на котором оказалось человечество.
Продолжается эта линия и дальше – в «Малыше», в «Пикнике на обочине» (Мартышка). И так до «Жука в муравейнике», о котором речь пойдет отдельно. Конечно, Стругацкие далеки от «жестокого реализма» Достоевского, программно надрывающего читательскую душу зрелищем детских страданий. Они просто фокусируют на детях проблемы большого, взрослого мира, в силу чего проблемы эти получают дополнительную остроту и философско-педагогический окрас.
Итак – Стругацкие обретают все большую художественную и интеллектуальную зрелость, тематика их произведений становится многомернее и тоньше. А «дух Достоевского» по-прежнему витает над ними, порой «конденсируясь» на страницах их книг. Взять хотя бы одно из вершинных их достижений – повесть «Улитка на склоне». Здесь завораживающе яркие фантастические описания сплетаются с сатирой, размышления о путях развития цивилизации соседствуют с приключениями и пограничными ситуациями в духе философии экзистенциализма. И посреди этой густой, напряженной виртуальной реальности нет-нет да и звучат отголоски рефлексии Достоевского. Помните, рассказчик в «Записках из подполья» задирал своих воображаемых собеседников, а заодно и будущих преподавателей научного коммунизма: «Тогда-то – это все вы говорите – настанут новые экономические отношения, совсем уж готовые и тоже вычисленные с математическою точностью, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы, собственно потому, что на них получатся всевозможные ответы. Тогда выстроится хрустальный дворец <…>. Конечно, никак нельзя гарантировать (это уж я теперь говорю), что тогда не будет, например, ужасно скучно…».
Достоевский, устами своего героя, возражает против неуклонности социальных законов, провозглашаемых «материалистами», против арифметической калькуляции потребностей и проявлений человеческой природы. Стругацкие в «Улитке» вторят по-своему «подпольному человеку», разве что несколько снижая его пафос и добавляя сарказма. Один из персонажей повести, живущий в бюрократизированном и насквозь фальшивом мире Управления, говорит: «В последнем своем выступлении, обращаясь ко мне, директор развернул величественные перспективы. <…> Если хотите знать, все будет снесено, все эти склады, коттеджи… Вырастут ослепительной красоты здания из прозрачных и полупрозрачных материалов, стадионы, бассейны, воздушные парки, хрустальные распивочные и закусочные! Лестницы в небо! <…> Библиотеки! Мышцы! Лаборатории! Пронизанные солнцем и светом! Свободное расписание!»
Похоже на конспект упований самих Стругацких пятилетней всего давности. Но теперь они переводятся в пародийный регистр. Наивному энтузиасту возражает скептик: «Я же тебя знаю. И всех я здесь знаю. Будете слоняться от хрустальной распивочной до алмазной закусочной. Особенно если будет свободное расписание. Я даже подумать боюсь, что же это будет, если дать вам здесь свободное расписание». Хрустальный дворец сведен к функциональному уровню общепитовской точки, которая, к тому же, оборачивается тупиком.
Писатели теперь признают, что главное – в подробностях, в тонких механизмах перехода, «скачка из царства необходимости в царство свободы». И обнаруживают здесь зияние. Остается совершенно непонятным, каким образом возникновение «новых экономических отношений» подавит низменные стороны человеческой природы и разовьет высшие.
Стругацкие становятся с возрастом трезвее, скептичнее, но отнюдь не утрачивают вкуса к постановке и анализу масштабных мировоззренческих вопросов. Свидетельство тому – роман «Пикник на обочине», в котором авторы как раз внимательнейшим образом, пусть и в привычном фантастическом ракурсе, рассматривают мироощущение рядового человека, горизонт его жизненных ожиданий, субстанцию его надежд и «хотений». Все это, конечно, на модели лихого сталкера Рэда Шухарта. Образ этот связан с «достоевской» проблематикой опосредованно, но несомненно.
С одной стороны, история Шухарта оборачивается в изложении Стругацких очередной инвективой против капитализма, против стремления к наживе и шкурного интереса как главных жизненных стимулов. Авторы впечатляюще изображают деградацию незаурядной личности в условиях суженного и искаженного спектра мотиваций. Рэду нужно «тянуть» семью, обеспечивать ее материальное благосостояние – и ради этой приватной цели он, обретаясь в «мире наживы», готов идти на все, рискуя и своей жизнью, и уж тем более такой абстракцией, как общее благо.
Однако есть в изображении и второй план. Рэд Шухарт олицетворяет бунт индивида против Системы и системности, против стремления обуздать, обкорнать человеческую натуру и загнать ее в прокрустово ложе порядка и подчиненности. Его азартному, авантюрному характеру претит аккуратно отсиживать по сорок часов в неделю на рабочем месте за умеренную зарплату, зная при этом, что кто-то наверху срывает большие куши и наживается на его трудовом поте. Все это переплетается во внутреннем монологе Рэда, когда он оказывается рядом с Золотым шаром, исполняющим, согласно легенде, самые заветные желания: «Но как же мне было сталкерство бросить, когда семью кормить надо? Работать идти? А не хочу я на вас работать, тошнит меня от вашей работы, можете вы это понять? Я так полагаю: если среди вас человек работает, он всегда на кого-то из вас работает, раб он – и больше ничего, а я всегда хотел сам, сам хотел быть, чтобы на всех поплевывать, на тоску вашу и скуку…». Это явно перекликается с мыслями «подпольного человека»: «Я не приму за венец желаний моих – капитальный дом, с квартирами для бедных жильцов по контракту на тысячу лет <…>. Уничтожьте мои желания, сотрите мои идеалы, покажите мне что-нибудь лучше, и я за вами пойду. <…> А покамест я еще живу и желаю, – да отсохни у меня рука, коль я хоть один кирпичик на такой капитальный дом принесу!»
Стругацкие в этом романе не изменяют своему старому антисобственническому, антииндивидуалистическому кредо. Но – усложняют его параметры, убеждаясь в том, как глубоко укоренен в человеческой природе принцип «своя рубашка ближе к телу». Кстати, здесь, в «Пикнике» писатели впервые пытаются наметить образ «положительно прекрасного человека», противостоящего окружающему его грязно-безобразному миру. Ведь образцовые герои их раннего творчества – Быков и Юрковский, Жилин и Горбовский, Крутиков и Кондратьев – проявляли свои прекрасные качества на столь же лучезарном жизненном фоне. В «Пикнике» очень любопытным образом появляется на полях сюжета фигура советского ученого Кирилла Панова, который вскоре погибает после похода в Зону, но остается в сознании Рэда как «луч света», как смутный идеал бескорыстия, преданности науке (а не «счету текущему») и попросту человечности. Верно, фигура эта дана очень пунктирно, чуть ли не апофатически, Кирилл («святой человек», как называет его Рэд) произносит в повести не больше десятка фраз. Тем не менее Стругацким удается этими скупыми средствами создать удивительно привлекательный образ, напоминающий об обаянии – хоть и гораздо более «явленном» – князя Мышкина.
Прежде чем расстаться с «Пикником», нужно сказать несколько слов о трансформации романа в сценарий фильма Тарковского «Сталкер». Трансформацию эту осуществили сами Стругацкие, но под явным влиянием режиссера, который не только отчетливо исповедовал христианство, но и находился под сильным влиянием Достоевского. Шухарт в фильме изменился до неузнаваемости. В сценарии именно с ним парадоксальным образом сопрягаются качества высокой духовности, проповеди добра и смирения, резиньяция, уход от соблазнов и иллюзий «материальной цивилизации». Сотрудничество Стругацких с Тарковским, художником изначально, по личностному складу, им не близким, принесло оригинальные творческие плоды, отмеченные близостью к проблематике Достоевского.
А теперь обратимся к «Жуку в муравейнике» – ведь фраза из повести стала, как уже говорилось, «триггером» всего этого рассуждения. Особенно запоминается финал повести, где начальник всемирной службы безопасности – КОМКОНа – Сикорски убивает прогрессора Льва Абалкина по подозрению в том, что тот – агент, пусть и невольный, загадочных пришельцев-Странников. В этой трагической коллизии нет правых и виноватых. Сикорски действует из лучших побуждений, он озабочен безопасностью и благом всех землян, и на его плечи давит огромная ответственность. Стругацкие, однако, намеренно сохраняют амбивалентность ситуации. Истинная природа Абалкина так и остается неясной, а значит, его жизнь приносится как жертва на алтарь общего блага – быть может, зря (уж не говоря о том, что субъективно он ни в чем не виновен).
Авторы очень тонко накладывают на образ Абалкина «детские» коннотации – он один из группы «подкидышей», рождение которых сопряжено с тайной и потенциальной угрозой. Он изначально находится в положении «без вины виноватого». Он волею обстоятельств оказывается объектом эксперимента, задуманного, быть может, не на Земле, на нем лежит неизбывная тень подозрения и печать изгойства.
В этой крайне сложной, «сконструированной» ситуации нелегко уловить какую-то связь с экзистенциально-метафизическими построениями Достоевского. Тем не менее она есть. В сущности, финальная коллизия «Жука в муравейнике» отсылает к знаменитому рассуждению Ивана Карамазова о «слезе ребенка» и мировой гармонии. Оправдана ли эта самая мировая гармония, если она зиждется на несправедливости по отношению хотя бы к одному члену человеческого сообщества (то, что этот «член» – младенец, придумано Иваном для усиления и заострения тезиса)? И тот же самый вопрос в неявной форме звучит в повести Стругацких. Допустимо ли обеспечивать безопасность планеты Земля ценой убийства невиновного – субъективно, а может быть, и объективно?
Понятно, что ставить так вопрос в практической плоскости немыслимо. Во все времена, при любом режиме и при любой погоде, практические соображения «блага большинства» имели приоритет перед правами отдельной личности и милосердием по отношению к ней. Но ведь и Иван Карамазов, разговаривая по душам с Алешей, разбирает не конкретные случаи. Он метит в фундамент бытия, он поверяет реальность «божьего мира» максималистским идеалом. Иван отказывается морально оправдать миропорядок, допускающий насилие и несправедливость по отношению к хотя бы одному-единственному младенцу, – и «возвращает билет». Мы помним, что Иван Карамазов таким образом «бунтует» против перспективы мессианского взаимного всепрощения и примирения, славящего Божественный промысел в конце времен. Можно счесть его позицию экстремистской, риторически за остренной, не совпадающей с позицией самого Достоевского (и это, конечно, так – Алеша тут же приводит в качестве контр аргумента всеискупляющее самопожертвование Христа), – но выражена она с редкостной силой и проникновенностью.
И у Стругацких открытый финал их повести возвещает среди прочего о том, что мессианские времена не настали и в основе той счастливой и достойной жизни планеты, которая составляет угадываемый фон приключенческого сюжета, лежит неизбывная ущербность. Последнюю можно трактовать как первородный грех, как «отягощенность злом», а можно – и как принципиальную информационную недостаточность.
Осталось поговорить о последнем прозаическом опыте автора братья Стругацкие – о романе «Отягощенные злом». Произведение это, сложно сконструированное, многоуровневое, наполненное разноплановыми культурными реминисценциями и аллюзиями на текущие – перестроечные – события, не назовешь большой творческой удачей. Однако роман весьма показателен в плане духовной эволюции братьев Стругацких и состояния, в котором писатели пребывали на этапе своего движения, оказавшемся финальным… А угадываемые в тексте переклички с Достоевским особенно значимы – и одновременно полемичны.
Смысловой стержень романа – идея повторяющихся в истории человечества явлений/перевоплощений Христа. Нет нужды напоминать, какую роль образ Иисуса Христа играл в мировоззрении Достоевского. Он был для писателя фокусной точкой бытия, смыслом и оправданием человеческой жизни, средоточием духовной красоты и блага. В письме к Н. Д. Фонвизиной (1854 г.) писатель нашел удивительно яркое и лаконичное выражение для своей «христоцентричности»: «…если б кто мне доказал, что Христос вне истины и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы остаться со Христом, нежели с истиной».
А теперь взглянем на то, как «работают» с этим вечным образом, с этой квинтэссенцией религиозно-этических представлений и упований братья Стругацкие.
В романе образ Христа предстает в нескольких ипостасях. Первая из них – фигура Учителя, пророка и проповедника из Иудеи первого века новой эры, соотносимая с евангельским прототипом. Давая собственную историософскую трактовку легендарных событий, Стругацкие сочетают уважение к преданию – никаких насмешек и вульгарных модернизаций – с последовательно рационалистским подходом. Схема конкретных обстоятельств места и времени, психология, социология – и никаких чудес, ничего трансцендентного. Учитель, Рабби исторической линии «ОЗ», – добрый, мудрый, проницательный и мужественный человек, стремящийся направить людей на пути любви и справедливости. (Стругацкие наделяют его лишь одним из ряду вон выходящим признаком: «…Он все знал заранее. Не предчувствовал, не ясновидел, а просто знал».) Он сознательно выбирает «крестную муку», чтобы привлечь к своей проповеди внимание народа – «не оставалось Ему иной трибуны, кроме креста». Но подвиг его оказывается напрасным.
Современная версия вечного образа – великий педагог Георгий Анатольевич Носов. Ему приданы черты «положительно прекрасного человека», при этом вполне посюстороннего, от мира сего, без каких-либо атрибутов божественности. Он одарен глубоким и тонким пониманием человеческой природы, талантами социального психолога, антрополога, культуролога. Он воплощает собой «социологию добра». Но главное его качество – абсолютное милосердие, распространяющееся на всех без исключения людей. Именно оно раскалывает окружающих на его злобных врагов и беззаветных последователей.
С образом Георгия Анатольевича связана прямая реминисценция Достоевского. Приведенные чуть выше слова из его письма о Христе эхом откликаются в «Отягощенных злом». Один из окружающих Г. А. «апостолов» так говорит о своем Учителе: «Г. А. – бог. Он знает истину. И если даже ваша паршивая практика покажет потом, что Г. А. оказался не прав, я все равно буду верить в Г. А. и смеяться над вашей жалкой практикой, и жалеть вас в минуту вашего жалкого торжества…». По сути, одно и то же, с легким семантическим сдвигом: на место слова «истина» поставлен «опыт».
(Заметим, что на этом череда воплощений не кончается. У Г. А. по ходу сюжета обнаруживается сын, вождь гонимой Флоры, и в нем тоже проглядывают черты учителя, проповедника, подвижника.)
Но нам нужно поговорить еще об одной ипостаси вечного образа, присутствующей в романе. Это – Демиург (он же Гончар, Кузнец, Гефест, Птах, Яхве…) – существо трансцендентной природы, явившееся на Землю, чтобы каким-то образом изменить рутинное течение событий. Стругацкие тут дают весьма вольную отсылку к представлениям гностиков о божестве низшего ранга, творение которого принципиально ущербно, дефектно. И все же, парадоксальным образом, Демиург, согласно художественной логике повествования, – еще одно воплощение Христа, а его пребывание в человеческом мире – очередное Пришествие.
Разумеется, соединяя в одной фигуре черты божества гностической традиции и героя евангельского предания, Стругацкие бесшабашно идут против всех канонов христианства и уж тем более удаляются от позиции Достоевского, видевшего в Иисусе полноту божественно-человеческого совершенства, сияние безупречной нравственной красоты. Однако, продолжая сопоставление образных систем авторов, легко прийти к выводу: Демиург в романе – это Христос, парадоксально соединившийся с Великим Инквизитором из поэмы Ивана Карамазова. Любовь и милосердие его «отягощены знанием», трагическим знанием об инерционной, едва ли поддающейся исправлению человеческой природе, о неискоренимой склонности людей использовать свободу во зло, для разрушения и саморазрушения, о том, что без использования «власти, чуда и авторитета» человечество и ход истории не изменить. Поэтому в своих странных экспериментах Демиург демонстрирует порой «жестокие чудеса».
К пониманию истинной природы и трагической ситуации этого образа призывает героя-рассказчика ближайший соратник Демиурга, Агасфер Лукич: «Не мог же я не заметить на этих изуродованных плечах невидимого мне, непонятного, но явно тяжелого креста. <…> Да в силах ли я понять, каково это: вернуться туда, где тебя помнят, чтут и восхваляют, и выяснить вдруг, что при всем том тебя не узнают! Никто. Никаким образом. Никогда. Не узнают до такой степени, что даже принимают за кого-то совсем и чрезвычайно другого. <…> Да в силах ли понять я, каково это: быть ограниченно всемогущим?»
В итоге можно сказать: «Отягощенные злом» – развернутая и замысловатая вариация на темы исторических судеб христианства, «подражания Христу», насущности и недостаточности чисто теологического подхода к «спасению мира». Это – арьегардный бой, который дают уставшие (как Демиург), во многом разочаровавшиеся провозвестники гуманистического преображения человечества. О, теперь они прекрасно видят наивность и самонадеянность своих упований четвертьвековой давности. Они признают значимость религиозной веры, важность высокого, надмирного, трансисторического идеала для такого преображения. Им намного понятнее христианские убеждения и душевные порывы Достоевского. Но полностью принять их они не могут и остаются при своем старом кредо светского гуманизма: «…что никаких богов нет и нет демонов, и нет магов и чародеев, что ничего нет, кроме человека, мира и истории». Просто теперь они понимают, что действовать в этом мире и в этой истории, менять их к лучшему – дело необычайно сложное и, быть может, безнадежное.
…Мне кажется, сказанного в этой статье достаточно, чтобы признать: Стругацкие в своих футурологических путешествиях и поисках действительно постоянно оказывались вблизи смысловых «гравиконцентратов», порожденных за век до них гением Достоевского. Их словно магнитом втягивало в поле антиномий и противоречий, в котором обреталось сознание великого писателя: между горячей верой и скептическим рационализмом, между этическими императивами и житейской реальностью, между историческими закономерностями и свободой…
В этом, пожалуй, нет ничего удивительного. Если обратиться к тем особенностям творчества Достоевского, о которых говорилось в начале статьи – острой идеологической ангажированности, масштабности смысловых построений, сочетании экзистенциальной напряженности с устремленностью в будущее и с социальной проективностью, – то кого бы мы назвали продолжателями традиции Достоевского в российской литературе, особенно советского периода? То-то и оно, найти их не так легко. Ну, Леонов, ну, Федин, отдельными своими сторонами Трифонов, Битов, пожалуй, Маканин. И Стругацкие занимают свое место в этом недлинном перечне – как бы это ни казалось странным. Избирательное типологическое сходство, во всяком случае, присутствует.
Однако дело, думаю, не ограничивается частичным пересечением интеллектуальных интересов и «горизонтов видения» этих авторов. Возможен и более общий, дополняющий ракурс воззрения на поднятую здесь тему.
При всем разительном различии исходных позиций есть в мировоззрении Достоевского и Стругацких существенно общая черта: стремление к солидарности, мечта о преодолении розни, о воцарении в человеческом сообществе дружеских, братских отношений. В этом пункте сближаются и ценностные парадигмы социализма и христианства, традиционно оппонировавшие друг другу.
Достоевский считал, что религия и социализм несовместимы, непримиримо враждебны. Ход истории, особенно советской, как будто подтвердил его мнение – и в то же время показал, что между ними существует немало общих точек. Сегодня и христианство (в понимании Достоевского), и социализм в его гуманистической версии противостоят могучим энтропийным силам и тенденциям, действующим внутри цивилизации: безответственности, алчности, потребительству и обессмысливанию жизни.
Может быть, пришло время двум этим началам, связанным неравнодушием к «человеческому проекту», объединить усилия в деле, о котором писал Сент-Экзюпери: «Есть лишь одна проблема – одна-единственная в мире – вернуть людям духовное содержание, духовные заботы…».
2010
Посмотрим, кто пришел
Ольга Славникова появилась в российском литературном процессе десять лет назад, как черт из табакерки. И, возникнув внезапно, она продолжает существовать в нем на каком-то особом положении, нарушая многие установленные правила и каноны обстоятельствами своей литературной судьбы. Во-первых, ее короткая, но увесистая очередь из четырех романов ознаменовалась по краям попаданиями в букеровские «девятку» («Стрекоза, увеличенная до размеров собаки», шорт-лист 1997 года) и «десятку» («2017», «Русский Букер» 2006 года). Во-вторых, не столь уж давнюю дебютантку по инерции хочется назвать «молодым автором». Ан, заглянув бестактно в биографическую справку, обнаруживаешь, что это не совсем верно. В-третьих, Славникова присутствует в российской литературе по меньшей мере в трех ипостасях: известного прозаика, активного критика и успешного «литературного менеджера», курирующего премию «Дебют», – случай не такой уж частый.
Все же героиня этой статьи более всего популярна как автор романов. И это при том, что читать Славникову – занятие отнюдь не легкое, не услаждающее. Скорее – напрягающее. Странный образ приходит мне в голову, когда я пытаюсь интегрально определить ее писательскую манеру, – образ Иванушки, растопырившего ручки-ножки на лопате Бабы-яги, чтобы зацепиться, не проскользнуть с легкостью в жерло печи. Так и Славникова: делает все возможное, чтобы ее тексты не были легко проглочены читателем и не канули в бездну беспамятства. А ведь текущий момент как будто не слишком благоприятен для прозы сложной и эстетически притязательной…
Уже первый большой опус Славниковой, «Стрекоза…», должен был вызвать у публики если не шок, то недоумение. Хотя на первый взгляд все было достаточно традиционно: мутно-свинцовый советский быт, мать и дочь, взаимно отравляющие друг другу жизнь, людское несчастье без любви, желаний, смысла. Светлана Шенбрунн, ранее побывавшая в шорт-листе Букера со своим романом «Розы и хризантемы», уже возделывала эту почву. Да и вся позднесоветская аналитическая традиция – И. Грекова, Нагибин, Трифонов – приходила на память…
При ближайшем же рассмотрении – ничего подобного. У Славниковой все по-другому. Рассказанная ею история бездарно-трагической жизни Софьи Андреевны и Катерины Ивановны уводила читателя совсем к другим берегам, в незнакомые, необыденные пространства.
Прежде всего – особая манера письма, с упором на яркую, интенсивную до навязчивости изобразительность. Текст романа перенасыщен сравнениями, уподоблениями, метафорическими построениями разной степени сложности и удачности, словесными оборотами «похожий на», «напоминающий», «словно», «казалось»: «Низкорослые копальщики, похожие на испитых гномов»; «По небу тянулось с перерывом узкое чернильное облако, похожее на несколько зачеркнутых слов»; «Одна лампочка заморгала, словно глаз, в который попала соринка»; «Был еще художник Сергей Сергеевич Рябов, сидевший очень прямо, похожий на прялку…». Это все примеры, взятые с первых трех страниц, изображающих похороны матери, Софьи Андреевны, и поминки.
Славникова тратит огромное количество творческой энергии на обустройство, детализацию и «визуализацию» своего романного мира. И добивается впечатляющих эффектов, особенно по части зримости призрачного, выразительнейшего описания пограничных состояний и миражных продуктов сознания героев. Но возникает парадокс: мобилизованное автором словесное богатство, броскость образов, изощренность метафор призваны внушить читателю представление о скудности, непривлекательности, ущербности изображаемой действительности. Фейерверк тропов освещает пустынность и унылость этой бытийной местности.
В центре повествования – нерасторжимая и роковая связь матери и дочери, которые не могут жить вместе и не могут разделиться, не способны к самостоятельной и полноценной жизни. Другие персонажи романа не лучше – все они монстры или духовные инвалиды с непривлекательной внешностью, вздорными характерами и мелочными интересами. Это и незадачливый муж Софьи Андреевны (отец Катерины Ивановны) пьяница и гулена Иван, и вздорная подруга Екатерины Ивановны Маргарита, и ее обесцвеченный муж Колька, и его полоумная, забывшая вовремя умереть мать по прозвищу Комариха, и горе-художник Рябов.
Система жизненных отношений, в которые вступают друг с другом персонажи романа, подчиняется некоему закону отрицательных соответствий, взаимотталкивания. Сюжет романа (насколько здесь можно говорить о сюжете) развивается по тщательно выписанному контуру нелепиц, недоразумений, роковых совпадений, которые ведут к трагифарсовому финалу. В его пространстве господствует отчуждение, и социальное, и метафизическое, когда живое и неживое взаимно обмениваются признаками, когда фантомы теснят реальность…
Что же это – вариация на тему (давно освоенную экзистенциализмом) невозможности подлинного контакта между людьми, полной взаимной непроницаемости, замкнутости, обреченности на одиночество и абсурд? Отчасти это так, тем более что Славникова намеренно препятствует прочтению этой истории как социально-бытовой драмы. Исторический (советский) фон повествования дан глухими и размытыми упоминаниями о терроре 30-х, войне, присутствии в повседневной жизни тени КГБ и первомайских субботников. Семья, к которой принадлежат героини, – сущностно женская, мужчины в ней «не держатся», быстро исчезают, но это, согласно автору, не столько трагическая примета эпохи, сколько знак судьбы, слепого и тяжелого рока.
Не назовешь эту прозу и психологической, если последнюю понимать в трифоновско-битовском ключе, когда в центре повествования – мысли, переживания, мотивы поступков героев, их внутренняя жизнь на фоне внешних обстоятельств и констант. В «Стрекозе…» внутренняя жизнь изображается не через собственные высказывания персонажей, не воссозданием (в какой угодно технике) их «потоков сознания», а идущими непосредственно от автора рассуждениями или образными конструкциями, проекциями душевных состояний, которые должны складываться в картину личности: «Софье Андреевне, чтобы действительно овладеть областью своей фантазии, приходилось сперва затрачивать труд, и она по многу часов склонялась над пяльцами, высоко подымая руку с иглой… Не то было с Катериной Ивановной: ее душа запросто и совершенно бесплатно вселялась в разные привлекательные вещи, легко взмывала, едва касаясь колен водосточной трубы, на любой этаж… – Екатерине Ивановне даже казалось, что она летает, что это и есть доступное человеку умение летать». Такие построения зачастую многословны и не слишком прозрачны по смыслу.
И при всем при том – наплывающая волнами, насыщенная и мерцающая изобразительность, прихотливая, с забеганиями вперед и возвратами композиция романа завораживают, подчиняют себе читательское сознание… Отдельные картины и ракурсы впечатляют своей эмоциональной сгущенностью, пронзительностью и неповерхностной достоверностью: «У Софьи Андреевны было тяжело на сердце: жалко себя, жалко крепдешиновой кофточки, которую еще вчера наглаживала… Хотелось лежать и глядеть на дым, на темные среди серебряной слякоти кочки травы, до самых корней пропитанные сыростью. Хотелось ничего не чувствовать, кроме тупой округлой боли в низу живота, тянущей из ног какие-то тонюсенькие рвущиеся жилки…». Так изображает Славникова состояние своей героини после первой в ее жизни, неловкой и несчастливой близости с мужчиной.
Следя за причудливыми перипетиями отношений персонажей, за вызывающими хронологическими скачками и поворотами сюжета, постепенно начинаешь догадываться: у текста есть сверхзадача. И она не в том, чтобы с максимальной экспрессией выявить серость, безнадежность, бессмысленность повседневной действительности, а в намеке на какой-то иной план реальности, где, очевидно, все наоборот: существуют красота, гармония, единство. В тексте этот план намечается преимущественно «от противного», но он иногда и явлен в наитиях-озарениях, посещающих Катерину Ивановну. Особенно характерен завершающий период романа, сюжетно совпадающий со смертью героини: «Катерина Ивановна глядела туда, где округлые, небесной укладки, божественно бледнеющие дали все выше поднимались, все больше набирали воздуха, раз от разу ища соединения с небом, – и последняя голубая, различимая благодаря одной бесплотной кромке, уже почти достигала небесной прозрачности, доказывая, что нет непроходимой границы между небом и землей».
…При должном освещении на поверхности прозы Славниковой обнаруживаются блики набоковской манеры. Да и общий эстетический принцип, проступающий сквозь пеструю ткань изобразительности, как задумаешься, существенно набоковский: автономность художественного текста и даже его приоритет по отношению к «действительности» как залог возможности разных планов реальности.
Славникова на поверку предъявляет читателю собственную вселенную, где автор – единственный господин и устроитель, демиург. Со своими персонажами она обращается, как с куклами, контуры которых легко видоизменяются, по ходу действия им добавляются (или из них вычитаются) детали внешности, характера, судьбы.
Но ведь так же поступал и Набоков, скажем, в «Приглашении на казнь». Действительность, в которую ввергнут Цинциннат, – бутафорская, наспех сколоченная, грубо раскрашенная. А окружающие его «фигуранты» нелепы и пародийны до призрачности и полной взаимозаменяемости: «Отбросы бреда, шваль кошмаров». Правда, в романном мире «Стрекозы…» нет того центрального сознания, которое удостоверяло бы собственную полноценность, вменяемость и, соответственно, халтурную несущественность «объективной реальности».
И все же Славникова здесь компромиссна, не вполне последовательна. Вдохновляясь примером Набокова, восставая против жизнеподражания, она все же не готова объявить собственное воображение единственным сувереном, а приключения языка и игру повествовательных эффектов – темой и сюжетом романа. Образы ее героев, при всей их нарочитой придуманности, несут на себе слишком много следов пребывания в «почве реальности». Их взаимоотношения порой тяготеют к обычной людской логике и мотивам. В сознании персонажей романа присутствует по крайней мере интенция любви, стремления к счастью, к постижению и «достижению» друг друга. Не случайно Софья Андреевна тоскует по никудышному, исчезающему Ивану, «гонится» за ним почти всю свою жизнь. Порой Славникова дает понять, что не метафизический рок и не ее авторская злая воля повинны в их тотальном одиночестве и неосуществленности, что они как-то сами опаздывают, промахиваются, не делают последнего усилия…
Думаю, такая непоследовательность пошла на пользу роману. Точки соприкосновения его умышленной ткани с плоскостью реальности создают своеобразный узор, явно оживляющий авторский «концептуальный проект», повышающий его действенность.
Издательство «Вагриус» напечатало роман «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» с характерной маркировкой: внизу каждой страницы мелкой прописью набраны слова «женский почерк». Такая попытка ввести непривычную прозу Славниковой в знакомое русло, по-моему, непродуктивна. Ничего специфически женского в ней нет. Хотя, конечно, сопоставления с творчеством самых известных «мастериц» художественной прозы естественны. Есть у Славниковой переклички с манерой Толстой 80-х годов, с ее рассказами, полными «летучих фракций» человеческого существования и сознания: мечтаний, надежд, фантомов и миражей, порывов и заблуждений. Да еще сближает их интерес к аутсайдерам жизни, к блуждающим по ее краям и задворкам: инвалидам, идиотам, некрасивым и закомплексованным. С Петрушевской Славникову связывает обоюдный вкус к мрачно-абсурдистским случайностям и совпадениям, к зловещим вспышкам «чернухи», озаряющим беспросветно серые галереи житейских обстоятельств…
Зато знаковой, «говорящей» стала книжная публикация второго романа Славниковой «Один в зеркале» (точнее, сборника с этим заглавием) в 2005 году в издательстве «Рипол классик», под серийной рубрикой «Библиотека клуба метафизического реализма». Определение «метафизический реализм», или еще более лапидарное, тоже присутствующее в выходных данных книги – «meta-проза», – очень удачный термин, задающий верную перспективу и для предыдущего романа. «Один в зеркале» знаменует собой продолжение эксперимента, начатого «Стрекозой…», и радикализацию его условий. Исходный житейский материал – того же нехитрого свойства, что и в «Стрекозе…». Преподаватель математики не первой молодости влюбляется в юную студентку-первокурсницу. Любовь, поспешный брак, полное несовпадение личностей, адюльтер, страдания героя, гибель героини в автокатастрофе. Однако, как и в «Стрекозе…», автор демонстрирует здесь желание и умение рассказывать самую банальную житейскую историю наиболее сложным образом. Повествовательная стратегия замысловата: вся история бегло излагается с начала и почти до конца, а потом начинается прокрутка пленки заново, с ускорениями и замедлениями, скачками и возвратами, ответвлениями, сменой фокусировки…
Изобразительная манера здесь остается прежней – с изобилием сравнений, сближений «далековатых понятий», с несколько избыточной метафорической лепниной. Зато жизненная субстанция повествования еще больше истончается, до полной утраты логических скреп и смысловых обоснований. Героиня Вика еще девчонкой сотворила себе кумира, точнее, создала для себя культ друга, нелепо погибшего паренька Павлика. Тем самым она и сама вступила в «особые отношения со смертью». Эта напыщенная претензия, остающаяся на совести самой героини, вроде бы высмеивается по ходу повествования: Вика показана обыкновенной девицей, в меру глуповатой, в меру пошлой, правда, способной притягивать к себе мужчин каким-то неясно прописанным свойством «нездешности». Жертвой этого свойства становится даровитый математик Антонов, которого Вика женит на себе к обоюдному неудовлетворению. Антоновская доля теперь – ждать и ревновать, гнаться за своей недосягаемой женой, пытаться обнять ее и чувствовать, что руки схватывают пустоту. Вика же и подавно не способна оценить человеческие и интеллектуальные достоинства своего мужа.
Эта игра несоответствий завершается смертью героини вместе с ее шефом-любовником в ДТП (к таким развязкам с появлением «бога из автомашины» Славникова явно питает слабость), и таким образом заявка Вики на обреченность как бы оправдывается. Почему все сложилось именно таким образом? Каков смысл или (не к ночи будь спрошено) урок происходящего? Вопросы, конечно, неуместные. Антонов и Вика просто по определению непроницаемы, недосягаемы друг для друга, их попытки (то есть в основном Антонова) прикоснуться не только к телу, но к личности партнера, обречены. Герметичность существования героев, их «монадность» и стерильность возводятся здесь в еще более высокую степень, чем то было в «Стрекозе…».
Прочие же персонажи романа – «теща Света», ее роковой друг Гера, бизнесмен, соблазнивший/купивший Вику, его жена, с которой под конец грешит Антонов, и еще некоторые – и вовсе эфемерны, они нечувствительно рассекают своими траекториями пространство повествования, способствуя его движению к приуготовленному финалу.
В этой откровенной марионеточности или бестелесности романных образов легко можно было бы увидеть художественную несостоятельность, если бы Славникова не объявила демонстративно это качество принципом своей поэтики. Главный ее прием в романе – жест дезиллюзионизма, демонстрирующий фикциональную природу литературного текста и, соответственно, населяющих его человеческих образов.
Уже на первых страницах романа декларируется его сочиненность, придуманность, проводится грань между героями и их жизненными прототипами, хотя рассуждение о том, чем «реальный человек отличается от литературного героя», не слишком внятно: «Человека можно встретить и разглядеть, но ничего нельзя увидеть его настоящими глазами: когда я пытаюсь представить что-нибудь от имени псевдо-Антонова или псевдо-Вики, в моих глазах темнота». Главное тут – просто откровенное явление автора и заявление им своей господствующей позиции. Помнится, такие ходы любил Константин Вагинов (если оставаться в рамках российской традиции), а ближе к нам – Анд рей Битов. Набоков пользовался этим приемом намного осторожнее, между тем Славникова подчеркивает свою связь именно с набоковской традицией – об этом свидетельствует и эпиграф из «Приглашения на казнь», и ряд почти дословных, хоть и раскавыченных, цитат.
Ближе к концу энергия сюжета полностью иссякает, и Славникова завершает роман кокетливой декларацией сочувствия к Антонову, страдающему от осознания себя литературным персонажем. И тут все расстаются… Получается, что «метафизические перспективы» двух романов различны. В «Стрекозе…» в просветах между грубыми декорациями действительности мелькали ожидания другого, более гармоничного и светлого мира, предчувствия неба. В «Одном…» двоемирие другого рода: подчеркивается произвольность, условность, да и абсурдность именно сочиненной, текстовой реальности. Иллюзия «плоти и крови», страстей и аффектов, помыслов и поступков персонажей рассеивается, и читателю демонстрируются пружинки, гвоздики и клей, опилки и клюквенный сок.
В итоге эксперимент «Одного в зеркале» трудно счесть удачным, несмотря на то, что все стилевые достоинства славниковской прозы остаются при ней: отдельные предметы, состояния и переходы рисуются в захватывающих своей необычностью ракурсах и с изобретательной деталировкой.
Между тем в сборник, о котором идет речь, входит опус, показывающий другой, и более отрадный, извод «метафизической прозы». Я говорю о повести «Механика земная и небесная», написанной задолго до «Стрекозы…» и «Одного в зеркале». Эта компактная вещь содержит в себе все характерные черты славниковского метода, но в самом выгодном их сочетании и масштабе. Женщина по имени Идея, в обиходе Ида, любила когда-то мужчину, тот ее бросил, Ида обиделась на него и взбунтовалась против мира, решив впредь строить свою жизнь расчетливо и безошибочно, и забеременела от сознательно выбранного «донора». А затем (и в этом суть замысла) Славникова заставляет свою героиню испытать острое экзистенциальное переживание – «момент истины», – в результате которого та разрывает ткань своего самодельного кокона, ощущает с ослепительной остротой ценность и многодонность жизни – и постоянное присутствие смерти «на горизонте».
Изображается это пограничное состояние Иды в образах ярких, сновидческо-фантазийных, с нарушением пространственно-временных координат, с явлением знаков и посланцев из иного мира, из «зазеркалья».
Подкупает в повести выигрышная компактность, концентрированность ситуации. Повествование сосредоточено на одном герое, судьба и характер которого раскрываются и в психологическом анализе, и в экспрессивных мистических озарениях, которые переворачивают представления Иды о жизни и себе. Совпадения и умышленности здесь действительно оборачиваются созвучиями, доносящимися из разных бытийных измерений и резонирующими между собой. Их соединение становится не то чтобы естественным, а не нуждающимся в доказательствах, убеждающим в обход логики. Метафизические намеки, разбросанные по этой страшноватой сказке, складываются в законченное «послание».
Но это было написано, как уже говорилось, давно. А мы – в ситуации, возникшей после публикации «Одного в зеркале». Очевидно, Славникова почувствовала, что роман не стал творческим прорывом. К тому же писательница, отнюдь не проведшая 90-е годы в башне из слоновой кости, понимала, что ее творческий метод, суть которого хорошо передается оператором «мета-» (meta), очень пригоден для изображения новой пост советской реальности. Она обернулась для российских жителей катастрофами, миражами, чувством невесомости и расстройством вестибулярного аппарата – но ведь и Славникова, пользуясь своими неконвенциональными художественными средствами, говорила о неизбежности странного мира, о его загадочной чуждости и иллюзорности.
И вот в 2001 году появляется небольшой роман «Бессмертный», которым Славникова начала освоение новорусской «терра инкогнита» (приметы социальной реальности, мелькавшие в «Одном в зеркале», носили декоративный характер). В романе две основные линии, соединяющиеся между собой весьма замысловатым образом. Первая – рассказ о лежащем многие годы в постинсультном состоянии ветеране-разведчике, во время войны отправившем на тот свет немало немцев с помощью шелковой петли-удавки, а теперь беспомощно обретающемся в безвременье. Но это его личное безвременье и «нежизненность» становится весьма существенным жизненным фактором для семьи, которая удерживается на плаву в студеном море капитализма только с помощью солидной ветеранской пенсии. Падчерица Марина, неудачливая тележурналистка, старается максимально продлить срок жизни Алексея Афанасьевича, поддерживая в его мерцающем сознании иллюзию неизменности времен, плавного продолжения брежневского застоя. Для этого она изолирует квартиру от внешнего мира и гоняет по телевизору сфабрикованные ею монтажи из старых советских новостных программ.
Параллельно развертывается линия участия Марины, борющейся за место под рыночно-демократическим солнцем, в региональных выборах. Славникова колоритно изображает выморочность предвыборной кампании, в которой соревнуются, конечно, не программы и личности, а пиаровские приемчики, пропагандистские фишки и финансовые уловки, призванные даже не одурачить, а понадежнее купить электоральные души, скорее мертвые, чем живые. Марина работает в одном из соперничающих избирательных штабов, отдавая все силы этой борьбе, переходящей границы здравого смысла и легальности, подхлестываемая надеждой на карьерное продвижение в случае победы «ее» кандидата.
Нет нужды объяснять, что бедную Марину кинули и оставили на бобах. Важнее то, что пока она горела на предвыборной работе, Алексей Афанасьевич, почти полностью парализованный, вознамерился прервать свою подвешенность в безвременье и соскользнуть в смерть. Это ему в конце концов и удается, каковое событие становится (за)зеркальным отображением крушения надежд героини. Сдвоенная финальная катастрофа обставлена гротескными картинками последствий избирательной кампании, как всегда амбивалентных и для победителей, и для побежденных. Здесь Славникова полностью являет свой дар едкой, карикатурно-саркастической описательности. Вот лишь один пример: «Доволен был Шишков и тем, как развернулись сегодня утром судьбоносные события. Несмотря на то, что у него до сих пор подрагивали в брючинах седые бородатые колени и тонко, будто от приложенного холода, ломило левый висок, профессор чувствовал себя Наполеоном Бонапартом».
Однако сверхзадача Славниковой в этом романе – не социальная сатира и не сочувственное описание крушения карьеры (да и семейной жизни) Марины. Истинная героиня «Бессмертного» – мать Марины Нина Александровна, много лет самоотверженно ухаживавшая за парализованным мужем. Это в ее наивном и потрясенном общественными переменами сознании разыгрывается подлинная драма. Полностью сбитая с толку эфемерно-тусклым блеском утвердившегося в городе «просперити», ничего не понимающая ни в политике, ни в ценах, ни в жизни дочери (она и раньше-то стеснялась понимать, «как на самом деле устроена жизнь»), Нина Александровна зато начинает постигать немую истину существования Алексея Афанасьевича, устремленного к смерти, и подспудную связь этого существования с глубинными основами бытия.
Ретроспективно «Бессмертный» смотрится произведением компромиссным, переходным – Славникова начинает в нем разворот не только к актуалиям российской жизни нового века, но и к сюжетности, к запросам и традиционным вкусам читающей публики. После «Бессмертного» она пять лет ничего не публиковала и резко снизила активность в качестве журнального критика (на рубеже 90-х – 2000-х Славникова, напомню, много печаталась в московских журналах, живо откликаясь и на отдельные литературные события, и на более широкие явления, тенденции и сдвиги). Готовился, очевидно, Opus magnum, который и явился в лице романа «2017». Роман стал главным на сегодняшний день достижением автора, завоевав (военная терминология здесь, очевидно, уместна) премию «Русский Букер» за 2006 год.
«2017» – действительно широкое, непривычно для Славниковой широкое полотно. А точнее – постройка о многих этажах, представляющая реальность (да, все ту же многажды третируемую и развенчиваемую реальность) на разных уровнях и в разных ракурсах. Чего тут только нет: бремя страстей человеческих, погоня за любовью, авантюрно-поисковая фабула, фольклорная мифология, желчные зарисовки новейшего российского бизнес-сообщества, рефлексия о национальном характере, об исторических путях России и о структуре текущего момента мировой цивилизации. Композиционно все эти планы и пласты сочетаются не идеально. Но, несомненно, проза Славниковой, сохраняя свой стилевой «бренд», предстает здесь в новом обличье, да и новом качестве.
События романа происходят на Урале, прозрачно переименованном в Рифейский край, да и время действия здесь зафиксировано точно – смотри название. В центре повествования – история героя, талантливого резчика по камню и ювелира Крылова, его отношения с бывшей женой, а ныне успешной бизнесвумэн Тамарой и с загадочной, полупризрачной возлюбленной Татьяной. Все это – на фоне картин жизни Рифейской столицы, прозябания обывателей и подковерной борьбы элит, с встроенными эпизодами рискованных экспедиций охотников за драгоценностями – хитников.
Роман наполнен всякого рода символической образностью, главное назначение которой, как всегда у Славниковой, – разомкнуть своды и горизонты житейской обыденности, ввести в литературное пространство другие бытийные измерения. Многое в сюжете и смысловой перспективе романа строится на мотивах и фигурах, представленных в сказах Бажова: это и Каменная девка, она же Хозяйка горы, и Великий Полоз, и Олень – Серебряное Копыто. Присутствует тут и программная фантомальность: у героя, Крылова, объявляется дубликат-призрак, Татьяна оборачивается ипостасью Каменной девки, посланной в реальный мир.
Все это призвано придать происходящему трансцендентный колорит, сдвинуть его в сферу сверхреального. В том же направлении действуют и многочисленные, как бы случайные «проговорки» автора о постоянно присутствующих в городском пространстве НЛО, о призраках, делящих с героями их жилую площадь, об ангелах, незримо героев сопровождающих, о всяческих «видениях». Все эти инобытийные объекты просачиваются в повседневный мир романа. Но и он сам словно бы тяготится своей «нормальностью» и тянется к границе, разделяющей реальное и мифическое.
Есть в повествовании один центральный, привилегированный «мыслеобраз». Это образ драгоценного минерала, артефакта неживой природы, вступающего с миром органики, с жизнью частной и общественной во взаимодействие, в отношения борьбы и взаимопревращения. Смысл в эту диалектику вкладывается неоднозначный.
Соотношение живого и неживого, естественного и искусственного занимало Славникову всегда. Однако в более ранних ее романах эта тема развивалась в аспекте диковинных переходов, превращений одного в другое, игры со смещением границ. В «2017» проблема переводится в плоскость подмены, целенаправленного замещения материи человеческой (да и природной) жизни фантомами, наведенными иллюзиями, синтетической трухой, пестро и грубо размалеванной.
С одной стороны, люди здесь «гибнут за минерал», подчиняя все свои помыслы и надежды погоне за наживой, жертвуя ради нее своими жизнями (профессор Анфилогов и его верный помощник Колян). С другой – их нормальное, повседневное существование настолько пронизано флюидами рекламных соблазнов, телефальши, грубого пиара, что утрачивает качество естественности, органичности.
Есть, правда, и другая грань этой темы. Поглощенность подземными богатствами, красотой и прозрачностью минералов, пробивающимися сквозь земную кору, для многих персонажей романа не носит меркантильного характера. Для Крылова, например, это – единственно доступная форма приобщения к истине бытия, к его высшим планам в обезбоженном мире.
Славникова в романе впервые выходит на простор широкой экзистенциальной и историософской рефлексии, масштабных и достаточно артикулированных обобщений (хотя и чувствуется, что на этом просторе ей еще не совсем уютно). Одну из версий объяснения невзрачного состояния страны и мира, версию, условно говоря, конспирологическую, Славникова вкладывает в уста своего персонажа, продвинутой и осведомленной Тамары, улавливающей флюиды из самых высоких «атмосферных слоев». Из лекции, которую она зачитывает Крылову, вытекает следующая картина. Человечество уже немало лет объединено – не догадываясь об этом – в «одну мировую молекулу». Иными словами – в сверхорганизм, управляемый некими анонимными, но вполне целенаправленными элитами. Эти элиты все схватили и поделили, всем правят. Более того, в потайных лабораториях и исследовательских центрах найдены и отработаны рецепты решения всех проблем, лечения всех язв человечества. Уже можно накормить всех голодных, вылечить всех страждущих, снабдить жильем всех бездомных. Но – это означало бы вступление мира в новую, непредсказуемую фазу. Поэтому его невидимые властители, заинтересованные в сохранении «статус-кво», сокрыли все эти достижения, заморозили всякое развитие и сознательно законсервировали жизнь в некоем произвольном состоянии. Это-то и придает действительности привкус искусственности, неподлинности.
Ближе к концу романа Славникова проясняет социально-исторический извод своего замысла. Это – линия, изображающая события в городе и России, приуроченные к празднованию 100-летия революции. Празднование задумано властями (плотью от плоти «мировой закулисы») как очередной развлекательный маскарад, призванный добавить к куску хлеба, бросаемому плебсу, толику зрелищ. Карнавал бутафорской исторической реконструкции, «ряженая революция» перерастает, однако, в реальные и ожесточенные столкновения между «красными» и «белыми», в неуправляемый, кровопролитный взрыв страстей. Славникова видит в таком развитии событий потенциал позитивности: оказывается, не все еще унифицировано и приведено к послушному безразличию, Россия еще способна на бунт, пусть внешне бессмысленный, на спонтанную активность. Это – возвращение из мира подделок и миражей в историю, опасную, непредсказуемую, но живую…
Последний роман Славниковой открыл в ее творчестве новые грани, краски, новые ракурсы видения и осмысления бытия. Читатели, да и «экспертное сообщество», благодарно откликнулись на эти изменения – «Букер» тому порукой. Но вовсе не факт, что линия «2017» и станет отныне ее путем. Альтернативное направление намечается в последней публикации Славниковой – рассказе «Басилевс». Этот опус снова, после «Механики…», побуждает задуматься о том, не является ли для Славниковой короткая повесть или длинная новелла самым перспективным жанром. Странная история о пожилом породистом коте, его хозяйке и влюбившемся в нее таксидермисте написана хорошо – свободно, с яркой и грациозно воплощенной выдумкой. В центре сюжета уникальный, совершенно удивительный, или, если угодно, сугубо сочиненный феномен, казус. Женщина без определенных занятий, да и без возраста (девочка-старушка), скажем больше – вообще без свойств, своей беспомощностью и «нездешностью» катализирует в окружающих ее мужчинах, как правило весьма состоятельных, вспышки покровительствующей доброты и направляет их на себя. Перед нами феномен психологического вампиризма – совершенно непреднамеренного и приводящего к непредсказуемым результатам.
Картинность, фактурность описания здесь плодотворно переплетается с фантазийным аллегоризмом, лаконично-хлесткие зарисовки новых русских с их причудами и комплексами – с тонкими проникновениями в строй аффектов главного героя, сохнущего по фатальной возлюбленной. Манера Славниковой становится в «Басилевсе» строже, экономнее, образность – прозрачнее и «натуральнее». Хотя и здесь автор, ближе к концу, начинает колебаться, как же сюжетно разрешить коллизию, и прибегает по привычке к вмешательству смертоносного случая. Правда, героиня ведь и по природе своей была существом неотмирным – ее гибель и «преображение» просто возвращают реальность к рутинному состоянию.
На мой взгляд, Славникова, со всеми выданными (ею и ей) солидными авансами, находится сегодня на перепутье. Ее мировоззренческие ориентиры и эстетические предпочтения до конца не определились. Она может двинуться в сторону упрочения связей ее прозы с «жизнью»: с духом времени, историческим моментом, социально-психологической ситуацией. Это вовсе не означало бы возврата к (быт)описательному реализму, к канону мимезиса. Нынче, похоже, вызревает «социокультурный заказ» на синтез картины мира – изображение смятенной, сорванной с петель, миражно-обманчивой действительности адекватными художественными средствами, при этом изображение не поверхностное, а проникающее, связывающее воедино разные грани и уровни бытия.
Когда-то Томас Манн мечтал о встрече мифопоэтического и аналитического способов постижения мира, о моменте, когда «Маркс прочтет Гельдерлина». Славникова, с ее трезвым пониманием происходящих в обществе процессов и даром проникновенно-преображающего запечатления пузырящегося жизненного варева, могла бы быть тут среди первопроходцев.
Но с тем же успехом она может повернуть к эффектной миниатюристике, к причудливым новеллам-камеям в духе Гофмана или Эдгара По, с метафизическим и сновидческим колоритом, с продуцированием изощренных коллизий, побуждающих к размышлениям о странностях и тайнах этой (или другой) жизни. Под солнцем торжествующего постмодернизма (имею в виду общекультурную ситуацию, а не литературную парадигму), как известно, расцветает сто цветов, соперничает сто школ. Что ж, время покажет. В любом случае следить за развитием прозы Славниковой будет интересно.
2008
Мерцающий мир (о прозе Дмитрия Быкова)
О Дмитрии Быкове пишут нынче много (хотя, конечно, не больше, чем он сам), но либо о «феномене» в целом, включая сюда, наряду с романами, стихи, публицистику и общественные перформансы, либо вразбивку об отдельных произведениях. Короткие рецензии. Апологетические или полемические реплики… Похоже, с ним смирились, как с погодой: хорошая, плохая, но существует, неотменима, рассуждать о ней интересно, анализировать не слишком продуктивно. Между тем возникает желание поговорить о Быкове обобщенно и в то же время конкретно как о мастере прозы. Задача это непростая, поскольку отделить эту его ипостась от прочих можно с напряжением и несколько искусственно – но усилия стоит приложить.
Оговорюсь, впрочем, сразу, что темой этой статьи будут не столько чисто литературные достоинства и недостатки сочинений Быкова, сколько целостный образ его прозы, включающий в себя черты эстетические, смысловые и даже идеологические.
Разброс мнений о нашем авторе очень широк. Его поклонники хвалят Быкова – говоря самым обобщенным образом – за богатую и конструктивную фантазию, за умение плести словесное кружево долго, красно, изобретательно, не давая угаснуть читательскому интересу. Оппоненты напирают на многословие, рыхлость текстов, вторичность и «пустотность» концептов.
Бросается в глаза, что те и другие обращаются к одному и тому же атрибуту творчества Быкова – его изобильности, избыточности, и только оценивают его противоположным образом. На признаке избыточности построил свой язвительный фехтовальный отклик на роман «Остромов» Б. Парамонов в журнале «Звезда» (2011, № 6). Здесь все сводится к раблезианскому складу натуры Быкова, стремящейся вобрать в себя и пересоздать на свой лад все сущее. В этом есть немалый резон. Нежелание писателя хоть как-то контролировать и ограничивать себя в плане объема, демонстративный отказ от внутреннего редактирования превращает его в удобную мишень. И все же проза Быкова, с ее достоинствами и изъянами, заслуживает более конкретного и широкого разбора.
В чисто литературном плане достоинства, на мой взгляд, перевешивают. Слог Быкова хорош – богатым своим словарем он пользуется непринужденно, расставляя слова если и не в единственно возможном порядке, то вполне выразительно и гармонично. Богат его интонационный регистр – писатель искусно чередует или совмещает пафос и иронию, исповедальность и инвективу, добротный психологический анализ и плакатную риторику. Словом, проза его аппетитна – что твое яблочко, которое приносит чудо-яблонька в благодатной деревне Дегунино (смотри «ЖД»). Она обладает полузабытой прелестью нормального, без гримас и судорог, уважительного к читателю литературного высказывания: картины рельефны и живы, образы персонажей достоверны (хотя перед нами отнюдь не психологические романы по преимуществу), метафоры и прочие тропы стоят на местах и при деле. Содержательно в тексте может бушевать чернуха, макабр, – порядок дискурса остается стройным и прозрачным. Автор – хозяин в своем доме.
Хорош Быков и в передаче настроений, внутренних состояний, да и вообще человеческой сути своих героев, всегда находящихся в напряженных отношениях, в разладе с миром. А как умело держит и длит он сюжетное напряжение, изыскивая ходы и повороты, неустанно придумывая все новые похождения и приключения для своих персонажей – создавая текстовые события! Впрочем, романы Быкова увлекают и привлекают читателя отнюдь не только фабулой.
Большая заслуга писателя в том, что он понял (или почувствовал): пришло время вернуться к полузабытым вопросам о человеческой природе, о добре и зле, о смысле жизни, о порядке бытия, которыми вдохновлялась и мучилась большая литература до «эры постмодернизма». Пора утолять духовную жажду, которой томятся пусть не массы, а отдельные индивиды. На самом деле таких одиночек, которым обрыдли глянцевая синтетика, криминальная тошниловка или авангардистские псевдоделикатесы, набираются легионы.
Не менее существенным качеством Быкова-прозаика является то, что он создает собственный мир – в каждом своем романе и в их совокупности (вещь в современной литературе нечастая). Как раз с устройством этого «макрокосма», с его архитектоникой, с его отношением к реальности разбираться гораздо интереснее, чем хвалить или ругать автора.
Мир произведений Быкова – преимущественно «русский мир». Его романы – серия вариаций на темы отечественной истории и культуры. Первым делом здесь присутствует историософская схема российского бытия («Таинственная книга бытия // Российского, где судьбы мира скрыты» – этот образ Цветаевой у Быкова скорее пародируется), ядром которой служит «советская цивилизация» на всем протяжении своего жизненного цикла. Именно этот феномен и является у нашего автора главным предметом реконструкции и оценки.
С оценкой все просто. Отношение Быкова к «советской цивилизации» абсолютно однозначное – ненависть и отвращение. Это легко прочитывается и в «Оправдании», и в «Орфографии», и в «Остромове». Но откуда же свалилась эта напасть на несчастную Россию? Согласимся, такой вопрос напрашивается. И вот тут приходится признать, что Быков в своей исторической рефлексии не занимается анализом – даже мифопоэтическим. Вопросы «почему», «по каким причинам», «в силу каких условий» в его книгах не ставятся. Большевистская революция уподобляется нашествию варваров, саранчи, чумы.
Нет, какие-то «генетические» намеки в эту схему вносятся. На первых страницах «Орфографии» сказано, что в начале 18-го го да на улицах Петрограда появились в большом количестве существа человеческого обличья, но с явными признаками «нездешности» – нежить, нечисть, чертовня. Следствие это октябрьского переворота или его причина – не проясняется. В «Остромове» тоже возникает беглый и глухой отклик этого представления (генетическая мутация?). Но в последнем своем романе Быков главным образом занят тотальной дискредитацией, риторическим поношением нового режима со всеми его учреждениями и установлениями, буквы и духа его существования. Представители большевистской элиты, обобщенный «пролетарий», низовая «населенческая» масса – все это вместе удостаивается у Быкова презрительно-нерасчлененного обозначения «они». После революции настало «их» время.
Даня, главный и любимый автором герой романа, размышляет о новом, наступившем эоне, в котором человеческая цивилизация соскользнула с рельсовой колеи рационализма и начала движение по голой почве, по глине. То есть – в какой-то момент произошел незамеченный никем катаклизм, радикально изменились условия и декорации игры человечества с культурой и природой. Но самым жестоким образом этот катаклизм воздействовал на Россию.
Есть в тексте «Остромова» и более радикальная догадка относительно сущности свершившегося переворота. Ближе к концу романа повествователь объявляет: «Истина же заключалась в том, что <…> к 1915 году вся развесистая конструкция, называвшаяся Россия, с ее самодержавной властью, темным народом, гигантским пространством <…> была нежизнеспособна, то есть мертва». Большевистская же революция – траги-фарсовая попытка гальванизации трупа.
А в «Орфографии» – вспомним – намеком проводилась идея скорее каббалистического свойства: вселенная сотворена божественным произволом из букв алфавита, и безответственные изменения количества и способа употребления букв (пореволюционная реформа орфографии) могут иметь миропотрясающие последствия.
Особняком стоит у Быкова историософская концепция «ЖД», роскошная в своей фантастической бесшабашности. В смысловом ее центре пребывает идея двойного порабощения Руси: северянами-варягами, жестокими вояками и насильниками, неспособными ни к какому созиданию, религиозно поклоняющимися государственному началу; и степняками-хазарами, торговцами, менялами и пересмешниками, противниками всякой вертикали, адептами ценностей либерализма и гедонистической вседозволенности. Главное же качество и тайна «коренного населения» заключается в его принадлежности к доисторическому периоду, к Золотому веку, когда люди жили в счастливом единстве с природой, в естественном и не иерархическом сословном разделении, не знали ни борьбы, ни труда, ни вражды, ни, боже упаси, прогресса, когда все циклически повторялось, двигаясь по кругу. Нынче же древние устои жизни порушились, население под властью захватчиков деградировало, сокровенное знание и способность к осмысленному действию сохранились лишь у горстки его представителей.
Общее во всех этих схемах – представление о том, что история России – да, похоже, и всего мира – развивается не по некой внутренней логике, не в силу закономерностей, противоречий и конфликтов разной природы, а спонтанными толчками, катастрофами или же под влиянием трансисторических факторов, действующих как бы из другого измерения. Применительно к России эти вечные факторы, они же свойства национального характера, таковы: пассивность, инерционность, виктимность, садомазохистский комплекс.
Но ведь историософская схема – лишь наглядное обнаружение более тонких и глубоких планов бытия, его скрытых атрибутов. Каково же внутреннее устройство мироздания по Быкову?
О, здесь бездна интересного, волнующего воображение и душу. Строение этого мира – «складчатое», его пространство анизотропно, имеет много разных измерений и состояний. Здесь происходят превращения, исчезновения, явления иноприродных сил, предсказания будущего и воздействие на него. Жестокие чудеса, благие чудеса, чудеса сомнительные и воображаемые… Более того, возможно, где-то Бог имеет место быть в этом мире – правда, факт его существования и тем более границы его могущества остаются дискуссионными, о чем позже.
Масштаб чудесности меняется от книги к книге. А главное, колеблется, мерцает статус этой магичности, степень ее «подлинности». В «Оправдании» частные невероятности с обнаружением среди живых людей заведомо погибших складываются постепенно в фантастическую и одновременно логичную гипотезу «испытания». Вдобавок – атмосфера «бытового сверхъестественного», окружающая таинственного старика Кретова, соблазняющего юношу Рогова на опасные изыскания в области альтернативной истории. Все это в финале романа рассеивается как дым в результате педантичного разъяснения автором всех загадок и несуразностей.
В «Орфографии» все скромнее – мистика букв и уже поминавшиеся намеки о вторжении нечисти в пореволюционный Петроград…
«Эвакуатор» содержит внутри себя лубочный научно-фантастический сюжет с звездолетом в форме лейки, хрестоматийными эффектами невесомости, освоением иной планеты, как необитаемого острова, и опытами телепатии.
В «Списанных» волшебства почти вовсе нет, а «проклятье списка», висящее над Свиридовым и его товарищами по несчастью, подлежит расшифровке в самых разных кодах.
Зато в «ЖД» и «Остромове» необычное и сверхъестественное воистину правят бал. В первом из этих романов повествование, при всей его публицистической заостренности и гротесковой актуальности, погружено в стихию фольклорного волшебства. Быков вообще любит детство, детство отдельного человека и человечества – с его надеждами, страхами, наивной поэзией, одухотворением неживого. Он любит скрещивать народную сказку с Метерлинком. В «ЖД» так и мелькают скатерти-самобранки и шапки-невидимки, чудо-яблоньки, несущие золотые плоды, Финисты, Гамаюны и прочая гжель. Здесь «коренные» когда-то состояли в добром сговоре со стихиями земли, и те давали им урожай и пропитание без изнурительного и скучного труда, с помощью одних заклинаний и волхвований. Теперь-то от этого древнего знанияведовства сохранились лишь жалкие крохи (девушка-колдунья Аша).
Присутствует в романе и народная эсхатология, в образе деревни Жадруново, где все приходит к земному концу и скачку в иное, неведомое измерение. При этом дух сказочности и волшебства, витающий над романом, бросает луч надежды в чернушный кошмар сюжета.
Ну, а в «Остромове» все намного серьезнее, строже, хоть и не вовсе без лукавства. Автор не призывает верить буквально антропософско-оккультистским, эзотерическим откровениям, которые и определяют в основном событийную канву романа. Но и не опровергает эту версию мироустройства. Тут мы наблюдаем две противоборствующие смысловые линии, воплощенные в фигурах героев-антагонистов.
Остромов, герой авантюрного склада, человек циничный и эгоцентричный, мечет перед своими адептами хрестоматийные образцы эзотерического шарлатанства, часто присовокупляя к ним собственное вдохновенное вранье. Он по сути исполняет функцию разоблачения магии. Но выясняется, что, проходя через сознание и душу человека чистого и бескорыстного, вся эта белиберда оборачивается истиной. Даня Галицкий, «ученик чародея», призван своей судьбой засвидетельствовать: вопреки шарлатанству, профанации невидимые и высшие планы бытия существуют, и к ним можно приобщиться. Он получает инициацию из фальшивого источника – но его собственная личность алхимически претворяет вымысел в подлинное знание и откровение.
Герой по ходу сюжета обретает удивительные способности и опыт: левитация, экстериоризация, то есть покидание душой пределов своего бренного тела, путешествия по иным измерениям и внематериальным пространствам. Изображаются эти процессы и эффекты порой с захватывающим драматизмом и экспрессией: «Мистерия шла не один и не другой век, и в окне, в розовом и алом просвете, открылась ничтожная ее часть. Сражались две силы, неустанно порождая из себя третью… Во всем этом господствовал ритм, не тождественный земному… Рисовались контуры, легко примеряемые на дракона и всадника, но с той же легкостью – на гору и бурю… Главный был неподвижен, ибо каждое его движение в этой многовековой мистерии растягивалось на год и недоступно было людскому глазу, – но борьба шла, неистовая, напряженная, стройная, как в балете, в котором, однако, убивали всерьез».
И тут надо признать: в результате подобных эффектов в «Остромове» (как и в других романах Быкова) общая смысловая перспектива окутывается туманом, а в мыслях и чувствах читателя происходит смятение (впрочем, симптомы морской болезни испытывает порой и сам автор – помните в «ЖД»: «Воцарилось благолепие. Хеллер отдыхал, Гашек сосал, и я тоже что-то плохо себя чувствую».)
Возникает недоумение: к чему клонит писатель? Что перед нами? Оккультное откровение в духе «Розы мира», глубинно серьезное и предназначенное для посвященных, несмотря на внешний стебовый орнамент? Или это аллегория, философская притча на тему неизбывного борения человеческой души с тянущим ее вниз бременем жизненных обстоятельств? Говоря шире: Быков пишет об эзотерических диковинках, о фантастических альтернативах истории, об экзотических ситуациях, в которых воображение может поместить отдельных индивидов и целые общества, – или о человеке и его уделе?
На мир по Быкову можно ведь взглянуть не только с точки зрения его магической онтологии, но и в другом ракурсе. Это арена непрерывного, глухого или явного противостояния личности, одиночки – и «окружающей среды», по преимуществу человеческой, т. е. социальной. Такое противостояние и есть центральная коллизия всех романных сюжетов Быкова, хотя декорации и аксессуары, конечно, меняются.
Герой Быкова (то же можно сказать и о героине) сущностно один и тот же. Это молодой человек, творческо-романтического склада, с развитым «органом полета», тонко чувствующий, склонный к саморефлексии, отнюдь не эгоцентричный, но и не готовый включаться в массовые акции, кампании и движения. Это аутсайдер, не дающий миру «поймать» себя. К реальности, данной нам в ощущениях, он относится с некоторым недоверием и насмешкой. Больше всего ему претят жестокость власти и жлобское равнодушие, массовидная пошлость «едоков хлеба», которые, в общем, скорее правила мироздания, чем исключения.
В эту матрицу укладываются и Рогов (с оговорками), и Ять из «Орфографии», и Катя с Игорем («Эвакуатор»), и Волохов с Громовым («ЖД»), и Свиридов («Списанные»), и Даня с Надей из «Остромова»… И для них автор приберегает «кантовские» вопросы, связанные с ориентацией и поведением в этом мире: что я должен делать? на что я могу надеяться?
Вспомним, как развивается главная сюжетная линия «Остромова». Даня и Надя, встретившись в середине романа, впадают в любовь, как в болезнь – внезапно и бесповоротно. Кстати, стремительное взаимное «узнавание» и сближение героев изображено в романе на редкость экспрессивно и с покоряющей убедительностью. Они созданы друг для друга, они родственны, как некогда насильственно разделенные половинки андрогина из древнего мифа, пересказанного Платоном в «Пире». И все же им суждено расстаться. Согласно глубинной логике повествования, разница между ними в том, что Надя – просто удивительно привлекательная девушка, «положительно прекрасный человек» в достоевском смысле. Даня же – сверх того – наделен мистическим предназначением. Ему на роду написано вознестись над земной юдолью, стать существом более высокого уровня – Ариэлем, духом воздуха. Поэтому заботятся о нем оккультные силы, поэтому приставлен к нему страж порога Карасев со шрамом, кавалерийской походкой и неограниченными возможностями.
Но тут-то и происходит важный смысловой поворот. В финале романа Быков дает возможность своему герою взглянуть земным, человеческим взглядом на горние миры, на высшие уровни бытия, на которых якобы и открываются подлинные, последние смыслы кровавой и абсурдной человеческой неразберихи, тысячелетнего скандала под названием История. И, увидев, Даня содрогается и отказывается – от высот, глубин, величия и тайн. Он осознает, что трансцендентная иерархия ничем не лучше земной, с ее дворцами и тюрьмами, великими вождями и палачами, с ее сверхчеловеческой механикой и геометрией.
Даня выбирает удел человека среди людей, слабого, уязвимого, обреченного – и все ради того, чтобы было кому позаботиться о странном, угрюмом и одиноком мальчике Кретове, который позже возникнет – точнее, раньше уже возник в сюжете романа «Оправдание» (тьфу, запутаешься в хронологических соотношениях быковских персонажей и фабул).
Значит – побоку магию, чудеса, метаморфозы и полеты души во сне и наяву? Главное – на земле (как говаривал любимый герой Стругацких Иван Жилин, отказываясь от карьеры космопроходца, – о связях мира Быкова с мирами Стругацких мы еще поговорим)? Не совсем так.
Нельзя сказать, что Быков концовкой своего романа полностью обесценивает мистико-экзистенциальный опыт героя по совершенствованию собственной личности и возвышению ее над плоскостью постылой реальности. Устами Дани он заявляет: обрести и отдать – совсем не то же самое, что отказаться от попытки обретения. Путь, обучение и послушничество, постижение тайн бытия так же самоценны, как и отказ от приобщенности, как жертва. И все же вопрос о ценностных основах, опорах человеческого существования остается открытым.
Если не оккультное знание, не антропософские таинства, то на что же герой – склада Дани Галицкого, или Ятя, или Нади, или Кати – может надеяться в этом безнадежном мире? Может быть, на Бога? На христианское учение и религиозное чувство?
В «ЖД» Быков представил достаточно развернутую религиозную концепцию, вполне неортодоксальную и, пожалуй, еретическую. Изображен в романе некий монастырь, затерянный на просторах России, с его братией и настоятелем, отцом Николаем. Монастырь и его монахи – автор замечает, что подобных монастырей на Руси совсем немного, с десяток, – представительствуют здесь от лица истинного христианства, адептом которого явно выставляет себя и сам Быков. В речах и суждениях отца Николая, в его беседах с Громовым действительно открывается мировоззрение по-своему обаятельное и светлое. Это верование абсолютно адогматичное, одухотворенное и гуманное, требовательное к человеку в плане его помыслов и поступков, а не в плане соблюдения обряда. Такое христианство – содружество добрых и совестливых людей, соревнующихся в ненатужном пересечении границ собственного эго, стремящихся почувствовать и разделить боль других. Они и в загробную жизнь не слишком веруют, рассматривая ее как «бонус»; они и бытие Божие принимают как благую гипотезу, а не в качестве краеугольного камня своей доктрины. Члены этого монастырского братства являются если не распорядителями мирских дел, то заинтересованными, сочувствующими и очень много знающими наблюдателями. С ними в романе связаны свет и надежда.
В «Остромове» света и надежды поубавилось. В этом романе христианская доктрина поминается скупо и как нечто сокровенное – последний ресурс, который нужно приберегать на самый крайний случай, и не только из-за его драгоценности, но и из опасения разувериться в его чудотворной силе.
Здесь автор, похоже, возвращается к довольно уже расхожей версии Высшего существа как благого, но вовсе не всемогущего начала, во многом зависящего от своего творения, как генерал, неизмеримо превосходящий властью и положением рядовых солдат и все же полностью зависящий от их поведения на поле сражения.
Тогда, может быть, личность может найти опору в самой себе? При чтении романов Быкова часто создается впечатление, что автор тяготеет к экзистенциалистскому подходу: человек заброшен в чуждый и враждебный мир, свое подлинное положение он постигает – полуинтуитивно – в «пограничных ситуациях», а свой фундаментальный атрибут – свободу – реализует, принимая решения, осуществляя выбор в этих ситуациях.
Насчет экзистенциализма как философского течения у Быкова наверняка имеется вполне отрефлексированное мнение, с которым я не знаком. Но по части экзистенциализма «прикладного» у него в отечественной литературе есть предшественник и, пожалуй, учитель: автор по имени братья Стругацкие. Быков никогда не скрывал своей любви к Стругацким и почтения перед ними. По его романам («Остромов» в этом смысле особенно характерен) разбросано множество явных и скрытых цитат, смысловых и ситуационных отсылок к книгам Стругацких. Речь, боже упаси, не о плагиате, а об изящных, порой чуть ироничных жестах благодарности – homage.
А главное – Быков не просто творчески заимствует у Стругацких отдельные мотивы и сюжетные ходы, но учится у них созданию и сгущению атмосферы фантасмагории, озадачивающему сочленению естественного, до боли знакомого – и невероятного, которое невозмутимо вводится в повествование в качестве исходной данности. (Сравнить, например, магический хронотоп «ЖД» или исчезновения девушек в начале «Остромова» с реальностью Эксперимента в «Граде обречен ном».)
И, так же как у Стругацких, герои Быкова в кульминационные сюжетные моменты оказываются перед выбором: куда повернуть, что предпочесть, чем пожертвовать? Совсем как Перец или Кандид, Румата Эсторский или Малянов с Вечеровским, Сикорски, Рэд Шухарт (поклонникам Стругацких, которых, думаю, много среди читателей Быкова, пояснять не надо)…
Похоже – да не очень. Вслед за Стругацкими Быков выписывает «пограничные ситуации» ярко и завлекательно, широким мазком. Однако при ближайшем рассмотрении условия выбора оказываются не такими уж жесткими. Да и сами решения героев выглядят порой не вполне убедительными, необязательными. В самом деле – в чем коллизия, например, Рогова? Этот молодой человек решает поверить гипотезе о сталинских репрессиях как методе отбора и воспитания сверхчеловека для строительства сверхобщества – Империи. Выбор, в сущности, чисто интеллектуальный, хоть и ошибочный. И за ошибку судьба – автор? – карает героя смертью. (Хотя можно увидеть тут и этический момент – не след слишком концептуализировать абсолютное зло, повышая тем самым его статус.)
Выбор Ятя – полный отказ от сотрудничества, да и вообще соприкосновений с новой властью – «размазан» на сотни страниц и в сущности предопределен натурой героя. В «Эвакуаторе» перед подлинным выбором герои, Катя и Игорь, не ставятся – они скорее подчиняются стремительному развитию внешних событий и меняющимся на ходу конвенциям повествования.
В «ЖД», правда, Громов, Волохов, Аня и другие персонажи принимают критические решения, движутся, очутившись на развилке, в ту или другую сторону, но в смысловом пространстве этой книги действует столько разноприродных факторов, что говорить о подлинном драматизме выбора тут не приходится.
И «Остромов» не меняет принципиально эту схему. В решающих точках поведение главных героев – Дани, Нади, Остромова – слишком обусловлено их заранее обозначенными личностными свойствами, сюжетными ролями, а также не слишком скрываемой авторской волей.
Особенно показательна стилизация под экзистенциальный выбор в «Списанных». Большая часть романа посвящена выяснению причин и обстоятельств попадания Свиридова (и других персонажей) в пресловутый список, описанию их реакций. В самом конце герой чудесным образом исключен из списка, но поставлен перед дилеммой: как быть дальше? Выйти на демонстрацию протеста и солидарности – или выскользнуть из ситуации, как из ночного кошмара, проснуться, забыть, что другие еще мучаются этим мороком. Реальная острота уже удалена из коллизии, но Быков идет дальше. Герою является Бог в гротескном обличье старой вороны и – это уже, похоже, насмешка над экзистенциалистским дискурсом – начинает склонять его к выбору, к активной гражданской позиции. Выбрав участие, Свиридов признает тем самым реальность и «серьезность» мира со всеми его проблемами, а значит, и бытие Божие. В противном случае он будет дезертиром и эскапистом. Но Свиридов не поддается на Божьи подначки и откровенно посылает своего собеседника. Забавно, но не более того.
Ну и что? – скажет мне поклонник Быкова. А где сказано, что писатель обязан следовать экзистенциалистским образцам? У него свой метод и своя манера.
Верно! И главная особенность манеры Быкова состоит в том, что художественный его мир демонстративно изменчив, многолик – обманчив. Обратим внимание: практически в каждом произведении писателя по ходу сюжета происходит радикальная смена декораций, данности оборачиваются иллюзиями, сдвигаются точки отсчета и системы координат. Художественный мир Быкова – насквозь игровой, он все время, явно или неявно, подчеркивает свой фиктивный, текстуальный характер. Обстоятельства, в которых живут и действуют его герои, оказываются трансформируемыми, как театральные декорации.
Примеры? Пожалуйста. В «Оправдании» прекрасно выстроенная концепция террора как всенародной проверки на прочность, проиллюстрированная яркими, психологически убедительными «реконструкциями», перечеркивается финалом, дающим гораздо более прозаические объяснения всем загадочным совпадениям. Картина, возникшая в сознании протагониста и предложенная читателю в качестве ошеломляюще смелой и верной, рассеивается, как мираж.
«Эвакуатор» являет собой образец хитро выстроенной литературной шкатулки с секретом – внутри «нормального» вымысла возникает вымысел второго порядка. Реалистический сюжет переходит в научно-фантастическое измерение, а ближе к концу становится ясно, что мы были вовлечены в игру, которую придумали для собственного развлечения герои романа.
В «Списанных» читатель все время колеблется – вместе с протагонистом, Свиридовым, – между разными, даже взаимоисключающими трактовками происходящего. «Список» оборачивается то оруэлловским кошмаром, в который погрузилось все общество, то индивидуально-групповым наваждением, которому люди охотно поддаются, каждый по собственным глубинным мотивам. Возникает и генерализующий вариант, отсылающий к Кафке: список – он и есть жизнь, ее нормальное и обычно не замечаемое состояние.
Особенно ярко это свойство быковской прозы проявляется в «ЖД». Там правила игры меняются чуть ли не в каждой очередной главе, там романная реальность обретает колорит то фарсового лубка, то гротескной антиутопии, то социальной сатиры, то фольклорной фантазийности, то политического триллера. Карнавал, маскарад, ярко раскрашенная луковка, с которой снимается слой за слоем вплоть до полного исчезновения.
Казалось бы – что в этом плохого? Ну, немного рябит в глазах, ну, неожиданности подстерегают читателя на каждом шагу – так ведь еще интереснее получается. Но дело в том, что при таком подходе авторское высказывание о мире теряет весомость, девальвируется. К примеру – Быков часто пишет о вещах и событиях жестоких и мрачных. Человеческая плоть и человеческий дух подвержены здесь тяжелым испытаниям. В его книгах много говорится о боли, смерти, моральных испытаниях и физических пытках, – и все это демонстрируется… Однако в самой этой форсированной жестокости проблескивает что-то несерьезное, подмигивающее. Садистски-изощренная церемония наказания в поселке Чистое («Оправдание») оказывается представлением. Взрыв, который намеревается устроить в звездолете чеченская террористка, Черная Фатима («Эвакуатор»), отменяется по причине невесомости. И в «Остромове» одна из самых жутких сцен – допрос в НКВД, когда Надю пытают чужой мукой, оборачивается инсценировкой. Конечно, моральные страдания героини подлинные, но источник их – фиктивен. А сцена «раскатки», которой рассвирепевший Даня подвергает следователя-палача Капитонова, вообще насквозь литературна, условна и имеет сугубо назидательное назначение.
Это – частность, но за ней открывается и общее: в таком трансформируемом мире герою очень трудно утверждать ценности, отстаивать свою позицию, да так, чтобы читатель ему поверил и проникся его правотой. Почва, в которую он должен упираться, расплывается, ускользает, подмигивая, из-под ног.
Вот мы и добрались до главной, встроенной проблематичности этого дискурса. Очень трудно постичь способ его взаимодействия с реальностью, а вместе с этим – объем и характер авторских притязаний. Одни установки здесь противоречат другим, нейтрализуют их.
Пишет ли Быков о действительной российской жизни, о ее истории и метафизике, о ее подлинных драмах и тенденциях? И да, и нет, потому что ради наглядного обнаружения этих тенденций, ради выявления самой глубинной и суровой сути этой жизни он позволяет себе художественную свободу, переходящую в полный произвол. Его историософские воззрения и догадки чрезвычайно интересны, остроумны, порой глубоки – но они извлекаются из материала, почти до неузнаваемости преображенного игровым, свободно парящим авторским воображением.
Хочет ли Быков вести диалог с читателем, делиться с ним своим своим интеллектуальным опытом, воздействовать на его представления, на его «чувство жизни»? Иными словами, наследует ли он традиции проблемной, взыскующей литературы? И да, и нет. Быков, с одной стороны, декларативно отказывается от претензий на тяжеловесно-серьезное отображение действительности, предполагающее суждения, оценки, уроки. Однако с озорством, фантазийностью, улетностью соседствует явная тенденция – если не к учительству, то к заявлению собственного взгляда на жизнь, своей шкалы ценностей. «Остромов» (как и другие произведения Быкова) полнится максимами и афоризмами, претендующими на глубину, общезначимость. В таком, например, духе: «…проклятие раздавленного человека имеет силу, небольшую, но силу; и это не то что справедливость… но равновесие, один из фундаментальных законов» (обратим внимание: автор тут вещает как бы от лица самого бытия). Или: «Есть угол зрения, которого никто не должен себе позволять: нельзя смотреть на мир глазами выброшенного щенка, глазами потерянного ребенка, одинокой матери, узнавшей, что она больна неизлечимо…».
Напрашивается вопрос, который только формалисты 20-х годов могли воспринимать как детски-наивный: это прием или всерьез? Потому что при таком подходе все моральные, религиозно-философские, социокультурные суждения автора рискуют оказаться под знаком потенциального «приема».
А может быть, все эти вопросы излишни? Вот в финале романа «Эвакуатор» Игорь, «придумщик америк», вступает в диалог с реальным миром – и объявляет, что не хочет иметь с ним ничего общего, во всяком случае, не собирается становиться переустроителем мира, борцом против его несовершенства. Всему этому он предпочитает «эвакуацию в чудесное пространство вымысла». В терминологии Игоря эвакуатор и означает – фантазер, создатель вымышленных миров, словесных вселенных, куда могут переместиться все, готовые ему внимать. Кто сказал, что не следует без крайней надобности умножать сущности? Достопочтенный Оккам, безнадежно устаревший вместе со своей бритвой. Нынче, да еще в сфере искусства, она никого не обязывает и не страшит.
Но писатель, похоже, не готов полностью отождествить себя с Игорем. В его книгах «план содержания» связан с массивом реальности, с вчерашними, сегодняшними и завтрашними заботами и проблемами российской жизни – но слишком уж тонкими нитями, допускающими свободное парение и пируэты. Вот и получается, что изобильная, брызжущая идеями, образами, неожиданными ходами и поворотами проза Быкова зависает между полюсами, точнее – колеблется, осциллирует между ними: не поучение – и не совсем развлечение, не художественное исследование – и не самозабвенное фантазирование, не размышление об уделе человеческом – и не авантюрно-триллерное повествование. Всего этого есть понемногу в каждом быковском тексте, и все сбивается в многоцветный, сильнодействующий коктейль. Пейте на здоровье, балдейте – эффекты будут разнообразными и стимулирующими.
Нет, я вовсе не собираюсь предъявлять писателю обвинения в равнодушии, релятивизме или, не дай бог, цинизме. Спасибо ему за яркость, изобретательность, да попросту за талант. И за то, что он поднял бунт против постмодернистской ситуации в культуре – ситуации, когда на мир смотрят исключительно сквозь мелкие осколки кривого зеркала. Но бунтует он внутри этой ситуации, нарушая одни конвенции и запреты, соблюдая другие, и чувствует себя при этом абсолютно комфортно. А слабо последовать примеру пушкинского князя Гвидона, который «вышиб дно и вышел вон»?
2012
Литература и революция
Да, в советское время это была расхожая, дежурная тема исследований и разглагольствований, во многом пустопорожних. Однако предмет не был выдуманным – произошла в 1917 году в России грандиозная революция (хоть и назови вторую ее фазу октябрьским переворотом), и событие это, равно как и последовавший десятилетний период нового жизнеустроения, получило масштабное и многостороннее отображение в прозе 20-х годов. Несмотря на то что раннесоветская литература была вовсе не свободна от цензуры и идеологического давления, невозможно оспаривать, что в ту пору были созданы яркие произведения на тему революции и послереволюционного переустройства. Достаточно назвать имена авторов: Пильняк и Бабель, Ал. Толстой и Булгаков, Артем Веселый и Леонов, Вс. Иванов и Платонов, Эренбург и Зощенко. В их произведениях ревели ветры времени, радикально менялся жизненный пейзаж, героев погребало под обломками рушащегося мира или возносило на невероятные вершины… И это не говоря о прозе, созданной писателями-эмигрантами.
В России 90-х годов прошлого века тоже совершилась революция, пусть и с обратным социальным знаком, пусть и куда менее кровопролитная. Но масштаб изменений – вполне сопоставим.
В стране произошла почти мгновенная по историческим понятиям, почти магическая смена – не просто декораций, а всего жизненного уклада. Как это пелось в старой советской песне? «За годы сделаны дела столетий». Семидесятилетняя советская цивилизация, связанный с ней жизненный порядок, система ценностей и приоритетов, матрицы мышления и поведения – все рухнуло в одночасье. Исчезли идеократическая властная система и планово-командная экономика, воцарились свобода слова и гражданские права, вожделенный рынок оказался на пороге.
Ну, а что же литература? Сумела ли она соответствовать размаху событий и перемен? Оказалась ли она в этом смысле хотя бы на уровне достижений и открытий раннесоветской прозы? Ведь климат, атмосфера были, казалось, несравненно более благоприятными – страна и общество выходили на широкую либерально-рыночную дорогу, а авторы могли наслаждаться долгожданной свободой самовыражения!
Что ж, взглянем ретроспективно, каким образом, точнее, в каких образах и формах российские писатели 90-х – нулевых отображали бурные события десятилетия, осмысляли и оценивали их, подводили итог. Имея при этом в виду: художественное произведение, даже впрямую развернутое к историческим явлениям и событиям, вовсе не обязано открывать нам некие сокровенные и значимые истины о состоянии реальности. Нет, максимум, на что тут можно рассчитывать, – это субъективная картина мира в глазах и сознании писателя, будь она сколь угодно яркой и проникновенной. Но, может быть, совокупность таких отображений способна кое-что сказать не только о самих авторах, но и о действительности, о ее поветриях и тенденциях, об откликах индивидуального и коллективного сознания на ход событий?
Начнем с рубежа 80–90-х, с поры предвестий и ожиданий грядущего катаклизма. В ту пору прогремела небольшая повесть А. Кабакова «Невозвращенец». Этот компактный текст, явившийся среди половодья обновленческих упований, поражал читателей леденящими картинами близкого (1993 год?) распада страны, войны всех против всех, кровавого беспредела. Еды в обрез, товаров ноль, валюта – талоны, улицы и площади во власти банд самых причудливых идеологических окрасов.
На этот «апокалипсис в картинках» накладывалась несколько невнятная фабула с перелетами героя-«экстраполятора» на машине времени из позднего застоя в хаос 90-х и обратно, по заданиям интересующейся будущим Госбезопасности. Мораль повествования: чума на оба ваши дома, и на застойную стабильность под колпаком КГБ, и на хирургическую операцию перестройки (в повести – «реконструкции»).
Текст этот по сути был объективацией интеллигентского отвращения к советской реальности и интеллигентского же ужаса перед лицом распада этой реальности. Фактография и колорит во многом позаимствованы из сцен занятия Киева отрядами Петлюры в «Белой гвардии» Булгакова. К чести А. Кабакова, он проявил незаурядную чуткость к «шуму времени», в котором ясно различил катастрофические обертоны. Да и с хронологической привязкой угадал – страшные события повести развертываются в 93-м году, воистину ставшем самым драматичным в послесоветской истории России.
В. Маканин свою антиутопию «Лаз», опубликованную года через два после «Невозвращенца», выстроил иначе. В повести, опять же изображающей реальность недалекого будущего, ужас почти не опредмечен – он разлит в воздухе. Примет разрухи, хаоса, террора не так много, да и подаются они в интонации будничной, как нечто само собой разумеющееся – живой человек, мол, ко всему привыкает.
Главное свойство измышленного Маканиным мира – его двуплановость. В сфере «наличного бытия» господствуют нужда и насилие. Но внизу, в некоем подпочвенном пространстве, течет другая жизнь – благополучная, с уважительными отношениями между членами социума, с материальным достатком и духовными интересами. Главный герой повести, Ключарев, причастен обеим сферам.
В чем смысл этого фантастического допущения, казалось бы, вовсе не обязательного для антиутопии? В чем семантика «двоемирия»? Можно понять дело так, что «верх» – это реальность, а низ – плод воображения героя, компенсация невыносимости существования. Можно заключить, что «верх» – постылое и безысходное настоящее; тогда «низ» – согретое и приукрашенное ностальгией прошлое, да-да, стабильное и достаточное советское прошлое.
Так можно продолжать долго, доходя до противопоставления России, уже почти поглощенной Роком – распадом, энтропией, – Западу, еще балансирующему на краю бездны, еще изолированному в своей высокотехнологичной теплице от вселенского холода. На самом деле все эти толкования скорее взаимодополняющие: они образуют ветвистую «ассоциативную крону» повествования.
Важно то, что в «подземном мире» рассуждают, обмениваются мыслями, пусть не бог весть какими оригинальными и глубокими. И это в противоположность явному дефициту речевого общения «наверху», сведению его к минимально необходимой коммуникации. Когда-то Маканин относился изрядно скептически к интеллигентной говорильне. Теперь в «Лазе» провозглашается абсолютная необходимость разговоров, «слов» с их терапевтической, чуть ли не магической функцией: «Разумеется, никто из говоривших там не знает и не может сейчас ничего знать до конца, но все они (и Ключарев с ними) пытаются, и их общая попытка – их спасение».
Итак, два не похожих друг на друга писателя на переходе от 80-х к 90-м узрели в мареве коллективных надежд, ожиданий, лозунгов и заголовков одно и то же: распад государственности, разрушение всех устоев привычного образа жизни, деградацию цивилизации.
Реальная российская история пошла менее катастрофическим путем, хотя и крови, и политических потрясений, и экономической разрухи было предостаточно. Тем не менее в стране не воцарился полный хаос, а, наоборот, довольно быстро стал возникать новый, пусть и весьма причудливый, жизненный уклад.
Литература очутилась в состоянии обескураживающей невесомости – она уже не была (никем) призвана что-то отображать, запечатлевать, исполнять миссию или хотя бы некие культурные функции. Писатели оказались предоставлены самим себе, своей странной профессии/участи и постылой свободе. Каждый автор выбирал свой метод и стиль, собственную стратегию «художественного спасения». Стратегии эти теперь должны были конкурировать между собой на потребительском рынке.
В. Попов, ветеран «старой гвардии» шестидесятников, например, остался верен своему творческому патенту еще советских времен: заговаривать, переигрывать реальность юмором и напором воображения. В повести «Будни гарема» он лихо и как бы беззаботно набрасывает сюрреалистические картинки текущего быта и нравов. Герой-протагонист, Попов В. Г., приглашен в круиз на роскошном лайнере. Его пассажиры, новые русские бизнесмены-мафиози, между делом обмозговывают проект блокбастера для отмывки неправедных их миллионов. Сценаристом и нанят протагонист, которому предстоит отлить убойную пулю из ничего, вернее, известно из чего.
Бедовый этот сюжет дрожит, изгибается, расплывается в миражном мареве. Воспоминания уносят героя в позднесоветское прошлое с вырождающимся тоталитаризмом и странными складками местности, в которых богемного склада художники порой чувствовали себя весьма уютно. А потом он возвращается в настоящее и наблюдает, как табунки деятелей российской литературы и культуры пасутся на лужайках международных конференций, дискутируют о сталинизме и фекализме, щиплют сочную травку грантов и втихомолку подъедают друг дружку…
Ту же линию Попов продолжает в повести «Грибники ходят с ножами». Там забавные и печальные эпизоды жизни героя в постсоветскую эпоху связываются воедино сквозным мотивом: бывшие номенклатурщики и новые бизнесмены, шагнувшие в богатство и власть через тюремные пороги и трупы конкурентов, совместно прибирают к рукам не только имущество Литфонда, но и бразды правления в «творческой организации». Изображая этот процесс, автор сочетает горечь с самоиронией, личной и коллегиальной – а заслужили ли он сам и его товарищи по перу тот общественный статус, которым они пользовались при старом режиме, безобидно против него фрондируя?
И вот, как квинтэссенция нового порядка в литературе и жизни, – запредельно гротескная сцена. Новый владелец приватизированного издательства «пострижен и посажен», но права-то собственности у него сохранились! Протагонист, желающий напечатать свою книгу, смиренно стоит под тюремной стеной, а из-за стены летят бумажные «пули», запечатанные хлебным мякишем – «внутренние рецензии» и творческие подсказки издателя авторам.
Гротеск Попова имеет, кроме художественной, и прикладную функцию. Писатель, по складу своей личности, отказывается сдаться на милость времени, ищет сугубо индивидуальные способы и средства самоутверждения. Литературный абсурдизм, накладываясь на абсурдность реальности, должен в итоге дать некое силовое поле, оберегающее от жизненных невзгод.
А. Мелихов в «Романе с простатитом» использует другую стратегию преодоления тягот безвременья. Российский интеллигент, конечно, привык не обращать внимания на материальную скудость советских времен, компенсируя ее духовной своей автономией. Нынешние обстоятельства такого жизненного модуса не позволяют. В романе запечатлены, бегло, но выразительно, удручающие бытовые реалии 90-х – интеллигент вынужден превращаться то в «челнока», то в частного репетитора, пускаться во все тяжкие ради приработка.
Однако герой Мелихова находит способ отстраниться и возвыситься над этими низкими данностями. Он, неприкаянный бунтарь-одиночка, восстает против статистических – то есть относящихся к массе – законов жизни, он стремится создать вокруг себя «скафандр», внутри которого существовала бы собственная атмосфера с индивидуальным химическим составом, с повышенным духовно-интеллектуальным давлением. Что толку горевать о статусных утратах и падении уровня благосостояния, когда на этом фоне еще ярче проявляются коренные, неустранимые противоречия и дефекты бытия! Признание неизбывного трагизма человеческого существования и противостояние ему – вот единственно достойная позиция на все времена. И герой-протагонист активно ее заявляет, переплавляя сырую руду повседневности в горниле своего творческого сознания. Текст романа сверкает конечными продуктами этого процесса: изысканными метафорами, броскими сравнениями, сложными ассоциативными рядами…
Конечно, реалистическая традиция, с широким захватом жизненных явлений и рассмотрением их в разных ракурсах, не прервалась полностью и в те годы. Верность ему, подкрепленную богатым арсеналом изобразительных средств, демонстрировал В. Маканин. Перейдя от предвосхищений к отображению сущего, он в романе «Андеграунд» тщательно воссоздает меняющуюся ткань жизни, скрупулезно взвешивает «прибыли и убытки» процессов, потрясающих страну. Лаконичными, суггестивными деталями он передает лихорадочную атмосферу демократического перелома, короткое, но бурное половодье перестроечного дискурса, перемены на политической авансцене – но отмечает и быстрое возвращение повергнутых было номенклатурщиков на теплые места и к рычагам власти. Он фиксирует изменения коллективной психологии, откликающейся на рыночную революцию: новое отношение к недвижимости, к обретшим невероятный вес «квадратным метрам»; обострение чувства собственности у одних, апатия, обнищание, помрачение сознания у других; «второе пришествие» российской буржуазии со всеми парадоксами, присущими этому полуискусственному процессу-проекту. И все это – в перспективе скептической мысли о сущностной инвариантности человеческой природы, субстанция которой, не меняя состава, легко заполняет любые предлагаемые ей формы…
А еще Маканин размышляет в романе о начавшейся задолго до перестройки смене глубинных культурных кодов, о погружении российского социума в «постлитературное», читай – нерефлексивное, внеморальное состояние. Жизнь, не просветленная Логосом, блекнет, грубеет, ожесточается.
Однако гораздо более востребованным оказался в ту пору подход, представлявший реальность не в «формах самой жизни», приглашающих к анализу и постижению закономерностей, а под знаком миражности и абсурда, с использованием соответствующих средств выразительности.
Тут надо заметить, что в российской ситуации 90-х конкретные исторические и социальные сдвиги/взрывы срезонировали с общемировой культурной тенденцией. Постмодернизм твердил о конце реальности, о замене ее симулякрами, медийными имиджами, прикладной мифологией, наведенными иллюзиями – в России все это происходило без какой-либо метафорики, с почти буквальной точностью. На каждом шагу случалось «небываемое», жизнь испещрялась метаморфозами, нелепостями, катастрофами, пустотами, как поле боя – воронками от снарядов. Сама материя действительности, гонимая ветром перемен, была настолько разреженной, подвижной, алогичной, что с трудом поддавалась запечатлению «конвенциональными» средствами.
Петербургский прозаик С. Носов в повести «Член общества, или Голодное время» активно использует фантасмагорию и эстетику абсурдизма для передачи духа времени. Правда, приметы ленинградско-петербургской повседневности «переходного периода» даны у него чуть ли не в духе физиологического очерка, в их самоочевидной выразительности, сгущающейся до символики. Сенная площадь, ставшая одной огромной барахолкой. Набережная Фонтанки, сплошь заваленная собачьими экскрементами. Распродажа книг и всякого домашнего скарба в целях пропитания. Практика выселения ослабевших от перемен людей из собственных квартир с последующим захватом последних.
Особенно впечатляет описание праздника города, совмещенного, согласно декрету Собчака, с 7 ноября. Череда «моментальных снимков» фиксирует грандиозную нелепость этого фестиваля, отражающего межеумочность исторического момента: «Изрядных размеров шары, что называется, воздушные, повисли над зданием Главного штаба. Под ними болтались полотнища с изображением буквы “Ъ”. Буква “Ъ” была несомненно символом <…>. По Конюшенной площади шли демонстранты – колонна с красными флагами и портретами Ильича <…>. Повернув на бывшую Желябова, или на бывшую бывшую (а теперь настоящую) Большую Конюшенную, демонстранты стали скандировать: “Ле-нин-град!..” Из булочной на Садовой высовывалась огромная хлебная очередь. Прыгал, крича, сумасшедший карлик напротив Гостиного и бил по струнам гитары ладонью. К нему привыкли. Собирали подписи».
Над бытовым гротеском надстраивается история загадочного общества, в которое вовлекают главного героя Олега, выбитого из седла житейско-историческими пертурбациями. Общество это странным образом процветает посреди всеобщей разрухи.
Герой безуспешно пытается постичь суть загадочной организации, постоянно меняющей контуры и окраску: изначально как бы библиофилы, члены общества оборачиваются гурманами, позже – вегетарианцами, чтобы ближе к концу оказаться очень похожими на антропофагов. Возникает подозрение, что Олег избран в качестве жертвы гастрономического заклания…
В финале повести члены общества собираются на радение в петербургском подземелье, где коллективно предаются созерцанию некоего сталактита. Герой, которому отведена важная, но непонятная роль в этом ритуале, смотрит на «магический кристалл» и завершает повествование словами: «Я понял все». Этот финальный аккорд носит программно-провокативный характер. Вместо разрешения загадки – жирный знак вопроса, глумящийся над читательским ожиданием понимания. Автор словно говорит: не ищите смысла рассказанной истории. Он отсутствует, как и в реальности, которая послужила материалом для этого эксцентричного сюжета.
Культовый автор 90-х В. Пелевин в высшей степени последовательно и даже агрессивно воплощает в своих произведениях мессидж фантомальности тогдашней российской жизни. Герой романа «Чапаев и Пустота», как мы помним – жертва постперестроечного катаклизма, вообразившая себя современником и соратником Чапаева. Оказавшись в стенах психиатрической больницы, Петр Пустота выслушивает от лечащего врача небольшую лекцию, весьма наглядно и логично объясняющую, почему он, как и многие его сограждане, утратил душевное равновесие. Причиной всему – стремительность перемен, неспособность или нежелание личности принять их, высвобождение психических энергий, которые начинают крушить структуры и механизмы человеческого сознания, создают «ложную личность»… Подвержены такой напасти индивиды, отказывающиеся видеть в переходе жизни на новые рельсы несомненное благо, прогресс и возможность личного успеха.
Этой простой и доходчивой установке герой – вместе с автором – противопоставляет иную трактовку происходящего. Не личность ложная, а мир ложный. Конечно, у Пелевина, на разные лады толкующего основополагающую доктрину буддизма, всякий мир объектов есть лишь кажимость, иллюзия. Но особенно убедительным этот тезис оказывается применительно к российской реальности 90-х, которая на страницах романа просто вопиет о своей выморочности, противоестественности.
Автор берет самые очевидные признаки этой реальности – люмпенизацию населения, разгул бандитизма, наводнение Москвы и всей российской жизни аляповатыми символами массовой культуры вроде «просто Марии» и Шварценеггера, рекламный волапюк, офисы зарубежных и совместных фирм, растущие, как грибы, на каждом углу. Из этого подручного материала он строит чрезвычайно выразительные черно-юмористические «инсталляции».
Конечно, демонстрации миражности нового строя жизни в романе вовсе не доказывают, что предшествующий, советский порядок имел более твердое онтологическое основание. Но у Пелевина речь идет о России 90-х – и вот анекдотически-афористичное суждение о ней героя: «А что касается творца этого мира, то я с ним довольно коротко знаком… Его зовут Григорий Котовский, он живет в Париже, и, судя по тому, что мы видим за окнами вашей замечательной машины, он продолжает злоупотреблять кокаином».
В следующем своем романе, «Generation П», Пелевин дополняет картину российской жизни более конкретными, актуальными деталями и аллюзиями. Здесь вводятся темы самодовлеющей мощи рекламного бизнеса, «тайной власти» олигархов над страной, а базируется все это на концепте «виртуализации реальности»: будоражащие общественное мнение политические события и процессы суть имиджевые проекты, продукты телевизионных студий и электронных лабораторий. Оцифрованные Ельцин и Лебедь, Радуев и Березовский, картина жизни как функция одаренности копирайтеров и качества компьютерной графики, да еще в условиях дефицита машинного времени и тактовой частоты, предоставляемых американцами. Одновременно форсируются мотивы неразличимости того, что принято считать действительностью, и измененных – под влиянием наркотиков и пр. – состояний сознания.
Одними манифестациями абсурдности, иллюзорности ни жизнь, ни литература, однако, не живут. Новая реальность, при всей своей непривычности и неожиданности, взывала к осмыслению – в исторических координатах, в ценностных категориях. В чем суть новой жизненной парадигмы, может ли она похвастаться очевидными преимуществами перед прежней, советской? Литература не могла не задаваться такими вопросами.
Именно в таком ракурсе рассматривает действительность 90-х Е. Чижова в своей «Терракотовой старухе» – даром что делает это с изрядной временной дистанции (роман опубликован в 2011 году). В центре повествования – образ женщины, филолога по образованию и призванию, переходящей, вместе со всей страной, в новый социокультурный «режим». Впрочем, Татьяна – вовсе не обычный «маленький советский человек», которого Маканин любил препарировать с насмешливым вниманием. Она всегда была «западницей», внутренней эмигранткой с остро критическим отношением к коммунистической идеологии.
Больше того: на протяжении всего действия героиня ведет напряженный внутренний диалог с российской культурной традицией, с классической литературой. Последняя, с ее проповедью высоких идеалов, бескорыстия, непрактичности очень плохо подготовила свою аудиторию к практической жизни в условиях свободы, на «естественных», рыночных основаниях.
Жизнь эта оказывается неласковой. Чрезвычайно рельефно представлены в романе тяготы, одолевавшие «человека улицы» в ходе гайдаровских реформ: безнадежная гонка за ценами, горькая невозможность обеспечить сколь-нибудь приемлемый уровень жизни. Героиня становится по счастливой случайности помощницей «нового русского», бизнесмена, стремящегося сорвать большой куш в игре по новым правилам – или вообще без правил. Действуя на «фронтире» диковатого российского капитализма, героиня претерпевает психологические травмы и кризисы, однако постепенно осваивается в новой социальной роли. Но, как выясняется, до определенного предела. Когда бизнес-логика – в один голос с боссом – требует от нее признать, что любые средства хороши для достижения цели, Татьяна отказывается переступить черту, «соскакивает» – и снова оказывается на обочине жизни. А самое главное – в полном одиночестве. Встроенная в ее сознание филологическая «матрица» уберегает ее от падения в бездну морального релятивизма, но превращает в аутсайдера посреди мира, поклоняющегося «идолам рынка».
Интересно, что при попытках постичь смысл происходящего, выявить «в режиме онлайн» его глубинные характеристики часто идут в ход средства фантастики. В романе С. Витицкого «Поиск предназначения» Станислав Красногоров, в меру одаренный научный сотрудник и порядочный человек, добросовестно занимается своим делом, по мере сил оппонирует советской Системе и – ищет смысл своей выделенности. Судьба раз за разом спасает героя в критических ситуациях, поражая одновременно его недоброжелателей и прямых врагов. Тут явно прячется некая загадочная закономерность.
Феноменом его заинтересовываются и спецслужбы, с которыми герой отказывается вступать в какие-либо контакты – честь дороже. Но вот грянула новая эпоха. В условиях объявившейся свободы Красногоров вдруг понимает, что присущий ему «дар», вместе с незапятнанной репутацией, позволяет претендовать на роль национального лидера – Честного Стаса, потенциального спасителя России.
Его неуязвимость становится основой мифа о всемогуществе, порождает «мнение народное» о том, что с ним – Бог. В условиях всеобщего ценностного вакуума на героя работают «чудо, тайна и авторитет», о которых вещал еще Великий инквизитор Достоевского. Красногоров, кандидат в президенты, в ходе предвыборной кампании упирает на программу реформ, на свою неподкупность и принципиальность. Но самому герою ясно: публичный его имидж держится на всеобщем преклонении перед силой, каким бы ни был ее источник.
Автор ограничивается здесь пунктирным наброском российской общественной жизни 90-х, к тому же экстраполированной в начало нулевых. И картинка эта отмечена глубоким скептицизмом. Грубый, грязный, невежественный плебс, коррумпированные чиновники, всегда готовые к насилию силовики.
Рядом со Стасом постоянно присутствует его друг, ученый-маг Виктор Кикоин, занятый не то поисками практического бессмертия, не то созданием человеческих клонов. Его двусмысленные исследования и эксперименты под эгидой спецслужб продолжаются нынче с той же интенсивностью, как и в советское время.
Предназначение же героя в финале оказывается обескураживающим: он один способен «вытаскивать» Виктора, слабого здоровьем, во время приступов болезни. Когда надобность в этом отпадает – функция героя исчерпана, и он гибнет.
В романе выделяются два подспудных мотива: обманчивость могущества и несостоятельность человеческого разума, его неспособность постичь глубинные закономерности бытия (или отсутствие таковых). Это умонастроение получило развитие в последнем произведении С. Витицкого, «Бессильные мира сего», образующем своего рода дилогию с «Поиском предназначения».
В центре повествования – важный для поздних Стругацких образ Наставника. Это человек по фамилии Агре, борец с энтропией и деградацией, обладающий даром угадывать природные таланты людей, в том числе и самые экзотические. Вокруг него – группа его избранных питомцев, носителей удивительных способностей. Один умеет отличать правду от лжи, другой может предсказывать будущее, третий, «психократ», легко подчиняет своему влиянию сознание других людей, четвертый… Казалось бы, вместе они могут своротить горы, изменить жизнь к лучшему.
В романе декларируется их абсолютное бессилие, по сути – ненужность. Все разменивают себя на пустяки, всех заела «проклятая свинья жизни», т. е. инерция повседневных забот, привычек, самопопустительства. Эти «сверхлюди» достаточно комфортно вписались в рельеф времени и места – их дарования востребованы в частных детективных бюро и охранных фирмах, в банковских структурах, политтехнологических центрах. Но в этом ли их истинное предназначение?
Главная фабульная линия связана как раз с политическими играми. Некие посредники, действующие от лица могущественного и таинственного олигарха по кличке Аятолла, пытаются использовать Вадима, мастера предсказаний, не по «профилю»: от него в ультимативной форме требуют повлиять на будущее, добиться избрания на пост мэра нужного Аятолле (и многим другим) кандидата.
Кого представляет Аятолла, чем хорош его кандидат Профессор, чем и кому опасен его оппонент Генерал – это в контексте романа не играет большой роли. Важно другое: после того, как Вадим невероятным усилием воли обеспечивает заказанный ему результат, Профессор-победитель гибнет по воле Гриши-Ядозуба, тоже «сверхчеловека» из команды Агре. А вот что двигало этой волей – каприз мизантропа или некая высшая, неподвластная человеку закономерность, – остается загадкой. Существенен авторский вывод – о тщете целенаправленных человеческих усилий, о бессилии знания, даже чуда перед лицом непроницаемой жизненной стихии.
А на другом уровне смыслов – бег Агре наперегонки со временем и с энтропией тоже оборачивается бегом на месте: Человек Воспитанный, которого он не то ищет, не то конструирует, не нужен – природе, эволюции, роду людскому.
Да и сама фигура Агре предстает в романе в очень странном свете. Он человек – но явно отмечен печатью сверхъестественности, иномирия, как и его жутковатый партнер-оппонент, которого в романе именуют порой Ангелом Смерти. Тень мистики, серный запах висят над текстом.
Смысловой его посыл сводится к печальной констатации: «Что-то загадочное и даже сакральное должно произойти с этим миром, чтобы Человек Воспитанный стал этому миру нужен».
И кто скажет, что пессимистическая эта мудрость не стала результатом разочаровывающего опыта 90-х? Или, по крайней мере, не укрепилась в сознании Б. Стругацкого на основе этого опыта?
В романе Л. Юзефовича «Журавли и карлики» (изображающем события 90-х с дистанции лет в 10–15) приметы эпохи даются прицельно, почти протокольно, без гиперболизма и гротескового сдвига, присутствующих у Пелевина и Носова. Автор, подобно Мелихову, фиксирует житейские и социальные данности, определяющие сознание и поведение человека, помещающие его в прокрустово ложе безысходности. Фиксация эта сопровождается лаконичными и ядовитыми авторскими «примечаниями», задающими связь между бытом и состоянием умов: «В дыму от сгоревших на сберкнижках вкладов исчезли искатели золота КПСС. Сами собой утихли споры на тему, появится ли в продаже сахарный песок, если вынести тело Ленина из мавзолея. Курс доллара сделался важнее вопроса о том, сколько евреев служило в ЧК и ГПУ и как правильно их считать…»
Снова в фокусе судьба интеллигента-гуманитария, утратившего всякую почву под ногами, вынужденного суетиться, унижаться, приспосабливаться. Инженер-геолог Жохов пытается в неразберихе эпохи отхватить свой кусочек счастья – сбыть нужным людям слиток дорогостоящего редкоземельного металла. Искусно сочиненный авантюрный сюжет ведет его от неудачи к неудаче, вожделенная сумма сделки в долларах неуклонно тает – символ тщеты человеческих усилий вообще и миражности проектов «индивидуального спасения» в частности.
В романе присутствуют и эпизоды противостояния президента и парламента в 1993 году, запечатленного в острых, остраняющих ракурсах. Людские скопления, баррикады вокруг Белого дома и Кремля. Стихия слепой обиды за несбывшиеся надежды, невнятица плакатных лозунгов. Потоки демагогии с обеих сторон. Запах крови, которая обязательно должна пролиться.
При этом автор строит повествование как систему зеркал, в которых взаимно отражаются времена, пространства и персонажи. Главный герой не только плутует, прибавляя к своей биографии вымышленные детали, но и «клонируется», перевоплощается в другие образы: предприимчивого монгола нулевых; авантюриста XVII века, с легкостью меняющего маски, конфессии и подданства; чудесным образом выжившего наследника российского престола Алексея. Череда двойников, самозванцев, авантюристов кружится в сознании протагониста, писателя и историка Шубина… Российская история разных эпох, со всеми ее нелепостями и жестокостями, сводится в романе к некоему инварианту, рассматривается в перспективе абсурдного мифа (почерпнутого из «Илиады») о длящейся извечно войне журавлей и карликов, бессмысленной и беспощадной…
Вполне естественно, что авторы, запечатлевающие, непосредственно или с некоторой временной дистанции, действительность 90-х, обращаются к одним и тем же центральным событиям и явлениям – маркерам времени: бешенству отпущенных цен и причудам ваучерной приватизации, осаде и штурму Белого дома (тут можно упомянуть еще «Испуг» Маканина), чеченской войне, взрывам домов в Москве в конце десятилетия.
Неудивительно и то, что при изображении этого бурного периода писатели самых разных направлений тяготеют к размашистым мифологемам. Похоже, что опыт десятилетия высвечивал нечто очень важное в судьбах страны, что не покрывалось линейной логикой исторических схем, добросовестной эмпирикой социоэкономических расчетов, политтехнологическими сценариями, аналогиями с зарубежьем. Под тонким слоем видимой и умопостигаемой реальности перекатывались валуны невнятных причин и связей, сдвигались тектонические слои, проступали бугры архетипических закономерностей.
Заметим, что у авторов, условно говоря, либерального склада преобладают интонации экклезиастовой скептической мудрости: все, мол, возвращается на круги своя. Романы Юзефовича и С. Витицкого здесь не единственные примеры. Д. Быков в «ЖД» (изображающем, конечно, не реальность 90-х, а ее гипертрофированную выжимку, смещенную в будущее, – но это, как мы уже видели, прием типический) расцвечивает российскую историю и современность целой россыпью мифологем разной степени оригинальности. Тут и вековечное противостояние «варягов» и «хазар» в борьбе за душу и территорию России (чем не журавли и карлики?), и заповедная, сакрально-лубочная праоснова народной жизни, и чудесный флогестон – даровой источник энергии, которым обделена одна лишь Россия. Но центральный символ романа – вечный путь, дорога, свивающаяся в кольцо, в круг. По этой-то дороге, иногда железной, и движутся персонажи романа в своих безнадежных попытках обрести смысл и цель существования.
Совсем иная, раскаленная мифопоэтика господствует в романе А. Проханова «Господин Гексоген». Проханов, пассионарный плакальщик по империи, точнее, по ее платоновской идее, не склонен лишь в очередной раз констатировать тотальную бессмысленность российской постперестроечной реальности. Он видит в событиях десятилетия явственные тенденции метафизического порядка, которые воплощаются благодаря целенаправленной активности индивидов, элит, групп влияния.
Писатель представляет 90-е годы как период судьбоносный, пусть и в зловещем смысле слова, для России, как время битвы сил добра и сил зла – с неопределенным исходом. Сознанию протагониста, кадрового разведчика и российского патриота, предстают апокалиптические образы: «Огромный жилистый червь прогрыз Вселенную, как переспелое яблоко… Продырявленное мироздание сгнивало, поедаемое жилистой гусеницей. Вокруг гибнущего, готового отломиться и упасть яблока летали духи света и тьмы».
Проханов рассматривает политическую историю десятилетия сквозь сильную конспирологическую призму: заговор против заговора, тайная активность «Ордена рыцарей КГБ» против замыслов олигархов, «семьи», «семибанкирщины», злонамеренных и бездарных авантюристов. Но «орден» и сам есть оружие в руках вездесущей сети глобалистов, вознамерившихся установить новый мировой порядок, стирающий национальные и конфессиональные различия. Против него, как выясняется, действует «Орден рыцарей ГРУ», отстаивающий самобытность и мессианское предназначение России. Энергия авторского воображения выводит это противостояние на все более высокие символические уровни.
Публицистический накал и избыточный риторический пафос часто идут в ущерб художественному качеству этого эпатажного текста, зато не позволяют заподозрить автора в склонности к отвлеченной, созерцательной «игре в бисер».
Характерно, что образ Преемника, призванного сменить одряхлевшего Президента, в итоге трактуется автором как сугубо виртуальный. Финал, в котором Преемник, оказавшийся за штурвалом «Самолета “Россия”», растворяется без следа, сообщает «мессиджу» Проханова неожиданную многозначность. И одновременно это странным образом перекликается с пелевинским подходом, помещающим политическую действительность под знак заведомой ирреальности, с размышлениями Б. Стругацкого о неисповедимости путей истории, о пропасти, разделяющей замыслы и результаты.
«Господин Гексоген» можно отнести к произведениям, подводящим итоги десятилетия. Так, похоже, видел свою задачу сам Проханов. Есть, однако, и другие тексты, которые, пусть и не столь декларативно, приглашают читателя к обобщенному осмыслению и оценке этого исторического отрезка.
В. Маканин в повести «Удавшийся рассказ о любви» касается литературы и творчества, отношений мужчины и женщины, жизни по ту и другую сторону «великого перелома». И все – в тональности ядовитого, под сурдинку, поношения. Герой – Тартасов, в молодое свое советское время писатель с именем и талантом. Героиня – Лариса Игоревна, в прошлом сотрудница цензурного управления, курировавшая Тартасова, и по совместительству его возлюбленная. Нынче, на рубеже веков, в новой действительности, он подрабатывает ведущим захудалой телевизионной программы, постоянно балансируя на грани увольнения. Она – управляющая солидным, со строгими правилами борделем.
Сопоставляя – как без этого – советский период и эпоху либерально-рыночных ценностей, Маканин презрительно констатирует: одно другого стоит! Тогда Тартасов был вынужден идти на всяческие уловки и компромиссы, чтобы не рассердить Софью Власьевну и при этом хоть как-то сохранить «творческое лицо». Теперь он, утратив литературное дарование и кураж, способен только повторять с телеэкрана заветную мантру: литература умирает! Лариса Игоревна в молодости слегка подсуживала возлюбленному и надувала советскую власть – ходила, так сказать, «налево». Нынче она, сохранив тень чувства к Тартасову, спасает его раз за разом от полного крушения, отдаваясь для этого влиятельному боссу от культуры Вьюжину – в прошлой жизни видному чиновнику Главлита.
Маканин не дает в повести широкой панорамы жизни, как в «Андеграунде», не вдается в анализ социальных и психологических закономерностей. Но, поверяя время на оселке культурной ситуации, он однозначно констатирует: ситуация эта жалкая, позорная. С «творческой сферой» здесь ассоциируются зависимость, продажность, интриги и импотентность. Не случайно содержательница публичного дома оказывается – в стебовом контексте повести – намного достойнее и обанкротившегося Тартасова, и истаскавшегося функционера Вьюжина. Направленность современной культурной политики хорошо иллюстрирует следующий диалог: «– …А то ведь замену найдут быстро. Возьмут Витю Ерофеева. И не глуп. И тоже готов повторять, что литература умирает… – Зачем это повторять? – Как зачем?.. Сферы влияния. Телевидению выгодно, чтобы люди не читали. Меньше читают – значит, больше смотрят. Створаживаем словесность…»
Чем не обобщенная оценка «коперниканского переворота» 90-х, пусть и схваченного в очень специфическом ракурсе?
Печально-усмешливый «Эвакуатор» Д. Быкова – тоже в некотором смысле «книга итогов». Характерно, что живописуя обстоятельства начала нулевых – плоды реформ и эволюций предыдущего десятилетия – Быков как бы цитирует «Невозвращенца» и «Лаз»: снова в воздухе разлита тотальная опасность, снова нехватки и ограничения, снова неуклюжие акции бездарной власти. Словно история описала круг в пятнадцать лет – или, по крайней мере, виток спирали. Нормальному человеку неуютно, противно жить в этой атмосфере фальши, бестолковщины и угрозы.
Как и в «Господине Гексогене», в «Эвакуаторе» московские теракты – уже рутинные – становятся событийной кульминацией повествования. Однако интерпретируются они здесь совсем в ином ключе, возможно, осознанно полемичном. У Проханова взрывы домов – инструменты многоходового и тщательно сконструированного заговора. У Быкова они – следствие и квинтэссенция неизбывного российского хаоса, чуть ли не материализация подсознательного стремления народа к саморазрушению: «Распад, как выяснилось, был тайной мечтой почти всего населения, потому что созидать давно было незачем, нечем и, в сущности, себе дороже».
К этому добавляется мысль о присутствующем в коллективном сознании ощущении метафизической расплаты за накопившиеся грехи и вины. Таким образом, автор не столько подчеркивает уникальность «пореволюционного периода», сколько отмечает его печальную, неизбывную преемственность с прошлым.
Потом сюжет романа делает немало крутых поворотов и кульбитов, взмывает над реальностью, выходит на условно-фантастическую орбиту. Исполняется беглая и не слишком оригинальная гамма на темы антиутопии и обремененности человеческой природы злом. Под конец, однако, действие вновь возвращается к обстоятельствам места и времени.
«Любовная лодка» героев, Игоря и Кати, построенная на подлинной страсти и общей авантюрной мечте о побеге, разбивается: о быт, о чувство долга. Катя возвращается к семье, в гибнущую и гибельную Москву. Казалось бы, безнадежный финальный аккорд.
Но в тексте Быкова проблескивает луч надежды. Это отличает «Эвакуатор» от романа Проханова, обрывающегося на тревожно-парадоксальной ноте, и от повести Маканина, ставящей издевательский крест на новорожденной реальности. Быков оставляет шанс личности, одинокому человеку, кстати, во многом сформированному теми же самыми «лихими 90-ми». Игорь, компьютерщик, фантазер и эскапист, отказывается в очередной раз плюнуть на все и вернуться к своим обычным виртуальным утехам. Он следует на некотором расстоянии за Катей. Спастись, очевидно, нельзя. Но, может быть, спасти?
…К чему же сводится это рассуждение? В задачи его вовсе не входит выносить приговор «бытию и времени». Мы ведь договорились в начале: разговор идет прежде всего о литературе. И она показала свою состоятельность в новых условиях. Тексты, которые мы рассматривали, написаны, как правило, талантливо, являют впечатляющее разнообразие ракурсов, повествовательных наклонений, изобразительных средств.
Правда, в дефиците оказался традиционный для российской литературы подход: проникающий анализ «человеческого вещества», заинтересованное постижение чувств и помыслов личности. Но это уже, скорее, характеристика реальности, ставшей предметом изображения, – и тут без некоего оценочного суждения не обойтись.
Переворот 90-х сокрушил много ветхого, открыл новые горизонты – но и потряс до основания все жизненные устои. Марина Цветаева когда-то в стихотворении, определявшем ее отношение к революционным событиям, восклицала: «Ветреный век мы застали, Лира!» Поколение, жившее в 90-е и писавшее о них, тоже оказалось в «розе ветров». Вихри времени выдували из человека все сформированное прежней эпохой – может, и балласт, но придававший остойчивость, ориентацию. Поэтому и персонажи (нет, не герои) в жизни так часто оказывались жертвами или функциями безличных сил и стихий, а в литературе – столь легко проецировались на плоскости мифов, историософских моделей, условных сюжетов.
Для того, чтобы остаться в поле человеческих представлений (или вернуться в него), требовались немалые и осознанные усилия, движение против течения. Связанные с этим драмы присутствуют, например, в произведениях Чижовой, Быкова. Но это лишь наметки «возвращения к себе». Стали ли они устойчивой тенденцией – и в литературном, и в жизненно-экзистенциальном плане – тема другой статьи.
2013
Раздел II. Ленинградцы, петербуржцы
Штрихи к забытому портрету
Борис Вахтин (которому в этом году исполнилось бы 80 лет – не такой уж мафусаилов возраст) – один из самых талантливых и оригинальных среди забытых писателей советского периода. Да, забытых, по разным причинам, из которых первая – неудачная литературная судьба. Ведь при жизни, оборванной в 1981 году инфарктом, почти ничего из его самобытной прозы не было опубликовано. Правда, Вахтин писал очерки, сценарии, в том числе и сценарий для популярнейшего телесериала «На всю оставшуюся жизнь» по роману его знаменитой матери Веры Пановой «Спутники». Но рассказы и повести Вахтина, его штучной работы рукодельные опусы дождались своего часа только в период перестройки.
Впрочем, если бы даже главные произведения Вахтина были напечатаны своевременно, сегодня он, скорее всего, все равно был бы среди «списанных», глубоко не актуальных авторов – но тут уж не его вина, а беда времени. Отдать же ему дань благодарной памяти необходимо. Особенно сегодня, когда с уходом последних выдающихся шестидесятников сам тот культурный феномен – шестидесятничество – погружается в небытие.
Нынче Борис Вахтин знаком широкой публике или по спектаклю «Одна абсолютно счастливая деревня», поставленному в нескольких столичных и провинциальных театрах, или по довлатовской юмористической хронике протекавших тогда событий. В своей книге «Ремесло» Довлатов набросал эскизный портрет писателя, представив его главным образом в качестве лидера неформальной литературной группы «Горожане»: «Мужественный, энергичный – Борис чрезвычайно к себе располагал. Излишняя театральность его манер порою вызывала насмешки. Однако же – насмешки тайные. Смеяться открыто не решались… Мне известно, что Вахтин совершил немало добрых поступков элементарного житейского толка… К нему шли жертвы всяческих беззаконий. Еще мне импонировала в нем черточка ленивого барства. Его неизменная готовность раскошелиться. То есть буквально – уплатить за всех…». К этому портрету требуются, конечно, дополнения и комментарии.
У Вахтина были два качества, выделявшие его среди молодых литераторов того поколения: происхождение и статус. Будучи сыном своей матери (отец-то его, журналист Борис Вахтин, сгинул в лагерях), он принадлежал – пусть не с детства, а с юности – к привилегированному слою советской интеллигенции. К тому же он приобрел весьма востребованную в тогдашнем Советском Союзе профессию: стал видным специалистом в области китайской литературы и культуры, переводчиком древнекитайской поэзии. И эти житейские обстоятельства оказались важными для творческого становления Вахтина – они придавали ему уверенности, самостоятельности, не говоря уже о широте культурного кругозора.
Он вошел в литературу конца 50-х – начала 60-х годов свободной, раскованной походкой, без оглядки на официоз и на моду. Главное его произведение того времени – «Три повести с тремя эпилогами» – можно рассматривать как своеобразную декларацию независимости. Независимости от норм кондового и господствовавшего социалистического реализма, но и от канонов русской классической литературы, на которые в ту пору ориентировалось большинство честных и взыскательных авторов.
Короткие повести, образующие эту трилогию, связаны между собой лишь местом действия – Ленинградом – да несколькими «переходящими» персонажами. Когда читаешь эту прозу, писавшуюся на рубеже 50–60-х годов, то поначалу теряешься, удивляешься – куда это отнести, под каким углом воспринимать, какими мерками и критериями оценивать. Здесь резко редуцированы психологический анализ и бытописательство. А доминируют – бурный и затейливый речевой поток, неожиданные ракурсы, заостренные, отливающие условностью ситуации и фигуры.
Вот первая из повестей – «Летчик Тютчев, испытатель». В целом это экспрессивное, насыщенное яркими образами и не вполне прозрачной символикой изображение базового элемента тогдашней городской жизни: многоэтажного дома (Дома) с примыкающим к нему двором. При этом ничего похожего на «физиологический очерк», хотя присутствуют здесь «типичные представители» городского народонаселения, и вступают они между собой в «типичные» отношения: любви, дружбы, ревности, совместной выпивки, драки и примирения.
Фабула – мерцающая, с трудом различаемая – складывается из цепочки романтико-эротических коллизий. Герой-рассказчик любит «свою женщину Нонну», описывая собственные переживания и любовный опыт с подкупающей откровенностью и гротескной риторичностью, напоминающей о Веничке Ерофееве: «Однажды я сидел у нее в гостях и рассказывал про свои далеко идущие замыслы, а потом почему-то перестал рассказывать, а она смотрела на меня во все глаза, а потом стала раздеваться, и я обалдел от неожиданности… Нога моей женщины Нонны – это не нога, это подвиг.
Это подвиг будущих космонавтов, забравшихся в звездный холод и возвратившихся со славой.
Это подвиг мальчика Гоши, откусившего коту правое ухо…
От начала и до коленки, от коленки и до конца – это не нога, это самый настоящий подвиг»[1].
Другие обитатели «нашего дома» тоже связаны между собой перекрестными отношениями любовного влечения и соперничества. Актриса Нелли вожделеет к летчику Тютчеву, который, однако, сохраняет верность своей избраннице, «хрупкой мексиканке в советском подданстве». Художник Циркачев покоряет сердце своей натурщицы и поклонницы «девочки Веточки». Позже он влюбляется в Нонну и пытается отбить ее у рассказчика. От прежней же своей возлюбленной он намеревается отделаться, «передав» ее простодушному солдату-инвалиду Тимохину.
Но смысловой посыл повести возвышается, как башня, над лабиринтом межличностных отношений персонажей. Он – в столкновении коллективистского и личностного начал. Человеческий мир Дома/двора, несмотря на присутствие в нем «выдающихся жителей», предстает здесь как органическая целостность, как семья, в которой родовое сходство преобладает над индивидуальными особенностями ее членов.
Население Дома/двора являет собой, по мысли Вахтина, модель России в миниатюре, символизирует ее роевую стихию. Главный же герой повести, Федор Иванович Тютчев (оценим знаковость имени!), богатырь, покоритель небес, поборник справедливости, харизматическая личность, служит гарантом единства и внутренней устойчивости этого сообщества, живущего по неписаным правилам коммунального быта и этики. Художник же Циркачев – пришелец, посторонний в этом тесном мирке, – представляет противоположный полюс оппозиции. И дело даже не столько в его тяготении к малопонятным символам и абстракциям. Он явно стремится к личностному самоутверждению, он противопоставляет себя массе дворового «народонаселения». К этому добавляются неблагородное поведение по отношению к «девочке Веточке» и попытка «прикрыть грех» с помощью однорукого Тимохина, которого художник, по словам героя-рассказчика, «употребляет»…
В повести «Ванька Каин» история жизни, любви и гибели заглавного героя, предводителя местной шпаны, «рядовых беспорядка и бунта крови», развертывается на пересечении двух контекстов: большого города с его отчуждающим влиянием и «русской цивилизации». «В городе – ни в каком – нет отечества; не обнаруживается…
Вместо него в городе у людей общество и вроде одинаковое отчество.
Дома квартировичи.
Тут забота не о родной земле, а о родном асфальте.
В городе родился – отгородился.
В городе-коконе, в городе-наркотике, кокаине, окаянном.
Тут и место для Каина».
Не надо принимать слишком всерьез эту как бы почвенническую, антиурбанистическую эскападу. Важнее смысла в этом пассаже – затяжная словесная игра, перекличка созвучий и аллитераций. Смысл вступает позже, в описании генезиса героя. Каин – порождение всей жестокой, антиномичной российской истории. В лаконичном ее конспекте, представленном Вахтиным, переплетаются полярные силы и векторы: «Родила его толстая баба, сатанина угодница… вспоила его кровью царевича Дмитрия да полынным настоем, вскормила хлебом, политым слезами, пеленала в невские туманы, баюкала звоном кандальным и стоном земли. А отцами были у Каина худые арестанты и толстые баре, юродивые с Мезени и Мазепы с Украйны, матросы в кожаных куртках, юнкера безусые, кулаки с обрезами и поэты с красными образами, попы с образами и палачи с высшим образованием». Широко пролетает мысль Вахтина по российскому пространству/времени, с непривычной для того времени свободой рассыпая метафоры и реминисценции.
Фигура Ваньки Каина маркирована свойствами удали и азарта, размахом, стремлением к запредельному. Любая законченная жизненная роль, любая статика ему не по росту и не по нраву. И вместе с тем герою повести присущи жестокость, презрение к окружающим его людям, в том числе к ближайшим друзьям. Он безжалостно отбрасывает со своего пути тех, кто не выдерживает его жизненной игры на пределе сил, его грозных титанических забав. В образе Каина явлен как бы негатив той сущностной матрицы русского национального характера, которая была представлена летчиком-испытателем Тютчевым. Здесь мощь, удаль и размах лишены цели и смысла, срываются в пропасть разрушения и самоуничтожения.
Сверхэмпирическая значимость, «центральность» фигуры Каина подчеркивается и его окружением. В нем представлены разные сословья и званья, разные психологические и социокультурные «образцы» российского населения. Это и простая русская женщина Мария, олицетворяющая «корни и почву», и профессор-историк, умножающий Льва Толстого на Ницше, и его приемная дочь Стелла, светящаяся молодостью и красотой, и «смелый еврей» Борька Псевдоним, видящий в Каине и его подручных настоящих, невыдуманных людей, и бездомный художник Щемилов, и сам рассказчик, наделенный неуловимым сходством с Каином.
Последний «подвиг» Ивана – поджог деревенского дома, в котором он скрывался. После этого следы героя теряются, фигура Каина растворяется в мареве противоречивых версий его конца. При этом философски настроенный Щемилов в финале повести намекает на причастность Каина к онтологическим основам (русского) бытия: «Нет, – сказал Щемилов. – Он разлился реками, пророс лесами и взошел солнцем в точных пределах… И нет ли его в нашем пиве, в нашем хлебе и в этом круглом столе?»
Последняя повесть цикла, «Абакасов – удивленные глаза», – рассказ о советском «лишнем человеке», интеллигенте, очарованном страннике – или пришельце? Этот впечатлительный и хрупкий человек воспитан в среде – осколке старой дворянской культуры, бабушками и тетушками, случайно уцелевшими в мясорубках истории. Он никак не совмещается с окружающей его нормально-пошлой действительностью.
Вахтин изображает своего героя в двоящейся перспективе. В плоскости житейско-психологической Абакасов – чудак и неудачник, не знающий жизни и пасующий перед ее требованиями, бегущий от нее в башню своих одиноких грез. Но в другом плане он – «маленький герой», верный раз и навсегда выбранному пути – пути подвижничества, одинокого служения. Абакасов считает себя облеченным высокой миссией – когда-нибудь в будущем повести человечество к сияю щей цели, загадка которой будет открыта только ему.
Важную роль в повести играет образ скульптора Щемилова, перекочевавший сюда из «Ваньки Каина». Щемилов, создающий свои композиции «из чего попало – из папье-маше, из дерева, бутылок, тряпок, консервных банок» (подлинный предшественник концептуализма и поп-арта), своим творчеством выявляет дробную и противоречивую душу современной России, акцентируя в ней черты конформизма, лицемерия, пошлости.
Финал «Абакасова» многозначителен и многозначен. Встреча с «незаконнорожденным» сыном, плодом пропущенной, неоцененной любви, открывает герою его жизненную недостаточность, недовоплощенность его существования-ожидания. И Абакасов отвечает поступком экстравагантным, бросающим вызов логике и здравому смыслу: «Ранним прекрасным утром, когда мир еще спит всем миром, на улицу вышел Абакасов, неся под мышкой длинный, как мачта, предмет… Сверху вниз глядели черные атланты Зимнего дворца, обремененные ношей, смотрели укоризненно на человека необремененного… Неуклонно, подняв голову, вышел Абакасов на пустынную площадь и там поставил свою мачту, развернул намотанное на нее знамя и побежал вперед, неся его над головой как парус… Падал ангел с колонны под тяжестью креста и смотрел, как по растрескавшейся площади, бескрайней, как Тихий океан, как полушарие земли, бежит со знаменем в руках маленький Абакасов». Характерно, что этот гротескный акт экзистенциального самоутверждения совершается в самом центре города, в интерьере значимых, суггестивных петербургских реалий.
Уже этого краткого пересказа достаточно, чтобы продемонстрировать, насколько своеобразна творческая манера писателя и нетривиальны ходы его мысли. Вахтин крайне далек от копирования поверхности окружающей действительности, что предписывалось тогдашними литнормативами. Но он и не аналитик глубинных социально-психологических процессов, на манер Ю. Трифонова, А. Битова или, чуть позже, В. Маканина. Проза Вахтина устремляется ввысь на двух крыльях. Первое – установка на стиль, упоение словом и процессом повествования. Недаром в декларации группы «Горожане», лидером которой был Вахтин, говорится: «Чтобы пробиться к заросшему сердцу современника, нужна тысяча всяких вещей и еще свежесть слова. Мы хотим действенности нашего слова, хотим слова живого, творящего мир заново после бога. Может быть, самое сильное, что нас связывает – ненависть к пресному языку…». Вахтин и его товарищи по группе – Марамзин, Губин, в меньшей степени Ефимов – намеревались вернуть в литературу 60-х годов гоголевское словесное роскошество, лесковскую затейливость – и буйство языковой экспрессии, характерное для советской прозы 20-х годов, для творчества Бабеля, Платонова, Олеши.
В «Летчике Тютчеве» Вахтин интересно сочетает косноязычный «высокий штиль» зощенковских персонажей с проникновенными синтаксическими уклонениями Платонова: «В нашем дворе бывает часто такой пережиток, что отправляются пройтись, сложившись, а иногда и за счет одного, если есть… И пройдясь, счастье имеют в виде занятости самими собой, выясняя насчет дружбы и все говоря по правде, но только чтобы не обижаться».
Взаимное наложение разных риторических установок, игра стилевых бликов сообщают прозе Вахтина плодотворную напряженность, в поле которой снимается противоречие между пафосом и иронией, серьезностью и пародийностью. Слово Вахтина одновременно густо окрашено биографическим опытом персонажей, реалиями исторического времени – и парит над этой плоскостью в сфере свободной артистической игры.
Отдельно нужно поговорить о связи вахтинской манеры с наследием Андрея Белого, в частности с его «Симфониями» – почти хрестоматийным образцом символистской прозы. Трилогия Вахтина близка к «Симфониям» и композиционно, и по стилю. Как и в «Симфониях», текст повестей членится на небольшого размера фрагменты. Те, в свою очередь, распадаются на отдельные периоды, ритмически организованные, отрывистые, связанные друг с другом зачастую лишь ассоциативно. Лаконизм, недоговоренность этих фраз сообщают тексту повышенную суггестивность, отсылают к дальним смысловым горизонтам, что характерно для прозы символизма. Напоминает о манере А. Белого и обычное для «Трех повестей…» совмещение пафоса с иронией, интонационная двуплановость повествования[2].
В перекличках с Белым отражается не просто желание щегольнуть эрудицией, начитанностью. Нет, в этом прослеживается стремление найти связующую нить культуры, убежденность в том, что ситуации и коллизии современной жизни могут быть отображены в тех же символических ракурсах, что и реальность начала века.
Нужно еще заметить, что образ реальности, создаваемый Вахтиным на страницах «Трех повестей…», явно тяготеет к мифологической модели бытия. Свидетельством тому не только многочисленные архетипические образы и отсылки в тексте (Каин и Авель, Моисей, Иуда, Агасфер, Озирис, Кащей, Циклоп), но и особый способ представления пространства. В топологии «Трех повестей…» узость площадки, на которой разворачивается фабула (дом/двор, переулок) сочетается с выходами на всероссийские, а то и вселенские просторы, с символическим панорамированием и пересечением пространственных и временных планов: «Летчик Тютчев летал иногда обычным рейсом над Россией…
И если глянуть вообще, то внизу был мир, бесконечный, как Сибирь.
Агрегат к агрегату, включая металлургию, нефть и комбайн, включая китобойную флотилию “Слава” и тысячи тонн…
А если вглядеться пристально, то виден внизу какой-нибудь городок на поверхности нашей необъятной родины, например, Торчок. И в центре города имеется кремль шестнадцатого века, в кремле соборы Вознесенский, Троицкий и еще соборы, а также лежит колокол на земле, который, как гласит предание, осквернил один из самозванцев…».
Постоянна в «Трех повестях…» и значима оппозиция верха и низа, а также сопряженность горизонтали и вертикали. Можно сказать обобщенно, что горизонтали, плоскости у Вахтина соответствует эмпирическая действительность в ее печальной социально-исторической обусловленности. С вертикалью же связана идея сакральности и свободы, устремленность к идеалу или иному бытийному состоянию, возможность трансформации, превращения…
И здесь мы плавно переходим ко второму «динамическому началу» прозы Бориса Вахтина – ее историософской направленности, воле к постижению исторической загадки России.
Нет, Борис Вахтин не был прирожденным диссидентом. Он стремился по возможности свободно и непринужденно жить и работать в своей родной стране, хотел «присвоить», обустроить единственно данную ему историческую ситуацию. Он не хотел становиться профессиональным оппозиционером, эмигрантом – внешним или внутренним. Но одновременно он органически не был способен умещаться в прокрустовом ложе официоза, приспосабливаться к «складкам местности».
В результате он – уж не знаю, насколько сознательно – создает образцовый антитоталитарный дискурс, всеохватный, преодолевающий школярские запреты и антагонизмы. Вахтин прежде всего взывает к ясному и полному видению прошлого, без идеологических туманов и изъятий, без лакун. На страницах своих повестей и рассказов 60-х годов он стремится передать – экспрессивными художественными средствами – и вздыбленную, многоликую советскую действительность послесталинской поры, и драматичнейший национальный опыт последних столетий. Он жаждет вместить всю полноту российского бытия в свои пунктирные сюжетные ходы и разветвления, в размашистые рассуждения героев, в лукавые авторские отступления.
И здесь особая роль отводится автором скульптору Щемилову. В его «сочинениях на темы нашего повседневного бытия в его вечном значении» возникают типы современной российской действительности, определяющие ее противоречивую, траги-фарсовую сущность: «Распалась квартира Николая Ивановича, слетели стены, и вот уже над Россией понеслись в вихре эти создания, приземляясь то здесь, то там, то пророком редкой красоты, вывернувшим ладони навстречу счастливому будущему, то в марше идущим туловищем без головы с огромными ручищами, то благостным постным ликом…
То лицо-хамелеон, то лицо-Наполеон, то сытость, то святость, то трусость, то глупость – все они кругами неслись над Уралом и Таймыром, над Сувалками и Памиром, над Тулой и Верхотурьем, над Магаданом и Краснодаром, над степями и реками, над кранами и тракторами, как ангелы неслись, как воронье, с карканьем, сверканьем, стонами и спорами». И снова, как видим и слышим, – поэтическая теснота перечислительного ряда, ритмика, рифмы, аллитерации, призванные выявить единство в многоликости, подчинить хаос некоему, еще не ясному, закону.
В сущности, то, чем занимается здесь Вахтин, – это «собирание» российской истории и судьбы, призыв к честному и неуклончивому приятию, осмыслению прошлого и настоящего своей страны. Вахтин, похоже, готов был подписаться под декларацией Пушкина: «…ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков…». Он искренне верил, что напряженность, судороги и катастрофы российского опыта не случайны и не напрасны, что в них – обещание и надежда. Об этом размышляет герой рассказа «Портрет незнакомца», глубоко законспирированный советский разведчик, мысленно полемизируя со своим американским сыном: «А ты нагнись, возьми горсть земли в любом месте нашей страны и сожми ее – кровь из нее потечет, а не химические удобрения. Тут есть над чем подумать, сынок, кроме сервиса. И вспомнить, например, почему одному чуткому поэту в этой стране, писавшему о революции под ее впечатлением, привиделся во главе ее не продавец жевательной резинки, а Иисус Христос, представь себе, не продавец… И почему лучшие умы этой страны мечтали осуществить здесь, на этой земле, всемирное и полное счастье – и ни на что меньшее их мысль не соглашалась. Не так-то это все просто, мой милый, и история еще не кончилась, и то, что мы приняли на себя во имя этой мечты – так ведь мы на себя приняли, ни на чьи плечи не переложили…».
Впрочем, Вахтин, признавая уникальность «русского пути», вовсе не был уверен в том, что путь этот непременно ведет к сияющим вершинам. Общая тональность «Повестей» скорее тревожная, взывающая к покаянию. Особенно ясно это проявляется в замыкающих трилогию «трех эпилогах», где апокалиптическая атмосфера сгущается. В первом из них персонажи «Летчика Тютчева» прощаются друг с другом, очевидно перед вечной разлукой, жалея об утраченном и несовершенном. Второй эпилог рисует картину загадочно-эсхатологическую: бесконечная колонна солдат движется по бесконечной дороге, упирающейся в беспросветный, грозовой горизонт. В колонне этой – и Тютчев, и Каин, и Абакасов, и другие персонажи, объединенные общей участью, общими роковыми обстоятельствами.
Третий эпилог, «самый последний», дает смягченный вариант национальной катастрофы – рассеяние. Герои Вахтина оказываются разбросанными по удаленным точкам земного шара: «В Колорадо я вижу Марию, в Мельбурне я вижу Стеллу, под африканским солнцем чистит негру ботинки мальчик Гоша, протянул единственную руку за подаянием солдат Тимохин в Гонолулу…».
Но, повторюсь, Борис Вахтин – принципиально адогматичный автор, он не хочет оставаться пленником даже собственных раз и навсегда выбранных стиля и концепции. Параллельно с «Тремя повестями…» он пишет серию коротких рассказов, которую объединяет в цикл «Широка страна моя родная». В этих миниатюрных зарисовках объемлющей «натуры» писатель поворачивается к нам другой гранью своего дарования. Острота вопрошающей мысли, эмоциональная напряженность, соседство точечной зарисовки с масштабной рефлексией сохраняются, но манера письма становится спокойнее, традиционнее. Цикл этот – последовательная развертка жизненных явлений, то подкупающе достоверных в своей обыденности, то пронзительно горьких, то отсвечивающих потаенным абсурдизмом. Перемешиваются и сменяют друг друга, как в калейдоскопе, яркие кристаллики-ситуации.
А недалеким 1965 годом помечена повесть «Одна абсолютно счастливая деревня». В ней намечается движение в совсем другом направлении. Писатель переходит здесь от «суеты городов и потоков машин», от тесноты и темпа урбанистического общежития к простору и покою патриархального сельского уклада, к небу, лесу, реке, к непрерывности и круговороту природных процессов. Изображая в пасторальной тональности жизнь некой обобщенной «счастливой деревни», ее главных обитателей, Михеева и Полины (Адама и Евы), писатель «натурфилософствует», размышляет в образах о простейших основах бытия, о первозданной его гармоничности.
Вахтин стремится здесь увидеть жизнь с высоты птичьего (или ангельского, или оставившей тело души) полета, выстроить и обосновать шкалу ценностей, возвышающуюся над суетой повседневности. Характерно, что в описании этой реальности и помина нет о «колхозном строительстве», о подлинных проблемах и трудностях жизни того, предвоенного периода. Это не требуется – ведь изображаемая деревня не советская и не до-советская (чуть не написалось: анти-). Она – воплощение «платоновской идеи» естественного, здорового, органичного существования на земле, с трудами, любовью, ясными человеческими отношениями.
Однако изначальная цельность подхода по ходу дела нарушается – в идиллию вторгается война. Очевидно, Вахтину нужно было по-толстовски дополнить картину бытия, сопоставить жизни – смерть и разрушение как неотъемлемые бытийные начала. Во всяком случае, война представлена у него широкими и нарочито легендарными мазками, которые дают возможность идеальному герою Михееву нагляднее выявить свою героическую природу и подвигом завершить свой трудовой и ратный путь. Погибнув, он, однако, не исчезает бесследно, а продолжает, как и прежде, вступать в контакт, пусть и сверхчувственный, и с Полиной, и с предметами своего повседневного обихода, и с целой землей. Бестелесность, прекращение индивидуальности только помогают Михееву острее видеть и правильнее оценивать «общее жизни».
Замечу при этом, что в разговоре своем о войне Вахтин продолжает генеральную линию на «собирание национальных смыслов». Кстати, его подход мог бы быть очень востребован сегодня, когда в России мучительно ищут общий знаменатель в понимании цены и смысла победы. Вахтин пятьдесят лет назад искренно и с неложным пафосом сформулировал отношение к войне, которое трудно оспорить, да и не нужно, потому что оно вполне соответствует нравственному чувству отдельного человека и «национального коллектива»: «Еще далеко не кончилась война, но она уходила на запад… оставляя по себе память на нашей земле и гордость в народном чувстве надолго, на века. И эту гордость в народном чувстве нельзя не разделять, если понимать, что не пустоцветные мысли доводят человека до истины, а только причастность к жизни близких ему людей… Народ спас самого себя, отчего же не уважать ему себя за это? Отдельный человек, образованный и смертный, может, конечно, быть выше всей жизненной суеты, выше страстей народных, ему-то что, ему жить недолго, а народу жить вечно, и народ помнит всех…».
И то верно, что нигде в своем рассказе Вахтин не поминает (ни худым, ни добрым словом) Генералиссимуса как воплощение организующего и направляющего начала. Да и вообще к этому самому началу автор относится с иронией и подозрением, что вытекает из гротескного в высшей степени фрагмента «Солдат Куропаткин перед офицерами на незнакомой поляне…». Офицеры там заняты поисками виновного в неудачной атаке, приведшей к гибели взвода, и после долгого нелепого обсуждения находят крайнего, конечно же, в бестолковом рядовом Куропаткине, не понимающем элементарной диалектики: нужно «бороться против глупых приказов, одновременно их выполняя».
Конечно, меняется в «Счастливой деревне» и манера изображения. От экспрессивной осколочности, от попыток ослепить читателя остро сфокусированными солнечными бликами Вахтин переходит к повествованию неторопливому, даже тягучему, скроенному по лекалам народного сказа и традиционной деревенской прозы (если не забывать, что, например, Фолкнер «Поселка» тоже принадлежит к этой традиции). Правда, художественная условность здесь присутствует, и весьма внушительно – она просто необходима в аллегорическом сочинении такого рода. В повести господствует разномасштабный антропоморфизм: сознанием и голосом наделяются огородное пугало, деревенский колодец с журавлем, река, это не говоря уже о Земле и собственно душе Михеева. Все эти объекты и сущности общаются между собой, произносят обширные внутренние монологи – что-то тут предвосхищает фантасмагорические построения «Затоваренной бочкотары» Аксенова. Сказать ли при этом, что игре не хватает легкости и блеска, что в ней ощущается некоторая нарочитость, тяжеловесность? Да, надо сказать.
Тут самое время обозначить – поневоле коротко – контуры мироощущения писателя, его «чувства жизни». В 1967 году Вахтин написал своего рода эссе – «Письма к самому себе», которое никогда не пытался публиковать. Сочинение это, очевидно, предназначалось для сугубо внутреннего пользования, но и внешнему наблюдателю оно многое проясняет. (Конечно, его лучше прочесть целиком, что нетрудно сделать, открыв журнал «Звезда», № 11 за 2005 год.) Вахтину были присущи многие архетипические российско-интеллигентские убеждения: народолюбие, уважение к «простому человеку», напряженно-настороженное отношение к власти, вера в особое предназначение и особый путь России, предпочтение (со всеми возможными оговорками) коллективизма индивидуализму. При всем при том он умудрялся не возводить эти концепты в ранг «священных коров», успешно избегал конфузных крайностей, совмещал веру в свои ценности с терпимостью к другим мнениям и с плодотворным сомнением.
Борис Вахтин видел неизбывный трагизм жизни с ее расколотостью и конечностью, невозможность утешиться каким-либо всеохватным идеалом, выпарить кристаллы чистого смысла из спорного и противоречивого исторического опыта. Однако он решительно отказывался отчаиваться и впадать в мизантропию. В сфере личного поведения он предпочитал воплощение свободы стремлению к ней. Практически это означало приоритет велений своей (художнической) натуры перед отвлеченными принципами и теориями.
А еще нужно сказать, что преодоление ущербности и противоречивости существования он видел в любви. Любовь как гармония, пусть и быстротечная, тел и душ, была для него высшей точкой и оправданием бытия. О любви Вахтин (сам человек страстный, увлекающийся, любимый женщинами) писал много, с удовольствием и без тени ханжества (конечно, и без скабрезности).
…Литературная судьба Бориса Вахтина, и без того недолгая, была к тому же прерывистой. К 1966 году, которым датирован квазишпионский рассказ «Портрет незнакомца», явной неудачей закончился литературный проект «Горожане», которому Вахтин отдал много сил и энергии. Сборник, в который вошли произведения В. Губина, И. Ефимова, В. Марамзина и самого Вахтина («Три повести…»), отнюдь не антисоветские, но и не укладывавшиеся в канон соцреализма, был по-тихому удушен в издательских коридорах и кабинетах. Об этом скромном предвестнике альманаха «Метрополь» нынче мало кто помнит и знает. В индивидуальном формате произведения Вахтина тоже не доходили до читателя, если не считать публикации двух миниатюр в сборнике «Молодой Ленинград» за 1965 год.
Но дело, может быть, не только в этом. В «Письмах к самому себе» автор, в частности, говорит о раздвоении его собственной личности на «пишущего», органично живущего в мире слов и образов, и «существующего» – обретающегося посреди человеческих связей, житейских и гражданских забот, в истории. Так вот, начиная с «Деревни» «существующий», озабоченный своей общественной позицией, общим благом и ценностными ориентирами, стал, похоже, теснить в Вахтине «пишущего». Этим, может быть, и объясняется наступившая в его творчестве десятилетняя пауза.
В этот период Вахтин продолжал работать как переводчик китайской литературы, преподавать в университете. На эти же годы, годы застоя и заморозков, пришлись и манифестации гражданского мужества Вахтина. Его вызывали свидетелем на процессы В. Марамзина и М. Хейфеца, но он отказался давать показания.
Только в конце 70-х годов появляются новые законченные произведения писателя. Повесть «Дубленка», написанную в 1978 году и включенную в альманах «Метрополь», можно квалифицировать как сатиру на быт и нравы советской и партийной номенклатуры эпохи застоя. Одновременно это – благодарная дань «моему незабвенному вралю и несерьезнейшей личности Николаю Васильевичу Гоголю», как писал о классике Вахтин в тех самых «Письмах к самому себе». Повесть являет собой изящный парафраз мотивов «Шинели» и «Ревизора». Особенно же напоминает о Гоголе разлитое в тексте ощущение фантасмагории, подверженности действительности причудливым метаморфозам.
Герой повести Филармон Иванович, заурядный и примерный партийный функционер, вдруг, не по своей воле, выламывается из привычного жизненно-служебного порядка с его унылой, добровольно-принудительной регламентированностью. Богатство и непредсказуемость жизни вдруг открываются ему в образе молодой поэтессы-авангардистки Лизы, в которую Филармон Иванович, попросту говоря, влюбляется. А уж затем влюбленным овладевает и более приземленное, но столь же сильное вожделение: стать обладателем модной дубленки.
Безличному началу бюрократической Системы противостоит в повести стихия магии и игры, объектом которой становится герой, а агентом, субъектом – загадочный персонаж по имени Эрнст Зосимович Бицепс, современный Хлестаков, но отчасти и Калиостро, лицедей и виртуозный гешефтмахер.
Каким-то чудом Бицепс, не имеющий никаких официальных постов и должностей, становится влиятельнейшим лицом, чьей благосклонности ищут писатели и генералы, режиссеры и директора заводов. Своим явлением Бицепс нарушает сплошную непрерывность властной иерархии, обнаруживает ее ненадежность, трухлявость.
В повести много «бытовой фантасмагории» (страшные и вещие сны, посещающие героя, заговоривший вдруг кот Персик и т. д.), возникает в ней и мотив инфернальности, связанный с зловещей фигурой партийного деятеля «товарища Таганрога». В его образе знаменательно совмещаются черты Дьявола и Смерти.
Но главное в повести – то преображение-просветление, которое переживает по ходу действия Филармон Иванович, переходящий в новое бытийное состояние. В нем открывается живая человеческая душа, способная мечтать, страдать, протестовать. В карьерном плане это, конечно, приводит героя к полному крушению. Судьба его после фабульной развязки – лишение должности, исключение из партии – рисуется в нескольких противоречивых версиях. Согласно одной из них Филармон Иванович, подобно своему литературному прототипу Башмачкину, становится привидением, и в этом качестве без помех предается своей страсти к театру.
Повесть «Надежда Платоновна Горюнова» – последний опус художественной прозы Вахтина. И самый объемистый – почти сто книжных страниц. Здесь находят дальнейшее развитие некоторые мотивы и художественные приемы «Дубленки». Снова в фокусе – несовместимость живой жизни с рутиной номенклатурного существования, любовь как преображающая и просветляющая сила, трагическое, но органичное родство любви и смерти. Повествование ведет герой-рассказчик, наблюдатель, но и участник событий, лукавый, себе на уме, охотно пускающийся в необязательные отступления и рассуждения на смежные темы. Он-то и описывает перипетии жизни главной героини повести Надежды Платоновны: ее трудное детство, приход к религии и удаление от нее, ее отношения с мужчинами, покоренными ее необыкновенной красой.
В манере повествования смешиваются интонации сказа, сказки, порой жития, все это приправлено мягким юмором, подернуто легкой дымкой фатализма и сентиментальности, над которой сам же рассказчик и посмеивается. Вахтин теперь скорее склонен жалеть, чем осуждать людей, и не только таких, как Афанасий Иванович, крупный управленец, встретивший на своем жизненном пути Надежду – на радость себе и на горе, ибо то, что виделось ему легким и усладительным романом, переворачивает, переламывает его судьбу. Даже говоря о родителях Надежды, отце-пьянице и матери-садистке (таких персонажей в его ранней прозе, пожалуй, не было), автор и в них ищет и находит человеческие черты, потенциал добра.
Надежда Платоновна – образ «положительно прекрасной» русской женщины, своей красотой, телесной и внутренней, одолевающей пошлость жизни. (Вообще, стоит заметить, здесь впервые в творчестве Вахтина различимы реминисценции Достоевского.) Но… слишком уж автор заботится о равновесии плотского и духовного, житейского и символического в этом образе, слишком тщательно избегает возможных «перегибов» в ту или иную сторону. Надежда Платоновна по замыслу обязана противостоять и мертвечине советского официоза, и официозу религиозному, и модному скептицизму, и кромешной бытовой жестокости… Не слишком ли много для обычной девушки, пусть и очень красивой, пусть и певшей в юности в церковном хоре? Не знаю, кто как, а я, читая эту уравновешенную, мастеровитую и умную прозу, нет-нет да и сожалел о ранних опытах Вахтина (с их диссонансами и обморочными находками), напоминающих бесшабашный сплав по порожистой горной реке…
Что еще осталось сказать? Вахтин написал еще документальное повествование «Гибель Джонстауна», о жутковатом казусе коллективного самоубийства членов американской секты «Храм народов» в Гайане (загадочная эта история вызвала в свое время немало спекуляций в духе «теории заговора»). Но и это произведение при жизни писателя не было опубликовано.
Борис Вахтин умер от инфаркта (второго) в 1981 году. Видно, противостояние спруту Системы, упорное, хоть и без вызова, пребывание в независимой позиции, покупалось дорогой ценой. Видно, хроническое отсутствие публикаций, которое Вахтин переносил по видимости даже не стоически, а с усмешкой, на деле глубоко его уязвляло. В 1986 году был напечатан сборник его художественно-документальной прозы, название которому дал очерк «Гибель Джонстауна». А четыре года спустя появилась книга «Так сложилась жизнь моя…», в которую вошли почти все его художественные произведения. Тираж был не маленьким – 50 тысяч экземпляров. Но в ту торопливую и самозабвенную пору публике было не до глубоких размышлений и самоценных эстетических созерцаний. Может быть, сегодня, после многочисленных и лихорадочных метаний, иллюзий и ожогов, снова приходит время Вахтина, с его словесным узорным мастерством и стремящейся к примирению крайностей мыслью?
Больших надежд я на это не возлагаю. Но себя ловлю на том, что, перевернув последнюю страницу Вахтина, внутренне улыбаюсь: какой замечательный писатель и человек еще не так давно жил среди нас. И как хорошо, что до сих пор с ним можно, как с другом, поговорить.
2010
На авансцене и за кулисами истории
Борис Голлер, герой настоящей статьи, – интересный и по-своему загадочный феномен российской литературы последних десятилетий. Это подтверждается даже внешними параметрами его литературной судьбы. Голлер пишет уже больше полувека – а имя его до сих пор не присыпано пеплом привычности, оно не ложится на слух читающей публики мягко и естественно, не умещается без остатка в удобную, належанную нишу. За этим именем все еще тянется неуловимый след и аромат неприкаянности, отринутости, противостояния…
Проблема его – а может быть, удел? – всегда состояла в непопадании во время. Вот лихое, веселое, наивно-дерзкое время: конец 50-х – 60-е. В Ленинграде, оттаивающем от четвертьвекового (после убийства Кирова) ледникового периода, складывается «ленинградская школа прозаиков» – Голявкин и Рид Грачев, Битов и Ефимов, Вахтин и Марамзин, Довлатов и В. Попов. Авторы эти, каждый по-своему, озабочены воссозданием строя сегодняшней жизни, запечатлением ее лицевой стороны и изнанки, выявлением неочевидных закономерностей. Но главное – схватить неуловимую, тающую в руках «структуру момента», главное – catch the day.
А Голлер, отвергая сосредоточенность той прозы на текущем дне, писал тогда свои первые пьесы романтико-философской направленности. «Десять минут и вся жизнь» – об экипаже самолета, бомбившего Хиросиму. Потом – «Матросы без моря», на материале Гражданской войны. Отдаленные пространственные и хронологические перспективы, социальные и нравственные коллизии, история и экзистенция. Пьесы эти на сцену не пробивались, несмотря на то, что прямой антисоветчины или откровенной идеологической ереси в них не наблюдалось.
Позже, в семидесятые, Борис Голлер выходит на свою главную тему, которой уже не изменит: российская история и культура первой половины XIX века. Декабристы, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов. Это, как будто, ближе к «магистрали» литературных интересов. Многие, в том числе даровитейшие авторы, в ту пору уходили в историко-беллетристические штудии – достойно и сравнительно безопасно (как выяснялось, не всегда). Но у Голлера опять все складывалось не так, как у других – пьесы его «Плач по Лермонтову», «Сто братьев Бестужевых», «Вокруг площади» никак не могли получить официального признания. Вроде бы все тенденции и пропорции были соблюдены: прогрессивное борется с реакционным, великий поэт не уживается с душной и пошлой средой, – а вот что-то в них оказывалось не созвучным требованиям эпохи, что-то не ложилось на сценическую «разблюдовку».
В 1972 году, как итог попытки инсценировать «Евгения Онегина» для ТЮЗа, появляется на свет уникальное произведение – «Автопортрет с Онегиным и Татьяной», опыт драматических изучений романа А. С. Пушкина.
Так непосредственно к пушкинской теме Голлер еще раз подступится, только работая над романом «Возвращение в Михайловское», разговор о котором – ниже. А пока мы пребываем в тридцатилетнем периоде «хождения по мукам». Голлер продолжал писать, повинуясь только собственным творческим импульсам и не отдавая дань конъюнктуре. За это и расплачивался – непопаданием в «обоймы», практически полной изоляцией от типографского станка, чуть ли не бойкотом со стороны театрального истеблишмента.
Прорывы все же случались. В 1980 году спектаклем по пьесе «Сто братьев Бестужевых» открылся новый профессиональный театр – Молодежный театр Владимира Малышицкого. Это было событие – новый театр появился в Ленинграде впервые после войны. (И открылся он на базе самодеятельной студии при ЛИИЖТе.) В ТЮЗе года через два был поставлен спектакль «Вокруг площади».
Однако в целом судьба драматурга Голлера складывалась очень трудно. Объяснялось это не одними эстетико-идеологическими разногласиями с господствовавшей линией. Даже на общем ленинградском фоне, где писатели традиционно стояли особняком и не смыкались в колонны, завоевывающие признание публики, Голлер смотрелся закоренелым индивидуалистом и аутсайдером. Ситуация почти не изменилась и с наступлением перестройки и гласности. Все это – минуя подробности – привело к тому, что первая книга Бориса Голлера «Флейты на площади» увидела свет в 2000 году (оценим многозначительность даты) в Иерусалиме, где писатель прожил несколько лет.
С тех пор, правда, многое изменилось. В Санкт-Петербурге, куда автор вернулся в 2002 году, стали публиковаться старые и новые его сочинения. Увенчался – на данный момент – этот процесс восстановления справедливости изданием двухтомного «Собрания сочинений». Здесь представлен по чти полный корпус написанного Голлером во всем его видовом разнообразии: проза, драматургия, литературоведческие и культурологические штудии, эссеистика. И, что характерно, работу его во всех этих сферах отличает своего рода иконоборчество – стремление оспаривать стандартные подходы, сложившиеся правила, господствующие мнения.
Начнем прямой разговор о творчестве Голлера с драматургии, точнее – с пьесы «Сто братьев Бестужевых». Декабристское «поле» кажется нынче совершенно истоптанным. Кто только не толпился на нем в советское время – здесь литераторы эзоповым языком излагали свои претензии Советской власти, почти не опасаясь, что им «за это чего-нибудь будет». И сказано было на эту тему почти все, что только возможно.
Голлеровская диспозиция в «Ста братьях» на первый взгляд не слишком оригинальна. Противостояние деспотизма – воле к свободе, воздуху свободы. Вера в механическое начало, которое единственно может скрепить безмерную Россию, – и императив выхода на площадь по зову совести и долга. Слишком традиционная мотивировка и расстановка акцентов? Но тут-то и вступает в игру особая драматургическая техника, сложная и нетривиальная система условностей. Автор вводит в действие фигуру Летописца, ищущего живые детали этого ороговевшего от расхожих трактовок исторического события. В пьесе возникает хронологический разрыв – и плодотворный зазор между изображаемыми событиями и их осмыслением. История 14 декабря не только развертывается на наших глазах, но и сама себя поясняет, комментирует.
Что, собственно, пытается разглядеть Летописец в сумерках ушедшего времени? Субъективные моменты, психологические нюансы, которые определили именно такое, а не другое развитие событий. Например – почему один из братьев Бестужевых, Михаил, который за сутки до выступления был начальником караула, охранявшего Николая Павловича, не воспользовался возможностью самолично повернуть историю в другое русло? Почему не попытался совершить цареубийство?
Голлер в своей пьесе (и в повести «Петербургские флейты», написанной много позже) вылущивает живую плоть эпохи из панциря застывших схем, догм, стереотипов. Преодолевая (в советское, вспомним, время) диктат социального детерминизма, он изображает историю ареной, на которой действуют автономные личности, каждая со своим характером, темпераментом, нравственным чувством, своим взглядом на мир. И это относится к членам императорской фамилии и их сторонникам не в меньшей мере, чем к участникам декабристского комплота…
Новый российский император Николай предстает у Голлера не алчущим жертв драконом и даже не принципиальным сторонником деспотизма, а человеком практичным и трезвым, уверенным в своем праве на власть и осуществляющим это право. Он знает, что в политике цель оправдывает средства – во всяком случае, средства, традиционно входящие в арсенал власти. И пользуется всеми этими средствами – умело и не комплексуя. Участники же восстания в изображении автора – по большей части идеалисты, убежденные в том, что средства влияют на цель, поэтому выбирать их нужно разборчиво. С другой стороны, они – политические и идеологические мечтатели, уповающие на силу высоких слов и благородных принципов, а также на волю случая, и потому в общественно-историческом плане (показывает автор) по-своему опасные. Поза и практицизм, пьянящий порыв и трезвый расчет – вот полюса этой драмы.
Что еще интересно, в особенности учитывая время написания драмы, – Голлер нетривиально трактует высший класс тогдашней России именно как общество, со своим укладом жизни, складом мысли и кодексом поведения, как органическое единство, по которому, правда, побежали уже трещины раскола…
«Вокруг площади» привносит в разработку декабристской темы новый извод – возрастной. Участники восстания и в целом-то были молоды, но события затронули и вовсе мальчишек: младших братьев, родственников, их друзей-сверстников. В центре пьесы – самый юный из «ста братьев Бестужевых», Павел, юнкер-артиллерист, и кучка учеников кадетского морского корпуса, которые ощущают свою причастность к несчастной попытке «сделать мир лучше, чем он есть». Но рядом и другие братья: великий князь Михаил Павлович, юнкер Завалишин, клевещущий на своего «старшего», лейтенанта-моряка Завалишина. Игра благородства, подлости, авантюризма, самоотвержения. Противостояния нравственного чувства – и карьерных «видов». Потрясение моральных основ, всегда следующее за политическими катаклизмами.
Пьеса «Плач по Лермонтову, или Белые олени» выстроена по образцу булгаковских «Последних дней»: главный субъект действия, вокруг которого бушуют события и страсти, отсутствует. Отсутствие это, однако, значимо. Образ поэта витает над сценической площадкой, над действием, провоцируя реальных действующих лиц на самообнаружение.
Пьеса эта – «настроенческая», держащаяся атмосферой, авторской интонацией. Здесь схвачено то «неповторимое мгновенье», когда пустота, образовавшаяся с гибелью Лермонтова, еще очень свежа, еще курится испарениями боли, горечи, изумления, но и тщеславия, самолюбия, ревности. Эта пустота заново формирует окружающее персоналистское пространство, заполненное обыкновенными, дюжинными людьми (последнее обстоятельство Голлер остроумно подчеркивает, наполняя пьесу персонажами-двойниками, носящими значимые имена, родичами или однофамильцами знаменитостей: тут и «брат Пушкина» Лев Сергеевич, и юный юнкер Бенкендорф, и военврач Барклай де Толли). Они еще не поняли масштаба происшедшего, еще не спешат занять наиболее выигрышную позицию при съемках «на фоне Лермонтова». Автор представляет как бы магму – или, правильнее, трясину – человеческой природы, потревоженную необычным событием. Эгоизм, банальность и мелочность реакций… Люди, окружавшие Лермонтова, заняты в основном злословием и пересудами. Сама фигура поэта, и без того обозначенная в пьесе смутно, «фоново», как будто еще более умаляется, отодвигается в сторону. Но ощутим в пьесе контраст: пространство творческой самореализации гения – и плоскость житейской прозы, в которой обитал Лермонтов-человек.
Пьеса о Грибоедове «Привал комедианта», пожалуй, наиболее полно и ярко воплощает голлеровское понимание театра. Это прежде всего театр напряженной мысли и четко артикулированного слова, одновременно ясного – и богатого оттенками, скрытыми смыслами. Сюжетная конструкция пьесы сложна: события последних дней жизни Грибоедова предстают сценами драмы, им самим сочиненной и срежиссированной. А параллельно идут фрагменты «Горя», срифмованные с эпизодами жизни автора и встроенные в рамку подготовки к любительскому спектаклю. И поверх всего этого – размышления Грибоедова о жизни, смерти, достоинстве и свободе. Разные смысловые планы пьесы – с перелетами во времени и пространстве, со смешением яви, сна, воображаемого, вспоминаемого и сочиняемого – пересекаются друг с другом, образуя сложную, увлекательную драму положений и идей. В полемике с замечательным романом Тынянова Голлер создает глубоко оригинальную версию характера и судьбы своего героя.
Но тут нужно заметить, что в «Привале комедианта» явным – и парадоксальным для драматургии – образом проявляется тяготение к другому роду литературы, к полюсу прозы. Впрочем, это тяготение намечалось и в прежних пьесах Голлера. Что такое его многочисленные ремарки, если не лаконичные прозаические зарисовки-вставки, комментарии, придающие дополнительную объемность и психологическую глубину сценическому действию? Во всяком случае несомненно, что года все больше клонили автора к суровой прозе – и это не было лишь результатом тяжко складывавшихся отношений с театральным истеблишментом. В рамках драматургической условности, построенной на прямом высказывании персонажей, Голлеру было трудно разворачивать свои все более нюансированные представления о человеке, истории, бытии… «Привал комедианта» – вполне пограничное, рубежное произведение в этом смысле.
Хронологически рядом с этой пьесой располагается повесть «Петербургские флейты», реконструирующая события 14 декабря 1825 года в Санкт-Петербурге. Проза, на мой взгляд, дала возможность автору создать еще более многогранную и рельефную картину того эпохального дня, чем прежде – в пьесах «Сто братьев Бестужевых» и «Вокруг площади» – позволяла драматургия. С другой стороны, общий динамизм и пластическая выразительность многих мизансцен повести – явно театрального происхождения.
«Петербургские флейты» – калейдоскоп крупных планов, складывающийся в план общий и многозначительный. Здесь сополагаются разные ракурсы восприятия, точки зрения многих и непохожих людей. Это и театральный актер Борецкий, потрясенный разыгравшимся на площади действом, которое могло и для него окончиться трагически; и старый генерал Бистром, командующий гвардейской пехотой, оказавшийся в этот критический день не у дел, ибо кровавая междоусобица не укладывается в его представления о чести и порядке; и Александра, жена нового императора, и их семилетний сын цесаревич Александр – для них события открываются своей «тыльной», личностно-семейной стороной.
Фигуры активных участников драмы выписаны Голлером с убедительностью, в основе которой сочетание точного исторического фона с мастерской психологической рефлексией. Несхематично подан образ самого Николая, постоянно глядящего на себя со стороны, ищущего единственно правильную линию поведения в этот, столь неудачно сложившийся, первый день своего царствования. Проницательный взгляд автора тут вовсе не безжалостен и не догматичен.
Очень эффектно выписана глава «Дворец и площадь (II)». В ней победитель при Сенатской площади совершает свой первый проход по дворцу, намечая интуитивно вехи нового царствования: Карамзина обласкать, Сперанского ободрить, Аракчеева пнуть, продемонстрировать умение все держать в зоне своего внимания и памяти. А в это время великий князь Михаил Павлович, потрясенный «пейзажем после битвы», мыкается в отхожем месте Зимнего дворца с урыльником в руках, выворачиваемый наизнанку рвотными конвульсиями.
Нужно выделить и главу о Елене Бестужевой, сестре четырех братьев-мятежников, которой в одночасье приходится взвалить на свои плечи заботу о гибнущей семье и рушащемся доме. Это образцовая психологическая проза – лаконизм и изящество авторского анализа, тонкое обнаружение побудительных мотивов, подспудных значений слов и действий персонажей доставляют здесь подлинное эстетическое наслаждение.
Особо скажу о языке повести. Голлер не архаизирует повествование, не пытается воссоздать подлинный язык той эпохи. Вместо этого он деликатно обозначает речевой фон, причем таким образом, что в старомодных словесных ходах и оборотах просвечивают смысловые сдвиги, помогающие лучше понять строй мышления и чувствования людей того времени, их близость к нам – и отдаленность. Пафос дистанции здесь негромок, непретенциозен, но существенен.
В итоге – повесть являет собой тип прозы, не слишком распространенной в последнее время. Ее отличает богатство вложенных смыслов и нюансов, точность и в то же время панорамная подвижность изображения. Авторская установка здесь неоднозначна. С одной стороны, она продиктована стремлением вернуть читателю первозданное, без опосредующих наслоений, восприятие происходящего, дать ему соприкоснуться с мироощущением, «чувством жизни» участников тех событий. С другой стороны – в повести вполне различима личная интонация, авторский голос, проникнутый ностальгией по невозвратимому времени, по ушедшему строю жизни и чувствований. Эта интонация присутствует в тексте еле уловимой дымкой, чуть размывающей остроту и конкретность исторических деталей.
А теперь – к новейшему и еще не полностью законченному опусу Бориса Голлера. Я говорю о его романе «Возвращение в Михайловское», первые две части которого печатались в журнале «Дружба народов», а после вышли – в 2009 году – отдельной книгой.
Роман о Пушкине – сегодня? В начале третьего тысячелетия? Какую дерзкую задачу ставит перед собой автор! Сегодня, когда о Пушкине и его эпохе написано столько романов, издано столько научных, научно-популярных и околонаучных работ, рассказано столько шуток и анекдотов, спето столько частушек – как убедить читателя принять именно твою версию сакрального, почти мифического образа?
Надо ли делать свой текст непохожим на все предыдущее? Резко менять традиционную оптику, перспективу, тон (как это сделал Синявский в своих «Прогулках с Пушкиным»)? Надо ли отыскивать или придумывать сенсационные, ошеломляющие ракурсы и детали (Пушкин был: педераст, еврей, женщина, англо-шведско-немецко-греческий шпион, солярный миф…)?
В наш просвещенно-искушенный XXI век немного уже найдется наивных читателей, способных безоглядно поверить в железную подлинность авторского вымысла – и облиться над ним слезами. Любой литературный текст исторического содержания должен преодолеть барьер здорового недоверия. У каждого – ну, гм, в пределе – свой Пушкин: уже обжитой, начитанный, выхваченный из воздуха, из культурной атмосферы образ, пусть часто размытый или пунктирный. И каждое новое произведение о поэте оценивается не по его фактографической точности, а по тому, как оно соотносится с этим «предобразом», подходит ли к нему, укладывается ли в него, и одновременно – способно ли его в чем-то изменить.
Голлер приступает к своей задаче, не уповая на шок, на резкий слом сложившихся представлений. Он идет более трудным путем (недаром приводится и подчеркивается в романе любимое Пушкиным речение Шатобриана: «Счастье достигается на проторенных путях»). Автор впрямую предлагает нам конвенцию: я, Борис Голлер, знаю, о чем Пушкин думал, что чувствовал, как поступал в определенных, всем известных «рамочных» обстоятельствах. Ну, не знаю, а предполагаю, догадываюсь, воображаю – на основе многолетних штудий, вживания в предмет, собственной писательской интуиции. Доверьтесь мне – и сверяйтесь со своими представлениями.
Читатель с самого начала погружается в поток значимых подробностей, задающих густой реальный фон повествования, – обстоятельства времени и места, приметы барского деревенского быта, подробности внутрисемейных коллизий: «Барский дом запущённый, не слишком богатый. Может, будь он богаче – люди не так бы ссорились… К дому ведет дорога, обсаженная елями… Огромный запущенный сад, ставший почти лесом… А задним крыльцом дом выходит к реке. Холм обрывается за домом. Вниз ведут хилые деревянные ступеньки…
Но прислушаемся к разговору в доме…
– Это все – плоды вашего воспитания! – возвышенно начинает отец…
– Не говорите глупостей! – ответствует мать. – Он и дома-то почти не воспитывался. Все в заведении…»
И мы невольно поддаемся гипнозу этих неброских, но тщательно отобранных, отточенных подробностей: смотри-ка, вон оно как было на самом деле, а похоже… И начинает виться ариаднина нить сюжета – внешнего и внутреннего. И начинает выстраиваться внутренний и внешний план жития Пушкина в Михайловском.
Какого же Пушкина являет нам автор? В чем голлеровская концепция? Углубляясь в роман, мы с удивлением обнаруживаем, что концепции как таковой – нет. Автор избегает всякой жесткой определенности, односторонности. Он уклоняется от опрометчивых и опредмечивающих определений. Пушкин – романтик или реалист? Бунтарь или конформист? Атеист или христианин? К чему выбирать между этими полюсами? Голлер предпочитает срединный путь… Он рисует «просто» человека и художника. С одной стороны – юношу с волчьим аппетитом к жизни, охочего до наслаждений и впечатлений, азартного любовника и «спортсмена»; с другой – созревающего мыслителя, разбрасывающего во все стороны света, во все концы истории блесны своего нетерпеливого интереса, своей художественной интуиции и цепкого интеллекта; с третьей – сосредоточенного мастера-творца, конструктора и экспериментатора, поглощенного замыслом своего новаторского романа в стихах…
Главный экзистенциальный опыт, под знаком которого пребывают чувства и мысли Пушкина – его любовь к графине Елизавете Воронцовой. Композиционный центр повествования – сцена свидания любовников в Люстдорфе, одесском предместье. Части текста, расположенные сюжетно «до» и «после» этого эпизода, возникающего в памяти героя, окрашены идущим от него светом – так же, как и само мироощущение Пушкина в романе.
Сцена свидания написана откровенно, смело, энергично и поэтично – красиво. В ней – ощущение полета, прорыва, щедрого, избыточного исполнения желаний. При этом Голлер не чурается острых физиологических подробностей, вроде звука струи, бьющей в дно урыльника – подмывание Воронцовой после соития. Такие подробности – не самодовлеющие и не призванные шокировать читателя контрастом. Вся сцена дана в восприятии героя, который и в момент высшего счастья не может отрешиться от родового качества всякого литератора (а не только гениального) – хищной наблюдательности и цепкости на детали.
А рядом другие воспоминания: путешествие с семьей Раевских по Кавказу и Крыму, встреча с руинами древних цивилизаций, опасная и раздражающая дружба с Александром Раевским. Мимолетная в жизни, но духовно продуктивная влюбленность в сестер Раевских, «главная» из которых – Мария, будущая княгиня Волконская, а пока – гадкий утенок, смущающий героя своей полудетской неординарностью. И она – один из подходов к зарождающемуся образу Татьяны…
С воспоминаниями соседствует житейско-психологический план: возвращение в дом, в русскую деревню; пестрый сор нескладывающихся семейных отношений – вражда с отцом, отчужденность от матери, знакомство заново с братом и сестрой. И тут же – размышления Пушкина о парадоксах российской истории, о ее движущих началах, об особенностях национального характера – завязи замысла «Бориса Годунова».
Сверхзадача Голлера – убедительно показать, каким образом любовная тоска и влечение протагониста, его повседневные впечатления, раздражения и разочарования сплавляются с глубоким и властным стремлением к поэтическому творчеству.
Внутренний мир Пушкина в романе – это «взвесь» творческих импульсов и находок в насыщенном настое психологической жизни. Наблюдения и рефлексия неуловимо перетекают в поэтические «кванты», в образы, строки, строфы. «Эти тригорские дуры, наверное, будут уверены, что здесь он пишет роман с них! А в самом деле… И мать есть. И няня. И барышни… каждая из которых могла быть либо Татьяной, либо Ольгой… Он снова стал бывать в Тригорском, чем очень обрадовал – и сестру, и всех тамошних. “А то, мой брат, суди ты сам, / Два раза заглянул, а там / уж к ним и носу не покажешь”. Смешная штука – жизнь! Стихи так легко вторгаются в нее и смешиваются с ней. Не успел сочинить фразу, а она уже живет своей жизнью – и вдруг оказывается, что она и есть жизнь».
Сила и прелесть повествования – в очень тесном соединении (но не до полной слитности) авторского слова и слова героя. Несобственно-прямая речь Пушкина пронизывает ткань этой прозы: «На секунду он подумал, что жесток – обрекая ее на одиночество. Женщина, подобная ей… Такое и желать бессмысленно! Им все равно больше не свидеться. Или не скоро. “Но если…” Все равно это “если” томило его и не давало покоя. Что может быть в этом “если”? А верней – кто может быть? Он мысленно перебирал всех, кого знал, кто мог быть сейчас подле нее. (Странно – он не думал только о Воронцове! Муж есть муж – ничего не попишешь – и думать бессмысленно!) Раевский? Но он его друг – он же и познакомил их. Даже можно сказать – толкнул друг к другу… Нет, не Раевский. А кто же? Их было много – тащившихся за ней в унынии и надежде. Почему она терпит это? Или втайне каждой женщине нужно, чтобы кто-то тянулся сзади?.. Шлейф. Даже самая лучшая. Нуждается. Он выругался матом. Все равно этих слов в русском – ничем не заменить».
Это – из бесконечных возвращений героя к заполнившему его жизнь свиданию с Елизаветой Воронцовой перед самой ссылкой на север. А вот он вспоминает себя стоящим в Бахчисарае перед легендарным фонтаном: «Из ржавой трубы временами набегала коричневатая капля. Будто капля крови, обесцвеченная временем. Как будто княжна, как будто Мария… Потоцкая? Из тех самых Потоцких, Уманских?.. Сам-то Пушкин почему-то сразу поверил – что все так и было. Имя Мария как бы удостоверяло собой быль. Цветок прекрасный – пересаженный на чужую почву… Какой у него удел? он представлял себе те самые узенькие ступни, робко спешившие в этих комнатах, по мягким ширазским коврам – утопая, как в воде. “Любили мягких вы ковров / Роскошное прикосновенье…”»
Особый вкус тут – в тончайшем переплетении речевых потоков героя и автора. Одно оттеняет и дополняет другое, так что целое обретает новые грани и оттенки. Повествователь словно чуть выглядывает из-за плеча Пушкина и ненавязчиво привлекает наше внимание к повороту мысли, изгибу эмоции, так что часто нельзя разобрать, где слова, извлеченные из – воображаемого – сознания Пушкина, переходят в суждения и комментарии повествователя. Характерно, что Голлер своей языковой манерой и способом повествования явно и намеренно оппонирует своему блистательному предшественнику Тынянову. Проза Тынянова словно закована в драгоценные стилевые доспехи, она слепит бликами метафор, тропов, парадоксальных сравнений и уподоблений, она ритмически размерена и завораживает, словно стих. Здесь все подчинено монолитному и неуклонному авторскому замыслу. Тынянов в своем романе нечасто дает право прямого высказывания главному герою. Он изображает его от себя, объективируя стихию его внутренней жизни в скупых и выразительных образных конструкциях, афористических формулах. Он навязывает читателю «своего Пушкина», не оставляя зазоров в тесно застроенном, насыщенном пространстве текста, не оставляя права на сомнение и апелляцию. Дискурс Тынянова – один из самых «авторитарных».
Голлеровская проза намного более «воздушна» – и это вовсе не упрек ей. Здесь есть стыки и швы, отступы от главной темы, смены точек зрения и интонационных ключей. Здесь читателю предоставляется возможность самому побродить в этом «саду расходящихся тропинок», увидеть изображаемое в разных ракурсах, поразмышлять и поспорить с автором. Конечно, сравниться с образной пластикой и проникновенной риторикой тыняновского романа мало что может. Однако манера Голлера, несомненно, более отвечает современному и либеральному «порядку дискурса».
Вернемся, однако, к тексту. Голлер, как уже говорилось, представляет образ Пушкина в основном фронтально, через авторское описание и прямую (или несобственно-прямую) речь главного героя, однако фон, исторический и человеческий, в его романе очень важен и активен. Резкими штрихами набрасывается «семейный портрет в интерьере»: легкий и слегка уязвленный славой брата Левушка, сестра Ольга, жаждущая мира в семье и тревожно задумывающаяся о нескладывающейся личной жизни, Надежда Осиповна, грустящая на закате своей светской женской доли. Наконец, отец, Сергей Львович. Эта фигура обрисована у Голлера в особенно острой, порой карикатурной графике. Однако за авторской иронией, насмешкой над боязливостью, сервилизмом, конформизмом, жалкими попытками домашнего тиранства со стороны отца проглядывает сочувствие – к его потерянности, ошеломленности явлением сына-знаменитости, к человеческой и мужской импотентности Сергея Львовича.
Еще один образ, поданный в романе крупным планом, – это Александр Раевский, «демон» или Мефистофель Пушкина поры его южных странствий и, очевидно, удачливый соперник в борьбе за сердце Елизаветы Воронцовой. Отношения двух Александров анализируются тонко и проницательно, что позволяет выявить глубинные, неочевидные пружины пушкинского характера и поведения: поклонение дружбе, неотделимое от готовности поддаваться влияниям – и бунт против влияний; непривычность к критике; восприимчивость к негативному обаянию скептицизма и цинизма.
Столь же рельефно выписаны и другие персонажи романа: погруженный в любовную меланхолию и поэзию Дельвиг, Прасковья Александровна Осипова-Вульф, скрашивающая мужское одиночество Пушкина, ее дочь Анна, страдающая от любви к поэту и от ложности создавшегося положения… Особое место в повествовании – у Анны Керн, обольстительной, изменчивой, несчастливой и ненасытной, ставшей, пусть и ненадолго, музой поэта. Разработка этого образа в романе, а также ситуации в Тригорском после появления там Анны Петровны – образец мастерского психологизма, тонкого проникновения в лабиринты женского характера.
Завершается вторая часть повествования «Романом в письмах» – хороводом эпистолярных посланий, которыми обменивались заточенный в Михайловском поэт со своими друзьями, с Анной Керн, с членами семейства Вульф. Часть этих писем – подлинные, другие являют собой смелую и удачную реконструкцию.
Присутствует здесь и более широкий исторический фон – тут я имею в виду «вставную главу», главные «фигуранты» которой – император Александр Павлович и его супруга Елизавета.
Глава эта подчеркнуто выведена за пределы общего хронотопа романа, и это, очевидно, важно для автора: партия в безик, разыгрываемая Александром и Елизаветой, дает возможность набросать – пусть и пунктиром – историческую перспективу эпохи. Грандиозные события и прославленные фигуры показаны здесь через призму личностного восприятия этих персонажей – актеров на исторической арене и одновременно слабых, страдающих, закомплексованных людей.
Автор уверенно набрасывает картину болезненных, на грани нервного срыва, отношений супругов, партнеров по не слишком счастливому династическому браку. И это – на широком психоэротическом фоне. Романы и увлечения высшего европейского бомонда среди бурь и катаклизмов наполеоновской эпохи. Марьяжи, мезальянсы, адюльтеры… Адам Чарторижский, Платон Зубов, Охотников… Императрица Жозефина, королева Гортензия, королева Луиза… Донжуанские списки супругов, увенчиваемые констатацией кровосмесительного влечения Александра к его сестре Екатерине…
Тут самое время задаться – точнее, предвосхитить чей-то вопрос: а не слишком ли обильную дань отдает автор описаниям и рассуждениям на «вольные» темы? Это и эротические эпизоды с участием Пушкина и Воронцовой или Сергея Львовича и красавицы Алены. Это и многие фрагменты «вставной главы», и пространные рассуждения Александра Раевского о мужской и женской анатомии, и его же похвальба размерами собственного члена, и несколько уязвленная пушкинская рефлексия на этот счет…
Кого-то явный интерес Голлера к сексуальной сфере может шокировать (впрочем, в наше-то время?). Я же уверен, что автором здесь руководит не стремление к «оживляжу», а вполне законное и плодотворное для исторического романиста желание обозначить формы и границы эротического дискурса в изображаемую эпоху, иначе говоря: проследить и показать, о чем и как, какими словами принято было говорить на интимные темы в разных общественных кругах и в разных ситуациях. И почти всегда Голлер при этих рискованных эскападах удерживается в рамках вкуса и такта.
Осталось поговорить о еще одной творческой ипостаси Бориса Голлера: литературоведческой и, шире, культурологической. Большая часть его работ в этой области собрана в книге «Девятая глава» («Алетейя», 2012). Концептуальное эссе «Парадокс об авторе и театре» – работа в одно и то же время темпераментная и выверенная: сочетание, согласимся, редкое. В ней автор бросает перчатку – шутка сказать – магистральному направлению сценического искусства в XX веке: режиссерскому театру с его упором на зрительный образ и конструктивное решение спектакля. Голлер «вызывает» тут не каких-то ремесленников от режиссерского цеха, а – Станиславского, Мейерхольда, Питера Брука. Он подводит итоги векового господства режиссера над драматургом, пластики над словом – и находит эти итоги разрушительными, опустошающими. Именно в подчинении «литчасти» режиссерскому деспотизму видит он главную причину кризиса, в котором очутился нынче театр.
С таким подходом можно спорить, но ему не откажешь в логике и последовательности. Голлер привлекает себе в союзники Михаила Булгакова. «Театральный роман» не просто рисует ситуацию начинающего драматурга в общении с колоссами и карликами сцены. Книга Булгакова – изображение конфликта между драмой как родом литературы и режиссерским театром в самом ярком и жестоком его воплощении.
В своем эссе Голлер придает этому конфликту значение поистине эпохальное. Он возводит его к столкновению Слова с «антифилологическим» началом, лежащему в основе главных социокультурных кризисов века: «А вдруг все это – весь “век образов”, вся его безумная, прекрасная, трагическая история – был лишь бунт против языка? “Антифилологический огонь”, о котором предупреждал Мандельштам? “Антифилологический дух”, что “вырвался из самых глубин истории”? Бунт интеллигенции – против самой себя? Такой же “бессмысленный и беспощадный”, как революция 17-го года, студенческие баррикады в Европе, группа Баадер-Майнхоф, перуанские террористы?..» Приведенный отрывок демонстрирует масштаб авторских обобщений… На первый взгляд кажется, что он явно «перебирает». А если взглянуть все же на коллизии века с метаполитической, метасоциальной точки зрения? Может быть, и вправду их результирующий вектор – энтропийный, отражающий глухое неприятие массами не до конца постижимого, при всей его членораздельности, Логоса?
Главный корпус «Девятой главы» образован тремя опусами о центральных фигурах и произведениях «Золотого века русской литературы». Все они проникнуты общим пафосом пристального и в то же время «остранняющего» чтения. Б. Голлер приглашает взглянуть на знакомые с детства тексты словно впервые, глазами, промытыми удивлением, любопытством. И это позволяет ему ближе подступиться к загадкам замыслов и реализаций, под хрестоматийным глянцем обнаружить еще недостаточно осмысленные глубины и повороты.
Первая часть триптиха – «Драма одной комедии» – посвящена личности Грибоедова и его гениальному «Горю от ума». Здесь автор полнее всего проявляет себя в качестве борца с шаблонами, с разношенными, как шапка, моделями восприятия. Предлагаемое Голлером прочтение «Горя» – не провокация, на которые так падко наше время, а жесткая проверка привычных схем на историческую и логическую консистентность.
Исходный тезис состоит в том, что главная героиня «Горя» – Софья, а любовь ее к Молчалину служит источником смыслового и сюжетного движения. Настоящий – и почти революционный – вызов условностям и привычному жизненному порядку бросает не пылкий говорун Чацкий, а именно Софья, засиживающаяся до утра наедине с милым. А из этого уже вытекает иная оценка многих персонажей, мизансцен и общих установок пьесы.
Голлер упрекает всех прежних истолкователей пьесы, от Пушкина до Эйдельмана и Лебедева, в «недотягивании» до замысла автора. Грибоедов, по его мнению, писал не сатиру на нравы московского дворянства, не критику российского социального устройства и не панегирик оппозиционерам-радикалам. «Горе от ума» – прикосновение к неизбывной и трагической абсурдности мира, покрывающей и личную жизнь человека, и его социальную практику. Грибоедов, по мысли Голлера, написал трагикомедию о тщете человеческих усилий и желаний, о том, что все невпопад и невовремя, о том, что любят не за что-то, а подчиняясь властному и слепому потоку страсти…
Грибоедов предстает здесь опередившим свою эпоху художником и мыслителем, провозвестником трагикомической абсурдности бытия. К тому же постигшим сомнительность утопизма и продиктованного им радикального социально-политического действия.
Соответственно, в эссе пересматривается традиционное мнение о кризисе, творческом и психологическом, постигшем автора «Горя» после декабрьского восстания. По мнению Голлера, Грибоедову просто не хватило времени, не хватило судьбы отыскать художественную форму для своих новых замыслов и прозрений.
Спорно? Конечно. Интересно? Чрезвычайно, тем более что Голлер отстаивает свое видение убежденно и страстно, подтверждая его скрупулезным анализом текста и исторического фона.
«Контрапункт, или Роман романа» – пространное и проникновенное рассуждение о «Евгении Онегине», о его новаторстве, о творческих принципах и философии жизни Пушкина, об особом психологизме романа, растворенном в его композиции.
Эссе полнится тонкими наблюдениями над поэтикой и семантикой «Онегина». Автор развивает здесь взгляд на произведение как на особую, ранее не встречавшуюся в отечественной литературе художественную структуру, с драматургической и «музыкальной» разработкой главных тем, открывшую новые пути русскому роману.
Очень плодотворна идея о центральной позиции в романе фигуры Автора, то сливающегося с А. С. Пушкиным, то отделяющегося от него, то отождествляющегося с Онегиным или Ленским, то дистанцирующегося от обоих. По ходу развертывания сюжета Автор постоянно меняется: он спорит с собой, от чего-то отказывается, что-то в себе пересматривает, преодолевает. Противоречивость, чуть ли не ртутная подвижность образа Автора, интенсивность отношений и переходов между ним и другими персонажами создают в романе удивительный контрапункт голосов и точек зрения.
Голлер приходит к заключению: Ленский и Онегин в романе – суть олицетворения разных фаз единого жизненного цикла, разных начал, которые сменяют друг друга – а иногда сосуществуют и борются – в духовном пространстве личности. Ленский – юность, возраст любви и поэзии, верность мечте, идеалам. Образ Онегина знаменует собой не просто зрелость, с присущими ей опытом, искушенностью, но и наступление прозы жизни на человеческую душу, почти неизбежную «амортизацию» последней в борьбе с обыденностью. Не случайно дуэль героев трактуется в «Контрапункте» как «убийство юности в себе».
Главное достоинство «Контрапункта», на мой взгляд, в том, что здесь подробно и предметно анализируется тот атрибут пушкинского творчества, который расплывчато именуют протеизмом. На всем движении художественной мысли «Онегина» выявляется устремленность Пушкина к «общему жизни» в разных ее фазах, ипостасях, превращениях. Голлер подчеркивает поразительное умение поэта отождествляться с отдельными «бытийными проекциями», выявлять их с исчерпывающей полнотой и выразительностью – и тут же или вскоре обнаруживать относительность данного состояния, данной истины, возможность иных, дополняющих или альтернативных, вариантов.
Завершающий фрагмент триптиха – работа «Лермонтов и Пушкин», в свою очередь сложносоставная. В собственно литературной ее части автор весьма проницательно прослеживает отношение Лермонтова к личности и творчеству великого предшественника, которое, разумеется, вовсе не укладывается в схему почтительного ученичества.
Опираясь на анализ ряда стихотворений, «Тамбовской казначейши» и, конечно же, «Героя нашего времени», Б. Голлер показывает, как Лермонтов формировал и утверждал собственную эстетику, отталкиваясь от найденного Пушкиным, пародируя его, вырываясь из гравитационного поля пушкинского гения. Цель Лермонтова – изображение дисгармоничного внутреннего мира человека постромантической поры, эпохи рефлексии и «безочарования». При постоянном диалоге, параллелях и перекличках с Пушкиным Лермонтов отстаивал правоту собственного мировидения – гораздо более горького и трагичного, нежели пушкинское. Голлер формулирует вызывающий тезис: Лермонтов – первый экзистенциалист в русской литературе, он – «антиницшеанец до Ницше».
Вторая, биографическая часть этого исследования, озаглавленная «Две дуэли», являет собой очередную попытку разобраться в запутанных обстоятельствах, приведших великих поэтов к трагическому концу. Основ ной посыл тут следующий: между дуэлями Пушкина и Лермонтова очевидна корреляция, хотя «агентами зла» в обоих случаях могли выступать не «правящие круги», а вполне определенные группировки аристократического общества, например, компания блестящих кавалергардов братьев Трубецких. И мотивы их могли быть не столько идеологическими, намеренно «антипрогрессистскими», сколько частными, личностными, хотя от этого ничуть не более приглядными. Автор «Двух дуэлей» убежден: Лермонтова подвели под пулю Мартынова те же люди, которые послали Пушкину пресловутый «пасквиль». И мстили они Лермонтову за слишком прозрачный, «адресный» намек в последних шестнадцати строках его знаменитого «На смерть поэта».
Пора подвести итог. Бориса Голлера, пользуясь терминологией пушкинского времени, можно определить как литературного старовера, а по-нынешнему – как человека до-постмодернистской выточки. Он четко различает действительность и текст, жизнь и литературу, веря в достоинство последней, в то, что занятие литературой – самое важное и интересное занятие в мире.
Сегодня, в начале третьего тысячелетия новой эры, как-то не принято оглядываться назад. Зачем – ведь так привольно глазеть по сторонам или вперять взор в туманное и манящее будущее. Тексты же Голлера побуждают нас, затрачивая интеллектуальные усилия, сосредоточенно вглядываться в прошлое. Они пробуждают ностальгию по Истории.
Сегодня обращаться к истории, искать в ней вдохновение, уроки, истину – значит идти против моды и течения. Но Голлер этого не боится. Он занимается археологией культуры, извлекая осколки ценностей и смыслов из-под завалов идеологических схем, предрассудков. Поэтому его тексты – не самое легкое чтение. Может быть, исторические раскопки писателя, как и его анализ сегодняшней ситуации театра, и вправду несвоевременны. Но если так – то тем хуже для нашего времени.
2004–2014
Сменные оптики Андрея Битова
Что ни говори, а Андрей Битов – один из самых широко и свободно мыслящих среди всех прозаиков, писавших и печатавшихся в советском пространстве в советскую же эпоху. (Подчеркиваю – свободно, а не «свободомыслящих», потому что он всегда избегал прямолинейного диссидентства, клинча с официальной идеологией.) Это и дает основания взглянуть на его прозу сквозь «концептуальные очки», проследить в ней развитие и смену неких общих парадигм.
Битов, с самого начала своего пути, отличался от многих тем, что давал себе труд и волю не только рассказывать и описывать, но размышлять – параллельно фабуле и вокруг нее – на сопутствующие темы, то достаточно расхожие, то по тогдашним временам вполне нетривиальные. Тем самым он придавал своему «творческому лицу» необщее выражение заинтересованной задумчивости. Жизнь разворачивалась перед ним чередой загадок, секретов, стимулировавших усилия интеллекта и воображения.
Вспомним – на рубеже 50–60-х годов из-под его пера выходили не слишком притязательные зарисовки из жизни детей, подростков, половосозревающих юнцов, с импрессионистической фиксацией явлений их внешней и внутренней жизни. Главным там было обнаружение самопроизвольной активности становящейся личности. Факты и предметы объективного мира обволакивались клейким веществом рефлексии. Страницы ранних рассказов и повестей Битова – «Бабушкина пиала», «Большой шар», «Но-га», «Такое долгое детство» – напоминают ленту осциллографа, отмечающего самые легкие душевные движения и дрожания героев. Игнорируя нравоучительные и мобилизующие клише соцреализма, Битов под сурдинку воспевал tabula rasa, неопытность и жадность к обучению, чуткую отзывчивость души на притягательные мелодии жизни.
Со временем эта вибрирующая, желеобразная масса психологической реальности начинает кристаллизоваться вдоль нескольких главных осей. Нерасчлененное единство с миром, детское доверие к его гармонии сменяются предощущениями противоречий, тайн, острых соблазнов. В поле осознания его юных персонажей входят боль, страх, возможность несправедливости, предательства, наконец, смерти. Битов очень убедительно и наглядно изображал в своей ранней прозе процессы формирования субъективного опыта: самонаблюдение, сопоставительное обнаружение своего в чужом и чужого в себе, картографирование сложного рельефа жизненного пространства, предметного и духовного.
Существенно то, что Битов, будучи еще молодым писателем, не ограничивался запечатлением, даже самым проникновенным, психологической эмпирики. Его уже тогда влекло к обобщениям, к постижению закономерностей и констант «феномена человека», системы координат, в которой происходит броуновское движение человеческих частиц…
Сами его юные герои упоенно резвились на зеленых лужках житейских обстоятельств и возможностей, открывали в себе новые потребности и способности, новую чувствительность, они восхитительно поглощены собой и своим существованием, своими напряженными отношениями с родителями и друзьями, с начальством (на производстве, в институте, в армии), со своими первыми женщинами. Они – в лихорадке освоения мира…
Автор же, обретающий зрелость и проницательность, не только соучаствует и сочувствует героям, но и оценивает их со стороны, с некой возвышенной и отстоящей наблюдательной точки. И начинает проникать в их человеческую суть, залегающую под покровом мельтешащих обстоятельств. Он, таким образом, незаметно вступает в пределы антропологии – области знания о самых общих основаниях и проявлениях человеческой природы. Каковы же, по Битову, существенные определения человека – по крайней мере, того, которого он наблюдает в повседневном опыте: сверстника, современника?
Сходство разных его молодых героев – безымянного рассказчика в «Бездельнике», Лобышева из «Пенелопы», Сергея из «Жизни в ветреную погоду» – в некой аморфности и пластичности личностного начала, охотно принимающего предлагаемые формы. Это все – «человеки без свойств» (пусть и не в том смысле, который придавал этому определению Музиль). Они подвижны, податливы к соблазнам, собственным капризам и внешним влияниям. В этих натурах отсутствует стержень – характера, убеждений, морали или жизненной цели. Они «относительны» – то есть легко увязают в паутинах связей и отношений, встречающихся на их пути. Им ничего не стоит изменить себе, потому что «себя»-то они и не знают, а возможно, и не имеют. Даже «друг детства» Генрих Ш., к которому автор «путешествует», вулканолог и сорвиголова, тоже выступает скорее героем эффектного жеста, чем сильной и независимой личностью.
Заметим, что Битов, вполне ясно обнаруживая неслучайную и не чисто возрастную природу этих личностных свойств, вовсе не спешит как-то к ним «относиться» – критиковать, выявлять причины, предлагать исправления. Принимайте этих людей такими, какие они есть, – и делайте с ними что хотите. Автор, во всяком случае, их прекрасно понимает, чувствует свое родство с ними. Он – антрополог-любитель, но никак не проповедник или прокурор.
В эти годы начинается работа над разрастающимся с годами романом «Улетающий Монахов». В новеллах, образующих «Улетающего Монахова», Битов занят по большей части каталогизацией обретенных «сведений о человеке», о его трудах и днях.
Алексей, сквозной герой «романа-пунктира», предстает тут в последовательности своих возрастных воплощений. Он взрослеет, обзаводится жизненным опытом, семьей, карьерой, но на всех стадиях сохраняет – наряду с подаренными ему автором от своих щедрот остротой восприятия и живостью реакций – зависимость от обстоятельств, некую инертность и леность души. Последняя по большей части пребывает в уютной дреме, лишь изредка нарушаемой обжигающими пробуждениями.
При этом довольно стандартные и как бы случайные житейские виражи ввергают его порой в состояния пограничные, чреватые метафизическими вопросами и прозрениями: «Алексей закрыл книгу. Странно было ему. Он что понял, а что не понял, про бога он пропустил, но рассуждение о том, откуда же любовь: не от любимой же, такой случайной и крохотной, и не из него же, тоже чрезвычайно небольшого… – очень поразило его».
Отметим этот значащий момент. Здесь в художественном мире Битова впервые проступает возможность религиозного мироощущения. Алексей, как и другие герои писателя, порой остро ощущает свою малость, случайность, ущербность. Компенсировать это чувство «недостаточности» может лишь представление о неизмеримо более высоком и мощном бытийном начале.
Да и в умонастроении самого автора улавливается такой примерно поворот мысли: не может быть, чтобы эта вот смешная, мелкая, конфузная жизнь и была – все! Должен существовать совершенный образец для этой скверной, искаженной копии! И, кроме того, нужно какое-то нездешнее, нематериальное прибежище, где можно укрыться от собственного неблагообразия, отдохнуть от него в надежде на милость, на чаемое преображение и воскрешение.
Здесь не место в который раз останавливаться на неоспоримых литературных достоинствах прозы Битова, но несколько слов все же добавлю. Автор «Улетающего Монахова» уже «артист в силе», до блеска отшлифовавший свою расплывчато-каллиграфическую манеру. Секрет воздействия его прозы – в кружевной описательности, достаточно дырчатой и воздушной, дышащей, взывающей к со-ощущению, со-вспоминанию, к заполнению намеренных пустот опытом самого читателя. Концентрические кружения, последовательные приближения к сути иногда перемежаются разительно точными наблюдениями и проникновениями. Пристальное, сквозь лупу, вглядывание в оттенки мыслей и ощущений завершается широким обобщающим жестом. Писатель умело вводит в свою палитру гомеопатические дозы платоновского стиля, используя филигранные смысловые и синтаксические сдвиги, слегка меняя наклон образных конструкций…
А рядом, в параллель, выстраивался главный опус Битова – «Пушкинский дом», увенчавший триумфальным образом его раннее, свежее творчество. Материал вдруг идеально совпал с манерой, интимно близкая, выношенная тема пересеклась с носившимися в воздухе (скорее западном, чем российском) концептами повествования – и возник роман-взрыв, роман-миф. Только что и взрыв занял долгие и сакральные семь лет (1964–1971), и миф наращивался послойно, в том числе и кропотливыми усилиями самого автора.
Дом этот с главным его «насельником», Левой Одоевцевым, оказался причудливой архитектуры и со многими входами. От традиционного психологизма Битов здесь, конечно, не отказывается. В «Пушкинском доме», как и в «Монахове», немало страниц посвящено проникновенному анализу «свойств страсти», изображению эмоций и поступков индивида, пребывающего в любовной лихорадке и неволе. Простые и довольно очевидные, в сущности, параметры этого состояния – восторженность, слепоту, наделение объекта влечения всевозможными достоинствами, ненасытное стремление к еще большему проникновению и слиянию, ревность – Битов на примере Левы явил с такой наглядностью, что каждый читающий, кажется мне, легко отождествляется с героем и заново переживает опьянение и похмелье первых любовей. Впрочем, и другие феномены внутренней Левиной жизни представлены здесь с подкупающей убедительностью.
Но сверх того – роман, выросший из зерна филологическо-бытового анекдота, обернулся краткой, но очень емкой энциклопедией советской цивилизации и одновременно инструментом едкой критики разных ее сторон, по большей части неочевидных. Семейство Одоевцевых представляет здесь послереволюционную гуманитарную интеллигенцию, точнее, ее лучшую, сохранившую «багаж» и преемственность, часть. И Битов с ядовитой беспристрастностью демонстрирует деградацию этого сословия, распад ее человеческой субстанции на молекулярном уровне.
Главная удача романа – несомненно, центральный его образ. Прежние импрессионистические наброски, верно схваченные черты соединились в масштабный, суггестивный портрет интеллигентного героя зрелой советской эпохи на фоне времени, воссозданном чрезвычайно колоритными, на грани гротеска, деталями.
В образе Левы атрофия личностного начала проявляется особенно наглядно. Он – воплощенная несамостоятельность, непоследовательность, бесхребетность. Главная его особенность – готовность трансформироваться по форме любого сильного влияния извне, будь то исторические обстоятельства, требования социальной среды, психологическое поле хищноватой возлюбленной Фаины или мелкого беса Митишатьева.
В отличие от ранних повестей и рассказов, автор здесь подчеркивает обусловленность этого феномена: политическими реалиями («культ», репрессии), системой воспитания, общим modus vivendi семьи, построенном на лжи и умолчаниях. Антропология, таким образом, обретает социологическое измерение.
Однако вызов, бросаемый Битовым официозу, вовсе не ограничивается более или менее скрытыми выпадами по адресу Системы и советского образа жизни. Авторская позиция включает в себя и иные ракурсы рассмотрения. Например – экологический, пусть и не в традиционном понимании этого слова.
В «Пушкинском доме» место действия – Ленинград 60-х годов, наследующий (не по прямой) блистательной имперской столице, – служит важным стиле– и смыслообразующим фактором. Персонажи романа, и Лева в первую очередь, живут в городе-музее, в котором огромные культурные ценности, накопленные двухвековой традицией, остаются невостребованными, не связанными с повседневным существованием нынешних обитателей города. Этот мотив – величественные, насыщенные смыслами декорации, в которых разыгрываются мелкие мещанские драмы, граничащие с фарсом, – проводится Битовым очень последовательно на протяжении романа. Автор виртуозно решает поставленную задачу – доказать тканевую несовместимость реальности, в которой обретается Лева Одоевцев и другие персонажи, с «петербургским периодом» российской истории.
Впрочем, по мысли Битова, такая ситуация оказывается парадоксальным образом благоприятной для сохранения культуры – если не в актуальном плане, то под знаком вечности. Непонимание современниками прошлого оборачивается залогом его нетронутости. В противном случае его духовные и материальные сокровища были бы переработаны и усвоены, «потреблены» не знающим покоя и пиетета человеческим сообществом – агрессивной «окружающей средой» культуры.
Сверх того, в романе присутствует подход, который можно назвать метафизическим и даже теологическим. «Агентом» его выступает Одоевцев-дед, своей судьбой и внутренней свободой противостоящий аморфности, банальности советского безвременья. Злые и ядовитые инвективы этого некогда блистательного филолога, а потом зэка-прораба, выходят далеко за рамки расхожего диссидентства, за пределы складывавшейся в то время унылой триады: официозность – либерализм – почвенность. И через раскаленные монологи Одоевцева-деда, и через фрагменты его записей с чередующимся заголовком «Бог есть – Бога нет» в смысловое пространство «Пушкинского дома» вводится концепция творения и Творца.
Интересно, что христианская идея представлена в романе не столько морально-личностной своей стороной, сколько в аспекте гармоничного и оптимального мироустройства, архитектоники бытия. Именно это лежит в центре рассуждений Модеста Платоновича, славящего красоту и целесообразность замысла Творца. Одновременно герой помогает автору открыть «второй фронт» антропологической критики. В язвительных сентенциях старого Одоевцева человечество обретает совсем другие черты, нежели отдельная личность, достойная лишь снисходительного презрения. Род людской упрекается в неутолимой жадности, хищничестве, в смертном грехе хапанья. Богоборчество человека проявилось в том, что он самонадеянно отклонился от указанного свыше пути, вышел за пределы мудро приуготованной для него бытийно-экологической ниши. Карой за это станет близкое уже разрушение среды обитания, которая не выдержит грабительского активизма человечества. Иными словами, здесь теология пересекается с экологией, как параллельные в геометрии Лобачевского. Впрочем, именно эти фрагменты «Пушкинского дома», с рассуждениями Одоевцева-деда, не были опубликованы в ту пору на родине.
Битова, однако, интересует и другой аспект творения, связанный с атрибутом могущества, всевластия. Или власти Творца положены все же пределы? Тут возникают вечно волнующие и злободневные вопросы: о свободе человека в системе божественного промысла, о природе несовершенства мира и наличия в нем зла. На темы эти написаны библиотеки изощренных теологических толкований, но поле все равно остается спорным, открытым для разных теоретических интерпретаций.
А преимущество художника в том, что он способен от теории перейти к эксперименту – он ведь тоже творец. «Пушкинский дом» вполне возможно рассмотреть и под этим углом зрения: как попытку создания на глазах у читателя (публичность, открытость процесса порождения всячески афишируется) собственной вселенной с определенными свойствами, населения ее личностями-персонажами, отношениями, ситуациями… Именно этим объясняется та стихия дезиллюзионистской игры (есть для ее обозначения громоздкий термин «мета-фикционализм»), которая господствует в романе. После Константина Вагинова и до Пелевина с его нашумевшим романом «Т» в русской литературе не было такого явного обнажения приема, столь демонстративных (чтобы не сказать «бесстыдных») «отношений» автора со своим замыслом и материалом.
«Пушкинский дом» полнится комментариями и отступлениями общефилософского и прикладного, технико-литературного характера: о диалектике индивидуального и типического, о пределах литературной условности, о проблемах сюжета, композиции, психологической достоверности и т. д. Литературный текст словно рефлексирует по поводу самого себя, анализирует процесс собственного становления.
Но главное тут – взаимодействие автора с персонажами, и прежде всего с Левой Одоевцевым. Битов охотно демонстрирует свое демиургическое господство над героем, прикидывая варианты его характера и судьбы, меняя освещение, ракурсы, инструменты анализа. Он трактует образ то в социально-историческом ключе, то в личностно-психологическом, то представляет Леву в его профессиональном качестве, то подчеркивает его ирреальность, сугубую вымышленность. Это не мешает ему организовать под конец встречу с героем, беседу с ним, рукопожатие через проем в стене литературной условности…
Ближе к финалу авторское внимание все более сосредоточивается на границах власти автора над персонажем. Оказывается, творец не всесилен, а персонаж, рожденный из авторской – зевесовой – головы даже в такое иллюзорное жизненное пространство, как текстовое, обретает определенный статус существования и потенциал независимости. Практически это сводится к дифференциальному исчислению дистанции между временем автора и временем персонажа. По мере приближения сюжета к концу знание автора о герое исчерпывается, как и власть над ним. И тут возникают онтологические парадоксы, с которыми Битов играет, несколько кокетливо: «Итак, Лева-человек очнулся, Лева – литературный герой погиб. Дальнейшее есть реальное существование Левы и загробное – героя… Я не хочу никого задеть, но здесь очевидно проступает (на опыте моего героя), что живая жизнь куда менее реальна, чем жизнь литературного героя, куда менее закономерна, осмысленна и полна… И это весьма бредовая наша рабочая гипотеза для дальнейшего повествования, что наша жизнь есть теневая, загробная жизнь литературных героев, когда закрыта книга». Речь, между прочим, идет о претензии созданного художником текста соперничать с пресловутой действительностью.
Итак, Битов попробовал себя в роли Бога-творца. Если и не дернул, так сказать, за бороду, то примерил ее на себя – в порядке маскарада, конечно. Заметим, что в «Пушкинском доме» писатель создает в целом упорядоченный космос, пусть и с присущими ему постмодернистско-релятивистскими эффектами. Здесь есть своя «метрика», свои центры гравитации, здесь правят какие-никакие, а законы, уберегающие от полного авторского произвола и хаоса. Но роман этот содержит в своем составе семена и зародыши всех тем и мотивов последующего творчества Битова, которое поставит под радикальный знак вопроса «регулярность», законосообразность миров, реальных и воображенных.
Однако все по порядку. Экологическую – в традиционном смысле слова – колею Битов проторил в повести «Птицы, или Новые сведения о человеке», законченной вскоре после «Пушкинского дома». И эта вещь пробивалась к публике с трудом, но все же дошла… Эссеистический этот опус трактует о жизни, о ее закономерностях и случайностях в безразмерном масштабе «всего живого». Писатель продолжает разрабатывать найденную в «Пушкинском доме» жилу: подспудную атаку на современную цивилизацию (и не только советскую), на этот раз с гносеологического фланга.
В атмосфере времени был разлит общественный заказ – уклониться от бесперспективного бодания с Системой, вырваться из бинарных идеологических оппозиций, отыскать свежие проблемные поля, новые полюса противоречий. И Битов чутко откликнулся на этот зов. В «Птицах…» он, предаваясь прихотливо необязательным, дилетантским мыслям и впечатлениям в заповеднике на Куршской косе, наблюдая за орнитологами и их пернатыми подопечными, беседуя со своими учеными визави о Конраде Лоренце и дедушке Крылове, предстает пророком, предсказывающим не вперед или назад, а «вбок».
Автор задается псевдонаивными вопросами, которые призваны расшатать позиции обыденного сознания с его культом науки и материалистическим детерминизмом. Он использует несложные истины экологии и этологии, скорее общие места, чем парадоксы, чтобы сбить спесь с зазнавшегося ratio, обнажить невежество и претенциозность современного человека. И – поднимает флаг антисциентистской фронды: «Наука XX века сильно распугала истины – они разлетелись, как птицы… Современная экология кажется мне даже не наукой, а реакцией на науку… Почерк этой науки будит в нас представление о стиле в том же значении, как в искусстве. Изучая жизнь, она сама жива. Исследуя поведение, она обретает поведение».
Льстящее науке – да и не всякой – сближение с искусством через общий признак стиля подразумевает эстетическое обоснование картины мира. Тут нужно сказать, что повесть «Птицы…» знаменует собой некую веху, смену парадигмы в творчестве Битова. Погружения в мир индивида, в диалектику его души и межличностных связей уступают место размышлениям о системе мироздания, о месте и назначении человека в ней. Битов чем дальше, тем больше задумывается об онтологических основаниях бытия. И, параллельно, в развитие игровых и теологических экспериментов «Пушкинского дома» – о сравнительном статусе объективной реальности и порождений творческого воображения художника, о их борьбе за приоритет.
В явном виде этот подход впервые воплотился в «Человеке в пейзаже». Неприемлемые для цензуры, креационистские свои воззрения Битов попытался замаскировать юмористической и в свою очередь вызывающей алкоголической оболочкой – впрочем, этот отвлекающий маневр не помог, и повесть была напечатана только несколько лет спустя, в период перестройки.
Здесь царит фантомальный живописец-философ-пьяница Павел Петрович. Он постоянно меняет очертания, то вырастает до оракула, то съеживается до заурядного забулдыги, и попеременно извергает то перлы красноречия, то блевотину. Он мечет, как бисер, грозные пророчества и горькие обвинения человеку прометеевского типа, оказавшемуся нахальным и неблагодарным.
Павел Петрович развивает, например, красивую теорию тонкого, живописного слоя, который отвел человеку для обитания в мироздании Творец-художник. А человек, вместо того чтобы блаженно и бесхитростно довольствоваться данным, начал познавать и переделывать реальность, и тем самым двинулся поперек слоя, норовя окончательно прорвать разреженную ткань бытия и вывалиться в пустоту, темноту. Как можно претендовать на познание бытия в его беспредельности, когда и выживать-то человечество способно лишь в узком диапазоне физических и биологических параметров?
А рядом – не менее еретические (хоть с марксистской, хоть с теологической точек зрения) рассуждения об эстетических мотивах творения, об одиночестве Творца и смелая догадка: человек создан, чтобы было кому увидеть, понять и оценить шедевр Бога-художника. Человечество – как зрительская аудитория, как экспертное сообщество!
Миражной, зыбкой оборачивается и сама ткань повествования. Кто тут кого вообразил? Павел Петрович – «другое я» повествователя или бред его пьяного сознания? Он – ангел-хранитель, развертывающий перед героем-рассказчиком духоподъемные гипотезы и откровения, или соблазнитель, явившийся «от лукавого»? Возникает тут и травестия евангельского мотива об отступничестве апостолов, с не таким уж шуточным намеком…
Павел Петрович с влекущимся за ним шлейфом ироничного религиозного экзистенциализма заново возникнет в книге «Ожидание обезьян», но ей предшествует один из оригинальнейших, пусть и незавершенных, битовских замыслов – цикл «Преподаватель симметрии». Уже предваряющее публикацию «Предисловие переводчика» помещает повествование под знак вопиющей условности и проблематичности: реконструкция по памяти («перевод») нечитаной книги иностранного автора Тайрд-Боффина, фамилию которого, тут же объявляет «переводчик», он начисто забыл. Оглавление книги в виде таблицы, из ячеек которой заполнены (т. е. реализованы, написаны) только три. Однако и это немало – три текста, весьма незаурядных по своим художественным качествам и, именно в силу их фрагментарности, обрывистости, создающих особый эффект многозначности.
В «Преподавателе симметрии» господствует дух фантастического конструктивизма и сновидческой магии. Битов использует здесь, и очень искусно, «фундаментальный лексикон» постмодернистской эстетики и образности. Особенно это относится к первой и третьей из новелл триптиха. «Вид неба Трои» – сложносочиненная и сложно рассказанная история вымышленного писателя, гениального, но пребывающего в неизвестности Урбино Ваноски. Историю, собственно, рассказывает он сам – юному и амбициозному журналисту, который и доводит ее до читателя, обрамляя собственными впечатлениями и соображениями.
История эта о том, как современный дьявол, пухлый и деловитый, отравил сознание юного Урбино картинкой-фотографией из будущего и тем самым обрек беднягу на бесконечный поиск неуловимо-обольстительного женского образа – прекрасной Елены – и на горькую неспособность довольствоваться реальными, достижимыми жизнью и счастьем. Урбино встречает женщин, похожих на явленный ему дьяволом образец, но всякий раз это оказывается несовершенная копия. Между тем жизнь его разрушается: девушка, которую он любил во плоти, гибнет, наваливаются одиночество и тоска.
По ходу отчаянной погони за тенью Урбино претворяет свой опыт в творчество, он сочиняет роман – и литература становится метафорой его бесплодных усилий достичь недостижимое. Герой жаждет перестать писать и начать жить – и не может.
Впрочем, по ходу дела становится ясно, что и искомая возлюбленная, и та, которую Урбино в действительности оставил, обрек на смерть, в равной мере реальны и мифологичны: одна – Елена, другая – Эвридика. Да и в круговороте лихорадочных поисков героя различие между «жить» и «писать» постепенно стирается.
«Битва при Альфабате» развертывает сходную игру совсем в иной, усмешливо-оптимистической тональности. Варфоломей Смит, представленный в первых строках в качестве верховного и всемогущего владыки, оказывается на поверку редактором энциклопедии, и власть его распространяется лишь на слова, на порядок размещения и характер статей. Обрушивающиеся же на него житейские невзгоды, недоразумения и проблемы счастливо и чудесным образом разрешаются, поскольку действие происходит в Рождество.
Но – за этой благостной поверхностью просматриваются по-своему драматичные конфигурации. И здесь бушуют подспудные, кое-как сублимируемые страсти и амбиции – не только личностные. Сопоставление Варфоломея с Создателем, ассоциации с Наполеоном и Александром Македонским не случайны. Энциклопедия выступает аналогом универсума, вселенной (перекличка с Хорхе Борхесом), как и империя. Но универсум этот утрачивает субстанциональность, становится виртуальным и зыбким, точно так же, как выцветает в наше время боевая раскраска империи (британской? советской?) на географической карте. А несколько смутный сюжет о старшем брате Варфоломея, растворившемся в дебрях пространства-времени, да и весь карнавальный хоровод персонажей с двоящейся идентичностью создают ощущение ненадежности, развоплощения реальности, присутствия в ней дубликатов и вариантов (и снова – реминисценции Борхеса, «Тлен, Укбар, Орбис терциус»).
Срединный рассказ этого короткого цикла, «О – цифра или буква?», лежит как будто в другой смысловой плоскости. В центре повествования антагонистическая пара: молодой и прогрессивный ученый-психиатр Дайвин и местный чудак, блаженный по прозвищу Гумми, свалившийся, по его собственным словам, с Луны прямо в американскую глубинку. Битов тут соблазняет читательское воображение самыми изысканными гипотезами (анти)интеллектуалистского толка: множественность измерений и миров, иллюзорность времени и причинности, неразличимость идиотизма и святости.
Гумми, разговаривающий с дровами и умеющий летать, – конечно, существо иного плана бытия, «полевой Христос». Он не только кроток и незлобив, не только наглядно опровергает физические и прочие научные законы. Он – воплощенная любовь и живое свидетельство чуда. Ясно, что рационалист Дайвин хоть и ощущает его обаяние, хоть и обогащается в его присутствии особо тонкими ходами мысли, не может примириться с существованием Гумми – ведь тот отрицает самые основы его существования, да и основы всей человеческой цивилизации, материалистической и эгоцентричной. Отрицает тем, что выявляет их – Дайвина и цивилизации – главный порок: безлюбость.
Так Битов заостряет до предела свою полемику с самоуверенным рационализмом и гордыней разума, начатую в «Пушкинском доме» и продолженную в «Человеке в пейзаже». Знание, анализ, претензии на прогресс посрамляются верой и чудом. Тогда, наверное, и искусство с литературой, включая творчество самого автора, должны проникнуться религиозным духом, обрести этическую направленность?
Такой последовательности было бы жестоко требовать от художника. Битов к ней и не склонен. «Преподаватель симметрии» свидетельствует не столько о христианской умиротворенности, сколько о драматизме, противоречивости авторского мироощущения и художественной стратегии. Перед нами образцово постмодернистские вариации на темы расфокусировки, развоплощения реальности. Действительный мир здесь дискредитируется, то есть лишается доверия, надежности. Связи разрываются, архитектоника дробится на осколки, правда, самоценные и очень красивые (выплывает заманчиво-невнятное слово «фракталы»).
Значит ли это, что торжествуют воля и созидательная фантазия демиурга? На первый взгляд – да. Стиль в каждой из новелл выдержан очень последовательно, приемы работают как отшлифованные, пригнанные детали сложного механизма. Матрешечная конструкция вложенных друг в друга историй, обманчиво-вещие сны, бесконечные анфилады зеркальных отражений, обращение временных последовательностей… Именно с их помощью автор демонстрирует свое могущество и податливость реальности. Каков, однако, итог? В мире, созданном воображением художника, смыслы разбегаются, как галактики, неустойчивое равновесие поддерживают парадоксы. «Позитивистски» настроенный читатель повергается в состояние головокружения, дезориентации. А ведь именно в дезориентации видел когда-то Битов главный дефект Левы Одоевцева.
«Преподаватель симметрии» – последнее произведение Битова, написанное в советское время. Завершающий этап существования империи обернулся для него тяжелым испытанием – послеметропольская опала, мутная история с братом-невозвращенцем (вот где, может быть, истоки «братского» мотива в «Битве при Альфабете»). Потом грянула перестройка.
Мы в этом эссе стараемся не входить в биографические детали и факторы, влиявшие на творческую судьбу писателя. Только тексты и попытки их интерпретации. А текстов, художественных текстов у Битова после 1985 года появлялось совсем не много. Еще одна башенная пристройка к «Пушкинскому дому» – повесть «Фотография Пушкина», где снова фантазия и реальность, будущее и прошлое бесконечно преследуют и обрамляют друг друга. И, наконец, «Ожидание обезьян» – опус, бунтующий против всякого жанрового определения.
«Азиатское месиво, крошево» – кажется, что Мандельштам сказал это о композиции и сюжете «ОО». Рамкой – или стержнем – служит история написания произведения под названием «Ожидание обезьян», т. е., очевидно, текста, который находится перед глазами читателя. Этот прием, известный в литературе с давних времен и виртуозно разработанный Андре Жидом в «Фальшивомонетчиках», является для Битова не самоцелью, но средством – он подчеркивает амбивалентность мира, в котором обитает художник: где тут реально случившееся, где преображенное призмами памяти, где сочиненное во сне, где приснившееся наяву, где граница между успехом и поражением?
Писатель создает здесь запутаннейшую метатекстуальную конструкцию. Гротескно преображенные жизненные реалии времен опалы и непечатания; ироикомические эпизоды поездок в Абхазию и Азербайджан; памятный мятеж ГКЧП – все это прослаивается самоиронией, посыпается солью и перцем авторского недовольства собой… Битов населяет повествование персонажами прежних своих произведений (доктор Д. из «Птиц», Павел Петрович из «Человека в пейзаже», Зябликов из «Улетающего Монахова»), сочиняет новых, впускает сюда фигуры своего ближайшего житейского окружения. И все это многолюдье вовлечено в сложное взаимодействие, приводится в движение замысловатыми импульсами авторского воображения.
Автор объявляет себя предводителем отряда своих персонажей и отправляется во главе их, как Язон с аргонавтами, на добычу «жестяного руна» – улетучившегося единства, развоплотившейся действительности, утраченного времени… Повествование встает на дыбы, как норовистый конь, клубится, обретает все более причудливые формы и измерения. То, что поначалу представляется нормальным вымыслом, чуть позже оборачивается вымыслом более сложного порядка, n-й производной реальности, в которую сама исходная действительность входит фрагментами, чем обеспечивается уже полная взаимопроницаемость жизни и текста: «Я не ждал самих обезьян – я попал внутрь текста, описывающего ожидание их. Это – то самое, когда не ты, а с тобой что-то происходит. То, от чего вся литература. Это – состав. Литературу не пишут и не читают, когда становятся частью ее состава».
А расщепление «повествующей инстанции» на собственно «я» и «он», расщепление, обретающее по ходу дела то юмористические, то трагические обертоны! Битов делает все, чтобы оставить за собой окончательную разгадку этого двойничества. Лишь очень условно можно принять вариант интерпретации: «авторское начало – биографический субстрат», хотя остаются и другие возможности, включая оппозиции «тело – дух» и «дух – душа».
Игра? Но на этот раз не расчисленная и взвешенная, как в «Преподавателе симметрии». Здесь сквозь мелькание приемов, ракурсов, масок часто просвечивает непосредственное чувство – и это чувство горечи, разочарования. Жизнь обескураживающе дисгармонична, но главное – проза не дается, выходит из-под контроля. Именно в «Ожидании обезьян» встречается характерная проговорка, а может быть – декларация: «Власть! – вот что не рассматривается литературоведами в системе художественных средств. Вот что томило меня целый год как утраченное, вот что окрылило меня наконец как обретенное: это все – мое, мое! И это хотели у меня отнять? Дудки! Не отдам».
Характерное признание! Но власть-то, испытанная творческая сила, и подводит. В отличие от «Пушкинского дома» с его экспериментальностью, здесь сколь-нибудь внятный «порядок дискурса» не складывается. Все в этом тексте сорвано со своих осей и петель, все закручивается и несется в воронке карнавального торнадо.
Не удивительно, что ближе к финалу вырисовывается еще одно наклонение мысли Битова – эсхатологическое. Автор признает катастрофическое состояние мира – и внешнего, объективного, и собственного, художественного – как данность. Хронологически повествование завершается попыткой переворота ГКЧП, агонией империи. Конец эона – и в «структуре» этого момента совмещаются тоска, отчаяние и абсурдная надежда на спасение, преображение всего жизненного порядка. Завершающее текст видение ангелов с копьями и в ватниках, отдыхающих на облаках в преддверии последней битвы, удостоверяет собой некую форму авторского смирения, даже отречения. Прочь от экстравагантностей, эгоцентризма и демиургических амбиций – к простоте и искренности молитвы не за себя.
Не так уж важно, следуют из этой позиции выводы ортодоксально религиозные или этические. Поклонников таланта писателя должно бы больше волновать, что «Ожидание обезьян» оказалось по сути последним его художественным опусом. На самом деле и волнует, и огорчает. Но и здесь не все так драматично. Сам Битов сказал в 1996 году: «Ничего, кроме исписанности, от писателя не требуется. Им закончен дарованный ему текст». Сказал в некотором полемическом запале и не без гордости. Вполне, впрочем, оправданной. Текст, созданный им, при всей его фрагментарности и многоликости, не мог бы написать никто другой.
2012
Валерий Попов и «радиомузыка жизни»
Читающая публика (поскольку такой вид еще не окончательно вывелся на просторах России) как будто привыкла к тому, что Валерий Попов – величина постоянная или постоянно присутствующая. Он есть, он периодически радует – а кого и раздражает – новыми своими книгами: то своеобразными автобиографическими опытами, то сборниками переиздаваемых рассказов, то томиками в серии ЖЗЛ. При этом неизменен в своем стиле и чувстве жизни.
Между тем впечатление это обманчиво. Не будем прибегать к избитым клише – он, мол, писатель загадочный, мистический… Однако отметить и отрефлексировать следующий неочевидный факт надо: Валерий Попов – самый изменчивый из «постоянных» авторов, а проза его, и не только последнего времени, весьма, весьма разнородна – чтобы не сказать разноприродна.
Верно, на протяжении долгого времени, с 60-х и этак до середины 90-х, от рассказа к рассказу, от книги к книге (да не так много их и было в ту пору, книг) Попов оставался верен самому себе, чем и заслужил довольно рано упреки в повторяемости, в исчерпанности. Но как-то незаметно получилось, что Попов сегодняшний изрядно не похож не только на своего юного «однофамильца» 45-летней давности, но и на маститого автора постперестроечного десятилетия. Чтобы разобраться в этом, нужно ввести ретроспективу, меняющийся фон времени.
Попов родом из «ленинградской школы 60-х», из этого уникального питомника, в котором атмосфера оттепели соединилась с духовными эманациями девятнадцатого и «серебряного» веков. Немало молодых, наивных, нахальных и честолюбивых прозаиков устремилось тогда сквозь фильтры литобъединений на журнально-издательские просторы: Голявкин и Битов, Рид Грачев и Сергей Вольф, Генрих Шеф и Инга Петкевич, группа «Горожане»: Вахтин, Ефимов, Губин, Марамзин и «примкнувший к ним» Довлатов. Это было яркое, странное, в конечном итоге «потерянное» поколение, хотя от дельные его представители и прорвались к успеху, славе. В то достопамятное – или уже почти забытое? – десятилетие осуществлялись пробы голоса и поиски жанра, происходило типично ленинградское, застенчиво-горделивое самоутверждение школы.
Авторы эти были изрядно несхожи по своим творческим манерам, но звучали в их прозе отголоски старой, мощной традиции, связанной с Петербургским текстом. Самые общие ее черты – воля к выдержанному стилю, лаконизм, насыщенность культурными реминисценциями. И вместе с тем – склонность к гротеску, фантасмагории. Для петербургской и раннеленинградской литературы характерно было целенаправленное экспериментирование: со словом, смыслом, фабулой. И молодые ленинградские прозаики 60-х с готовностью продолжили эти алхимические опыты, порой приносившие крупицы золота высшей пробы.
А засим – каждый шел своим путем. Битов и Ефимов, к примеру, тяготели к психологическим проникновениям, к созданию обобщенно-индивидуальных портретов своих сверстников. Довлатов в духе «жестокого реализма» живописал будни послесталинских лагерей, где судьбы охранников и зэков переплетались до неразличимости. Борис Вахтин, следуя за Платоновым, стремился в образах своих странных героев воплотить знаки и поветрия меняющегося времени, через гротеск внешних жизненных форм передать статику и динамику послевоенного советского бытия, культурную преемственность – и разрывы, поруху. Марамзин и Голявкин окунались в живительные воды новооткрытого абсурдизма, потешаясь над предписанным сверху образом мыслей и способами выражения этих мыслей…
Попов в этой изощренной компании смотрелся несколько запоздавшим и не слишком претенциозным персонажем. Он в меньшей степени, чем многие его товарищи по поколению, был склонен к анализу психологических типов или социальных закономерностей, к скрытой критике или осмеянию «советской действительности». Зато его с самого начала отличало пристрастие к красному словцу, к щегольскому сравнению и броской метафоре, любовь к Юрию Олеше и неприязнь (словно унаследованная от Набокова, которого он тогда, полагаю, не читал) к Литературе Больших Идей.
Лирический герой молодого Попова настроен на волну вечного праздника, карнавала. Он – заинтересованный, даже «очарованный» странник по просторам жизни, как бы праздный, но чрезвычайно внимательный «вуайер», фиксирующий кадры и ракурсы, никем другим не замеченные, не использованные. Таким, например, образом: «Два поезда – наш и встречный – стояли рядом. В пространстве между ними бродили пассажиры, и сразу же образовался пыльный коридор, освещенный оранжевым вечерним светом из-под колес… Среди пассажиров шныряли старухи с ведрами мелких абрикосов… Один абрикос, падая из ведра в кошелку, выпрыгнул наружу, бочок его лопнул, он покатился в теплой пыли, и струйка сока, тянущаяся за ним, покрывалась пылью, становилась мохнатой, как нитка пушистой, теплой, колючей шерсти». А вот – преображенный образ самого обыкновенного овощного магазина: «Картошки, кувыркаясь, едут по конвейеру, потом, гулко грохоча, скатываются по жестяному желобу вниз… Желтые, морщинистые тела огурцов в мутном рассоле, стволы петрушки – поваленные хвощи… мокрый, пахучий лес мезозойской эры. Внизу, в коробе из зеленых реек, – тугие, скрипучие кочаны капусты, похожие на крепкие голые черепа со вздувшимися от напряжения, разветвленными венами».
Попов ищет, пристально разглядывает, пестует «особое жизни», в чем бы оно ни проявлялось: в разрыве житейской непрерывности, в нечаянном сходстве «далековатых» вещей, в эксцентричном человеческом поступке, в интенсивности эмоционального переживания. Конечно, в его прозе присутствуют все атрибуты повседневной жизни – школа, работа, переполненные автобусы, столовые, парикмахерские, отделение милиции… Но этот «фламандской школы пестрый сор» предстает в рассказах и повестях Попова превращенным, просвеченным лучами авторского удивления и фантазии.
Жизненное кредо (чтобы не сказать философия) Попова явлено особенно наглядно в таких его ранних рассказах, как «Ошибка, которая нас погубит» и «Южнее, чем прежде». В первом звучит гедонистический призыв: ловить минуты блаженства, отдаваться им без оговорок и опасений, преодолевая внутреннюю скованность, отбрасывая условности и резоны «общественно приемлемого». В рассказе «Южнее, чем прежде» тот же мотив форсируется введением в описание простой гигиенической процедуры эротических коннотаций: «…по мне потекла горячая вода. Я двигал головой, подставлял под струи лицо с закрытыми глазами, изгибался и двигал кожей, направляя ручейки удовольствия в еще не охваченные места. Я распарился, разомлел и просто уже валялся, а горячая вода все текла по мне, находя во мне все новые места желания и все новые очаги наслаждения.
И вдруг я встал, закрыл кран, протер запотевшее зеркало и стал торопливо вытираться. Я не знал почему – ведь спешить мне было некуда. Кто его знает – почему мы всегда прерываем наслаждение, не доводим его до конца? Что мы боимся зачать в своей душе?»
Любовь, конечно, – главная ценность и роскошь жизни. Любви посвящены многие тексты Попова того времени, звучащие в разных регистрах. В «Наконец-то!» – Он и Она задорно стебаются в монологах-миниатюрах, рассказывая о своем причудливом любовном опыте. Они блуждают по тропинкам житейского абсурдизма, перед тем как выйти на счастливое рандеву, познать друг друга, слиться…
«Две поездки в Москву» – здесь любовная исповедь звучит проникновенно. С впечатляющей экспрессией изображаются все фазы «жизненного цикла» чувства: его зарождение, нарастание, сметающее условности и препятствия, кульминация, спад, повторный всплеск – расставание. Влечение, восторг, боль, тоска! И замечательно точный финальный штрих: запах горчицы в столовой вдруг приводит героя в «непонятное волнение». И он вспоминает: когда-то, сразу после болезни любимой, он целовал ее плечи, недавно освободившиеся от горчичников.
Рассказ «Ювобль» выдержан в манере более условной, символической. Алогизм отдельных эпизодов, сновидческая призрачность, размытость образов и ситуаций словно сигнализируют: любовь – состояние «неестественное», экстатическое и обреченное, выводящее любящих за границу нормы и здравого смысла.
Это был такой пикник на обочине советской действительности, пикник, растянувшийся на годы. Не то чтобы автор не участвовал в «общей жизни». Но он ухитрялся как-то обходить ее дюжинные проявления, ее рутинные, «напрягающие» моменты. И вызревало в нем убеждение, что именно литература – слово, образ, выхваченный из реальности или выдуманный сюжет – суть защита от тягот бытия, броня, оберег. Литература как талисман – запомним это.
Однако – не все же пировать и плясать (хотя взрослеть Попову категорически не хотелось). Возраст, семейное положение… О проблемах, которые в связи с этим, хочешь не хочешь, ложатся на твои плечи, писатель рассказал в главе «Муки не святого Валентина» повести «Жизнь удалась» (opus magnum его раннего периода). Безмятежную поверхность жизни тут начинает морщить житейский бриз. Как много усилий, оказывается, надо приложить для того, чтобы дочкины каникулы прошли интересно, в компании сверстников, сколько тут надо проявить изобретательности, дипломатичности, психологической тонкости! Но, в конечном итоге, все как-то устраивается (кто бы мог тогда подумать, что в этом оптимистическом по сути сюжете таятся семена, которые дадут трагические всходы в горестном повествовании «Плясать до смерти»).
Детали, аксессуары, нюансы меняются, но в целом Попов и сорокалетним продолжает стойко держать ту же магистральную интонацию: жизнь удалась, главное – верить в это, фокусировать взор на веселом и прекрасном, не поддаваться «духу тяжести» (воплощенному в герое одноименного рассказа, полумифическом Фаныче). И еще: беречь, пестовать свою индивидуальность, интимную связь с жизнью, свое неповторимое мироощущение!
Ну а как же великая русская литературная традиция? Что же, она Попова вовсе не обязывала? Не совсем так. В конце 70-х – начале 80-х годов появляются у него такие рассказы, как «Транзитник», «Соседи», «Первая хирургия». В них пробиваются новые нотки, в них фокус психологической заинтересованности перемещается с самого героя-рассказчика, его чувства жизни на окружающих его людей. Раньше-то эти «окружающие», с их особыми повадками и чудаковатостью, служили преимущественно антуражем – или объектами заинтересованного, но внешнего наблюдения, как некие экзотические артефакты.
(Правда, уже в ранней короткой повести «Поиски корня» писатель сумел пристально взглянуть на обычную, нестоличную жизнь и признать, что он, продвинутый городской интеллигент, «супермен» и человек творческий, ничем не лучше – не интереснее, не сложнее – дядьки Ивана, живущего в деревне и погруженного в собственные заботы, психологические проблемы и даже комплексы.)
В «Транзитнике» Попов изящным росчерком пера набрасывает симпатичный и убедительный силуэт «простого хорошего человека», провинциала Степы, рядом с которым герой-рассказчик чувствует себя не то чтобы испорченным, а все ж слишком искушенным, скептичным – ненатуральным. «Первая хирургия» – написанная со сдержанным драматизмом картина жизни (всюду жизнь!) хирургического отделения. Узкая палата на шесть коек, пациенты, завернутые в одеяла или бродящие по коридору в мятых пижамах, вид из окна во двор, по которому нет-нет да и проносят гробы… Колоритные типажи, житейские байки, микроконфликты, эскизы судеб. И уравнивающие всех – боль, ожидание операции, страх смерти.
В этих текстах обнаруживаются несколько необычные для Попова свойства: внимание к «другому», психологическая чуткость, сочувствие и солидарность. А главное – понимание того, что ты не пуп мироздания, что в жизни существуют коллизии, которые не разрешишь оптимистическим настроем и словесной виртуозностью.
Между тем годы и десятилетия все больше клонили к «суровой прозе». Возраст примешивал ложки житейского дегтя к праздничному мироощущению. Лирический герой Попова начинает признаваться себе, что счастливая безответственность оборачивается некими изъянами, недочетами, легкость – статусной легковесностью, неамбициозность – топтанием на месте. Этим настроением пронизаны многие рассказы, вошедшие в сборник 1988 года «Новая Шехерезада». Показательнейший образец – «И вырвал грешный мой язык». Этот текст весь состоит из почти мазохистского самобичевания: ничего-то ты в жизни не добился, никто-то тебя не принимает всерьез, не считается с тобой, удача проходит мимо, словесный дар разменивается на мелочи, бодряческие хохмы, болтовню: «Какой удачей я считал свой легкий характер раньше – и как я ненавижу его теперь, когда четко и безжалостно оказываюсь вытесненным на периферию людьми мрачными и тяжелыми. Но уже нет сил не улыбаться, когда отталкивают тебя, – маска легкости уже приросла!..
…Это человек легкий, с ним можно не церемониться – он зайдет и тридцать девятого, ну и что из того, что такого числа нет, – он человек легкий…». Заканчивается рассказ многозначительным призывом к самому себе: «Хватит трепаться по пустякам – пора хотя бы помолчать!» Молчание как эквивалент значительности!
Лирический герой Попова все чаще рефлексирует – о собственном месте в жизни, о самореализации, о том, как понимать жизненный успех. В этом отношении характерно противопоставление в рассказе «Кровь и бензин» москвичей и ленинградцев: первые активно утверждают себя в самых разных жизненных сферах, вторые – традиционно жмутся по углам, по кафе и курилкам библиотек, в поисках культурных ниш, душевного комфорта и личностной автономии…
И вот в конце 80-х накатывает короткая и горячая перестроечная пора: интенсификация, ускорение, гласность. Казалось бы, что Валерию Попову эта социальная Гекуба? Однако его взгляд натренирован на поиск всякой «свежатины», нового и нестандартного в поле зрения. Раньше интересное обнаруживалось только в частной жизни. Теперь и в сфере общественного возникают колоритные, порой ошеломляющие явления и фигуры. И писатель, разгребая мусор обыденности, шелуху лозунгов и директив, извлекает эти «алмазные зерна» на свет божий.
В рассказе «Любовь тигра» он находит лаконичный и броский образ для запечатления «демона разрухи», сопровождающего переход страны на новые экономические рельсы. Некий бизнесмен-японец заинтересован в вывозе из России фаянсового лома. И вот силач-молотобоец по приказу начальника стройтреста крушит кувалдой новенькие раковины, предназначенные для квартир и детских садиков, – японцу потребно этого лома аж восемьдесят тонн. Сочный образчик актуального гротеска!
В другом рассказе перестроечных времен, «Боря-боец», Попов пристально и не без опаски вглядывается в черты «нового российского демоса», пробужденного к общественной активности, проницательно угадывая в нем потенциал люмпенизации, антиинтеллигентской демагогии.
А потом – писатель вместе со страной оказался катапультирован в совершенно новую, постсоветскую реальность, в другую эпоху. Не все выдержали жесткое приземление и шок. Писателям, привыкшим к скромно-комфортабельному советскому существованию, пришлось хуже многих. Некоторые стали переквалифицироваться: в публицисты, «челноки», рестораторы, эмигранты.
Попов и не подумал о смене профессии. Среди прочего и потому, что писательство давно уже стало для него не родом занятий, а образом жизни. Нужно было, однако, на эту самую жизнь зарабатывать. А ситуация на литературном рынке, с обвалом тиражей, с обесцениванием гонораров, напоминала положение Алисы в Зазеркалье: для того, чтобы оставаться на месте, нужно было бежать что есть мочи и еще быстрее.
В 90-е годы Попов пишет и публикуется в лихорадочном темпе, словно из пулемета строчит. «Ванька-встанька», «Будни Гарема», «Разбойница», «Лучший из худших», «Грибники ходят с ножами», «Чернильный ангел», «Ужас победы», «Евангелие от Магдалины»… Качество текстов разнится, но сохраняются стержневые сюжетные ходы, архетипические ситуации, общая атмосфера авантюрности, невзаправдашности изображаемого. Автор показывает постсоветскую действительность в ее сумбурности, нелепости, в шокирующих метаморфозах: все перевернулось и никак не может устояться, вместо тверди – трясина, вместо порядка – хаос, вместо культуры – рынок. Хозяевами жизни становятся нувориши: иногда оборотливые бизнесмены/спекулянты, иногда комсомольские работники – оборотни, но чаще – бандиты, «братки».
Под стать жизненному материалу и стилевая палитра. В текстах этой поры преобладает стихия ирреального, с осциллированием между явью и грезой (кошмаром?), со скачками в пространстве и времени, с локальными чудесами, миражами, перевоплощениями. Сюжетные сочленения между фрагментами ослаблены, нет и ясных границ между разными состояниями реальности и сознания. Этакая онтологическая ноншалантность вполне постмодернистского свойства.
Из этого довольно однородного ряда выпадают два опуса: «Разбойница» (в худшую сторону) и «Грибники ходят с ножами» (в лучшую).
«Разбойница» по замыслу – порнопикареска, история похождений обольстительной путаны, Дон-Жуана в мини-юбке (точнее, без), дающей налево и направо не одной лишь презренной пользы ради, а из принципа максимизации наслаждений. Автор здесь, как новый Растиньяк, отправился завоевывать свой Париж, то бишь свою долю читательского спроса-пирога. Он, видимо, надеялся освежить устойчивые и беспроигрышные шаблоны «сексуального чтива» своими фирменными языковыми кунштюками, каламбурами и метафорами. Но, как выяснилось, словесные блестки не держатся на глянце коммерческой синтетики, осыпаются. Манера, выработанная под характер и умонастроение лирического героя Попова, натуры творческой, оказывается совершенно неорганичной в исповеди рублево-долларовой куртизанки.
А вот повесть «Грибники ходят с ножами» стала творческой удачей. Герой-рассказчик здесь – в очередной раз alter ego Попова, мастер артистичной, «на ценителя», прозы, когда-то маргинальный, а нынче, в 90-е, и вовсе невостребованный. Название первой главы повести – «Пули в пыли». Герой стоит под окнами тюрьмы и ловит летящие оттуда «пули» – бумажные шарики. Это «рецензии», которые шлет ему сидящий в темнице «новый русский» Паша, купивший по странной прихоти издательство и теперь распоряжающийся рукописями героя.
Здесь характерная для этого периода череда нежестко связанных эпизодов, точных и одновременно гротесковых зарисовок – грибной шашлык? – складывается в емкий, горько-ироничный образ времени/безвременья.
А кроме того, «Грибники» – своеобразная метапроза, текст о том, как рождается текст. Как все – подлинные жизненные факты и впечатления, воспоминания и выдумка, смешное и печальное – идет в «дело», в художественную переработку. Как, например, события и переживания, связанные с гибелью любимого пса, превращаются в новеллу «Собачья смерть», которую ждет своя нелегкая редакционно-издательская судьба…
В «Грибниках» можно ретроспективно узреть предвестия прозы Попова следующего века. В одном из эпизодов повести трагическое начало жизни решительно теснит и привычную интонацию стоической бодрости, и прилипчивую суету повседневности. Это сцена отправки в психиатрическую лечебницу «любимой тещи». Тупиковость, безвариантность житейской ситуации – ее уже не переиграешь, не заговоришь – сочетается здесь с острым ощущением стыда: «Мы смотрели в окно – как ее, статную, красивую, ведут к пикапу. Единственное спасение в такой жизни – вставить в глаз уменьшительное стекло… А об увеличительном пусть говорит тот, кто горя не видал!»
…А теперь – о Попове актуальном, XXI века, о его прозе, обретшей новое качество, художественное и, я бы сказал, человеческое. Объем написанного в последние десять с лишним лет несколько уменьшился, но подходить к этим текстам можно и нужно с другой меркой. Центральное место тут занимают четыре книги, материалом которых служит собственная – и ближайших родных – жизнь: «Третье дыхание», «Комар живет, пока поет», «Горящий рукав» и «Плясать до смерти». («Горящий рукав», правда, имеет смешанные черты мемуаров и автобиографии.)
Самым значительным и неожиданным из этих произведений мне представляется «Третье дыхание». Вдруг в книге признанного фантазера, остроумца, мага – кондовая, тягостнейшая правда-матка, да еще того сор та, какую обнажать перед посторонними как-то не было принято. Это горестный рассказ о невзгодах и бедах, обрушившихся на семью, о борьбе с алкоголическим синдромом жены, о «жизни втроем» в одной квартире с дряхлеющим, девяностолетним отцом.
В прежних вещах, если речь и заходила о разрухе, разладе и в большом, и в малом мире, автор всегда оберегал, как главное личное достояние и художественный прием, иронико-эстетическую дистанцию по отношению к изображаемому. Стилевой блеск, игра, фантазия не только скрашивали тяготы существования, но и оспаривали их сплошной, безусловный характер. Все, мол, обратимо – как у Цветаевой: «Нынче горько, завтра сладко, // Нынче умер, завтра жив». В «Третьем дыхании» дистанция исчезает. Действительность навязывает ближний бой, точнее, клинч. Жена, переживающая острую стадию алкогольного психоза, впадающая в сомнамбулизм… Шкалики, запрятанные по укромным местам… Отцовская ночная ваза-банка… Дочь, издерганная родительскими и собственными проблемами… Нехватка денег, угасание вдохновения и либидо, наезжающий со всех сторон дикий рынок… Все это образует густой, беспросветный фон сюжета.
Меняется и интонация героя-рассказчика. В повести, точнее, в ее первой части, господствует тональность сокрушения, покаяния. Наплывает тяжелый вопрос: нынешняя беда – не расплата ли за «грехи молодости», за легкость и ликование, за упоение свободой и безответственностью? Теперь приходит пора в порядке компенсации заглянуть в бездны бытия и быта, в неуютные недра человеческой природы.
Герой укоризненно и назидательно внушает себе: привыкай, терпи, другой жизни не будет! Вдыхай ароматы нынешнего жизненного этапа: женин перегар, запах «гниений» из холодильника, креозот из отцовской банки, миазмы больничного убожества! «Ни как не врубишься ты, что совсем новая жизнь у тебя. И прежний облик – приятного человека, соблюдающего приятности, – забудь. Выть будешь по телефону по ночам, и все за это ненавидеть тебя будут! Прежнего симпатягу – забудь. Неприятная пошла жизнь, с неприятными отношениями».
Интересно, что в этом произведении Попов выходит на новый, ранее ему не свойственный уровень психологизма. Упоение предметно-чувственной стороной жизни отходит в сторонку, чтобы дать место анализу мыслей, чувств, внутренних состояний, подвижной ткани межличностных отношений. Жизненные эпизоды, описания и диалоги сопровождаются сквозным авторским комментарием, открывающим за поступками и словами – помыслы, мотивы, подноготную.
Для себя же герой-рассказчик открывает новую форму отношения к жизни – ответственность за близких. Она заставляет преодолевать приступы раздражения и антипатии, соблазны побега, самоустранения.
И все же перед нами не психологическо-бытовая проза. Ни-ни. Здесь все жизнь и все – прием. Впечатляюще-мрачные житейские обстоятельства, усталость, сокрушенность, отчаяние подлинны и достоверны, но они включены в рамки неизменной утопии Попова: преображения действительности словом. Главные характеристики жизненного материала здесь – аморфность и недоброкачественность, неслучайно мотив фекалий прошивает всю повесть. При этом автор почти в буквальном смысле отливает «из говна пули», из бытового отстоя – точеные эпизоды и ситуации, «стреляющие» то запредельным драматизмом, то гротескно-черным юмором.
Две другие повести, образующие эту своеобразную трилогию, пожалуй, не столь художественно «обработаны», они больше развернуты в сторону вовсе уж не приукрашенной, горестной реальности. «Комар живет, пока поет» – хроника последнего лета с отцом на даче в Комарово, кошмаров и просветов этого терминального периода, завершающегося смертью. Здесь господствует выматывающая душу точность деталей, наглядно представляющая, например, чего стоят старому человеку простейшие физические процессы и отправления. При этом автор с не сентиментальным изумлением вглядывается в строптивый норов отца, в его крутые чудачества напоследок. В почве жизни остается рельефный отпечаток этой незаурядной, мощной личности.
Повесть «Плясать до смерти» по-человечески читать трудно. Это конспективная «история болезни» дочери, прожившей несчастливую, взбалмошную, «поперечную» жизнь и умершей молодой. Здесь впечатляет – и озадачивает – какая-то безыскусность, порой переходящая в намеренную «неумелость», повествования. Неизменные у Попова юмористические эпизоды, хохмы, «примочки» сопровождают, конечно, рассказ о детстве Насти, но звучат они несколько натужно, словно автор «отбывает номер». А дальше, когда речь заходит о Насте-юнице, о ее психологических комплексах и штопорах, об одиночестве, упрямстве, привычке во всем идти наперекор – тут голос автора временами срывается, как будто у него перехватывает горло, да и читателю становится как-то не до стиля.
Уклончивая, сбивчивая исповедальность этой горестной хроники создает при чтении ощущение неловкости. Что и говорить, с моральной точки зрения (даже не с точки зрения моралиста) такое повествование проблематично, и в большей степени, чем «Третье дыхание». Автор, по ходу рассказа, не может не задаваться вопросами о степени своей вины в случившемся. Конечно, когда он описывает свои бесконечные попытки что-то поправить в жизни дочери, повернуть ее в более позитивное русло, уберечь от непоправимых шагов – ему сочувствуешь. Но рядом с этим возникают несколько путаные объяснения, почему они с женой на несколько детских лет сдали дочь на руки «бабке с дедкой», – и объяснения эти звучат не очень убедительно, что мешает полностью отдаться сочувствию.
А потом, ближе к концу, в рассказе возникают все более душераздирающие подробности, детали, заставляющие вовсе забыть о морали и просто переживать вместе с автором и его женой непереносимое: истекание жизни дочери, прогрессирующий паралич, предсмертную ее тоску…
Среди читателей «трилогии» были такие, кто упрекал автора в вопиющем бесстыдстве, презрительно кривились: ничего, мол, святого и сокровенного, все на продажу, включая грязное белье, собственное и близких людей, спекуляция на боли и беде… Они не правы. В этой прозе наглядно реализуется принцип, который Попов исповедует с давних пор: нет границы между существованием и литературой, одно перетекает в другое и влияет на другое, возникает неразъемный сплав пережитого, воображенного, преображенного… Тем самым творчество Попова этого последнего периода парадоксально сближается с концептами «актуального искусства»: реальная жизнь автора все непосредственнее перемещается на страницы его книг, а сам акт писания становится все более необходимым фактором существования…
Отдельная тема – книги, написанные в последние годы Поповым для серии «ЖЗЛ». Это жизнеописания Довлатова и Лихачева. Обращение писателя к биографическому жанру снова многих раздражило – да что же он такой неуемный, лезет постоянно на чужую территорию, все ему чего-то не хватает: денег? славы? Пора бы уже и угомониться. Но Валерий Попов не намерен признавать над собой власть возраста или чьего-либо недоброжелательного мнения. Он прекрасно знает: комар живет, пока поет.
Из двух этих книг более интересной и значительной мне кажется биография Довлатова. Рассказ о жизни Дмитрия Лихачева, одной из «икон» поздне– и постсоветской интеллигенции, ультимативного воплощения российской духовности, получился несколько отстраненным, «регулярным». Ну, добросовестно излагаются вехи жизни, добросовестно прорисовывается исторический и семейный фон. Ну, перечисляются немереные заслуги академика в изучении и сохранении российской культурной традиции. Воздается должное нравственной стойкости Лихачева в противостоянии советскому истеблишменту, с приличествующими случаю восклицательными знаками. Приводятся интересные детали новейшей истории российской культуры. Но авторского душевного жара или почти равнозначного ему плодотворного раздражения в этом не ощущается.
В книге о Довлатове Попов пишет о близком, родственном (и в человеческом, и в литературном плане) и потому лично его задевающем. А в этом – залог удачи повествования. Книга эта возбудила особенно много споров и пересудов. Автора упрекали за то, что в ней слишком много Попова, а Довлатов представлен в не слишком презентабельном виде. Мне с этим трудно согласиться. Вот небрежность, поспешность издания действительно бросается в глаза: в книге много повторяющихся абзацев, чуть ли не страниц. Но винить в этом, как мне кажется, нужно прежде всего издательство: или институт редактуры вообще перестал существовать?
Если же говорить по существу, то стержень книги – мысль об активном выстраивании Довлатовым своей творческой биографии, и прижизненной, и посмертной. Тему эту Попов развивает последовательно, но вполне деликатно, включая Довлатова в весьма почтенный литературный ряд: Байрон и Пушкин, Уайльд и Рембо, Есенин и Маяковский, Бродский и Высоцкий. Ничего шокирующего в этом нет. Публика уже давно перестала взирать на своих любимцев, «культурных героев», как на средоточие всех возможных добродетелей. Совсем не обязательно видеть сплетни и злопыхательство в пристальном интересе к жизненной стратегии писателя, которого далеко заводят и речь, и темперамент, и творимый по ходу жизни «образ себя».
Попов, по некоему избирательному сродству дарования, лаконично и точно обозначает особенности творческой манеры Довлатова: неповторимую интонацию, сюжетные ходы и приемы, ее, казалось бы, нехитрые, но покоряющие эффекты. Он убедительно показывает, как сырой жизненный материал преображается под пером Довлатова в вымысел самого высокого ранга, а вопросы о соответствии прототипам теряют смысл…
При этом немало места уделяется здесь сопоставлению собственных и довлатовских жизненно-творческих установок: в чем сходство, в чем различия, кто, в конечном итоге, больше преуспел. Такое неизбежно, когда пишешь биографию современника, приятеля, в чем-то соперника. Но разве этот личный, ревниво-напряженный взгляд не придает жизнеописанию проницательности, остроты, драматизма?
Анализируя сплетения личностных и литературных моментов в судьбе Довлатова, Попов всегда выдерживает хороший тон «сочувственного понимания», который вовсе не равнозначен дежурному пиетету и безоговорочной комплиментарности. Да, говорит он, я вижу и показываю те хитрости и авантюры, на которые пускался писатель, чтобы «обогатить» жизненный материал своих повестей и рассказов и одновременно выстроить свою «легенду», собственную версию событий и отношений. Но без этого не бывает – все мы, отмеченные благословением и проклятием творчества, таковы! Главное – художественный результат, а его Попов оценивает очень высоко.
А теперь, после рассуждений о серьезном и даже мрачном колорите поздней прозы Попова, о повороте в ней к драме и трагедии – нужно сказать, что последняя опубликованная им повесть, «Ты забыла свое крыло», снова возвращает писателя (и нас вместе с ним) к упоению жизнью – с ее непредсказуемостью, с нескончаемой каруселью горя и радости. Поначалу кажется, что перед нами повтор матрицы 90-х: конспективная пробежка вдоль вех той немыслимой эпохи: среднеазиатская пустыня, где питерские интеллигенты закупают партию дубленок для реализации, рудники Дальнего Севера, кочегарка дома отдыха в Елово (читай Комарово), хождение интеллигентов во власть рука об руку с барыгами и бандитами. Череда причудливых, на живую нитку сметанных эпизодов, с головокружительными перемещениями во времени, пространстве, между социальными стратами.
Возникают знакомые силуэты и ситуации: балансирующий на грани маразма отец, жена Нонна в перманентном ступоре; мелькает и тень ушедшей в иной мир дочери. Но постепенно, с середины повествования, становится ясно: Попов пишет этот текст изнутри другого эмоционального состояния. Рядом с напастями и покаяниями, перекрывая их, возникает ликование – от встречи с «новой музой». «Она появлялась у озера на велосипеде – и солнце летело за ней, как шарик на веревочке!» Правда, ликование чуть боязливое, подернутое печалью – «О, как на склоне наших лет // Нежней мы любим и суеверней…».
Рассказ о случившейся с героем/автором предзакатной любви снова может в моральном плане смутить читателя. При живой, больной жене – крутить роман? Да, отвечает герой, этот крест всегда при нем, да и не хочет он расстаться с любимым некогда человеком, единственным, кто разделяет с ним память о Насте, дочери. Но превращать свою жизнь в подвиг самоотвержения он не намерен – поэтому вправе совершать «побеги в счастье», в объятья прекрасной молодой женщины, длинноногой и рыжей.
Пунктир встреч и расставаний, размолвок и примирений, совместных путешествий: Италия, Австрия, Амстердам, Париж. Это фон, на котором развертывается феерия последней любви. А с ней, парадоксальным, но и естественным образом, соединяются мысли о близком финале. Но что характерно: коктейль Эроса и Танатоса возвращает герою способность особенно остро, свежо воспринимать краски и запахи жизни. Смерть предстает здесь под знаком вечного круговорота природных форм: «Улитки сожрали листья, продырявили их. Организмы расплодились, и дохлая кошка за оградой превратилась в мошек и в таком виде навещает нас».
Возрасту приличествует смирение, покаяние? Здравствуй, грусть? Нет, здравствуй, груздь! Огромный, выросший на берегу озера, пахнущий сыростью и прелью, влекущий. Конец, говорите, неизбежен? Ну, так упредим, сочиним его! Очередная метаморфоза – и тело (душа?) героя возносится над больничной койкой на радужных стрекозиных крыльях!
Итак, необходимо констатировать – и я де лаю это с удовольствием, – что Валерий Попов остается действующей и значимой литературной фигурой. Он, пожалуй, единственный из сверстников и членов «одной компании» (той самой, ленинградской), кто продолжает и в новом тысячелетии работать продуктивно, не теряя контакта со временем и публикой, во всяком случае, с определенным и не худшим ее сектором.
Что помогает ему держаться, продолжаться? Не побоюсь сравнить Попова с Антеем (если помнят еще, кто это был такой). Сила его – в верности земле. Наш герой никогда не был мастером обобщений и отвлеченностей, гроссмейстерской игры в бисер. Его не привлекает ни шлифовка матриц и архетипов бытия (к чему склонны Битов и Маканин, Шишкин и Мелихов), ни усмешливые буддистские медитации, рисующие на бытии изящный иероглиф «ничто».
Стихия и животворная среда Попова – действительность, явленная воочию, данная в ощущениях, в переживаниях и событиях, в динамичной, искрящей субстанции межчеловеческого общения. Верно, он легко и охотно отрывается от плоскости обыденного существования, взмывает вверх траекториями эйфории, гротеска, грустно-веселого стеба. И там, на высоте, он парит, но не самозабвенно и праздно, а пристально обозревая рельеф реальности, отыскивая новые казусы и артефакты, достойные запечатления. А потом – обратно, на благодатную почву жизни.
Кто-то, может быть, скажет, что копаться в земном прахе недостойно и несовременно, что это говорит о недостатке интеллектуализма, о простоватости, о неактуальности данного автора. Что ж, самого писателя и его неубывающую «группу поддержки» такое мнение не поколеблет.
Проза Валерия Попова сегодня важна, существенна для многих как художественное свидетельство того, что реальность – реальна. Ведь мы, признаться, зачастую живем, словно в коконах из информационной паутины, в искусственной среде «социальных сетей», питаемся плодами парниковой культуры, и литературы в частности. А Попов, хрониками своих болей и бед, падений и подъемов, заблуждений и озарений, доказывает: не все – синтетика, ярко раскрашенная или абсолютно черная, не все – виртуальность и текстовые миражи. Если нас уколоть – пойдет кровь, красная и настоящая; в иных же случаях появится сперма. Проза эта служит дополнительным «чувствилищем» для многих его читателей.
Герман Гессе когда-то писал о «проклятой радиомузыке жизни», имея в виду дефектный, халтурный характер повседневной реальности. Да, эта самая музыка, звучащая со страниц книг Попова, неидеальна, в ней есть искажения, посторонние шумы. Вина писателя? Скорее – жизни, которую он озвучивает. А ноты и аккорды, которые автор привносит в эту оркестровку от себя, полны смысла и надежды. Будем благодарны ему за это.
2014
Сергей Носов: закулисье и захолустье
Статус писателя Сергея Носова – не совсем определенный. Он уже не юноша, опубликовал немало книг, зафиксирован в шорт-листах нескольких премий, но известен широко в довольно узком петербургском литературно-читательском кругу. При этом имя и книги его упоминаются в диссертациях и исследованиях, посвященных плодоношению постмодернизма на российской почве или современному изводу Петербургского текста.
Если бегло пробежаться по содержанию книг писателя и задаться вопросом, чем занят в своей прозе Сергей Носов, то напрашивающимся ответом будет: дуракавалянием. И в самом деле – уж больно несерьезными, ни в какие ворота не лезущими выглядят сюжетные перипетии его романов, обстоятельства, в которых действуют персонажи. Порношпионские приключения, сервированные в хроникальной манере Юлиана Семенова… Какое-то тайное общество, оплетающее своими щупальцами невинного героя… Чудак, персонализирующий свою болезнь, вступающий с ней в личностные, психологические отношения…
Ну, чистый абсурд и глумление над читателем. И какая от таких повествований польза отечеству? Никакой, хоть на первый, хоть на пятый взгляд. Но вот говорят: дурацкое дело нехитрое. Опыт Носова эту максиму не подтверждает. За бесхитростно-дурашливой поверхностью его произведений при внимательном рассмотрении обнаруживаются и метод, с его условностями и превратностями, и вполне артикулированное мироощущение, чтобы не сказать – философия жизни. Разбираться в том и другом – задача довольно увлекательная.
В 90-е годы Носов активно сочинял пьесы, рассказы, эссе. В большой форме он дебютировал романом «Хозяйка истории», по общему мнению, скандальным. Это была весьма экстравагантная, затейливо сочиненная и выстроенная история о женщине, способной пророчествовать (на заданные политические темы) в моменты оргазма, о том, как использовался ее уникальный дар советским партаппаратом и спецслужбами и как это подспудно влияло на ход событий. Выдумка тут действительно была совершенно стебовой, «улетной», хотя и тщательно стилизованной под документ, к тому же с выдержанной рамочной структурой, с игрой в ложное авторство и прочими модными фишками. Текстом этим писатель явно метил на премиальный успех, и почти угадал – «Хозяйка истории» попала в шорт-лист «Русского Букера» в 2000 году. Может быть, именно поэтому анализировать подробно эту расчисленную фантасмагорию – не хочется.
Намного более – нет, не серьезным, но характерным и «органичным» оказался роман «Член общества, или Голодное время», писавшийся параллельно с «Хозяйкой истории». Повествуется же в нем, почти в точности по Пелевину, о «диалектике переходного периода (из ниоткуда в никуда)», т. е. из перестройки в «постперестройку».
Здесь ситуация времени дана словно в восприятии маленького человека русской классической литературы. Приметы российской действительности «переходного периода» представлены как бы реалистически, в их самоочевидной выразительности, заостренной, однако, до символики. Дефицит всего, в первую очередь денег. Распродажа книг и всякого домашнего скарба в целях пропитания. Практика выселения ослабевших от перемен людей из собственных квартир с последующим захватом последних. Всеобщее помрачение умов в силу расстройства коллективного «вестибулярного аппарата». Это и впрямь было время чудес, жестоких, но более абсурдных, и герой романа посреди этой реальности постоянно озадачивается, фигурально говоря, чешет в затылке и разевает рот.
Позвольте, но кто же, согласно традиции, реагирует на происходящее подобным образом? Правильно, Иванушка-дурачок. Олег Жильцов, герой романа, и есть такой Иванушка – растяпа, увалень, неспособный ориентироваться в потоке событий. Все, что ему остается, – это задавать нелепые (на самом деле здравомысленные) вопросы слетевшей с катушек действительности. (При желании можно назвать его Кандидом-простодушным.)
Но действительность, вместо ответов, подбрасывает герою все более каверзные загадки. Тут надо сказать, что автор от своих щедрот добавляет абсурда, непонятности в исходный жизненный материал. При этом в романе очень достоверно переданы ощущения человека, живущего словно в забытьи, с легкостью, махнув на все рукой, переходящего от одного уровня сна к другому, еще более фантастическому.
Немало здесь и зарисовок жизни города – гротескно-экспрессивных, отражающих тяготы и парадоксы «текущего момента». Вот автор иронически противопоставляет Сенную площадь – место, где торгуют все и всем, – Невскому. Вот набережная реки Фонтанки, вся заваленная собачьими экскрементами. Вот троллейбус, полный городскими сумасшедшими и движущийся по безумному маршруту…
Атмосфера фантасмагории сгущается при описании праздника города, совмещенного, согласно декрету Собчака, с 7 ноября. Череда «моментальных снимков» этого фестиваля: «Изрядных размеров шары, что называется, воздушные, повисли над зданием Главного штаба. Под ними болтались полотнища с изображением буквы “Ъ”. Буква “Ъ” была несомненно символом. Или знаком. Или просто незаконно репрессированной буквой, а следовательно, напоминанием… По Конюшенной площади шли демонстранты – колонна с красными флагами и портретами Ильича <…>. Повернув на бывшую Желябова, или на бывшую бывшую (а теперь настоящую) Большую Конюшенную, демонстранты стали скандировать: “Ленин-град!..” Из “Ремонта часов” торчали над тротуаром уличные часы. Они многозначительно стояли (не шли): минутная стрелка приглашала повернуть в Волынский, так никем и не переименованный переулок… Из булочной на Садовой высовывалась огромная хлебная очередь. Прыгал, крича, сумасшедший карлик напротив Гостиного и бил по струнам гитары ладонью. К нему привыкли. Собирали подписи».
Над бытовым гротеском надстраивается история странного общества, в которое вовлекают выбитого из седла Олега. Общество это чудесным образом процветает посреди всеобщей разрухи, а вместе с ним начинает процветать и герой. Здесь же, в рядах «посвященных», встречает он свою великую любовь – прекрасную и похожую на сон Юлию…
Герой безуспешно пытается постичь суть загадочной организации, постоянно меняющей контуры и окраску: изначально как бы библиофилы, члены общества оборачиваются гурманами, позже – вегетарианцами, чтобы ближе к концу оказаться подозрительно похожими на антропофагов. Атмосфера таинственности и невнятной угрозы сгущается. Возникает подозрение, что Олег избран в качестве жертвы гастрономического заклания… На такой исход упреждающе указывают многочисленные намеки, разбросанные по тексту. «Заживо съедят. Будет съеден», – предрекают герою недоброжелатели, вытеснившие его из собственной квартиры. «Чтоб тебя живьем съели, гадину», – кричат ему в троллейбусе.
Герой, однако, остается жив. В заключительной сцене романа он участвует вместе с другими «членами общества» в непонятном ритуале: созерцании сталактита в подземной пещере. Последние слова Олега – «Я понял все» – звучат насмешкой над читательскими ожиданиями. Читатели-то ничего понять не могут, более того, автор, похоже, посылает им знак: и не пытайтесь проникнуть в смысл рассказанной истории. Месту этому быть пусту. Зияние.
И вместе с тем в этом жесте нет издевки – над героем, над читателем. Носов словно приглашает грустно усмехнуться – непостижимости хода вещей, нашей неспособности справиться с хаосом. А кроме того, сквозь зловеще-гротескную какофонию событий романа скромным гуманистическим рефреном пробиваются слова Жильцова: «Я никого не ем».
Следующим хронологически после «Члена общества» был роман «Дайте мне обезьяну» – сатирическая хроника выборной («элекционной») кампании в провинциальном Т-ске. Главная тема повествования – политтехнология в действии. Сюжет образуют забавно-печальные приключения по ходу кампании литератора Тетюрина, подключившегося к этому предприятию почти случайно, «по пьянке». Впрочем, ремесло «креативщика» постепенно его увлекает. Книга написана легко, почти залихватски, в меру язвительно, в меру смешно. Это, разумеется, не история конкретных выборов с намеками на прототипы, а, скорее, наглядное и остроумное пособие по политическому пиару, с преувеличениями, вольными скачками воображения и сюжета, с остроумным стебом по поводу «правил игры».
При всем при этом она не выделялась бы на фоне других литературных разоблачений элекционной изнанки (например, страницы «Generation П», посвященные этой же материи, написаны несравнимо ядовитее и «круче»), если бы не сосредоточенность автора на некоторых тонких материях и мотивах. Я имею в виду сугубо постмодернистский акцент на манипулировании реальностью, что и является подлинной, подспудной темой романа. Один из его персонажей – политтехнолог Косолапов, не лишенный артистических наклонностей и амбиций демиурга: «Себя сегодняшнего и себе подобных Косолапов причислял к настоящим художникам. Истинное искусство – то самое – создается сегодня если не в подполье, так в закулисье. Слоновья какашка, клонированный дюшановский писсуар или говорящая кукла в лице очередного народного избранника – суть внешняя сторона представления. Настоящее творение невидимо для большинства».
Косолапов пишет книгу «Разноцветный пиар», в которой подводит под это понятие самые различные политические и культурные явления – от публицистических статей Ленина до собственной концепции «театра-паразита» или выставки «23 черных квадрата». Главная его идея – о необходимости волевого воздействия творца (в самом широком, разумеется, смысле слова) на жизнь, о проникновении «пиар-искусства» во все поры реальности.
И верно, по ходу избирательной кампании в Т-ске «художественные» акции команды политтехнологов бесцеремонно воздействуют на действительность, мнут и формуют ее, направляют в нужное русло. Тетюрин, занимающийся «вербальным измерением» процесса, сам оказывается объектом хитрых манипуляций демиурга Косолапова.
Другое дело, что реальность, пусть пассивная, податливая, обладает неким пределом упругости, и попытки ее деформировать приводят порой к противодействию. Жертвой его становится, например, главный герой романа. Его собственные тексты, равно как и творческие экзерсисы Косолапова, оказываются весьма эффективны политтехнологически, но имеют и побочные эффекты, больно бьющие самого Тетюрина по морде лица – вплоть до гибели в финале, впрочем, вполне условной, выдающей его бумажную природу литературного персонажа («легкий, как пушинка» – сказано о нем), придуманного писателем С. Носовым.
В этих двух романах, в каждом на свой лад, колорит абсурда намеренно и умело сгущается. Но чаще, надо признать, Носов предпочитает «не умножать сущности» и довольствуется той печально-забавной нелепицей, которая разлита в повседневной жизни, сгущаясь в отдельных ее углах и тупиках. В романе «Грачи улетели» перед нами настоящие будни – не «будни предвыборной кампании». Здесь не происходит как будто ничего из ряда вон выходящего, все связно, логично, обыденно. Ну, конечно, если не считать того, что в концовке главный герой, «человек без свойств», почти положительный, оказывается жестоким убийцей…
Действие романа происходит в уже успокоившиеся и относительно сытые 2000-е. В центре – троица друзей, если не простаков, вроде Олега Жильцова, то, скорее, чудаков, не обладающих ни особыми талантами, ни даром приспособляемости и преуспеяния в обстоятельствах новой послесоветской жизни. Щукин сторожит заброшенное кладбище, а на досуге занимается ремонтом пишущих машинок. Чибирев волею судеб оказался на посту директора школы. Третий, Тепин, и вовсе в постперестроечное время заделался «азюлянтом», то бишь беженцем в Германии.
Все они, даром что в возрасте, существуют в режиме «перекати-поле». Они как-то неприкаянны, не «принадлежат» своему времени и месту. Жизнь их бедна – не только деньгами и потребительскими товарами, но событиями, переживаниями.
Сумерки повседневности вдруг прорезает молния «иных возможностей». Вместе с Тепиным в Россию из Германии является молодая и амбициозная Катрин, специалистка по современному искусству. Она горит желанием внести имена трех друзей в писаную историю акционизма – ведь они, с четверть века назад, совершили никем не замеченный художественный жест: дружно помочились в Неву с Дворцового моста, чем и предвосхитили практику акционистов позднейших времен.
Теория и практика концептуализма представлены в романе не без иронии. Слово одному из его адептов: «…я вот сейчас объявлю свое выступление художественным актом, то есть не слова, которые произношу, они могут и ничего не значить, но само действие, сам процесс говорения здесь и сейчас. А для выразительности… беру правой рукой себя за левое ухо. Вот. На ваших глазах происходит концептуальная акция. Чем отличается произведение искусства от непроизведения искусства? Волевым [в книжном тексте стоит «Болевым», но думаю, это опечатка. – М. А.] жестом художника… Я говорю: то, что я делаю, – это искусство».
(Монолог этот, кстати, произносит уже знакомый нам Косолапов, перекочевавший сюда из «Дайте мне обезьяну». Носов специально подчеркивает это обстоятельство, лишний раз указывая на фикциональное единство сочиненного им «книжного мира».)
Опыты и приключения героев в пространствах современного (актуального, нонспектакулярного etc.) искусства и становятся пружиной, раскручивающей не слишком-то активную фабулу романа. Друзья, вместе или порознь, участвуют в соответствующих перформансах или наблюдают за ними, слушают, спорят, вносят посильный вклад… Автор с их помощью набрасывает эскизы нескольких оригинальных (или не очень) проектов: концептуальная переписка с прошлым (мейл-арт: «молчит Шекспир – отвечает Министерство связи»); отрубание головы деревенскому петуху с перенесением этого акта из утилитарной плоскости (сварить суп) в контекст вечных вопросов и коллизий российской литературы, и т. д.
По ходу чтения становится ясно, что тема «акционизма» не просто оживляет фон повествования, наполняет его забавными эпизодами и глубокомысленно-стебовыми рассуждениями. Автор развивает здесь заявленную в «Обезьяне» тему: проблематичный статус творчества в постмодернистскую эпоху, когда все уже сотворено, сказано, прокомментировано, всему назначена твердая цена. Может быть, и впрямь единственное, что осталось непосредственного и живого в искусстве, – это жест «актанта», горделивый, ернический или шокирующий, полностью бессмысленный или привносящий в устоявшиеся восприятия «паразитные смыслы»? Или и того меньше: все творчество нынче сводится к отысканию новой точки зрения на уже созданное и на себя – воспринимающего субъекта?
В романе присутствует и другой сюжетный план («флешбэк») – короткая, но на редкость смешная история путешествия Чибирева и Щукина к Тепину, обосновавшемуся в Германии в самом начале 90-х. Гротескна сама практическая цель поездки: сбыть в Германии по бешеной цене товарную партию стандартных российских мухобоек. Впрочем, это и повод ввести сакраментальную тему «Востока и Запада». Детали рафинированного немецкого быта (майонез в пакетике, тонкая нарезка колбасы, дружелюбный контролер в электричке) даются здесь через свежий и остраняющий взгляд русско-советских интеллигентов, вечно заряженных на спор о ценностях, о сравнительных достоинствах России и заграницы, культуры и цивилизации.
Но и в этой части романа добросовестно выписанные приключения, переживания и диалоги друзей завершаются экзистенциально-абсурдистским испытанием: невинная прогулка в невысокие окрестные горы оборачивается блужданием в пространственном лабиринте, бездорожьем, ощущением потерянности и недостижимости цели.
Финал выдержан в тональности трагифарса. Чибирев, вырвавшийся из пут обыденности – на волю, в Крым, с молодой любовницей, – возвращается в Питер, чтобы узнать: накануне умер, сгорев от рака, Тепин. Пройдя ирреальную церемонию похорон и помянув друга вместе с Катрин и Щукиным, герой вдруг оказывается в руках (буквально) милиционеров, которым тут же и признается: да, я действительно убил свою спутницу, Викторию Викторовну Бланк, «расчленил ее и закопал на горе к западу от Феодосии». Ясно, что, как и в случае со смертью Тетюрина, финал этот призван лишний раз подчеркнуть «сочиненный» характер текстовой реальности, да и действительности, за ней стоящей.
Все это хорошо, скажут мне, но мы уже знаем множество авторов, провозглашающих иллюзорность бытия, смеющихся над предрассудками консистентности мира, автономии личности, здравого смысла и моральных ценностей. Имя этим авторам – Пелевин, Павич и легион. Что ж тратить время еще на одного постмодерниста, будь он хоть трижды петербуржец?
Вот тут пришло время сосредоточиться на особенностях манеры и мировидения Сергея Носова, придающих ему необщее и располагающее к себе выражение лица. Прежде всего – подкупает, насколько последовательно и изобретательно формирует писатель свою картину мира языковыми, стилевыми средствами.
Носов – пуантилист. Он не слишком-то живописен и пластичен, скорее скуп при изображении жизненных интерьеров своих повествований, но всегда готов предъявить вполне рельефные образы и детали в подтверждение художественной состоятельности. Например, в «Члене общества»: «Октябрь в Петербурге – скверное время. Листья гниют под ногами. Сыро, дождливо, собачье дерьмо… Не листопад. Листопад листолежем сменился. Листогнилом. Где уж тут золотая осень. Еще, может, в Пушкине – золотая, или в Павловске, может, она золотая, там ведь так посадили деревья, что листья цвет не сразу меняют… а радуя глаз: желтые пятна, багровые пятна, зеленые пятна еще».
Или – начало «Грачей»: «Прежде чем отойти от окна, он решил высморкаться. Дождь был грибным. Крыша автобуса, испещряемая дождевыми тычками, на солнце поблескивала, как чешуя… Грибной дождь не мешал совокупляться двум одинаково рыжим дворнягам – делали любовь посреди улицы, игнорируя вялые увещевания школьного охранника…»
Язык у Носова очень послушно служит концептуальным авторским целям, а они разные в разных произведениях. В «Члене общества» автор постоянно побуждает читателя оглядываться через плечо на русскую классику, прежде всего на Достоевского. Тень Федора Михайловича возникает на первой же странице – герой сдает в «Букинист» 33-томное его собрание сочинений, с чего и начинаются приключения. Но и дальше характерные обороты Достоевского, явные и скрытые аллюзии пронизывают текст. То цитируется Мармеладов («знаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда некуда больше пойти»), то его вдова, то герою снится сон об убийстве топором – не старушки, но собачки, с человеческим, однако, именем Эльвира, то возникает мотив сожжения денег…
Но – не Достоевским единым… Слышатся в «Члене общества» интонации Некрасова и Гоголя, речь рассказчика полнится инверсиями и пунктирной ритмизацией, напоминающими об Андрее Белом. Тут – интертекстуальная игра, призванная пробудить культурную память читателя (а для чего – об этом мы поговорим позже).
А в «Дайте мне обезьяну» и особенно в «Грачи улетели» установка другая: передать как можно убедительнее элементарность, незначительность каждодневного существования персонажей. Этому служит подробное, предельно конкретное описание пейзажей и интерьеров, а также действий, состояний, мыслей персонажей. С какой убедительной достоверностью переданы ощущения героев «Грачей», когда они безбилетниками перемещаются по германской железной дороге и прячутся от контролера втроем в теснейшем туалете!
Здесь преобладают простые, короткие, рубленые фразы, часто с тавтологическими повторами, означивающими собой хождение (смысловое) по кругу или топтание на месте. «Некоторое время сидели молча. Тетюрин ел антрекот. Филимонов больше, чем ел, смотрел на Тетюрина: Тетюрин ел антрекот». «Не зная, что еще подумать о “Черном квадрате”, Борис Петрович несмело констатировал два очевидных свойства изображения – квадратность и черноту». Порой автор даже слишком навязчиво демонстрирует стереотипные или каламбурные фигуры речи, подчеркивая инерцию словоупотребления: «Шел, куда глядели глаза (никуда не глядели)». «Он пил растворимый кофе (стало быть, уже растворенный)». «Простор – простирался».
Присутствует и тихая, под сурдинку, игра с семантической активацией, с выявлением неочевидных перекличек, «отношений» между словами, их корнями и кронами. Вот автор позиционирует, в тех же «Грачах», своих героев по отношению к объемлющей их постсоветской реальности: «Шутка ли сказать, начало девяносто третьего, а им до сих пор не доводилось объегоривать ближних (или даже не ближних, далеких) физических лиц; юридических тоже. Они не удосужились (или постеснялись) не свое сделать своим, подобрать по обломку-другому рухнувшего государства (это ли не обломовщина?)…»
От стиля – к «плану содержания». Каков же он, мир по Носову? Каковы его главные характеристики? Прежде всего, заметим, что речь идет о двуедином, реально-сочиненном мире, и разделить эти две его ипостаси в книгах писателя невозможно. Мир этот алогичен, изрядно анемичен, обделен энергией, смыслом, благом. В жизни, изображаемой Носовым, случается много разного: бурлят общественные движения, совершаются политические перевороты, проходят демонстрации и выборы, организуются выставки и хеппенинги. Все это не имеет существенного человеческого значения, не меняет убогого, халтурного статуса реальности. Действительность инерционна, ей не хватает определенности, отваги: кристаллизоваться в решительной форме событий, поступков, четких образов и перспектив – или погрузиться окончательно в трясину и хаос.
Но в этом мире присутствует автор, художник, он бдит, он на страже. Он постоянно, то шутливо, то серьезно, заявляет о себе, о своем всезнании. Правда, «демиург» из Носова странный. Он не любит демонстрировать свою абсолютную, подавляющую власть над творимой реальностью (не Косолапов!). Он зачастую ограничивает свою роль тем, что деликатно, действуя из-за кулис, проявляет, даже кристаллизует – средствами литературной техники/магии – странную взвесь банального и удивительного, которая рассеяна в жизненном пространстве.
Последовательная демонстрация убогости существования, непостижимости сути вещей, несовпадения усилий с результатами не ведет в случае Носова к тотальному нигилизму, к язвительной насмешке над жизнью. Авторский взгляд, авторская интонация создают в этих романах некий противовес мраку и безнадежности, сообщают текстам «ауру человечности». Герои Носова – литературные персонажи, и нам не дают ни на минуту об этом забыть. И в то же время они достаточно живы, чтобы заслуживать наш интерес и сочувствие. У писателя есть свойство, сближающее его с Довлатовым: он никогда не смотрит на своих персонажей свысока, его точка зрения, точка изображения, располагается на высоте их роста. Он отнюдь не издевается над ними, над их аутсайдерством, неуклюжестью, чудаковатостью, инфантилизмом. Грустная усмешка, жест окрашенного иронией сострадания: жаль людей! Дарит Носов своим героям, пусть скупо, и минуты счастья: любовного упоения, свободы, самореализации…
В свете вышесказанного взглянем на последний по времени роман Носова «Франсуаза, или Путь к леднику» – он являет собой квинтэссенцию мировоззрения и метода. Повествование здесь выдержано в манере еще более бытописательской, чем в предыдущих книгах. Точнее, та его часть, которая развертывается в питерских интерьерах и рассказывает о трудах и днях Адмиралова, человека, впрочем, не вовсе обычного. Во-первых, он оставил свою нормальную профессию и стал писать стихи для детей. А во-вторых, есть у него и другая странность: свою весьма болезненную межпозвоночную грыжу Адмиралов ассоциирует с женщиной по имени Франсуаза, с которой и ведет постоянно беседы. Безобидное, в сущности, чудачество, идущее, очевидно, от практики заговаривания боли, и даже жена не слишком этому удивляется и Адмиралова к Франсуазе не ревнует. А для профессионалов-психотерапевтов – это просто подарок, объект сладостно-утонченных интерпретаций. Легкая сумасшедшинка, возникнув в повествовании, окрашивает собой все изображение, но не слишком ярко, почти сливаясь с фоном – кто не без странностей.
Только прочтя роман до конца, можно оценить непростую, многозначительную его архитектонику. Эпизоды городской жизни Адмиралова и его жены перемежаются главами, описывающими путешествие героя и еще нескольких персонажей в Северную Индию. Адмиралов надеется встретить здесь знаменитого целителя, который сможет избавить его от недуга. Формально жанр этой части романа – травелог, рассказ о путевых впечатлениях. Носов, сам, очевидно, совершивший подобную экскурсию, устами своего героя выразительно описывает совершенно особые атмосферу, статус этой территории (или экстерриториального пространства) – между Индией и Непалом, цивилизацией и нагим бытием, небом и землей.
Жизнь здесь резко не похожа на повседневное петербургское прозябание. Она неуютна, исполнена опасностей (того и гляди разболтанный автобус сверзится в пропасть на горной дороге), одновременно прозрачна и миражна. Этот эффект создается разреженностью воздуха, «горняшкой», постоянным доминированием вертикали. Но главное различие – существование людей, местных жителей и туристов, в этих краях целенаправленно.
Кстати, о цели. Почти во всех произведениях, о которых здесь шла речь, по ходу повествования возникает некий нематериальный, не локализованный четко в пространстве образ/символ, который влечет к себе героев. К нему можно приближаться, как к Альмутасиму (см. Хорхе Борхеса), достичь его невозможно. В «Члене общества» это разгадка сути «общества библиофилов», или, если угодно, постижение смысла пещерного сталактита. В «Грачах» концепт этот более размыт, двоится: не то та самая гора в Германии, спуск с которой фатально не дается друзьям, не то возвращение к блаженной юношеской удали и беззаботности, когда спонтанная хулиганская выходка не была отягощена заботой о славе и приоритете.
Во «Франсуазе» представлена самая изощренная «диалектика цели». Объект вожделения и движения – ледник у истоков Ганга. Здесь герои, и прежде всего Адмиралов, чают реализовать свои мечты. Не тут-то было. В стандартной смысловой перспективе нам вроде бы дают понять, что духовное возвышение и просветление несовместимо с банальным «исполнением желаний». Но у Носова эта идея получает еще одно измерение. В финале выясняется, что Адмиралов, накануне предполагаемой поездки в Индию, стал жертвой столкновения (случайно-закономерного) с брутальным гаишником Артемом и «на самом деле» лежит на больничной койке в коме. Стало быть, весь путь к леднику – плод его замкнутого на себя воображения или, если угодно, сюжетно-стилистический трюк автора.
Что это? Насмешка неба над землей (писателя над читателями)? Мистификация? Или – указание на иллюзорность всего сущего? Последний вариант подтверждается характером той реальности, среди которой Адмиралов, его родственники и знакомые проводят свои дни. Доподлинный и тягучий натурализм петербургских глав романа фальсифицируется набором подчеркнутых натяжек, нелепых случайностей, совпадений/несовпадений. Умирает собака – проблемы с ее захоронением. Теряются фотографии из семейного альбома. Роза, купленная жене к 8 Марта, чуть не оборачивается гибелью для героя.
Самые близкие люди не понимают, не слышат друг друга, что-то путают, забывают. Да и вспоминать-то в их жизни почти нечего. Все нехитрые фабульные события и «ускорения» в романе замешаны на недоразумениях, ошибках, фантазиях – на том, чего, в сущности, нет. На мнимостях.
С другой стороны, графичность, скупая точность и напряженность индийских эпизодов повествования на поверку оборачивается чистой виртуальностью. Общий итог получается невеселый, чтобы не сказать депрессивный.
Носов, однако, тормозит на краю – безнадеги, чернухи. Пусть «индийская сказка» и ложь, мираж, но в ней есть все же намек: на альтернативную картину бытия, на мудрость и бескорыстие «просветленных», восточных гуру. Да и в российской плоскости повествования есть моменты, пусть и немногочисленные, когда героям удается прорвать паутину рутины, сломать инерцию бесчувственности и некоммуникабельности. Адмиралов и его жена Дина, после одного из показательных эпизодов нелепого «непопадания», находят силы выразить свои истинные чувства друг к другу: «Обняла Адмиралова. Он обнял ее – тоже крепко». В итоге блеклая, припыленная, со швами и прорехами ткань повествования обретает странную притягательность, чтобы не сказать – очарование.
Осталось еще поговорить о городской теме в произведениях Носова, точнее, конечно, о теме Ленинграда/Петербурга. Вполне оригинальный вариант градоведения явлен в книге «Тайная жизнь петербургских памятников». Писатель собрал там множество курьезных сведений о перипетиях возникновения и бытования всяческих скульптурных сооружений, возводившихся по самым разным поводам и служивших целям искусства или монументальной пропаганды. В этих забавных, печальных, часто абсурдных анекдотах ценитель найдет немало пищи для размышлений о превратностях истории и причудливых взаимоотношениях между людьми и (якобы) неодушевленными объектами. Есть в книге и еще одно достоинство: автор дает нам образец «пристального чтения» этих текстов из бронзы, мрамора и других материалов, обращая внимание читателя на малозаметные мелочи, нюансы, открывая новые смысловые ракурсы.
Но тема эта – вообще очень важная, можно сказать, магистральная в творчестве Носова, потому что связана с принципиальным для всякого современного художника вопросом: как взаимодействовать с литературной традицией, с «наследием», соотносясь с ним и одновременно преодолевая его. О густом колорите Петербургского текста в «Члене общества» уже было сказано. Автор там постоянно отсылает читателей к корпусу «петербургской прозы», при этом с целью парадоксальной: подчеркивается контраст между вопрошаниями, пророчествами той литературы, ее избыточной суггестивностью – и абсурдностью сегодняшней жизни, находящей воплощение в сугубо игровой условности постмодернистского текста. Горечи или негодования по этому поводу нет: писатель спокойно констатирует глубину и ширину культурной пропасти, разверзшейся между эпохами. Может быть, он и не солидарен с лозунгом, вырывающимся из пьяных уст эпизодического персонажа: «Ничего у нас не получится, пока мы по капле не выдавим из себя Достоевского». Но никакой содержательной переклички с мотивами и коллизиями, которые образ Петербурга порождал в классической литературе, в его романе не просматривается.
Зато и в «Грачи улетели», и в «Франсуазе» Носов изобретательно разрабатывает тему «эстетики захолустья», привязывая ее топографически к угрюмым промышленным кварталам южнее Обводного канала или к широко раскинувшимся спальным районам советской застройки: Купчино, Дачному. Обширные пассажи, посвященные в романах этим невзрачным, непримечательным территориям, мало что скажут людям, не знакомым с ленинградско-петербургской топографией и топонимикой. Зато они демонстрируют незаурядную эрудицию автора, его цепкость и чуткость к деталям урбанистического пейзажа и, надо думать, находят отклик в сердцах патриотов и почитателей города, любящих его и «черненьким».
Где еще найдешь в художественной литературе столько сведений о том, как менялись / не менялись во времени улицы и кладбища в глухой зоне к западу от Московского проспекта: Ташкентская (в прошлом Старообрядческая), Малая Митрофаньевская, Громовский погост, Митрофаньевское кладбище? Чибирев из «Грачей» влечется сердцем к этим скудным, серым пространствам, примыкающим к промзоне: «Борису Петровичу жалко колдобины, которой, возможно, скоро не будет… Промзона встречает его как родного, облаком пара из открытого люка, запахом свежеструганых досок, вкрадчивой тишиной. Город привычный отступил и присел – за кусты, за кромку забора».
А как проникновенно анализирует автор семантику бульвара Новаторов и Счастливой улицы, этимологию улицы Заозерной! А как ярко высвечивает абсурд, связанный с употреблением героических топонимов, преобладающих в Дачном: «Отделившись от конкретных, живых людей, вернее, как раз не живых, а смертью, сказано, храбрых погибших, их обобществленные имена претерпевают причудливое публичное существование, им уготовано соотноситься черт знает с чем и быть маркерами суеты… И вот уже Подводник Кузьмин почти Почтальон Печкин… На Подводника Кузьмина носят воду – ведрами – на четвертый этаж, потому что прорвало трубу. А на Танкиста Хрустицкого накрыли притон наркоторговцев. В квартире пенсионерки на Лени Голикова сгорела мебель. Закрыт проезд по Зине Портновой…»
Этот перенос акцента с центра на окраины, с «дворцов» на «хижины» выявляет продуманную авторскую стратегию. Знаменитые, растасканные на цитаты, окутанные густой символической облачностью объекты классического Петербурга – площади и прошпекты, стройные громады зданий и монументов – сегодня должны молчать. Им нечего больше сказать. Взамен Носов артикулирует белый шум и шепот окраин, призывает вслушаться в смутное бормотание безъязыких, безобразных тамошних улиц и пустырей, найти в них тоскливую, щемящую прелесть…
В аннотациях Сергея Носова часто называют главным постмодернистом сегодняшней петербургской литературы. Поймал себя на желании добавить к этому: постмодернист с человеческим лицом. Но воздержусь. Разве постмодернисты – по определению демоны, вурдалаки, нелюди? Они одной с нами крови, плоти, исторического опыта. Не они создали тот бесконечный социокультурный тупик, в котором мы (читатели, человечество) нынче обретаемся.
Философия жизни Носова, помянутая в начале статьи… Что ж, она проста, минималистична. Даже проще пелевинской, буддистской, толкующей об иллюзорной, обманчивой природе вещей. Да, по Носову, никакой природы вещей вообще не существует. А есть умная игра рассудка, есть естественно-искусственные скрещения и сплетения слов, к которым автор относится с любовью. От чего и рождаются в его книгах вполне внятные человеческие образы, существующие в странных, умышленных сюжетных обстоятельствах.
Носов, при всех «смягчающих» особенностях его дарования и мировидения – действительно пересмешник, мало что принимающий всерьез, отринувший заботы и заветы Литературы Больших Идей. Относиться к нему, в свою очередь, всерьез, любить пересмешника – не так легко. Но, по-моему, попробовать стоит.
2014
Раздел III. В скрещении лучей
Русская страда Джозефа Конрада
Джозеф Конрад, родившийся в 1857 году, то есть 150 лет назад, знаменитый английский писатель польского происхождения, имеет литературную репутацию почти такого же сложного профиля, как и его судьба. Признанный классик, один из основоположников английского модернизма, тонкий психолог и исследователь «удела человеческого», предтеча литературного экзистенциализма – он порой воспринимался широкой публикой как маринист, живописатель путешествий и приключений в экзотических краях, чуть ли не как писатель для подростков. Ничего унизительного в принадлежности к детской литературе, конечно, нет, но слишком уж не совпадает в данном случае ярлык с истинным положением дел.
Популярность Конрада знала приливы и отливы, хотя нынче она застыла на отметке стабильного признания. Однако наследие его не покрылось хрестоматийным запыленным глянцем: к нему периодически обращаются вполне современные кинорежиссеры, например, Фрэнсис Коппола, поставивший свой знаменитый «Апокалипсис сегодня» по мотивам (изрядно, впрочем, переработанным) повести Конрада «Сердце тьмы».
Но говорить о Конраде сегодня стоит не просто по случаю юбилея и не только в честь его обобщенных заслуг, а потому, что он был действительно замечательным прозаиком: мастером слова, повелителем интонации, искусным изобразителем меняющихся ликов природы, проницательным знатоком и судьей человеческих поступков и побуждений, умелым рассказчиком, обогатившим литературу новыми способами ускорения и торможения сюжета, постепенного накаливания читательского интереса. Есть и еще один актуальный мотив для сегодняшнего разговора о писателе: это тема «Конрад и Россия», которой, разумеется, касались все, писавшие о Конраде, но до дна ее так и не исчерпали.
Стоит напомнить читателю основные вехи его судьбы, ставшей модельно-знаменитой, образцово-парадоксальной. Юзеф Конрад Коженевский, которому предстояло превратиться в английского писателя Джозефа Конрада, родился на Украине, в Бердичеве. Он был сыном польского дворянина, литератора и общественного деятеля Аполло Коженевского. Аполло, горячий патриот, активно участвовал в движении, готовившем освобождение Польши от российской власти. За эту свою деятельность он незадолго до восстания 1863 года был сослан вместе с женой Эвой и сыном в глухую провинцию. Эва умерла в ссылке. Аполло пережил ее всего на несколько лет. Юзефа взял на свое попечение его дядя по материнской линии, помещик Тадеуш Бобровский. В его семье, под его формирующим влиянием мальчик провел свое отрочество.
Будущий писатель покинул родину в 1874 году, в возрасте семнадцати лет. Одной из причин этого шага послужила перспектива скорой мобилизации на русскую военную службу, что никак не отвечало настроениям и намерениям юноши. Он отправился в Европу, чтобы начать – в Марселе – жизнь моряка. Решение покинуть родину оставило глубокий след, чтобы не сказать шрам, в его сознании.
Его карьера моряка складывалась непросто: ни по психологическому складу, ни по физическим данным (в детстве он страдал болезнью, симптомы которой очень напоминали эпилепсию) юноша не был приспособлен к тяжелому и опасному труду на борту корабля. А кораблей этих он поменял немало, прежде чем в середине 80-х ему удалось сдать экзамен и получить лицензию капитана Британского торгового флота. Но и после этого трудности сопровождали Конрада, который, в сущности, тяготился избранной профессией. К тому же уже в довольно юном возрасте его стала притягивать к себе литература.
Писать Конрад решил по-английски, хотя французский язык выучил намного раньше, да и основательнее. Однако именно опыт, полученный за годы существования в системе английского судна, этого островка британского общества среди бурь и рутины морской жизни, стал стимулом для его литературных занятий – и снабдил его запасом бесценных жизненных впечатлений. Первый роман Конрада «Каприз Олмейера» был опубликован в 1895 году. За ним последовали два десятка романов и повестей, рассказы, эссе, политическая публицистика…
Конрад живописал океанские просторы, экзотические острова Южных морей, саванну и джунгли; каждодневный труд матросов и офицеров – и приключения, погони, схватки; примеры мужества и предательства, самопожертвования и каннибализма. Он изображал профессиональных моряков, нераздельно слившихся со своим долгом, – и беспринципных авантюристов; развращенных чиновников колониальной администрации – и исполненных достоинства туземных вождей; прожженных коммерсантов – и юных романтиков, снедаемых тоской по неведомому и жаждой познать пределы своих возможностей. Действие многих его произведений развертывалось и во вполне сухопутных интерьерах современного европейского города.
И при этом Конрад всегда говорил об уделе человеческом, о самых глубинных определениях человеческого бытия, о том, что отличает человека от зверя, а общество – от стада или примитивной орды. Мироощущение писателя окрашено в трагистоические тона. Жизнь он рассматривал под знаком непрестанной борьбы, которую человеку приходится вести с враждебными ему силами и началами, коренящимися в глубинах бытия. Конрад со знанием дела и весьма экспрессивно изображал бешенство стихии, словно стремящейся физически сокрушить, уничтожить человека. Но угрозу таит в себе и обыденная действительность, поднимающая со дна души мутные волны алчности, властолюбия, цинизма, склоняющая к равнодушию и безответственности.
Бытийному хаосу, в представлении Конрада, может противостоять выстроенная – и выстраданная – позиция человека, основанная на этических и культурных ценностях цивилизации и включающая в себя чувство долга, верность принятым в обществе моральным нормам и правилам поведения, ответственность за свое дело и за тех, с кем ты связан. Конрад не верил ни в Бога, ни в дьявола, он считал, что религии дают слишком расплывчатые, иллюзорные и дешевые ответы на трагические коллизии бытия. А верил он в редкое чудо человеческой солидарности, в чувство локтя и плеча, в незримые узы, связывающие между собой людей доброй воли, в проявления неведомого инстинкта, побуждающего человека в некоторые минуты возвышаться над самим собою – обычным и ограниченным.
И тут мы подходим к пониманию той истинной роли, которую играло в творчестве Конрада море. Океанский простор и палуба судна были для Конрада не просто местом действия его историй. Корабль в плавании, поведение находящихся на борту людей, объединенных понятием «экипаж», становятся у Конрада моделью человеческого существования вообще, исполненного тягот, опасностей и преодоления. Здесь, в море, проверяется на прочность конрадовский «кодекс» – свод простых, но непреложных нравственных истин и императивов, – в разработке которого писатель намного опередил Хемингуэя.
Вот самая, пожалуй, типическая для раннего творчества Конрада повесть «Тайфун». Ее герой, капитан парохода «Нянь-Шань» Мак-Вир представлен автором как человек флегматичный, в высшей степени прозаичный, лишенный всяких задатков абстрактного мышления и тем более воображения. В этом смысле он противопоставлен первому помощнику Джаксу, человеку более молодому и обладающему намного более яркой индивидуальностью.
Человеческие качества членов экипажа подвергаются испытанию во время страшного шторма, обрушившегося на судно. Решение капитана идти навстречу приближающемуся тайфуну, не отклоняясь ни на градус от курса, Джакс сначала приписывает лишь ограниченности Мак-Вира, его неспособности принимать нешаблонные решения. Однако по мере развертывания картины борьбы судна со стихией Конрад последовательно, даже с некоторым нажимом показывает, что под невзрачной внешностью капитана таятся ресурсы мужества, решимости, выдержки. В уста своего обычно бесцветного героя он вкладывает отрывистые фразы, звучащие как героические максимы: «Буря есть буря, и пароход должен встретить ее лицом к лицу. На свете немало бурь, и нужно идти напролом…». «Навстречу, всегда навстречу – вот единственный способ пробиться».
В критический момент Джакс, почти в отчаянии, задает вопрос: «Выдержит ли судно?» Ответные слова Мак-Вира Конрад обставляет уточняющими определениями, возводящими их в ранг экзистенциального кредо: «…спустя некоторое время он с изумлением расслышал хрупкий голос, звук-карлик, не побежденный в чудовищной сумятице… Может выдержать… Будем надеяться! – крикнул голос, маленький, одинокий и непоколебимый, как будто не ведающий ни надежды, ни страха…».
Несомненно, голос Мак-Вира становится здесь символическим выражением самой человеческой природы, бросающей вызов природной стихии и враждебным обстоятельствам вообще.
Небольшая, во многом автобиографическая повесть «Юность» освещает другую важную грань «кодекса». Здесь громко звучит мотив горделивого утверждения человеком своего достоинства через деяние. «Юность» – внешне простая, чуть ли не протокольная история фантастически неудачного рейса старого парохода «Иудея» (сам Конрад плавал в свое время на судне под названием «Палестина») из Лондона в Бангкок. Рассказчик и alter ego автора, Марлоу, вспоминает все бесчисленные помехи, неувязки и аварийные ситуации, возникавшие по ходу рейса, с добродушной иронией, относящейся к иллюзиям, обольщениям и самонадеянности юности.
Бытовая зарисовка из морской жизни? Но на борту «Иудеи» выведены слова «Делай или умри». Гордый и героический девиз, по словам Марлоу, «так много говорил моей молодости». Повторенные несколько раз в тексте, слова эти становятся лейтмотивом повествования, камертоном, настраивающим его на символический лад.
Властный порыв к достижению цели сплачивает экипаж «Иудеи», измученный тяжкой работой, озлобленный бесконечными неудачами, в некий «сверхорганизм». Уже не только дисциплина и обязанность подчиняться приказам побуждают матросов продолжать, по видимости, бессмысленное плавание. Вызов року, стремление изведать последний предел своих возможностей, утвердить свое достоинство – вот что движет людьми в этой борьбе.
Чем дальше, тем больше творчество Конрада утрачивало специфически морской колорит, входило в широкое русло «человековедческой» литературной традиции, хотя и сохраняло внутри этого русла оригинальность и самобытность. Зрелые произведения Конрада проникнуты ощущением удивительной сложности человеческой природы, человеческого мира: и внутреннего, и обусловленного социальными отношениями. В романах «Ностромо», «Тайный агент», «Победа», «Случай» писатель сочетает проницательное исследование психологических глубин и отмелей души с интересом к политике и идеологии, к «духу времени».
Усложнялось и отношение писателя к выработанному им в морских повестях «кодексу». Утверждение нравственных ценностей, опора на выверенные этические нормы сочетаются в его зрелых произведениях с заглядыванием в такие глубины человеческой натуры, где клубятся мрак и хаос. Гордое приятие жизни прокалено в горниле сомнения и скепсиса. Из него начисто выпарены все иллюзии, все прекраснодушные допущения относительно человеческой природы.
В романе «Лорд Джим» Конрад, как и в «Тайфуне», размышляет о неоднозначности, загадочности человеческой природы. Джим – молодой человек из «хорошей семьи», с детства влюбленный в море и готовящий себя к профессии моряка. Конрад изображает его человеком с богатым воображением, склонным к фантазиям о приключениях, опасностях и героизме. В мечтах он видит себя совершающим подвиги, спасающим людей, беззаветно рискующим собственной жизнью. Джим – романтик, как аттестуют его другие персонажи романа.
Это богатство, усложненность натуры играют с Джимом злую шутку, когда его отвлеченные идеалы должны пройти проверку суровой реальностью. В момент, когда «Патна», его судно, оказывается в опасности, воображение рисует ему слишком живую картину неизбежного развития событий на борту – картину паники, хаоса, безнадежной борьбы, – которая парализует его решимость и чувство долга. Джим – вслед за другими членами экипажа, которыми движут вполне шкурные соображения – прыгает в шлюпку, оставляя судно и пассажиров на верную гибель.
По мере углубления в подробности происшедшего мы все более проникаемся симпатией к Джиму, убеждаясь в том, что проявленная им слабость не отвечает сущности его натуры. И все же капитан Марлоу, рассказчик, испытывает по отношению к герою сложные чувства. Что толку в сложной духовной организации Джима, в мужестве, с которым он несет обрушившееся на него несчастье, если все эти качества не удержали его от непоправимого шага – прыжка с борта «Патны»? Может быть, толстокожесть, эмоциональная бедность – суть необходимые условия победы над внешними опасностями и внутренними слабостями?
Во второй части романа изображается путь Джима к обретению утраченного достоинства. Очутившись на далеком от цивилизации Патюзане, Джим становится советником местного князя и фактически правителем острова. В бескорыстном служении своим новым друзьям-туземцам он находит смысл жизни и возможность искупления давней вины. И все же выбраться из тени трагического абсурда ему не удается. Чистота и благородство его натуры оборачиваются катастрофой для островитян, и Джим добровольно расплачивается за это своей жизнью. Впрочем, пора перейти к внутренней теме этой статьи – к «русскому дискурсу» Джозефа Конрада, к месту, которое Россия занимала в мыслях, чувствах, творчестве писателя.
На первый взгляд – все тут просто. Российская империя, поработившая его родину, обрекшая на изгнание и смерть его родителей, была – и не только в своей государственно-политической ипостаси – объектом глубоко укорененной враждебности писателя. Вся публицистика Конрада, равно как и его переписка, касающаяся политических вопросов, последовательно выдержана в резко антирусской тональности. Россия была чужда и враждебна писателю и как поляку по рождению, и как британскому гражданину.
Наиболее последовательно и полно свои взгляды на Россию, ее место в «семье народов» и в мировой истории Конрад сформулировал в эссе «Самодержавие и война» (1905), поводом для которого послужило окончание Русско-японской войны. Сочинение это – резкое, полемичное и во многом несправедливое. В нем Конрад пишет о Российской империи как о чудовищном порождении фантазии Петра Великого, изображает Россию в качестве некой «черной дыры» посреди сообщества цивилизованных народов.
Само ее бытие – фантомально: «Призрачным было ее существование, и исчезает она подобно призраку, не оставив после себя ни одного благородного деяния, ни разу не послужив – пусть даже невольно – делу устроения мирового порядка».
Конрад развивает свой тезис о выморочности российского государственного бытия, утверждая, что оно взялось ниоткуда и не принадлежит ничему: ни Европе, ни Азии. Самодержавная Российская империя, в отличие от абсолютистских режимов старой Европы, не имеет исторической преемственности, в ее фундаменте отсутствуют краеугольные камни легитимизма, стремления к законности, порядку и справедливости.
Самодержавие, по мнению Конрада, представляет собой чисто деспотический режим, лишенный всякой конструктивной функции, кроме подавления подданных в интересах сохранения своей власти. Но и конституционные реформы в России невозможны из-за «политической незрелости просвещенных слоев» и «политического варварства народа», или, иными словами: «В могиле не может быть эволюции».
В своем запальчивом отрицании какой бы то ни было позитивности российского государственного бытия Конрад повторял многие тезисы, высказанные до него такими мыслителями, как Чаадаев, Герцен и другими российскими «западниками», так же как маркизом де Кюстином. Но Конрад, несомненно, пошел намного дальше своих предшественников в отрицании за Россией какой бы то ни было позитивной функции в семье народов, в тотальном негативизме по отношению к ее прошлому, настоящему и будущему.
Естественно, что проблему этнокультурного самоопределения Польши писатель рассматривал в перспективе отталкивания от «восточного начала». Конрад утверждал, что его родина вообще не принадлежит к славянскому миру. В его интерпретации Польша, с ее католицизмом, демократическими традициями и просвещенностью, всегда была органической частью Европы, разделяла западные «коды» общественной жизни и общественной мысли.
Все эти исторические и геополитические вопросы были для Конрада жгуче актуальными и задевали его глубоко в личностном плане. Он, например, бурно восставал против попыток своих английских друзей и критиков вычленять в его творчестве славянские черты. В таких случаях он впадал в ярость, отрицая всякую свою связь со «славяно-византийско-татарским варварством» и полностью отождествляя себя с Западом. Проблема, однако, заключалась в том, что Запад в лице его новообретенной родины Англии не вполне отвечал ему взаимностью, не спешил признать «своим». Многие английские друзья и знакомые Конрада, описывая его, не сговариваясь, отмечали прежде всего инакость, «не-английскость» и экзотичность этого человека.
Вот словесный портрет Конрада, принадлежащий Герберту Уэллсу: «У него было смуглое покатое лицо с весьма тщательно подстриженной и расчесанной бородкой, изборожденным морщинами лбом и тревожными темными глазами. Жестикуляция его рук начиналась, казалось, от самых плеч и выглядела очень восточной… Его английский был непривычен, хотя и вовсе не плох. Он дополнял свой словарь – особенно если обсуждались культурные или политические темы – французскими выражениями; но с некоторыми странностями. Он выучился читать по-английски задолго до того, как начал говорить, и у него сохранилось неправильное произношение многих обиходных слов».
Конрад понимал, что и спустя много лет после репатриации остается для своего английского окружения человеком другого мира, далеким и «странным». Это доставляло ему немало тягостных переживаний. Здесь не место подробно анализировать следы «эмигрантского комплекса» в творчестве писателя – замечу лишь, что в новелле «Эми Фостер» они проявляются достаточно явно, да и в ряде других произведений рефлексия на темы эмиграции в широком смысле слова возникает нередко, пусть и в подспудной форме.
Вернемся, однако, к «русскому дискурсу» Конрада. Если отношение писателя к России как государству вполне ясно и последовательно, то с его восприятием российской культуры дело обстоит сложнее. Именно в пору, когда Конрад обретал писательскую славу – между концом 90-х годов и началом Первой мировой войны, – литература России (так же как и музыка, театр, изобразительное искусство) совершала победоносную экспансию в культурное пространство Запада. Тут стоит заметить, что одним из ближайших друзей Конрада, много сделавшим для утверждения его литературной репутации как английского писателя, был известнейший критик Эдуард Гарнетт – большой поклонник и популяризатор русской литературы. Гарнетт и его жена Констанс, переводившая на английский язык произведения Достоевского и других русских авторов, славились своим «русофильством» и поддерживали тесные связи с кругом российских революционеров-эмигрантов.
Конрад и здесь оставался преимущественно скептиком. В целом он демонстративно дистанцировался от русской литературы, не желая иметь с ней близких контактов, довольствуясь как бы «обязательной программой», приличествующей всякому образованному, но не слишком заинтересованному европейцу. Конрад неоднократно подчеркивал, что несмотря на то, что провел свое детство в пределах Российской империи, он не знал ни слова по-русски, не был знаком даже с алфавитом и не имел никаких контактов с русским населением.
Ситуация на самом деле не была столь ясной и однозначной, как это следует из собственных деклараций писателя. Конрад, очевидно, так или иначе соприкасался с русской литературой еще с времен своего детства. Воспитывавший его после смерти родителей Тадеуш Бобровский был человеком образованным и хорошо знакомым с сочинениями как европейских, так и русских авторов своего времени.
Биографы Конрада особо отмечают, что Бобровский знал произведения Пушкина и Лермонтова. Очевидно, будущий классик английской литературы мог познакомиться с некоторыми из них в пересказах дяди. Это предположение помогает объяснить одно примечательное явление, о котором мне уже приходилось писать (см. «Нева», 2002, № 4). Я имею в виду разительные параллели и переклички, сюжетные и даже текстуальные, существующие между повестью Конрада «Дуэль» (1906) и хрестоматийным рассказом Пушкина «Выстрел».
Важнее, однако, артикулированные суждения Конрада о русской литературе. Из тройки великих русских романистов, завладевших умами западных читателей в те годы – Тургенев, Толстой, Достоевский, – Кон рад высоко ценил лишь Тургенева, самого «европеизированного» из них и самого близкого к французскому литературному канону. По его собственному признанию, Конрад познакомился с романами Тургенева еще в детстве: он читал «Дым» по-польски и «Дворянское гнездо» по-французски. Он восторженно отзывался о «Записках охотника», которые, по его словам, повлияли на замысел его цикла морских рассказов. В прозе Тургенева Конрада прежде всего восхищали тщательная художественная отделка на уровне каждой фразы, каждого слова, пластичность воссоздания картин предметно-природного мира, идеальное соответствие изобразительных средств предмету изображения.
В одном из эссе Конрада возникает сопоставление Тургенева с Достоевским, причем последний – по контрасту с Тургеневым – удостоен таких определений, как «судорожный, терзаемый страхами». Здесь мы подходим к самому главному и интересному – амбивалентнейшему отношению Конрада к Достоевскому. Публично он очень редко отзывался о русском писателе, а когда все же нарушал это табу, старался демонстрировать своим тоном равнодушную дистанцированность. Характерно в этом смысле высказывание Кон рада в письме к Э. Гарнетту относительно «Братьев Карамазовых» после прочтения перевода романа, сделанного женой последнего, Констанс: «…это – нестерпимо грубое обращение с ценным материалом. Это ужасно плохо, импрессивно и раздражающе. Больше того, я не знаю, что Д[остоевский] хочет этим символизировать или выразить, но я точно знаю, что для меня он – слишком русский. На мой вкус это звучит как некое неистовое заклинание из доисторической эпохи».
Творчество Достоевского представлялось Конраду «квинтэссенцией русскости» и в таком качестве, естественно, вызывало в нем отталкивание. Однако отнюдь не спокойное. По свидетельству сына Конрада Бориса, «Достоевский был одним их тех авторов, которых отец читал и перечитывал постоянно».
Конрад, вероятно, был знаком с резкими антипольскими выпадами в публицистике Достоевского и в романе «Братья Карамазовы» – и, разумеется, глубоко задет ими. Но этим причины его резко негативного отношения к Достоевскому не ограничивались. Конрада, похоже, раздражала и даже пугала та свобода, с которой русский писатель погружался в сокровенные глубины человеческой души, исследовал самые темные и болезненные ее уголки, обнажал самые проблематичные, а то и постыдные мотивы и побуждения человеческих поступков. Ведь он и сам был путешественником к «сердцу тьмы», сам претендовал на проникновение в тайны и аффекты, кроющиеся в человеческой природе, за тонкой завесой моральной рутины, привычки и общепринятых правил. Конрад чувствовал в Достоевском соперника – обладателя возмутительно огромного дарования, очень часто нарушающего, к тому же, все мыслимые эстетические нормы и правила литературной игры.
Этот сложный, чуть ли не болезненный фон следует иметь в виду, рассматривая русскую тему в творчестве самого Конрада. А к теме этой он обращался в своих книгах неоднократно – очевидно, идеологической «разделки» с Россией на площадке политической публицистики ему казалось мало. И это не удивительно: российская проблематика в первое десятилетие XX века становилась все более актуальной – и в плане международной политики, и в сфере духовных борений, тенденций культуры.
Первые подходы к российской теме относятся еще к раннему творчеству писателя. Нелепая, фантастическая фигура безымянного русского, «сына тамбовского архиерея», возникает в повести «Сердце тьмы» в совершенно, кажется, неподходящих обстоятельствах – посреди африканских джунглей. На него натыкается Марлоу в ходе поисков пропавшего мистера Курца, многообещающего агента европейской колониальной фирмы, занятой сбором слоновой кости. «Русский» (так он и именуется в повести) оказывается восторженным адептом Курца, который, по его словам, «расширил его кругозор» и «показал ему мир». Его не слишком смущает, что Курц добился безграничной власти над окрестными племенами, присвоив себе божественные атрибуты, принимая участие в самых чудовищных ритуалах и поощряя человеческие жертвоприношения.
В образе «сына архиерея» сочетаются дух самого чистого и бескорыстного авантюризма, юношески книжный энтузиазм первопроходца – и потребность в преклонении перед внешним авторитетом, готовность слепо ему подчиняться, отказ от собственной воли. Все эти качества Конрад, очевидно, считал органически присущими русскому национальному характеру.
Гораздо более зловещий характер носят русские реминисценции в романе «Тайный агент» (1907). Это роман об анархистах, терроре, международном шпионаже и агентурном двойничестве, один из первых, заложивших в английской литературе традицию политико-психологического триллера, столь успешно развитую впоследствии Грэмом Грином и Джоном ле Карре. В сюжетной основе лежит реальный факт – гибель в Гринвичском парке в 1894 году анархиста-француза, некоего Бурдена. Предположительно это был несчастный случай, связанный с попыткой взорвать Гринвичскую обсерваторию.
Главный герой романа, Адольф Верлок, – владелец магазина, торгующего нескромными картинками, и одновременно – видная фигура международного революционного подполья в Лондоне. В его доме собираются идеологи и теоретики анархизма, сторонники насильственного изменения мира.
При этом Верлок – агент британской полиции. Кроме того, он связан с посольством некой державы, предположительно России, хотя национальная принадлежность последнего в романе несколько затушевана. Секретарь этого посольства, по имени Владимир, изображен в романе человеком циничным и жестоким, действующим от лица безликих государственных инстанций, для которых все средства хороши. Владимир требует от Верлока организовать террористический акт в Лондоне, в надежде, что это заставит британские власти принять против эмигрантов-анархистов крутые меры. Однако единственной жертвой зловещего плана становится зять Верлока Стиви, умственно отсталый, но чистый душой юноша.
В этом романе, сочетающем мелодраматические эффекты с ироничной и отстраненной повествовательной интонацией, революционаризм и политика российских властей впервые попадают в сферу художественных интересов Конрада. Правда, «русский след» остается здесь достаточно фоновым.
Главным произведением Конрада, в котором он попытался в полном масштабе воплотить российскую проблематику и избыть таким образом свой «русский комплекс», а также победить Достоевского на его поле, стал роман «Глазами Запада» (1911).
Работа над романом продолжалась несколько лет и стала для Конрада настоящим творческим и жизненным испытанием. Художественное освоение нового жизненного материала, «чужого» и одновременно столь жгучего экзистенциального опыта оказалось очень трудной задачей и потребовало от Конрада огромного напряжения сил. Незадолго до окончания романа писатель заболел и потом на протяжении многих месяцев испытывал физическое недомогание и депрессию. Более того, некоторые исследователи полагают, что после «Глазами Запада» Конрад уже никогда не достигал своего прежнего творческого уровня – так сказать, надорвался. В чем же суть этого амбициозного литературного предприятия?
Краткая фабульная схема романа такова. На квартиру к петербургскому студенту Разумову приходит его знакомый по университету, революционер Виктор Халдин, только что убивший в теракте видного правительственного чиновника. Он просит Разумова на время укрыть его и помочь ему покинуть Петербург. Разумов, вовсе не сочувствующий революционной идеологии, отправляется все же выполнить поручение гостя, но, потерпев неудачу в своих попытках, под сов местным влиянием страха за свою судьбу и негодования на Халдина, совершает предательство – выдает полиции доверившегося ему человека. Халдина арестуют и казнят, а сам Разумов оказывается вынужден сотрудничать с охранкой.
Повествование в романе ведется от лица «незаинтересованного наблюдателя», англичанина, живущего в Женеве, преподавателя иностранных языков, в том числе русского. Он-то и олицетворяет в романе главным образом «взгляд Запада» – на русский национальный характер, на деспотический царский режим и на круг эмигрантов-революционеров с их идеологией, психологией и практикой.
Рассказчик знакомится с главным героем в Женеве. Разумов послан туда своим шефом, чиновником охранки Микулиным, для внедрения в среду русских эмигрантов. Он оказывается в кругу революционеров, которые принимают его за друга и соратника погибшего Халдина. Разумов встречает там сестру Халдина Наталью и влюбляется в нее. В конце концов он, мучимый раскаянием и ложным положением, в котором очутился, открывается Наталье, а затем и членам «организации», которые жестоко расплачиваются с ним за предательство.
Читая роман, очень скоро убеждаешься, что перед тобой – парафраз «Преступления и наказания». Предательство, совершенное Разумовым и повлекшее за собой гибель Халдина, явно перекликается с убийством, совершенным Раскольниковым (характерна тут и «значащая», как и у Раскольникова, фамилия героя Конрада, напоминающая к тому же о Разумихине). В обоих случаях в основе «преступления» лежат, тесно переплетаясь, идеологические, «теоретические» соображения – и конкретные жизненные обстоятельства, личные психологические мотивы. Правда, Разумов, в отличие от Раскольникова, решается на предательство прежде всего под влиянием импульсов страха и жалости к себе. Однако потом он, вполне в духе героя Достоевского, начинает «рационализировать» свое решение в попытке самооправдания. Он доказывает себе, что идеология Халдина и революционаризм вообще чужды ему и русскому народу, что они разрушают надежду на постепенное эволюционное движение страны к просвещению и более либеральному государственному устройству, и, стало быть, выдать террориста – его моральный и гражданский долг.
Между романами Конрада и Достоевского есть и много других сюжетных и психологических совпадений. Наталья Халдина и ее мать напоминают, разумеется, о Дуне и матери Раскольникова Пульхерии Александровне. Исповедуется Разумов, как и Раскольников, перед любимой женщиной, причем по ходу этого разговора, пытаясь объяснить Наталье свое душевное состояние в критической ситуации, говорит ей: «Можешь ли ты понять безнадежность этой мысли: “не-к-кому-пойти?”» Тем самым он почти дословно повторяет слова Мармеладова из «Преступления и наказания». Разговор Разумова с Микулиным после ареста Халдина весьма напоминает эпизоды общения Раскольникова с Порфирием Петровичем.
Однако хватит о совпадениях. Встают два главных вопроса. Каковы результаты творческого соперничества Конрада со столь чуждым ему органически русским гигантом? И – какой предстает в романе Россия, увиденная «глазами Запада»?
Конрад состязается с автором «Преступления и наказания» прежде всего в точности и драматичности изображения «диалектики души» героя, пытающегося справиться со своим прошлым и похороненным в нем преступлением. При этом английский писатель создает гораздо более стройную и прозрачную, по сравнению с прототипом, эстетическую и психологическую конструкцию. Достоевский погружал читателей в раскаленную магму внутренней жизни своего героя: в его лихорадочные размышления о вере и неверии, о личном и сверхличном смысле убийства старухи-процентщицы и ее сестры, о праве преступать моральные и религиозные законы, о собственной слабости и неспособности соответствовать масштабу поставленной перед собой цели; в его хаотичные, напряженнейшие переживания, связанные с преступлением и его последствиями для него самого и его близких.
Мысли и чувства Разумова представлены Конрадом намного более логично и последовательно, чем поток внутренней жизни Раскольникова, мотивировки его поступков тщательнее подготовлены и прописаны, чем у Достоевского, – и это при том, что композиционно «Глазами Запада» выстроен намного сложнее, чем «Преступление и наказание».
Здесь проявляется программная особенность изобразительного метода, преимущества которого перед манерой Достоевского Конрад стремился доказать. Суть метода состоит в дистанцировании художника от предмета изображения, что должно позволить ему создать строго организованную, соразмерную, эстетически выверенную картину, в которой каждая деталь «знает свое место», выполняет определенное функциональное назначение, работает на конечный результат. Достоевский же, с этой точки зрения, слишком «сливался» со своими героями, позволял материалу господствовать над собой, допускал постоянные погрешности по части композиции и хорошего вкуса.
Стратегия дистанцирования и контроля над материалом реализуется в романе прежде всего с помощью традиционной у Конрада фигуры повествователя-посредника. Рассказчик, пожилой преподаватель иностранных языков, поставляет сюжетную информацию, иногда комментирует события да еще служит гарантом подлинности рассказываемой истории, поскольку он – владелец написанной Разумовым исповеди.
Вовсе не сочувствуя самодержавию, рассказчик испытывает острую антипатию к обществу революционеров-эмигрантов, собравшихся в Женеве, и всячески пытается отдалить Наталью Халдину от этого круга. Враждебность эта отчасти мотивирована идеологически. Рассказчик – человек с убеждениями, он сторонник либерально-консервативных западных ценностей, законности, порядка и эволюции.
Одновременно с этим он постоянно подчеркивает свою интеллектуальную и эмоциональную «чужеродность» всему, что происходит и в России, и в среде русских эмигрантов. В итоге возникает противоречие между раскаленным, мрачно-фантасмагоричным, по-своему очень «русским» содержанием романа – и манерой изложения: отстраненной, суховато-объективной, в рамках которой точка зрения автора на события, к тому же доверенная персонажу, почти филистерски ограниченному, доминирует в смысловой перспективе, а «истины» других героев этого идеологического повествования оказываются подчиненными, лишенными убедительности, страстности.
Думается, что назвать Конрада победителем в его сознательном поединке с автором «Преступления и наказания» и «Бесов» нельзя. Применив «регулярные», флоберовские, средства художественной выразительности к реальности, иноприродной для западного сознания, писатель косвенным образом продемонстрировал, что неконвенциональная поэтика Достоевского намного более продуктивна для изображения и анализа этой реальности.
Ну, а каков же в «Глазами Запада» целостный образ России и «русского»? Первая, петербургская, часть романа рисует картины российской жизни начала века в обобщенной, порой схематичной манере (а на взгляд российского читателя, и с элементами «клюквы»). Ночной и почти безлюдный город, обдуваемый вьюгой, сквозь которую пробивается тусклый фонарный свет; холодная унифицированность аристократических квартир и присутственных мест; невежество и забитость простолюдинов; мундирная патриотическая безликость госчиновников.
Затем действие переносится в Швейцарию, в революционно-эмигрантский круг. Иронический, отчуждающий ракурс, в котором Конрад изображает эмигрантскую колонию в Женеве, приводит на память антинигилистические эпизоды «Бесов». Разговоры, которые ведут между собой члены этой колонии, полны экзальтации, преувеличенного энтузиазма, лозунговой риторики и штампов. Вдобавок, с жестокостью и догматической нетерпимостью в этом кругу соседствуют фальшь, цинизм и густая тень провокации. Так, один из самых зловещих и отталкивающих персонажей романа, безжалостный «ликвидатор» Никита (который и осуществляет расправу с Разумовым), оказывается в конце концов сотрудником охранки – явная отсылка к истории Азефа.
Конрад особенно язвителен, создавая образ признанного лидера эмигрантов Петра Ивановича, знаменитого публициста и теоретика, бежавшего в свое время из сибирской ссылки. Образ, которому приданы детали биографии Бакунина, Кропоткина, Степняка-Кравчинского, в целом носит почти карикатурный характер. Автор представляет Петра Ивановича личностью авторитарного склада, самовлюбленным честолюбцем, позером и краснобаем, в личных отношениях склонным к нетерпимости и деспотизму.
В то же время среди образов революционеров, нарисованных Конрадом, есть и вызывающие симпатию или уважение – это, прежде всего, «совесть» революционной партии Софья Антоновна и скромная, самоотверженная, помыкаемая «вождями» Текла… Сам же «возмутитель спокойствия» в романе, террорист Халдин, сочетает в себе черты бесстрашия, фанатичной непреклонности, наивного идеализма и полной психологической слепоты.
В целом отношение Конрада к происходящему в России, российском обществе не сильно отличается от взглядов, выраженных в его публицистике, и может быть обозначено лаконичной формулой: «Чума на оба ваши дома». Собственно, именно такой подход олицетворен в образе наблюдателя-рассказчика. И все же…
Присутствует в романе некая нота, диссонирующая с этим лейтмотивом. Вопреки названию, не только Россия и русские раскрываются тут под критическим взглядом Запада. Смысловой строй и повествовательная стратегия романа способствуют тому, что и сам его «западный полюс» становится объектом нелицеприятного наблюдения и анализа, пусть и не столь очевидных. Так, Швейцария – идеальная модель европейского существования – предстает в романе воплощением мещанской упорядоченности, благообразности и скуки – «запустения оцепенелой респектабельности». Описание места действия изобилует такими словами, как «олеография», «посредственность», «банальность». В отстраненно-иронической манере изображаются и эпизодически появляющиеся в романе женевские «аборигены», например «…одинокая чета швейцарцев, судьба которых с детства и до могилы была застрахована совершенством демократических институтов республики, которая могла бы уместиться в ладони».
Не менее «говорящим» оказывается подчеркнутый контраст между яростной напряженностью саморазрушительного существования русских персонажей – и спокойной ограниченностью, заурядностью героя-рассказчика. Тот откровенно признает свою неспособность по-настоящему разобраться в событиях, в их подоплеке, как социально-исторической, так и психологической. Он «пасует» перед избыточной сложностью славянской натуры, перед ее спонтанностью, неожиданностью и противоречивостью ее побудительных мотивов, питаемых к тому же «потусторонним» опытом жизни в условиях русского деспотизма.
Старый преподаватель, отшатываясь в ужасе, иногда в отвращении от бездны, в которой обретаются умы и души его российских знакомых, одновременно отмечает интенсивность их душевных переживаний, необычайную остроту коллизий, в которые они вовлечены.
Автор, очень тонко и деликатно дезавуируя героя-рассказчика, показывает, что у европейской цивилизации – благоустроенной, правильной, соразмерной человеку и уважающей его достоинство – есть своя «цена», свои издержки и ограничения. Это, прежде всего, эмоциональная обедненность сынов этой цивилизации по сравнению с членами более «примитивного» российского общества, ограниченность их восприятия, плоскостность их упорядоченного существования.
Писатель Конрад как будто признает, что Запад в своих житейско-психологических проявлениях, на уровне человеческих характеров и судеб, коллизий, заслуживающих литературного воплощения и захватывающих читателя, оказывается сух и бледен в сравнении со своим восточным антиподом.
…Похоже, что Россия во всей ее пугающей огромности, духовной сложности и цивилизационной инакости (все эти свойства символически воплощались в личности и творчестве Достоевского) была для Конрада не только вечной угрозой, но и вызовом, стимулом, источником творческих импульсов. Она возмущала, пугала, отталкивала его – и зачаровывала своей обжигающей витальностью, аккумулированным в ней потенциалом трагедии. Как всякая стихия, как море и тайфун (море, кстати, Конрад тоже не любил), Россия обладала для него притягательной силой и мощным «отрицательным обаянием». Освободиться от этого притяжения писатель стремился всю свою жизнь – но, кажется, так и не смог.
2007
Сны о России
Макс Фриш, знаменитый в прошлом веке швейцарский прозаик, драматург и эссеист, был одним из самых ярких выразителей европейского «духа времени» в эпоху после Второй мировой. Он был с головой погружен в коллизии, фобии, мечты и разочарования западного общества, европейской интеллектуальной среды, «повестку дня» которой во многом сам формировал. Учитывая это, можно было бы счесть несущественной и сугубо автобиографической подробностью следующую запись в его «Дневнике 1966–1971 гг.»: «Мать при смерти. Порой ей кажется, что мы вместе в России. Ей 90 лет. Многое ли изменилось в Одессе с 1901 года?» Мать Фриша в молодости работала несколько лет гувернанткой в России. Известно, что будущий писатель в детстве и юности был близок с матерью (чего нельзя сказать о его отношениях с отцом), и вполне вероятно, что рассказы матери о далекой и столь не похожей на Швейцарию стране врезались ему в память. Но обстоятельство это не осталось лишь «файлом» семейной памяти. Дело в том, что при внимательном рассмотрении «русские мотивы» пронизывают, явно или скрыто, все творчество Фриша. Прояснить характер этой длящейся привязанности, оценить ее значение – интересно. Более того, такой анализ, на мой взгляд, позволяет понять некоторые существенные, хоть и не очевидные стороны европейского коллективного сознания (или «бессознательного»).
Начнем вот с чего: в раннем своем романе «Трудные люди, или Обожаю то, что меня сжигает» писатель ввел рассказы матери в художественную и смысловую ткань повествования, правда, с некоторым сдвигом координат. Там мать главного героя, родившаяся в России, хоть и не русская, служит гувернанткой, по сути, учительницей в хорошем швейцарском семействе. В доме ее уважают за образованность и благонравие.
Случается так, что женщина скандальным образом преступает правила хорошего тона: сходится с помощником местного мясника и «несет» от него. Хозяин дома, аристократ и приверженец консервативных ценностей, допрашивает «падшую»: как она дошла до жизни такой. Он говорит о безответственности, забвении приличий, о том, что она, как женщина образованная, унизила себя, связавшись с вовсе уж простолюдином, «чумазым». То, что его на самом деле возмущает, – это нарушение иерархии, освященного традицией порядка вещей. От подобной неравной связи могут проистечь бог знает какие последствия. Так, собственно, и происходит – у женщины рождается сын, Райнхарт. Сама она вскоре кончает собой, а ее сын, воспитанный приемными родителями, становится неудачливым художником, перекати-полем, и, в общем, проживает несчастную, гротескную судьбу, что и образует сюжет романа.
Для нас сейчас важно другое. По ходу допроса у хозяина проштрафившаяся гувернантка почему-то вспоминает Россию: «Она слышала скрип снега под полозьями саней, вой волков, слышала море, выбрасывающее на берег больших мертвых рыб, и много других вещей, о которых она часто рассказывала мальчикам… Она слышала ветер в степи, в безбрежном просторе. Она слышала течение ночной Волги, озаренной луной. Одни цари сменяли других, но страна была бесконечной, а реки текли не переставая. Кто познал Россию?»
Странное, конечно, объяснение. Но… Фриш пишет, что женщина в своем отчаянном положении «возложила надежду на эту страну». Россия в ее восприятии – некий иррациональный аргумент в споре, ответ и вызов, может быть, угроза. Память об этой стране – последняя опора той, что преступила правила и нормы упорядоченного европейского существования.
Это очень характерно: Фриш в своем раннем романе, размышляя о жизненных модусах, о формах и проектах человеческой самореализации, использует образ России – весьма обобщенный, схематичный – в смысловом пространстве повествования как некий прожектор, освещающий другие бытийные возможности и перспективы.
Тут нужно сделать отступление и вспомнить, что Россия издавна была центром притяжения для многих европейских художников и интеллектуалов, преимущественно «уклонистов», тяготившихся узостью и меркантильностью буржуазной цивилизации, для тех, о ком Бодлер сказал (русским словом Марины Цветаевой):
На облако взгляни: вот облик их желаний! Как отроку – любовь, как рекруту – картечь, Так край желанен им, которому названья Доселе не нашла еще людская речь.Характерно, что такое притяжение мало зависело от политических предпочтений «Россией очарованных» и от характера российского режима. Еще Гейне видел в николаевской империи альтернативу мелкотравчатому европейскому политиканству и тогдашнему американизму. А позже – к России обращали свои взоры Ницше и Жид, Рильке и Гессе, Шоу и Уэллс, Кафка и Беньямин, Сартр и Белль…
У этого влечения были две составляющие: собственно литературная и общекультурная, которую можно определить и как экзистенциальную. Конечно, «экспансия» русской литературы в духовный мир Запада на рубеже XIX–XX веков была внезапной и мощной. Переводы русских авторов, от Гоголя до Чехова, открыли читающей публике Европы и Америки абсолютно незнакомое жизненное пространство, но и новые способы повествования, построения сюжета и композиции, новую глубину и драматизм психологического анализа.
Есть здесь и более специфический момент. Именно в русской литературе критического реализма впервые отлилась в ясную форму особая духовно-психологическая интенция: глубинная неудовлетворенность наличным положением вещей, ощущение несправедливости и неподлинности господствующего жизненного порядка, протест против социальных и культурных норм, принятых в обществе. Русские писатели срывали все покровы, обнажали все язвы, вкладывали персты во все раны. Эта «бунтарская», миропотрясающая линия зародилась в книгах Достоевского – «Записках из подполья» и «Преступлении и наказании», «Бесах» и «Подростке», в произведениях позднего Толстого («Анне Карениной», «Холстомере», «Смерти Ивана Ильича», «Воскресенье»). Продолжилась она в горьких и ядовитых пьесах Чехова, в надрывных коллизиях Леонида Андреева, в анархистском пафосе молодого Горького.
В европейско-американскую литературу это умонастроение стало проникать через переводы и общую моду на русское с начала XX века, и оно дало бурные всходы, особенно после катастрофы Первой мировой войны. Разумеется, у западных авторов хватало объективных и «независимых» причин для духовного беспокойства и социального протеста, но первоначальная критическая интоксикация их мировоззрения была во многом русского происхождения.
Если же говорить о российской «гравитации» за пределами литературы, то тут надо иметь в виду: Россия представлялась западному взгляду страной, где иными были не только пространственные масштабы, климатические параметры, быт: там все по-другому, там не действуют привычные для цивилизованного мира меры и ценности, там люди живут с другой интенсивностью чувств, страстей, верований.
В этом, кстати, одно из объяснений неготовности многих западных «попутчиков» осудить репрессии и ограничения, осуществлявшиеся советскими властями в 20–30-е годы. Дело было не только в недостаточной осведомленности или идеологической ангажированности, не позволявшей им критиковать коммунистический эксперимент, с которым связывалось столько надежд. Авторы вроде Роллана и Барбюса, Стефана Цвейга и Генриха Манна, Шоу и Драйзера всерьез полагали, что на просторах Советской России действуют очень специфические, не понятные им бытийные закономерности, что они не вправе оценивать развертывающиеся там события, исходя из западного менталитета и духовного опыта…
Хорошей иллюстрацией такого умонастроения служит письмо, которое Цвейг написал Роллану после своего посещения СССР в 1928 году. «Конечно, террор нельзя оправдать, – пишет он, – но, может быть, он отвечает исторической структуре России, поскольку (о чем я уже высказывался) русские люди не так страдают от ограничения их гражданских прав, как мы. Да и пропорции, разумеется, совсем иные, когда двести или пятьсот тысяч интеллигентов терпят лишения с тем, чтобы это пошло на пользу ста сорока миллионам, которые все-таки обрели в ходе русской революции свое человеческое достоинство.
В общем итоге: мы невольно ошибаемся, пытаясь приложить к России наши критерии свободы и требуя слишком многого сразу. <…> Вероятно, русские – единственный сегодня народ, способный ради идеи терпеливо взять на себя любые жертвы».
Таким образом, для западных мыслителей и художников «диссидентского» склада Россия была некой запредельностью, пространством, по-своему сакральным. Впрочем, после того, как в 50-е годы началось разочарование в «эксперименте», оценочные знаки с легкостью поменялись на противоположные: святость обернулась проклятостью.
…Вернемся, однако, к Фришу. Его опыт взаимодействия с российской запредельностью был одновременно и типичным, и вполне своеобразным. Но прежде всего: часто ли Россия – или СССР – появляется на страницах книг швейцарца? Не так чтобы слишком, хоть и регулярно. В «Дневнике 1946–1949» пару раз возникают наброски сюжетов, связанные с оккупацией советской армией Восточной Германии в результате войны. Первый эпизод таков. Русский солдат в Берлине конвоирует группу немецких пленных. Вдруг к одному из них бросается женщина – очевидно, его жена. Сцена душераздирающая. Конвоир не изверг, он тоже тронут. Он делает пленному знак – беги! Семья воссоединяется, счастливый конец! Нет, не конец. Через пару кварталов солдат выдергивает из толпы случайного прохожего и заменяет им «отпущенника». Широта души – само собой, но и цифры должны сходиться (хотя это, конечно, скорее по-немецки – орднунг мусс зайн)!
Эпизод, похоже, сочиненный, а не реальный – в нем слишком подчеркнуто «моралитэ». Не менее литературен и другой сюжет, возникающий в этом «Дневнике». Там речь идет о странной любви, вспыхнувшей между немкой и советским офицером. Странность ее, среди прочего, и в том, что любящие в буквальном смысле не имеют общего языка, не могут объясниться.
Фриш подробно разработал этот сюжет в пьесе «Когда окончилась война». Но в ней любовь между Агнес Андерс и русским, Степаном Ивановым, служит не стержнем действия, а лишь побочной линией, призванной усилить драматизм основной коллизии. Муж Агнес Хорст прячется в подвале дома от русских, не желая оказаться в плену. Сначала Агнес вступает в связь со Степаном, чтобы уберечь мужа. Лишь постепенно между ними возникает подлинное чувство.
По ходу действия Агнес узнает, что Хорст был не просто офицером вермахта, а служил в Варшавском гетто и участвовал в карательных акциях. Узнав об этом и будучи не в силах дальше мириться с его и собственной ложью, она кончает с собой. Таким образом, доминирует здесь самая актуальная проблематика того времени: немецкая вина, необходимость ее осознания, проблематичность переживания этого опыта. «Русское» в этой пьесе – снова лишь знак инакости, символ присутствия «другого», инородного, иноязычного в жизненном пространстве.
Что еще? Ну, «русская винтовка», которая подвела Штиллера, героя одноименного романа, когда тот юношей участвовал в Гражданской войне в Испании. В критический момент Штиллер, оснащенный этим нехитрым оружием, оказался неспособен выстрелить во врага – он увидел в нем человека. На этом его «испанский поход» закончился. Позже, вернувшись на родину, он нередко вынужден пересказывать этот эпизод в разных компаниях, и аудитория почти всегда одобряет его поведение: гуманистическое начало оказалось в нем сильнее идеологической догмы. Но сам-то герой чувствует, что потерпел здесь экзистенциальное поражение, одно из длинной череды, приведшей его к личностному краху.
Добавлю, что и в «Штиллере», и в других произведениях Фриша Россия и Советский Союз часто и как бы самопроизвольно возникают в сознании и разговорах героев. Эти упоминания словно пунктиром прошивают его тексты. Однако – не мало ли этого для обязывающего утверждения о существенности русских мотивов в творчестве швейцарского писателя?
Вспомним, что еще в первой своей пьесе «Санта Крус» Фриш свел лицом к лицу два жизненных модуса, которые – с известной долей условности – можно обозначить как «европейский» и «русский». Да-да, хотя действие пьесы развертывается в расплывчатых культурно-географических координатах, одного из главных героев зовут Пелегрин, а второго и вовсе обобщенно – Барон. Барон олицетворяет тут начало долга, дисциплины, ответственности. Ясно – это человек Запада, терпеливо и с достоинством несущий свое бремя, утверждающий порядок в противостоянии хаосу, который грозит уничтожить все плоды человеческих усилий, подобно тому, как снег долгой зимой, который заносит и окрестности, и усадебные постройки, и надвременные памятники культуры – Акрополь, Библию.
А рядом с ним – бродяга и бард Пелегрин, которого, несмотря на средиземноморское имя, нетрудно отождествить с русским началом. Пелегрин «по должности» пират, но в его образе воплощена тоска человеческого духа по беспредельности, по вечной молодости и вечному обновлению, по абсолютной свободе. Он жаждет вобрать в свой опыт все многообразие бытия, все краски, запахи, формы бесконечного мира – и потому боится остановиться в своем беге, обрасти ракушками быта, житейского комфорта и устойчивости… Чем не олицетворение молодой, беспокойной, «номадической» российской цивилизации?
Я вовсе не уверен, что автор держал в уме именно эту оппозицию, когда писал своих Барона и Пелегрина, их нескончаемое соперничество. Но ясно, что центральная коллизия пьесы очень хорошо выражает традиционное противостояние российского и западного миров. Коллизия, кстати, трактуется Фришем не антагонистически. Каждый из героев внутренне не монолитен, каждый чувствует неполноту собственного бытийного модуса. Барона втайне влечет к себе морская даль, изменчивая и полная непредсказуемых возможностей. А Пелегрину ведом соблазн оседлости, труда на земле, постижения книжной премудрости… И это ведь тоже характерно для отношений России и Запада: взаимное отталкивание и взаимовлечение.
Касаясь темы литературных влияний, нужно в первую очередь иметь в виду влияния собственно литературы. В полной мере это относится и к Фришу. Взять, к примеру, его позднюю пьесу «Биография» (1968 год, вторая редакция – 1984). Ей предпослан эпиграф (в драматургии дело нечастое) – большой фрагмент монолога Вершинина из чеховских «Трех сестер». Того самого, в котором Вершинин мечтает о возможности начать жизнь заново, сделать «вторую попытку». Пьеса Фриша и является изощренной вариацией на эту тему: ее герою, Кюрману, предоставляется возможность изменить свою биографию, точнее, собственное поведение и акты выбора, с любого заданного момента, правда, при сохранении основных личностных параметров.
Вывод из этой виртуальной игры пессимистичный: Кюрману не удается по-настоящему поменять судьбу, избежать ошибок, обрести счастье, сделать счастливыми своих близких. Но сейчас речь не о самой пьесе. Важнее другое: идея «перемены участи», попытка разыграть альтернативные жизненные сценарии – это основное русло духовных и художественных поисков Фриша. И вместе с тем – линия, глубоко укорененная в российской литературной традиции.
В самом деле, именно герои русских романов зачастую резко меняли свой жизненный путь – иногда под влиянием обстоятельств, иногда повинуясь личностному порыву. Подобные метаморфозы встречаются уже у Пушкина. Швабрин в «Капитанской дочке» из исправного офицера становится сподвижником Пугачева, да и Петруша Гринев оказывается на сходном распутье – предпочтя, однако, верность авантюре. Но Дубровский – он уже решительно меняет свой «модус вивенди», отдаваясь чувству мести и стремлению восстановить справедливость, отвергая сословный кодекс.
Могут сказать: но ведь и граф Монте-Кристо предстает по ходу одноименного романа в новой социальной роли, и он имеет сношения с бандитами. Разница, однако, очевидна. Судьба Эдмона Дантеса направлена в совершенно новое русло сугубо внешними обстоятельствами – Дубровский делает сознательный выбор. Да и возглавить толпу взбунтовавшихся мужиков – совсем не то, что покровительствовать исподтишка шайке разбойников и контрабандистов. (Заметим, что почти сто лет спустя ситуация «Дубровского» будет воспроизведена в романе Леонида Андреева «Сашка Жегулев» – герой-дворянин уйдет в омут первой русской революции во главе крестьянского анархистского отряда…)
Мотивы жизни «с чистого листа» витают в пространстве романов Достоевского, хотя реализуются, скорее, в некой постфинальной сюжетной перспективе. Мы говорим о намеченном в эпилоге «Преступления и наказания» перерождении Раскольникова, о замысленных автором переменах в жизни Алеши Карамазова. Но и о совершившемся уходе Степана Трофимовича Верховенского. Вообще герои Достоевского готовы к перевоплощениям, к резким зигзагам судьбы – они очень остро чувствуют экзистенциальную незаконченность, незавершенность бытия, присутствие в нем неявных возможностей и степеней свободы.
А сюжет «Живого трупа» у Льва Толстого? Побег Федора Протасова от своей жизни, от брака, который он считает неудавшимся и неподлинным, его попытка обрести себя в новых жизненных обстоятельствах… Линия эта продолжается, с поправками на условия времени, и в российской литературе советского периода. И речь не только о книгах, посвященных революционному лихолетью, когда и в реальности людские судьбы изламывались под самыми странными углами. В незаконченном романе Платонова «Счастливая Москва», действие которого происходит в 30-е годы, один из героев, талантливый и успешный инженер Сарториус, на середине своего жизненного пути вдруг решает отказаться от всех изначальных атрибутов и качеств: имени, профессии, круга интересов и устремлений, общих ориентиров. Приобретя документы на имя Груняхина, он начинает жизнь совсем другого человека – с другим социальным статусом, другими целями и установками.
Сходную метаморфозу переживают и герои Фриша: прокурор в пьесе «Граф Эдерланд», Штиллер в одноименном романе. Разумеется, Фриш не читал Платонова (но Достоевского и Толстого, конечно, читал), и вообще я не говорю здесь о прямой инспирации. Речь может идти, скорее, о типологическом сходстве, «избирательном сродстве», существующем между поисками швейцарского писателя и порывами к «другой жизни», характерными для русской литературы на протяжении XIX – XX веков. Фриша, как и многих русских писателей, манила возможность максимального расширения жизненных горизонтов, вариативности экзистенциального опыта, влекла идея самоиспытания в иной личностной ипостаси. Его героям тесно, душно в рамках единственной, безальтернативной судьбы.
Взять хотя бы Штиллера. Мотивы, побудившие этого человека (точнее, литературного персонажа) бежать от собственной биографии, пытаться выскочить из своей личностной «кожи», многообразны. Здесь и неуверенность в себе начинающего художника, и экзистенциальный провал на экзамене испанской войны, и неспособность сделать счастливой любимую женщину, хрупкую и ранимую Юлику. К тому же Штиллеру, на определенной стадии, стали нестерпимы упорядоченность, ограниченность и регулярность швейцарской жизненной рутины.
Есть для бунта/побега Штиллера причина и более общего философско-антропологического толка. Его удручает не только череда неудачно складывающихся жизненных обстоятельств, но и объективирующий, сковывающий «взгляд других», не позволяющий человеку свободно и спонтанно меняться, расти, реализовывать себя. Но ведь вся проблематика лица и маски, подвижной человеческой сущности и застылой, навязываемой извне «роли» во многом восходит к критике отчуждающей, дурной социальности в творчестве Толстого и других русских писателей.
Русская литература, похоже, была для Фриша школой радикализма – не только политического, но и «бытийного». Она прививала вкус к жгучим вопросам социального и философского характера, к остро критическому взгляду на привычный, устоявшийся жизненный порядок, она порождала сомнения в незыблемости этого порядка. Пьеса «Граф Эдерланд» особенно показательна в этом смысле. Ее герою, прокурору, много лет стоявшему на страже закона и общественного уклада, вдруг все надоело: размеренность службы, формальная безукоризненность судопроизводства, ставшая привычкой ложь в отношениях с женой. И то же самое происходит с другим персонажем – мелким банковским служащим, который в один прекрасный день без видимых причин зарубил топором привратника своего банка.
Судебный этот «кейс» выбивает прокурора из колеи. Он отбрасывает все знаки своей социальной и профессиональной принадлежности и перевоплощается в образ графа Эдерланда из народной легенды – мстителя и бунтаря. Он берет в руки топор – дабы прорубить себе дорогу к полной и подлинной жизни сквозь бумажные джунгли бюрократизированного мира. Пример его оказывается заразительным – и вот уже тысячи людей объединяются в бунте против законов и правил под знаком топора.
Топор – этот почти фольклорный предмет обихода обрел в литературе символическую актуальность с появлением «Преступления и наказания». Разумеется, между мотивами, двигавшими Раскольниковым и героями «Графа Эдерланда», есть много различий. Налицо, однако, и сходство. Кровавые деяния русского студента и прокурора из обобщенной среднеевропейской страны вызваны не корыстью, не бытовыми обстоятельствами – они идеологичны, они являют собой обдуманный вызов существующему миропорядку. И пусть Достоевский и Фриш, каждый по-своему, дискредитируют своих героев, обличают ложность их пути – оба автора показывают, что в почве вроде бы устойчивой, упорядоченной жизни зреют семена гнева, бунта, насилия.
Можно увидеть в монологах прокурора/ Эдерланда и перекличку с мыслями героя «Записок из подполья», предрекавшего человека, который однажды встанет фертом и нагло отвергнет хрустальный дворец пользы и рациональности – во имя драгоценного своего хотения. Для прокурора это – «хотение» спонтанного, яркого и полного существования здесь и сейчас: «Все довольствуются своей призрачной жизнью. Работа для всех – добродетель. Добродетель – эрзац радости. А поскольку одной добродетели мало, есть другой эрзац – развлечения: свободный вечер, воскресенье за городом, приключения на экране… Кто знает, может быть, деяние, которое мы называем преступным, – лишь кровавый иск, предъявляемый самой жизнью. Против надежды, против эрзаца, против отсрочки». И он ищет тот блаженный локус, где можно «жить без всякой надежды на другой раз, на завтра», где «все будет – здесь и сегодня».
…Итак, русская литература и обобщенный «образ России» были для Макса Фриша катализаторами инакомыслия, неприятия буржуазно-западного миропорядка как безальтернативной данности. Швейцарский писатель жил, писал, жестко спорил с оппонентами и с «культурным истеблишментом» Швейцарии, постоянно ощущая: там, за горизонтом, далеко на востоке, есть мир, основанный на других принципах и правилах.
Не то чтобы эти принципы и правила во всем Фриша устраивали или он считал бы, что в России живут без лицемерия, насилия или своекорыстия. Фриш принадлежал к новому поколению западных интеллектуалов-нонконформистов, которые относились к Советскому Союзу уже без того поклонения, добровольного самоослепления, что было свойственно их предшественникам-идеалистам. Они чаще пересекали «железный занавес» и могли намного критичнее отнестись к достижениям и провалам «реального социализма». У Фриша отношение к СССР менялось от десятилетия к десятилетию, но всегда оставалось трезвым. А в период, когда он писал «Штиллера», в многозначительном 1953 году, году смерти Сталина, у него вообще было очень мало сантиментов по отношению к советскому режиму, к его внешней и внутренней политике.
В романе есть «линки» на злободневные шпионско-политические скандалы, аллюзии на «дело Кравченко». Заглавный герой (которого, по сюжету, подозревают в сотрудничестве с советской разведкой), в юности находившийся под обаянием «романтического коммунизма», нынче вовсе не является поклонником сталинизма. Но вот что интересно: на тех страницах романа, где заходит разговор – вполне нелицеприятный – о СССР, рядом возникают весьма критические суждения Штиллера о Швейцарии (на которую, в образе американца Уайта, он взирает как бы со стороны): «Их явное тяготение к материальному совершенствованию, которое проявляется в их архитектуре и во многом еще, я рассматриваю как заменитель духовного совершенства… Духовное убожество, отсутствие вдохновения, постоянно бросающееся в глаза в этой стране, отчетливые симптомы приближающейся импотенции!..». Или: «Есть ли у Швейцарии… хоть какая-нибудь цель, направленная в будущее?.. Что делает Швейцарию смелой, одухотворяет ее, каково это будущее, что оправдывает настоящее? Они единодушно боятся прихода русских, а кроме того? Допустим, этот страх миновал, что объединит их тогда?.. Каков ваш проект, ваши творческие устремления?»
Создается впечатление, что значимое присутствие России (совсем не в качестве объекта поклонения) на горизонте влияет на оценочную систему координат писателя. Уж не говоря о том, что отношение к советскому эксперименту служит ему неким критерием: бездумное приятие аниткоммунистических фобий есть синоним пошлости, ограниченности, своекорыстия и конформизма. В этих грехах Фриш и уличает своих благонамеренных соотечественников.
В дальнейшем позиция Фриша в «русском вопросе» изрядно колебалась. Писатель дважды побывал в СССР, в 60-е и 80-е годы, и довольно жестко отзывался о многих сторонах советской политической реальности. При этом он неизменно сохранял симпатии к этой стране, радовался публикациям своих произведений на русском языке. Но главное – он всегда оставался приверженцем левой парадигмы и считал, что общественный уклад и порядок жизненных приоритетов капиталистического Запада должен быть изменен.
В некоторых источниках мировоззрение зрелого и позднего Фриша описывается как типично реформистское. Все, пожалуй, обстояло сложнее. Швейцарский писатель действительно был близок ко многим лидерам германской и западно-европейской социал-демократии, даже был членом делегации, во главе которой канцлер ФРГ Гельмут Шмидт посетил Китай в 1975 году. Однако верно и то, что он постоянно искал пути по возможности ненасильственных, но далеко идущих социальных преобразований и в этих поисках опять обращался к российскому опыту.
Свидетельство тому – страницы «Дневника 1966–1971», на которых Фриш цитирует фрагменты публицистики Льва Толстого времен первой русской революции и размышляет над ними. Форма размышления – диалог между двумя оппонентами, по сути, двумя сторонами натуры самого Макса Фриша.
Мысль писателя, кружа вокруг стержня нравственных убеждений Толстого, захватывает, включает в рассмотрение все новые области жизненного порядка и общественной активности. Равнозначны ли насилие правящего класса и насилие со стороны угнетенных? Каковы формы и градации насилия, особенно «системного»? Являются ли насилием репрессии, применяемые против инакомыслящих или даже бунтарей со стороны и в рамках правового государства? И, наконец, самое главное: возможны ли радикальные социальные изменения – прекращение имущественного неравенства, всевластия денег – без применения или хотя бы угрозы контрнасилия?
Феномен насилия и контрнасилия сильно занимает автора – или того участника диалога, который обозначен литерой Б. Впрочем, прийти к какому-либо однозначному выводу относительно оправданности/ неоправданности революций он не может. С одной стороны, он не видит «никакого реалистического шанса» на успех революции. С другой – не хочет увековечения существующего порядка.
При этом Фриш явно находится под мощным обаянием фигуры Толстого – человека и мыслителя, не способного указать пути к разрешению жесточайших коллизий, раздиравших тогдашнюю Россию, но храбро отрицавшего рецепты, предлагаемые и революционерами, и консерваторами, и готового пострадать за свои убеждения: «Затем я и пишу это и буду всеми силами распространять то, что пишу… чтобы одно из двух: или кончились эти нечеловеческие дела, или уничтожилась бы моя связь с этими делами, чтобы или посадили меня в тюрьму… или же, что было бы лучше всего… надели на меня, так же как на тех двадцать или двенадцать крестьян, саван, колпак и так же столкнули с скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул на своем старом горле намыленную петлю». Эти слова Толстого Б. считает «очень смелыми».
Ближе к концу жизни взгляд Фриша на мир становился все более пессимистичным. Об этом, среди прочего, свидетельствуют уклончивые, запинающиеся строки его последней публицистической работы, «Швейцария без армии?»: «Когда нам, критически мыслящим швейцарцам, указывают на реально существующий социализм, который по сравнению с утопическим социализмом беден, а это мы знаем не только из нашей буржуазной прессы, но и по собственным наблюдениям… то я считаю, что нельзя говорить о реально существующем социализме – у них, равно как у нас – о демократии плакатной, приукрашенной легендами и т. д.: мы не получим представления ни о социализме, ни о демократии».
В этом рассуждении главным является слово «утопический». Нужно иметь в виду, что для Фриша это слово вовсе не было одиозным. В другом месте и по другому поводу он писал о необходимости утопии, о ее духоподъемной функции в жизненном мире человека. Важно понимать, что под утопией он понимал не только идеальное «братское общество без господства человека над человеком», но и невиданные еще формы человеческого существования, межличностной интеракции, основанные на понимании и солидарности – без лжи, отчуждения, стереотипов.
Ведь если взглянуть широко – с понятием «утопия» всегда, на протяжении веков, связывалось представление о строе жизни лучшем, чем данный в наличности, но главное – совершенно отличном от него. Наивная, но очень убедительная формула утопического мироощущения содержится в написанной Высоцким песне Алисы из мультфильма «Алиса в Стране чудес»: «Мне так бы хотелось, хотелось бы мне // Когда-нибудь, как-нибудь выйти из дому // И вдруг оказаться вверху, в глубине // Внутри и снаружи, где все по-другому».
В этом смысле Россия, с ее масштабностью и «иномирностью», служила Фришу, и не ему одному, залогом незаконченности бытия, символом надежды на изменение, метаморфозу. Ее историческое противостояние Западу виделось ему вызовом, который будущее бросает настоящему, возможное, чаемое – реально данному. Поэтому мысли о России, может быть, сны о России были для него частью нематериального «пространства утопии», о которой он писал: «…утопия творческого, а значит, осмысленного существования между рождением и смертью – не дискредитируется нашей неспособностью “дотянуть” до нее… Утопия необходима. Она – магнит, который не отрывает нас от действительности, но задает направление нашей жизни на протяжении двадцати пяти тысяч рутинных дней…»
2015
Драмы идей, заботы людей (заметки о творчестве Лема и братьев Стругацких)
Станислав Лем и братья Стругацкие. Двуглавый орел восточноевропейской фантастики. Для поклонников этого рода литературы в Советском Союзе, да и в постсоветской России нет, пожалуй, более сакраментального сочетания имен. Скажу больше – для сотен тысяч людей они стали писателями культовыми. Причем культовыми – не в современном значении безумного и бездумного поклонения, когда любой «культурный объект», от Элвиса Пресли до Мадонны или «Спайс Герлз», может быть избран для сброса избытков психобиологической энергии. Нет, отношение публики к Лему и братьям Стругацким напоминало скорее о загадочном феномене Гаммельнского крысолова или о голосах, что поселились в (под)сознании бедной пейзанки Жанны из Арка. Кто не жил, не читал в ту легендарную пору, тому этого не понять.
В становлении репутаций и «брендов» этих двух авторов, в их творческой эволюции было немало общего. Оба начинали в жанре научной фантастики, достигли в нем высот, обрели славу. Оба довольно быстро выросли из «детских штанишек» стандартизованной НФ и оставили эти лохмотья позади. Оба вырвались на просторы общественной критики и сатиры, научно-социального прогнозирования, этической рефлексии. Оба стали символами. Стругацкие – подспудных интеллектуальных ересей и бунтов в недрах советской идеоимперии. Лем – вольного интеллектуального любомудрия, сращивания фантастики с футурологией и культурологией.
Частое упоминание этих имен рядом, через запятую или соединительный союз, вполне объяснимо. Для западного литературоведения (или советологии) Лем и Стругацкие были, вероятно, трудноразличимыми близнецами-братьями, диковинными свидетельствами того, что и в за-занавесной Восточной Европе, Ultima Thule, плавно переходящей в Сибирь, в условиях морозов, цензуры и плановой экономики расцветают порой яркие цветы мысли и воображения. Для польской же и советской читательских аудиторий близость этих феноменов определялась сходством их историко-культурных контекстов (а проще – оттепелью конца 50-х годов, связанной с именами Хрущева и Гомулки), а кроме того – действительно разительным тематическим параллелизмом Лема и Стругацких, множеством совпадений и перекличек в их книгах 50–60-х годов.
И в то же время при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что за этим далеко не случайным сходством таятся абсолютно разные и даже контрастные художественные системы. Как ни странно, фронтального их сопоставления и сравнительного анализа в критике до сих пор не было. Попробуем восполнить этот пробел.
Старт обоих авторов в жанре научной фантастики (оговариваю это особо, потому что у Лема ему предшествовала реалистическая проза – «Больница преображения», а Аркадий Стругацкий начинал написанной в соавторстве документальной книгой «Пепел Бикини») получился геометрически подобным. Первые «космические одиссеи» Лема, «Астронавты» и «Магелланово облако», от которых он позже всячески дистанцировался, отличались линейностью сюжета, бесхитростным решением традиционной темы космического перелета, полного испытаний и опасностей, обилием технических подробностей и иллюстративной научно-популярной информации, а главное – густой идеологической смазкой. Персонажи Лема несли в космос, на другие планеты и созвездия, коммунистический пафос, альтруистическую мораль, дух коллективизма и бескорыстного познания/деяния.
Почти то же самое обнаруживается в дебютных произведениях Стругацких: «Извне», «Страна багровых туч», «Путь на Амальтею», «Стажеры». Даже планета, на которую они отправили своих героев-первенцев, Быкова, Дауге, Крутикова и Юрковского, та же, что у Лема в «Астронавтах», – Венера. Замечу, что польский писатель в ту раннюю пору форсировал мотив противостояния коммунистической и капиталистической формаций даже энергичнее, чем его советские коллеги. В «Стране багровых туч» землянам-первопроходцам приходится бороться только против ловушек и опасностей чужой, недружественной природы, а у Лема астронавты, попав на Венеру, сталкиваются с зловещими, несущими в себе угрозу артефактами милитаризованной цивилизации, готовившей экспансию на Землю и ставшей жертвой собственной агрессивности. Да и в далеком коммунистическом будущем «Магелланова облака» блуждает еще теневая память о фашизме – символическом воплощении мирового зла.
Лем и братья Стругацкие почти одновременно, около 1960 года, публикуют романы «Возвращение со звезд» и «Возвращение. Полдень, XXII век», в которых разрабатывают один и тот же мотив: возвращение космической экспедиции на Землю спустя века после начала путешествия. Правда, тут уже намечаются нюансы в трактовке темы. Стругацкие в своем романе, совершенно в духе послесталинской оттепели, победительно оптимистичны. Они рисуют мозаичную картину идеального общества: здорового, радостного и энергичного человеческого содружества, созидающего, познающего, играющего на просторах преображенной земли. Трудности адаптации «пришельцев из прошлого», их врастания в незнакомую человеческую и культурную среду разрешаются благополучно и быстро – дружная семья человечества бережно заключает в объятья своих заблудившихся во времени сыновей (одновременно и предков).
Лем строит свое повествование как проблемное. У него вернувшиеся космонавты почти не узнают родную планету – слишком серьезные изменения произошли за прошедшее время. Эпоха дерзких свершений, беззаветного поиска, риска и самопожертвования безвозвратно ушла. Люди нового времени, подавив атавистические инстинкты с помощью «бетризации», больше всего ценят безопасность, комфорт и душевный покой. Между ними и звездолетчиками – чуть ли не тканевая несовместимость. Изображая аксессуары будущего с еще большей наглядностью и детальностью, чем Стругацкие, Лем делает упор на драматизме коллизии, которую переживают его герои-космонавты, на «конкуренции ценностей».
Еще рельефнее сходства и различия наших авторов проявляются при сопоставлении романа «Эдем» (1959) и повести «Попытка к бегству» (1962). Тут совпадают не только базовые ситуации – высадка земной экспедиции на иной планете и встреча с чужой цивилизацией, – но и сюжетные схемы. В обоих случаях космонавты сталкиваются с непонятным, «зашифрованным» поведением аборигенов и догадываются, что в местных обществах царит то, что с земной точки зрения можно определить как социальные антагонизмы, несправедливость, жестокое господство сильных над слабыми. Земляне должны решить: ограничиться наблюдением или вмешаться в ситуацию.
Здесь и возникает расхождение. Лем заставляет своих героев смириться с очевидным: жизнь на Эдеме, какой бы жестокой она ни выглядела, развивается по своим органическим законам. Попытка серьезного вмешательства с целью «исправления» чревата тяжелыми и непредсказуемыми последствиями – ввиду отсутствия общего языка, общего культурного опыта. Попытка контакта воспринята аборигенами – или их правящей элитой – враждебно, поэтому землянам остается лишь удалиться восвояси. Все по науке, по правилам.
Смысловое пространство повести Стругацких разомкнуто и неконсистентно. В нее могут врываться не поддающиеся учету, «беззаконные» факторы, каковым и становится один из участников экспедиции, странный человек Саул Репнин, на поверку оказывающийся командиром Красной армии, необъяснимым временным скачком переместившийся в коммунистическое будущее из немецкого концентрационного лагеря. Именно он, владеющий навыками жизни в условиях опасности, насилия, борьбы за выживание, инициирует вмешательство землян в естественный ход событий на планете. Его требование выступить на стороне «угнетенных» обосновывается, с одной стороны, нерассуждающим всплеском чувства справедливости, а с другой – историософской установкой, пусть и крайне спорной: нужно встряхнуть как следует это болото, вывести его из состояния равновесия, при котором господство злых и неправедных может длиться и длиться. И плевать Репнину на объективные законы общественного развития.
Таким образом, главная коллизия – «вмешиваться или не вмешиваться» – пере водится из исторически и логически обусловленных координат в пространство универсального этического выбора: может ли нравственное сознание мириться с жестокостью и несправедливостью в любом обличье.
Развилка наметилась, но на протяжении некоторого времени пути наших авторов оставались скорее параллельными. Стругацкие после первых своих космических опытов начинают стремительно разворачиваться от героики межзвездных перелетов, первопроходчества и миражей светлого будущего к земным заботам, сегодняшним и завтрашним, а конкретнее – к актуальным темам и спорам, волновавшим тогда советское послеоттепельное общество.
Нет нужды подробно останавливаться на их звонких, как предутренний крик петуха, книгах той поры. Арканарская бутафория, двуручные мечи Руматы Эсторского и барона Пампы – Д’Артаньяна и Портоса, – сражающихся за справедливость и прогресс, против коричневых кардиналов Ришелье и серых лавочников Бонасье. Полутрагический конфликт чувства и долга в «Далекой Радуге» на фоне мощной симфонии альтруизма и коллективного самопожертвования. Фольклорно-исторический карнавал «Понедельника», пестрый и веселый, с кавээновскими шутками и выпадами по адресу бюрократов, перестраховщиков, халтурщиков и демагогов от науки. Вопль ужаса перед воображенной картиной человечества, погрузившегося в сытость, потребительство и лютую скуку, в «Хищных вещах века». Нетрудно увидеть, что во всех этих книгах Стругацкие откликаются на культурно-идеологические веяния времени, дают быстрые, опережающие ответы на вопросы, которые еще только начинают вызревать в неглубоких недрах советского общественного сознания. И, что очень важно, как вопросы, так и ответы формулируются подчеркнуто размыто, нестрого. Главное – взбудоражить умы, возбудить в них брожение и сомнение в догмах.
Лем, начинавший как ортодоксальный представитель «социалистического реализма» в НФ, в конце 50-х, после заметной либерализации режима, отдал дань – в первых «Звездных дневниках Йона Тихого», в рассказах сборника «Вторжение с Альдебарана», в бурлескной «Рукописи, найденной в ванной» – зашифрованному фрондерству, сатирическим аллюзиям и выпадам в адрес Системы – словом, подспудному диссидентству (это, кстати, не помешало широкому признанию Лема на родине и награждению его разнообразными государственными знаками отличия). Уже в этих произведениях выявились определяющие черты его писательской манеры: экономность изобразительных средств, суховатость юмора, склонность к логическим и вероятностным парадоксам, редукция к абсурду.
В ходе работы над самыми популярными своими романами «Эдем», «Солярис» и «Непобедимый» (составившими своего рода космическую трилогию) писатель определяет «пучок» интересующих его тем, который станет стержнем его творчества, как художественного, так и эссеистического. В этих произведениях он всесторонне «обследует» абсолютно гипотетическую ситуацию Контакта: контакта человека и человечества с внеземными цивилизациями, с иноприродными разумами и, шире, – с Космосом как воплощением чуждости, инакости, потусторонности. Возможно ли понимание между типами разумов, возникшими на разной биологической основе? Каковы последствия взаимного непонимания? При каких обстоятельствах подобная «слепая», на ощупь, интеракция может обернуться конфликтом – и как его избежать? Лем подходит к этим вопросам с обстоятельностью и логической последовательностью ученого, хотя не забывает и о «саспенсе»: загадках, приключениях, опасностях.
Постепенно различия в устремлениях Лема и Стругацких, несходство их творческих индивидуальностей становились все заметнее. Для вящей наглядности лучше всего свести на рандеву их самые характерные произведения 60-х годов, ставшие эмблематичными. Я говорю о «Солярисе» и «Улитке на склоне». Тем более что, если взглянуть широко, книги эти написаны на сходную тему: о встрече человека/человечества с непонятным, чужим, о попытках «освоить» это чужое на основе собственного опыта, своих представлений, норм, стереотипов.
Вспомним роман Лема. Герой-рассказчик Кельвин прибывает с Земли на станцию, ведущую наблюдение за странным и загадочным феноменом планеты Солярис – ее Океаном, обладающим предположительно качеством разумности. Читатель вместе с Кельвином сразу же окунается в атмосферу мрачной тайны, тяготеющей над станцией: из трех ее обитателей один, Гибарян, покончил с собой, другой, Сарториус, заперся в своей комнате, а третий, Снаут, самый «нормальный», страшно напуган неизвестно чем и объясняется с Кельвином загадками.
Загадки множатся и разветвляются, создавая ощущение бреда наяву, пока напряжение не разрешается громовым ударом: появлением в комнате Кельвина его жены Хэри, покончившей с собой несколько лет назад. Становится ясно, что станция населена «пришельцами» – порождениями Океана, который материализует, оформляет образы и представления землян, таящиеся в глубинах их сознания и подсознания, связанные с их наиболее острыми, вытесняемыми переживаниями.
В смысловом поле романа два полюса: собственно Океан, уже многие десятилетия поглощающий внимание землян загадкой своей беспрецедентной, лишь частично напоминающей разумную, деятельности; и душевная драма Кельвина, который поначалу потрясен явлением покойной Хэри, но постепенно свыкается с ее присутствием, а после начинает испытывать к ней возродившуюся привязанность.
Лем задался целью представить наглядный, видимый образ Иного – и преуспел. Он создал экспрессивную картину странной жизни гигантского, планетарного масштаба: как бы слепое шевеление материи, серия трансформаций, имеющих, похоже, некую цель, хоть и совершенно непонятную. Циклическое формотворчество с последующим саморазрушением этих форм: «узоры», мимоиды, симметриады, асимметриады… Океан живет, он реагирует на воздействия землян – но способами, не поддающимися прочтению, интерпретации. Все объяснительные схемы отскакивают от него, как детские мячики от непроницаемой стены.
Роман весь построен на антиномиях. Активность солярийского океана явно разумна или, по крайней мере, целенаправленна – но непостижима для человеческого разума, а значит, не допускает никаких суждений о себе. Понимание этого уже давно проникло в коллективное сознание человечества – но оно, человечество, все равно не в силах отказаться от безнадежных попыток «проникновения» и контакта. Лем очень тонко передает острое ощущение интеллектуального соблазна, неутолимой жажды – своего рода похоти, – которые Солярис разжигает в умах и сердцах специалистов, ученых и философов.
И точно так же Кельвин отчетливо осознает, что находящаяся рядом с ним женщина – сколь угодно тонкий и точный, но суррогат, «дубль» Хэри, которую он любил, но и стал причиной ее смерти. Знание это, однако, не может побороть его любовь к воскресшей жене. Сама же Хэри, как порождение Океана, по определению не может быть человеком до конца – но по сюжету проявляет чисто человеческую способность к самопожертвованию ради любимого. И мы, читатели, вместе с героем принимаем невероятное, разрываемся между полюсами этой жестокой коллизии, причащаемся тоске Кельвина и его абсурдной надежде на чудо.
Лем в «Солярисе» соединяет самым счастливым образом те свои творческие свойства, которые чаще существуют у него порознь: богатство, яркость и предметность воображения, остроту и масштабность интеллектуальной проблематики и, не в последнюю очередь, живость и достоверность психологического анализа. Чрезвычайно пластично выписанная солярийская реальность, масштабная и острая гносеологическая проблематика очень удачно совмещаются здесь с душераздирающей – и убедительно переданной – человеческой драмой.
Именно в этом плане «Солярис» не слишком типичен для Лема. В обрамляющих его «Эдеме» и «Непобедимом» явственно проявляется тенденция к «дегуманизации» повествования. В «Эдеме» персонажи даже лишены человеческих имен и обозначаются согласно роду своих занятий: Инженер, Доктор, Кибернетик. Автор четко дает понять, что приключения идей интересуют его больше, чем переживания и психологические перипетии людей.
А теперь – к «Улитке на склоне». Здесь тоже присутствует непонятная, загадочная и активная сущность, разжигающая любопытство любознательных, бросающая вызов человеческому разуму, придающая сюжету динамику. Это Лес, в который со страхом, надеждой, чувством вины вглядывается «сверху» аутсайдер Перец, внутри которого вынужден жить и действовать «потерявший голову» Кандид (непрямой наследник вольтеровского Простодушного).
Аналогия с Океаном из «Соляриса» напрашивается, хотя и весьма нестрогая. В отличие от Океана, главным атрибутом которого у Лема служит радикальная инакость, «потусторонность» с человеческой точки зрения, Лес представляет собой Иное, но не удаленное, располагающееся «за поворотом в глубине». Лес – мутант нашего мира, его экстраполяция в сферу странного, неведомого, но возможного. Управление по делам Леса связывает эту «иносущность» с вполне посюсторонней реальностью.
Невооруженным глазом видно, как смысловое поле романа тянет и перекашивает в сторону актуальных вопросов, которыми жило и волновалось коллективное сознание страны, в особенности его молодая интеллигентская прослойка. На переднем плане – слегка завуалированная критика разных сторон советского общественного устройства, гротескно воплощенных в реальности Управления: авторитарности, смешанной с некомпетентностью, бюрократизма, бестолковщины, демагогии, двоемыслия.
За этой почти фельетонной плоскостью встают более сложные и общие идейные комплексы. Гротескные похождения Переца в коридорах и лабиринтах Управления наводят на мысли о человеческом отчуждении и конформизме, о серости, убогости, чтобы не сказать скотстве, повседневного массовидного существования, о разнообразных путях, которыми Система подчиняет себе, заставляет себе служить как рядовых обывателей, так и своих потенциальных оппонентов.
Финальная глава «управленческой» линии, в которой Перец чудесным образом – или злой авторской волей – превращается в того самого вездесущего и неуловимого Директора, трактует о соблазнах власти, о сладкой для любого интеллигента иллюзии использования власти во благо, овладения этой хитрой «теорией машин и механизмов» и подчинения ее себе…
Не менее насыщено и смысловое поле «лесной» линии. Поначалу читателю приходится вживаться в абсурдно-инертную, обволакивающую и угрожающую здешнюю реальность, где болото и растения как будто более активны и жизнеспособны, чем «гуманоиды».
Наконец герою – и нам вместе с ним – становится ясно: на острие вектора прогресса в «лесном» мире находится цивилизация местных амазонок, открывших внеполовой способ размножения – партеногенез. Мужская часть населения делается при этом ненужной. Аборигены, не приобщившиеся к столь продвинутой цивилизации, оттесняются на обочину жизни, им предоставляется возможность вымирать – постепенно и почти незаметно, почти безболезненно для них самих.
Кандид оказывается перед выбором: принять безальтернативность «прогресса», согласиться с его очевидной рациональностью и целесообразностью – или действовать согласно внерациональному моральному импульсу, требующему становиться на сторону слабых, ущербных, истребляемых, потому что они – люди. Выбор непростой, а главное, непривычный, если перед ним поставить Homo soveticus, сызмальства приученного отождествлять всякое благо с поступательным ходом истории, с вектором общественного развития. Именно это и делало семантику «Улитки» столь напряженной, привлекательной для тогдашних ее читателей.
Итак, если сравнивать смысловое пространство этих произведений, бросается в глаза разница их «топологий». В «Солярисе» – две четкие взаимодополняющие магистрали с хорошо просматриваемыми ответвлениями. Все достаточно прозрачно и упорядоченно. Почва «Улитки» дыбится и щетинится разнонаправленными и разноуровневыми вопросами, коллизиями и аллюзиями.
Не менее показательно сопоставление самой художественной ткани, словесной субстанции этих опусов. У Лема даже в самом драматичном, человечески волнующем его произведении материя текста добротна и пластична, но – неярка, интонационно бедновата, функциональна. В этом Ich-Erzählung мы ни на минуту не забываем, кто хозяин положения и дискурса. Рассказ ведется спокойно и ровно, последовательно, без пропусков и скачков. Парадокс: Крис Кельвин рассказывает о своем запредельном, не укладывающемся ни в сознании, ни в душе опыте языком стандартного любовно-психологического романа: «Хэри встала. Я хотел что-нибудь сказать, чувствуя, что нельзя так заканчивать разговор, но слова застревали в горле.
– Хэри…
Она стояла у окна спиной ко мне. Темно-синий, пустой Океан распростерся под голым небом.
– Хэри, если ты думаешь, что… Хэри, ведь ты же знаешь, я люблю тебя…
– Меня?
Я подошел к ней, хотел ее обнять. Она оттолкнула мою руку.
– Ты такой добрый… – сказала она. – Любишь? Лучше бы ты меня бил!
– Хэри, дорогая!
– Нет! Нет! Замолчи, пожалуйста!»
«Улитку» же отличает широкий набор разнообразно стилистически окрашенных спектральных линий, рваный повествовательный ритм, перепады экспрессивности и образной насыщенности. Вот Перец после неудавшейся попытки покинуть территорию Управления возвращается к привычной рутине: «В кабинете было сумеречно и холодно, сизый табачный дым плавал между шкафами, как студенистые водоросли, а менеджер – бородавчатый, раздутый, пестрящий разноцветными пятнами, – словно гигантский осьминог, двумя волосатыми щупальцами вскрыл лакированную раковину шахматной доски и принялся хлопотливо извлекать из нее деревянные внутренности. Круглые глаза его тускло поблескивали, и правый, искусственный, был все время направлен в потолок, а левый, живой, как пыльная ртуть, свободно катался в орбите, устремляясь то на Переца, то на дверь, то на доску». Последовательно проведенное сравнение с подводным миром не только создает запрограммированный «эффект отчуждения», но обладает собственной метафорической ценностью.
Вот сцена беседы Переца с тем, кого он принимает за директора Управления, загадочного и всемогущего вершителя здешних судеб:
«– Я вас спрашиваю: что вы здесь делаете? – сказал директор, обращая к Перецу слепые глаза.
– Я… Не знаю. Я хочу уехать отсюда.
– Ваше мнение о лесе. Кратко.
– Лес – это… Я всегда… Я его… боюсь. И люблю.
– Ваше мнение об Управлении?
– Тут много хороших людей, но…
– Достаточно.
Директор подошел к Перецу, обнял его за плечи и, заглядывая в глаза, сказал:
– Слушай, друг! Брось! Возьмем на троих? Секретаршу позовем, видел бабу? Это же не баба, это же тридцать четыре удовольствия! “Откроем, ребята, заветную кварту!..” – пропел он спертым голосом. – А? Откроем? Брось, не люблю. Понял? Ты как насчет этого?
От него вдруг запахло спиртом и чесночной колбасой, глаза съехались к переносице».
В этом эпизоде стремительные переходы тона мнимого директора от дружественной интеллигентности к безличной канцелярщине, а от нее – к пьяному панибратству придают ситуации насыщенно-гротесковый колорит.
(Эти трансформации живо напоминают о Кафке, и действительно, «Улитка на склоне» – самая удачная пересадка кафкианской поэтики на российскую литературную почву.)
А рядом – контрастирующие с предыдущим отчаянно-серьезные размышления Кандида о сущности того, что происходит под покровами Леса: «…Закономерности не бывают плохими или хорошими, они вне морали. Но я-то не вне морали! Если бы меня подобрали эти подруги, вылечили и обласкали бы, приняли бы меня как своего, пожалели бы – что ж, тогда бы я, наверное, легко и естественно стал бы на сторону этого прогресса <…> может быть, дело в терминологии, и, если бы я учился языку у женщин, все звучало бы для меня иначе: враги прогресса, зажравшиеся бездельники… Идеалы… Великие идеи… Естественные законы природы… И ради этого уничтожается половина населения! Нет, это не для меня. На любом языке это не для меня».
Вот про них не скажешь, что они – уверенные хозяева дискурса. Сказано: «Поэта далеко заводит речь». К прозаикам братьям Стругацким это относится в полной мере. Они в «Улитке», как и во многих других вещах, отпускают частенько поводья, покорно следуют за языком с его строптивым норовом и капризными преференциями. И язык приводит их к находкам и результатам порой неожиданным для них самих, но выигрышным.
Польский писатель, конечно, тоже не был сухарем и не уважал академического занудства. Он, например, создает в 60-е годы свои «Сказки роботов» и примыкающий к ним сборник «Кибериада». Проект этот явно предпринят забавы ради, но и забавляется Лем своеобразно. Он здесь дает волю своему воображению, изобретательному и одновременно очень «конструкторскому», своему суховатому чувству юмора, которому сподручнее играть словами и формулами, чем характерами и человеческими ситуациями, своей склонности к комбинаторике и извлечению разнообразных следствий из ограниченного набора посылок. В сущности, в «Сказках роботов» мало по-настоящему веселого, живого, поскольку сюжетные перипетии вытекают тут из довольно механического совмещения традиционного сказочного антуража с научной терминологией и басенной аллегоричностью.
Надо сказать, что у братьев Стругацких в «Понедельник начинается в субботу» сходная задача получала намного более «сочное» решение за счет ярких речевых характеристик персонажей, целенаправленного перемешивания условного с реальным, фантастического с психологическим, сказочно-мифологического с узнаваемо-современным.
Что Лему в 70-е годы действительно удавалось, так это замысловатые и отточенные «арабески» на традиционные социальные/ фантастические темы. В «Футурологическом конгрессе» писатель представил яркую сатиру на быт и нравы научного сообщества, на становящийся рутиной разгул терроризма и протестных движений, а заодно изящно разработал мотив галлюциногенного воздействия на сознание людей во имя всеобщего довольства и спокойствия в условиях жестокой ограниченности ресурсов и деградации окружающей среды. Небольшая повесть «Маска» в очередной раз варьирует старинный мотив искусственного интеллекта в аспекте его самопознания и зарождения в нем свободы воли. Тему эту Лем очень тонко вписывает в мерцающий условно-средневековый антураж и, с помощью остроумных трансформаций, сообщает ей не только фабульную занимательность, но и подлинный драматизм. Роман «Насморк» – прекрасный образец интеллектуального детектива – без примеси фантастики – со сгущающейся атмосферой загадочности, качественным «саспенсом», отвлекающими маневрами и совершенно неожиданным финалом. Мораль этого финала в том, что вероятности и совпадения правят миром, поэтому успешное раскрытие многих детективных загадок следует по праву отнести к счастливым случайностям.
Несколько особняком тут стоит роман «Глас Господа», который уместнее все же считать беллетризованным трактатом на центральную для Лема тему человеческого познания, его границ, его зависимости от самых разных предпосылок: биологических, исторических, социально-политических, идеологических. Это суховатый, по чти протокольный рассказ знаменитого математика Питера Хогарта о его участии в закрытом проекте по расшифровке нейтринного космического излучения, в котором обнаружились свойства искусственного сигнала – послания инопланетного разума.
Хогарт обстоятельно повествует об истории открытия «феномена», а главное – о буднях проекта, к которому его подключили на определенной стадии: о его структуре, бюрократической иерархии, взаимоотношениях начальства и рядовых сотрудников, военных и штатских, физико-математиков и «гуманитариев». Но главное – это рассказ о приключениях и драмах научной мысли, движущейся путем проб и ошибок: о накоплении сведений, построении моделей, о штурмах и прорывах, оборачивающихся тупиками, о прозрениях, сменах парадигм, разочарованиях.
Хогарт предстает в романе в функции регистратора и хроникера, хотя автору и хочется создать трехмерного героя из плоти и крови. Ради этого он наделяет его утепляющими черточками – вроде любви к хорошему коньяку или к поэзии Вордсворта. Ради этой цели он снабжает «рукопись» обширной вводной главой, в которой Хогарт занимается самообнажением, исповедуется, обсуждает свои детские комплексы, неприглядные стороны своей натуры и издевается над культурными стереотипами, представляющими ученых идеалистами и средоточиями нравственных достоинств.
Все напрасно. Самоирония, беспощадность героя к себе не делает его более живым и самодостаточным. Однако одно безусловно отличает его от «мыслящей машины». Это – острая, порой мучительная рефлексия рассказчика относительно возможных последствий Проекта и моральной ответственности, которая ложится на плечи его участников. В образе профессора Хогарта Лем воплотил тот комплекс угрызений совести и раскаяния, который обнаружился задним числом в сознании многих сотрудников Манхэттенского проекта (параллели между этими начинаниями в романе жирно подчеркиваются). Герой прекрасно понимает: если удастся выделить «военную составляющую» послания, чинам Пентагона (с точностью до их коллег из советского Генштаба) не устоять перед соблазном немедленно использовать открытие для нанесения превентивного удара по потенциальному противнику. Но и добытое преимущество вряд ли сможет предотвратить ответный удар, а значит – «гарантированное взаимное уничтожение».
К счастью, этого не происходит – сигнал вообще не удается расшифровать. Финал повествования окрашен смешанными чувствами облегчения и разочарования. Познавательные способности человеческого разума весьма ограничены, но в этом, быть может, шанс человечества избежать самоубийственного конца.
И снова трудно удержаться от того, чтобы сопоставить роману Лема произведение Стругацких, на этот раз «Пикник на обочине». Бросается в глаза инвариантное сходство в постановке проблемы: встреча человечества с артефактами, созданными далекой внеземной цивилизацией, и кризис, вызванный этой встречей, ибо человечество на «рандеву» обнаруживает свою незрелость, моральную ущербность и внутреннюю расколотость.
У Стругацких, однако, эта смысловая посылка воплощается в насыщенном, полнокровном сюжете, в центре которого – психологически на редкость достоверный образ сталкера Рэда Шухарта, от первой и до последней страницы постоянно меняющегося, раскрывающего все новые черты своего характера то во внутреннем монологе, то в объективном авторском описании со стороны. К этому, конечно, нужно добавить удачно найденный и любовно разработанный «идеобраз» Зоны – воистину чужеродного, «нечеловеческого» пространства, в котором разлиты угроза, опасность, тайна, но в то же время и странная, притягательная магия.
Оговорюсь – речь в этой статье не идет о сравнительных достоинствах той или иной манеры письма или ее совместимости с фантастической парадигмой; о преимуществах или недостатках традиции реалистико-психологического изображения против стихии эссеизма, слегка прикрытой авторской рефлексии и аллегоризма. Просто важно подчеркнуть это органическое и определяющее тяготение Стругацких и Лема к противоположным полюсам литературного дискурса. К этому добавляются и различия в социальных темпераментах наших авторов.
Движение расходящимися курсами продолжалось. Станислав Лем все больше удаляется от традиционной фантастики, да и от традиционной литературы вообще. В самом деле, к чему вязнуть в глине правдоподобия или скрупулезно разукрашивать рисованные облака/миражи фантазии, зачем тратить время на беллетристические условности – отделку характеров, придумывание обстоятельств, интерьеров, мотивировок, – когда жгучий интерес представляет сама смысловая эссенция: идеи, проблемы, теории, парадоксы, гипотезы, модели и прогнозы. Именно к этому, думаю, влеклась натура Лема, и ему не стоило большого труда отряхнуть беллетристический прах со своих ног. Тем более что в этом начинании он мог опереться на солидную традицию – условно говоря, свифтовско-вольтеровскую.
При этом он продолжает пребывать в двух литературных ипостасях. Первая – скорее теоретическая, (пара)научная. Еще в «Сумме технологии» Лем задался целью проникнуть взглядом в будущее, исходя из творческого анализа тенденций научно-технологического развития. Попытка эта оказалась не слишком удачной – действительность в очередной раз подтвердила свое нежелание умещаться в клетках прогностических схем. В двухтомной «Фантастике и футурологии» польский писатель, демонстрируя не только поразительную начитанность в современной фантастической литературе, но и изрядное знакомство со структурализмом, вознамерился отделить зерна от плевел и выстроить строгий научно-фантастический канон, позволяющий определять, «что такое хорошо и что такое плохо». В «Философии случайности» он анализирует творчество признанных мастеров мировой литературы и отдельные их шедевры с позиций теории вероятности, соотношения детерминизма и случайности, представляя эти литературные феномены в непривычных ракурсах.
В другой своей ипостаси Лем осваивает роль ворчливого и язвительного смотрителя Вавилонской библиотеки (по Борхесу), распорядителя всего накопленного человечеством духовно-интеллектуального достояния. В собственно художественной практике он зачастую буквально идет по следам Борхеса, подробно развертывая небрежно разбрасываемые аргентинцем методологические намеки и наметки, семена смысловых и жанровых парадигм. От Борхеса – мысль писать предисловия к несуществующим книгам или рецензии на них, реализованная в сборниках Лема «Абсолютный вакуум» и «Мнимая величина». Тут проявлялась и отмеченная выше прогрессирующая склонность к редукционизму: вместо законченных «серьезных» произведений – сжатые, приправленные сарказмами и парадоксами дайджесты, позволяющие, к тому же, выворачивать наизнанку и дезавуировать собственные построения. Да здравствует и торжествует амбивалентность! Лем примеряет наспех скроенные повествовательные маски, говорит разными голосами – то голосом «Голема XIV», сверхмощного компьютера, истинного «бога в машине», учиняющего суд над смешными претензиями человеческого разума; то голосами анонимных рецензентов и переводчиков («Провокация»); то своим собственным, но дрожащим от скрытого смеха («Библиотека XXI века»).
И вот что интересно. Проблематика его разножанровых сочинений становилась все шире, глобальнее. Кажется, что Лем в этот период нашел новое применение космосу – там, в звездных далях, он учредил некую обзорную точку для наблюдения за прошлым и будущим человечества, для суждений о человеческом роде. Он предлагает новаторские эволюционные теории, оригинальные объяснения феноменов нацистского геноцида и терроризма, предсказывает пути гонки вооружений в XXI веке. Масштаб его мысли восхищает и подавляет. И в то же время не оставляет ощущение, что перед нами игра, все более автономная по отношению к реальному миру, имеющая целью развлечение и интеллектуальное самоудовлетворение игрока-демиурга. Да и выразительные средства становятся все однороднее, суше – доминирует здесь ироническая интонация в разных регистрах. На языке вертится печальное слово «стерильность».
Братья Стругацкие до самого конца своего совместного творческого пути оставались плотью от плоти «советской цивилизации», отнюдь не элементарной, не однородной по своему идейно-духовному составу. Именно в этих рамках они созревали и самоопределялись, утверждали и отрицали, уклонялись и бунтовали. Здесь был их Родос, здесь они и прыгали, никогда не отрываясь слишком сильно от своей исторической почвы.
Творческий же их метод все яснее проявлял свою генетическую связь с классической традицией русской литературы – с Гоголем и Салыковым-Щедриным, А. Н. Толстым и Булгаковым (отдельная тема – неявные реминисценции в их книгах на моральные и идеологические темы Достоевского). Они отнюдь не чурались постановки масштабных вопросов, проектирования интеллектуальных и этических моделей. Но делали это обычно на сугубо «человеческом» материале, помещая героев в узнаваемые, пусть и обостренные до предела или гротескно за остренные жизненные ситуации и коллизии, заставляя их действовать в заданных обстоятельствах, сообразно любовно скроенным и добротно сшитым характерам… Они, может быть бессознательно, следовали совету/завету, с которым обращался к самому себе молодой Альбер Камю: «Хочешь быть философом – пиши романы». А фантастические их находки и допущения, истончаясь, утрачивая физическую осязаемость и пространственные координаты, все больше превращались в инструменты – лупы, призмы, светофильтры – укрупнения и прояснения волновавших их проблем.
Яркое подтверждение этому – их повесть середины 70-х годов «За миллиард лет до конца света». Узнаваемый жизненный фон, внушающие доверие и симпатию образы главного героя, астронома Малянова, его друзей и близких, загадочное искажение привычного образа жизни и научной работы… Фантастический «концепт» повести – Гомеостатическое мироздание, безличная, сугубо умопостигаемая сила, которая почему-то (для ненарушения некоего мирового равновесия?) не дает ряду людей спокойно заниматься их профессиональным делом. Идея остроумная, но вызывающе туманная, допускающая множество разных истолкований. В то же время аллегорический смысл повести прочитывается абсолютно ясно. Речь идет о поведении разных людей в обстоятельствах жестокого внешнего давления, об экзистенциальном выборе: сохранять ли – с высокими рисками – личное достоинство, верность призванию и убеждениям, или уступить давлению, подчиниться, отказавшись от чего-то очень важного в себе.
Такая коллизия была прекрасно знакома многим из читателей Стругацких, и не только из сочинений Сартра, Камю или Солженицына, а из опыта жизни в условиях тоталитарной советской системы, защитные механизмы которой работали с анонимной непреклонностью законов природы. Представили же ее Стругацкие с редкостной наглядностью и проникновенностью.
…Историческое время текло, происходили существенные изменения в мире, в общественной жизни Советского Союза и Польши, которые, разумеется, влияли на обстоятельства и мировоззрение наших авторов. Общим знаменателем тут было разочарование в прогрессе, в осмысленности исторического движения, усиление скептицизма (впрочем, не будем забывать и о чисто возрастных факторах). Стругацкие еще во «Втором нашествии марсиан», в «Гадких лебедях», в «Пикнике на обочине» усомнились в способности человечества существенно исправить свою тварную природу, справиться с вызовами, которые порождаются его собственным развитием. В 70–80-е годы эти сомнения становятся все более тягостными и неотступными. В «Жуке в муравейнике» они распространились на сферу морали и познания, обусловив трагический финал повести. Прогрессор Лев Абалкин не просто убит – важнее то, что человеческий разум в лице Сикорски и Каммерера не способен разрешить «казус Абалкина», окончательно решить, являлся ли он невинной жертвой стечения обстоятельств или был невольным орудием несущих угрозу Странников… В написанном тогда же «в стол» романе «Град обреченный» Стругацкие отстраненно и в то же время с грустной, самопокаянной усмешкой обозрели блуждания «советской психеи» по лабиринтам энтузиастических надежд, иллюзий, самообольщений, закончившиеся тупиком конформизма и горького релятивизма.
Но и в пору экклезиастовой умудренности братья Стругацкие остаются одержимы «социальными эмоциями», не утрачивают возбужденного, личностно-заинтересованного отношения к борьбе добра и зла в человеческой душе, к моральному выбору и его цене, к конформизму, властолюбию, альтруизму… Они продолжают «суетиться», продуцировать аллегории и притчи, придумывать проблемные ситуации, часто корявые, «некорректные» – и все, чтобы растревожить, уязвить (оводы этакие!) инертное сознание и дремлющую совесть своих сограждан. Это относится и к поре позднего застоя, и к лихорадочному периоду перестройки.
Лем в 1980 году, накануне решительной схватки «Солидарности» с властями, без эксцессов и скандалов покинул Польшу и перебрался в Западный Берлин, оттуда в Вену. В конце 80-х он так же спокойно вернулся в Краков. В своей писательской стратегии он, конечно, был намного последовательнее Стругацких. Если пределы человеческого разума, предпосылки человеческой морали, саморазрушительные тенденции современной цивилизации прояснены, то к чему же тратить пыл и душевную энергию на бесполезную жестикуляцию, на обличение сиюминутных несправедливостей и заблуждений! Род человеческий не заслуживает ничего лучшего, чем злая, отстраненная, хлесткая, как пощечина, насмешка (возможно, впрочем, что Лем рассчитывал и на терапевтический, шоковый эффект подобной насмешки). Более мрачно он оценивал и общие перспективы жизни – недаром центральное место в его размышлениях этого периода занимает мотив случайности как фундаментальной характеристики нашего мира.
И все же глубоко запрятанная писательская жилка не давала Лему успокоиться в резиньяции – или хотя бы целиком переключиться на эссеистику. В 80-е годы он публикует, наряду с многочисленными памфлетами и мрачно-юмористическими мистификациями, самые обыкновенные романы: «Осмотр на месте», «Мир на земле», «Фиаско». Впрочем, нет – не совсем обыкновенные.
Речь идет о явно «закатных» опусах, что подтверждается не только некоторым угасанием энергетики воображения, но и сознательными повторами, обращением к уже отработанным образно-смысловым моделям. В «Осмотре на месте» и «Мире на земле» Лем возвращается к фигуре и уже описанным приключениям Ийона Тихого, в «Фиаско» всплывает имя пилота Пиркса и воспроизводится сюжетная схема «Эдема».
Что же являют собой эти итоговые сочинения? Умозрительные ревю человеческих заблуждений, пороков, иллюзий, манифестации неизбывной испорченности человеческой природы. В «Осмотре на месте» абсурдистский юмор «Дневников Ийона Тихого» дополняется пародией на энциклопедизм и ученую схоластику, а также дискредитацией идеологической оппозиции «коммунизм – капитализм» под девизом «Чума на оба ваши дома». (Впрочем, надо сказать, что начальные главы «Осмотра», живописующие злоключения Тихого в благополучнейшей Швейцарии, написаны замечательно смешно.)
В «Фиаско» писатель разворачивает весьма подробную, с предметно-визуальными иллюстрациями, вариацию на исхоженную вдоль и поперек тему контакта человечества с внеземными цивилизациями. Но на этот раз Лем делает упор не на гносеологической стороне дела, не на трудностях взаимопонимания, а на неистребимой жажде человека настоять на своем, на агрессивном стремлении подстричь чужое под свою гребенку – в том числе и пользуясь своим силовым превосходством… В романе много рассуждений и споров, которые персонажи ведут на темы Контакта, высказывая аргументы логические, военно-стратегические и даже теологические, однако неизбежность именно такого, как в сюжете, развития событий не столько доказывается, сколько постулируется.
Стругацкие в это десятилетие пишут такие произведения, как «Волны гасят ветер», «Хромая судьба», «Отягощенные Злом», в которых тоже подводят итоги, порой с возвратами и повторами. В «Волны гасят ветер» они устраивают прощание со многими свои ми сквозными героями и темами: темой прогрессорства, темой Странников, темой векторов и пределов развития человечества. В известном смысле цитируя «Гадких лебедей», они провозглашают: безграничное видовое совершенствование – это удел новой расы, сверхчеловеков, которым дорога в космос, к Странникам, к черту на кулички. А просто люди останутся на земле, будут заниматься сегодняшними заботами и хоронить своих мертвецов.
Разделавшись с обязательствами по футорологическим векселям, братья Стругацкие сосредоточились на делах сегодняшних и даже вчерашних. При этом они все откровеннее жмутся к родному лону русской литературы, пусть и с модификациями в духе времени. В повести «Хромая судьба» реалистически точные, ядовитые зарисовки быта и нравов «творческих работников» перемежаются воспоминаниями, ностальгическими погружениями в собственное прошлое (все это лишь слегка тронуто фантазийным флером). Характерно, что чуть позже они решили соединить «Хромую судьбу» с «Гадкими лебедями» под одной обложкой, чтобы получить сложноструктурированный текст с многочисленными внутренними перекличками и рифмами, на разных уровнях атакующий читательское восприятие и воображение. Главная их цель тут – продуцирование и резонансное усиление чисто художественных эффектов.
Тот же принцип используется и в романе «Отягощенные Злом, или Сорок лет спустя»: два перемежающихся и перекликающихся сюжета, с парадоксальными замыканиями в финале, густая смесь гротесковой сатиры, моральной рефлексии и мифологических аллюзий. Что особенно сближает «Отягощенных Злом» с «Хромой судьбой», так это густая тень Михаила Булгакова и реминисценции его творчества в обоих произведениях.
…Осталось задаться заведомо некорректным вопросом – кто же из этой пары близнецов-антиподов больше преуспел, кто оказался впереди и выше? Конечную оценку давать трудно, да и рано, но некое субъективное суждение рискну высказать. В «большом» (читай, западном) мире Станиславу Лему оказывается больший пиетет. Его чаще переводили на английский, французский и немецкий, его, как будто, чтут и как мыслителя, по крайней мере, как своеобразного футуролога и критика культуры. Однако в нашу переполненную информацией эпоху эти почести оказываются на поверку формальными и эфемерными. Большого количества ссылок и откликов на литературное наследие и интеллектуальную продукцию польского писателя я не встречал.
Лем оказался в блистательной изоляции. Для рядовых потребителей фантастической литературы он слишком высоколоб. Для любителей «популярной науки» – чрезмерно философичен и абстрактен. Для ценителей артистической прозы, хотя бы в борхесовско-набоковской ипостаси, он недостаточно ярок и спонтанен в своей выдумке. Изощренные построения позднего Лема, порождения его неуемного интеллекта и безграничной эрудиции, сегодня кажутся диковинными и неупотребимыми игрушками, вроде эфемерных изобретений его робо-персонажей Трурля и Клапуция.
Конечно, «Солярис», неоспоримо замечательное его достижение, сохраняет высокий ранг в восприятии нескольких поколений читателей – но и то в немалой степени благодаря знаменитой киноверсии Тарковского, к которой у самого Лема были большие претензии…
Стругацкие остались, в основном, заперты в русскоязычной ойкумене (с некоторыми прорывами в Восточную Европу и в англосаксонский мир). Но в этой «резервации» их книги, их «имидж» сумели сохраниться – несмотря на убийственные вызовы времени. Советская цивилизация, с которой их творчество неразрывно связано, канула в Лету, вместе с ее проблемами, надеждами, иллюзиями и внутренними борениями, которые сейчас представляются архаичными. А с нею – и многие смысловые парадигмы книг Стругацких. Но оказалось, что и оставшегося довольно, чтобы держать их на плаву.
Тексты Стругацких врезались в память читателей увлекательнейшими сюжетами, живыми героями на распутьях выбора, звонкими фразами-паролями: «Счастье для всех даром», «Все это прекрасно, но вот что, не забыть бы мне вернуться», «Стояли звери около двери…». Время показало, что множество частных ситуаций, коллизий и образов Стругацких, которые вроде бы «работали» только в общем контексте идеологического фрондерства и противостояния Системе, сохраняют самоценную прелесть и притягательность, в том числе и в новые времена.
Факт – пройдя через период отлива и забвения, творчество Стругацких переживает сегодня пусть скромный, но ренессанс. Это подтверждают экранизации последнего времени: «Гадкие лебеди» Лопушанского, «Обитаемый остров» Ф. Бондарчука. Да и Алексей Герман-старший продолжает держать в напряжении кино– и литературное сообщество, который год обещая вот-вот выпустить на экраны «Трудно быть богом».
Возвращаясь в сферу словесности, отмечу уникальный проект «Время учеников». Несколько десятков фантастов, причислявших себя к «школе», создали серию произведений, варьирующих темы и сюжеты «мэтров». Да и вообще влияние Стругацких на российскую фантастику как советского, так и постсоветского периодов было огромным: они дали этой фантастике мощную прививку «серьезности», социальной и этической проблемности. Достаточно назвать имена В. Рыбакова, А. Столярова, С. Лукьяненко.
С Лукьяненко ситуация особенно интересная. В его знаменитом «Ночном дозоре» несколько даже комичное впечатление производит сочетание сугубо «фэнтезийных» аксессуаров (вампиры, маги, оборотни, вековая борьба Света и Тьмы) с этическими коллизиями, мучающими главного героя Антона и прямо позаимствованными из сочинений Стругацких 60–70-х годов: что позволено и что нет? можно ли жертвовать в борьбе за высокую цель другими – или только собой? как быть, если твои действия, пусть и продиктованные самыми благими намерениями, имеют побочные «злые» эффекты?
Сюжеты и темы Стругацких постоянно всплывают в публицистике Д. Быкова. Влияние их поэтики ощущается в «ЖД». А коллизии последнего романа Быкова «Списанные» до боли напоминают «За миллиард лет до конца света»: жизнь под давлением, ценности частной жизни, автономной самореализации против требований совести и долга, необходимость выбора.
Что ж – пока итог складывается, на мой взгляд, в пользу Стругацких. Однако итог этот ни в коем случае не окончателен. Вполне возможно, что спустя какое-то время саркастические парадоксы и универсальные логико-прогностические построения Лема снова завладеют вниманием публики. Само продолжение такого соревнования вселяет надежду.
2009
Набоков и ЛБИ
О Набокове? Сегодня? Почему? Поводов, как будто, никаких. Репутация писателя незыблема, признание – широкое, читают его так же мало, как и других классиков прошлого века, снискавших когда-то славу бунтарством или консерватизмом, заигрыванием с публикой или эпатажем.
Нельзя сказать, что взгляды и художественная практика Набокова сейчас особенно актуальны, влиятельны. Или наоборот – что принципиальные его оппоненты своими достижениями опровергли Набокова, оставили его в арьегарде. Писать о Набокове интересно потому, что его творчество превратилось в один из самых устойчивых мифов новейшей литературы. А миф в наше время всегда порождает проблемы и ереси, стимулирует мифоборчество.
Признаться, я не отношусь к самым горячим поклонникам прозы Набокова, что станет вполне ясно при чтении этой статьи. Спору нет, он – писатель огромного и яркого таланта. Он истинный повелитель слов, заставляющий их, как целую стаю золотых рыбок, служить и быть у него на посылках. Он – бык на арене литературной корриды, в блистающей стилевой броне, приводящий своей грацией и неуязвимостью в отчаяние трудяг-матадоров. Смешно было бы уличать Набокова в тех или иных грехах, пенять ему за то, что он писал по-своему, а не как другие. Хочется, однако, стряхнуть с кумира золотую пыль, которой он сам себя так густо осыпал (а за ним уже поспевали верные адепты). А заодно оспорить его эстетическую догматику (да, догматику, пусть и высказанную слогом усмешливым, не обязывающим).
Взять, скажем, его знаменитые Strong Opinions – задиристые, по внешности спонтанные, а на деле тщательно продуманные выпады по адресу литературных современников и предшественников. Эти поношения, кстати, добавили немало к его славе и репутации капризного, рыкающего гения. Разумеется, рассыпание колких намеков и звонких оплеух, высокомерное третирование соперников – часть стратегии самоутверждения, без которой художнику в нашей рыночной цивилизации не выжить. И Набоков владел этой техникой в совершенстве. Но присутствовало здесь и нечто от глубокого убеждения, от credo.
Один из главных пунктов этого убеждения: художественная литература должна быть абсолютно независимой от реальной, профанной жизни. Она, конечно, использует жизненные факты и обстоятельства как сырье, но является при этом полем вольной игры творческого воображения, пространством, где волшебная палочка автора превращает обыденные предметы, лица и положения в красоту, в произведения искусства – блистательные и самоценные.
Конечно, после парнасцев и Уайльда это не ново, но в культурном контексте двадцатого века звучало вызывающе, до эпатажа анахронично. В эпоху походов и войн, революций и мобилизаций, воинствующих диктатур и демократий Набоков поднял бунт не только против идеологии и ангажированности – против всяких попыток литературного осмысления реальности.
(Характерно, что Набоков не был при этом человеком аполитичным, лишенным «гражданской позиции». Ее он высказывал неоднократно, и она аккуратно укладывалась в либерально-консервативную, умеренно правую парадигму.)
Естественным следствием такого подхода был принцип отрицания Литературы Больших Идей (ЛБИ), то есть, в понимании Набокова, литературы, склонной рассказывать читателю о сути окружающего его мира, что-то в этом мире объяснять и критиковать, отстаивать некие позиции, ценности. Такая склонность вызывала у писателя отвращение и насмешку. Главное в литературном произведении – структура и стиль, а вовсе не мировоззрение или идеи. Твердо следуя этому принципу и в литературных оценках, и в творческой практике, Набоков не боялся доходить до крайностей.
Начнем с личных симпатий и антипатий. К русской классической традиции он относился с весьма выборочным пиететом: считал Пушкина гением, высоко ценил Гоголя-художника, третировал Достоевского. Стиль Лермонтова Набоков называл «неуклюжим, а местами просто заурядным», противопоставляя ему «роскошный, изысканный слог», очевидно, свой собственный.
Понятно, почему он презрительно зачеркивал всю литературу советского периода, включая опального пастернаковского «Доктора Живаго», – ее совсем нетрудно было чохом обвинить в сервилизме, не тратя время на выяснение нюансов и оттенков. Правда, Набоков, уже в поздние свои годы, одобрительно отзывался о романах Ильфа и Петрова. А что он думал о сочинениях Тынянова или Булгакова и Платонова, с которыми мог познакомиться в 60-е годы? Думаю, если бы он и дал себе труд их прочесть, то не захотел бы менять ясную, законченную схему, сложившуюся в его сознании.
Понятно, что он терпеть не мог левого экзистенциалиста Сартра и матерого психологического реалиста Фолкнера (называя обоих ничтожными), тем более что те, в отличие от него, стали лауреатами Нобелевской, тогда еще не столь девальвированной, премии. С таким автором, как Брехт, он обитал в непересекающихся пространствах. Хотя… В романе «Камера обскура», о котором речь пойдет дальше, есть эпизодический персонаж-немец, который итожит свой протест против лицемерия и несправедливости буржуазного устройства фразой: «Человек первым делом должен жрать, да!» Нет ли здесь пародийной переклички со строками брехтовского «Марша левого фронта», написанного в том же, 1932 году: «Und weil der Mensch ein Mensch ist // Drum braucht er was zum essen bitte sehr»?
Стоит, однако, внимательнее прислушаться к инвективам Набокова против Томаса Манна – по нему, как и по Бальзаку с Горьким, он призывал стукнуть молотком (фигурально, разумеется), дабы наглядно продемонстрировать гипсовую фактуру этих идолов. Тут, конечно, можно выделить мотивы личные и сверхличные. Ясно, что в 20-е годы, голодные и прекрасные, когда счастье в лице Веры Евсеевны широко улыбнулось ему, а талант, как юный жеребец, еще взбрыкивал, но мог уже нестись ровным мощным аллюром, – так вот, единственное, чего в ту пору Набокову не хватало, это широкого признания (о вожделении славы так искренне написано в «Даре»!). А Томас Манн именно в то время, в том же Берлине, пребывал на вершине успеха и славы и был увенчан Нобелевской премией за 1929 год. Чем не мотив для ревности и даже ненависти?
К тому же в «Смерти в Венеции» Набоков мог видеть случай опережающего воровства, плагиата: здесь развертывается тема запретной страсти, мучительной и блаженной. И то, что тему эту Манн решал совсем в иной тональности, чем автор грядущей «Лолиты» – с маской стоического страдания на лице героя, с муками преодоления обетов самодисциплины, а не в безудержной, свободно разливающейся эйфории желания и обладания, – ничуть не ослабляло раздражения младшего.
В теоретическом же плане для Набокова важно было не касаться того, что лежит за горизонтом непосредственных данностей, чувственных или психологических. Весь материал для сотворения красоты – здесь, на поверхности жизни. Писатель решительно разрывает связь между единичным, конкретным – и сущностью, явленной в единичном лишь умозрительно или символически. Для него только первое несомненно и может служить предметом изображения/преображения. Он не терпел многозначности и многозначительных отсылок к «архетипам» и «вечным темам», к общечеловеческому культурному запасу и достоянию.
А Томас Манн приобрел свою славу благодаря искусному сочленению единично-уникального с общезначимым, так что сквозь сеть реальных образов, ситуаций, отношений у него проступают бестелесные сгустки сверхличного интеллектуального опыта – Zeitgeist, культурные формы жизни, социально-психологические поветрия. Именно это происходит в «Будденброках», «Волшебной горе», «Иосифе…», «Докторе Фаустусе».
Немецкий писатель представлял себе бытие, и человеческое в частности, как многоуровневую систему, «слои» которой сложно и неявно связаны, соотносятся между собой. Постижение этих связей, рефлексия о них, приращения жизненных смыслов были для него главной целью искусства. Набокову идеалом служила «прекрасная ясность», четкость и изящество шахматно-литературной композиции, осложненной заданным набором правил и ограничений. Ясно, что именно здесь был корень антагонизма.
Взглянем и на тех авторов, которых можно записать в соратники Набокова – например, на Кафку, Борхеса. Они действительно его соратники и союзники, ибо и для них жизненное правдоподобие, мимезис, равно как и всякая идеологическая ангажированность, литературное учительство – подозрительны, чужды. В прозе Набокова найдется немало параллелей и перекличек с их творчеством.
«Приглашение на казнь» приглашает к сопоставлениям с «Процессом», с гротескно-кошмарными новеллами Кафки. В фантасмагории Набокова, как и у пражского визионера, реальность плавится и плывет, лопнули ее логические и онтологические скрепы. Все привычные ориентиры, конвенции, установления оборачиваются бредом и пародией.
Но разница при этом существенна. Кафка в своих романах горестно медитирует об Уделе и Законе, о вселенском абсурде, о метафизических потемках и лабиринтах, в которых блуждает, то покорно, то бунтуя или стеная, душа человеческая. Набоков в «Приглашении на казнь» удручен прежде всего эстетически. Своего героя Цинцинната он делает заложником и жертвой житейской пошлости (о месте «пошлости» в мировидении Набокова мы еще поговорим), грубости и приземленности всего строя человеческого существования. Он (Набоков/Цинциннат) несчастен из-за необходимости подчиняться единым для всех законам, жить в одном пространстве с другими, его оскорбляют духовные и физические испарения толпы. Цинцинната убивает не общество, не государство, не палач – а атмосферное давление и гравитация, невозможность отрешиться от назойливо-серого хлама повседневности. Разве что – в другом измерении?
Цинциннат по природе своей – художник, а значит – отчасти волшебник, отчасти ангел, существо, принадлежащее иному жизненному порядку, способное летать, мечтать и видеть убогую действительность со стороны и с высоты. Поэтому его злоключения в тюрьме, его стенания, жалобы, страхи и прорывы к своей подлинной природе – недраматичны, в них сильно ощущаются игра, условность. И это не только в свете все переворачивающего финала, в котором «действительность», угнетавшая и преследовавшая героя, рушится, как халтурная бутафория скверного спектакля. Вся текстовая реальность здесь – призрачная, выморочная, вопиющая о своей пародийной и «балаганной» природе.
Не то с героями Кафки: они обречены или на «полную гибель всерьез» (господин К.), или на бесконечную муку абсурда, преследования недостижимой цели (землемер в «Замке»). Эстетика обоих романов – сновидческая, равно как и среда, в которой существуют и действуют их главные герои. Но это сон, по своей фактуре неотличимый от жизни, неотличимый от смерти. Поэтому угрюмые фантасмагории Кафки мощнее воздействуют на читательское сознание, чем эльфические метаморфозы в «Приглашении на казнь».
Борхес – еще один автор, ценимый Набоковым и побуждающий к сравнению. Их часто привлекали одни и те же темы и тайны: природа гениальности… взаимообратимость сна и яви… интерференция случайности и причинности… Кстати, многие тексты аргентинца похожи на конспекты или комментарии к романам Набокова.
Самое глубинное сходство в том, что и Борхес, и Набоков опровергают непреложность и единственность действительности, данной нам в ощущениях. У обоих часто возникают проколы во времени, эпохи сдвигаются и накладываются одна на другую, иногда причудливо перемешиваясь. Стираются четкие границы между «я», «ты» и «он».
В рассказе Борхеса «Форма сабли» история трусости и низости, излагаемая рассказчиком, как будто относится к некоему Винсенту Муну, но в финале ситуация выворачивается наизнанку и выясняется, что предатель Мун и есть рассказчик. Автор обосновывает этот скачок универсальными философскими принципами: «К тому, что делает один человек, словно бы причастны все люди… Может быть, и прав Шопенгауэр: я – это другие, любой человек – это все люди».
А в финале романа Набокова «Истинная жизнь Себастьяна Найта» повествователь, работающий над жизнеописанием своего сводного брата, писателя, заявляет: «Маска Себастьяна приросла к моему лицу, сходство несмываемо. Себастьян – это я, или я – это Себастьян, а то, глядишь, мы оба – суть кто-то, не известный ни ему, ни мне».
Сходство, действительно, несмываемо, но и различия заметны. Борхес – своими парадоксальными гипотезами, сменами перспективы, экстраполяциями – упражняется в интеллектуальной атлетике. Он пишет о времени и вечности, о тождестве и множественности, о цикличности и умопостигаемых мирах. Он актуализирует универсалии: мифы, физические и логические законы, метафизические категории. Он стремится вернуть абстрактным понятиям, затертым от схоластического употребления, их изначальный грандиозный (или просто грозный) смысл.
Набоков по сравнению с ним пуантилист. Образ мира, который он являет читателям в своих книгах, конечно, сильно отличается от повседневного, рутинного. Но взрывов, шокирующих поворотов тут нет: эффекты заключаются в микросдвигах реальности, в размытости, подвижности привычных и жестких контуров действительности. Метаморфозы в мире Набокова происходят без ощущения «сопротивления материала». Это не события, не катаклизмы, пусть даже в умопостигаемой реальности (как в «Бессмертном», «Тлен, Укбар, Орбис Терциус» Борхеса), а превращения реквизита в руках иллюзиониста-виртуоза.
Пора, однако, от сравнений и перекличек перейти к собственно набоковскому творчеству. Оно, на мой взгляд, очень резко делится на «русский» (другими словами «берлинский») и «американский» периоды. В этой статье речь пойдет в основном о прозе Набокова 20–30-х годов, написанной по-русски. Она являет, на мой взгляд, более аутентичное лицо писателя. Англоязычные произведения, созданные в 40–60-е годы и составившие его американскую и всемирную славу, конечно, очень оригинальны. Речь даже не о том, что они продемонстрировали уникальную способность автора перейти посреди судьбы на неродной язык и овладеть на нем всеми ресурсами словесной выразительности. Важнее то, что именно в произведениях, написанных по-английски, писатель достиг совершенства в возведении причудливых до миражности литературных построек.
Но в романах этого периода Набоков уже скован своим каноном, сформулированным в курсах лекций перед американскими студентами и взятым на вооружение в качестве беспроигрышного метода творческого самоутверждения: «Литература – это выдумка. Назвать рассказ правдивым значит оскорбить и искусство, и правду. Всякий большой писатель – большой обманщик… Мир для писателя – кладовая вымысла…». Очень проникновенно он говорит здесь о том, что качество литературного произведения можно определить по дрожи наслаждения в спинном мозге читателя по ходу чтения.
Набокову оставалось лишь настаивать на своей правоте и подтверждать ее все более экстравагантными опытами и эскападами, все более радикальными «улетами» из пространства конвенциональной литературы. В «Подлинной жизни Себастьяна Найта» он создает магический, он же порочный, круг нераздельности биографии заглавного героя и сюжетов его произведений, тождества/различия его личности и личности его биографа и сводного брата, повествователя в набоковском романе. Тексты Найта закольцовываются текстом о Найте, вся эта виртуальная конфигурация, парящая в пространстве воображения, искрит совпадениями, пересечениями, намеками и проговорками, создавая впечатление спирали, свинчивающейся в некую точку пространства с иррациональными координатами.
«Под знаком незаконнорожденных» («Bend Sinister») – кошмарный трагифарс, разыгрывающийся в театре теней, в пространстве гротескного и обобщенного тоталитаризма, с пародийными отсылками к реалиям сталинизма и гитлеризма, с орнаментом, порожденным прихотливым воображением Набокова. Там, как и в «Приглашении на казнь», человек – уже не поэт, а философ – борется и страдает в море/ мире мрачных мнимостей, а финальная его фабульная гибель может быть прочитана как знак неподлинности этого мира, как прорыв к более высокому уровню бытия.
«Бледное пламя» являет собой рекорд композиционной виртуозности и искусственности. Многосотстраничный прозаический текст служит чудовищно разросшимся комментарием героя-литературоведа к короткой поэме героя-стихотворца (не исключено, что каждый из героев является порождением воображения его alter ego). Гениальность, безумие, смерть, жизнь после смерти, обсессивная поглощенность предметом влечения – призраки этих тем витают над текстом, а явным образом в нем присутствует изумляющая конструктивная изобретательность, сложнейшая игра интертекстуальной светотени, да врезки пародийного шпионского сюжета – о преследовании кагэбэшниками благородного монарха-эмигранта.
И так далее – до блаженного плескания в утробных водах памяти и инцестуальной страсти героев «Ады», с россыпями интертекстуальных намеков, с головокружительными геохронологическими перестановками и подменами, с объединением России и Америки в некоего курьезного кентавра…
Во всем этом – уйма мастерства и капризного артистизма, уже абсолютно не считающегося с возможностями и ожиданиями читающей публики: ей остается или восхищаться причудами признанного гения, или, поджав хвост, убираться в свою конуру – кость не по зубам.
Тут, конечно, нельзя не помянуть знаменитую «Лолиту», редкостно мастеровитую, чтобы не сказать вдохновенную, вариацию на пушкинское «Поговорим о странностях любви». В этой книге Набоков представил блистательный спектральный анализ эротического пламени, дал замечательные образцы словаря, грамматики, синтаксиса «отклоняющейся» страсти. Но и здесь творческая одержимость автора оборачивается избыточной герметичностью, даже принудительностью текста. Клин сюжета медленно, с усилием пробивается сквозь густое желе гумбертовских вожделений, сквозь его исповедальные шепоты и крики. Для того, чтобы сочувственно следить за переживаниями и извивами судьбы героя, нужно заранее отождествиться с ним.
Ну а что же проза русскоязычного периода? За полтора десятилетия жизни и работы в Берлине Набоков тоже не оставался одним и тем же – он менялся, искал, испытывал разные стилевые ключи и парадигмы. Романы, написанные им в это время, можно разделить на собственно «русские»: «Машенька», «Защита Лужина», «Подвиг», «Дар» – и «европейские»: «Король, дама, валет», «Камера обскура», «Отчаяние». «Приглашение на казнь», действие которого происходит «везде и нигде», стоит здесь особняком.
Разделение это, на первый взгляд формальное, на самом деле существенно. Хотя антураж всех романов – Европа между вой нами, одни и те же города и курорты, железно дорожные станции и рестораны, одни и те же «мифологии» (в бартовском смысле слова) буржуазной цивилизации, принципиальное различие – в среде, где развертывается действие романов. В одном случае это среднеевропейская человеческая популяция, писателю знакомая хорошо, но со стороны. В другом – круг русской эмиграции, к которому сам Набоков кровно принадлежал, хотя и обладал способностью рассматривать его абсолютно объективно, иронично, даже безжалостно.
Особенность, общая для всех трех «европейских» романов раннего Набокова, – это их подчеркнутая «сложносочиненность». Характерно, что все они, в особенности «Король…» и «Камера обскура», фабульно строятся на очень расхожих романных ситуациях и коллизиях. В основе – внезапное любовное влечение, разрушающее размеренную супружескую жизнь, «треугольники», конфузы, переживания, в конечном итоге – попытка разрешить нетерпимое положение с помощью преступления. Иными словами, абсолютная тривиальность канвы. Ее-то Набоков и украшает затейливыми словесными узорами и сюжетными ходами, словно говоря: посмотрите, какие интересные эффекты я могу извлечь из этих тысячекратно обыгранных исходных обстоятельств.
В «Короле…» рассказана бальзаковская история любви между молодым провинциалом Францем, приехавшим в Берлин делать скромную карьеру, и женой его дядюшки и работодателя Мартой, старше его лет на десять. Связь эта быстро разрастается – от «романа со скуки» до всепоглощающей страсти, особенно со стороны Марты. Ее развитие сопровождается уймой осложняющих приключений и приемов, то ускоряющих, то тормозящих действие, призванных повысить сюжетное напряжение.
Со временем любовники решают, что они не могут продолжать свои тайные отношения, и самый лучший выход – убийство мужа. Особенно на этом настаивает Марта, в то время как Франц начинает постепенно тяготиться связью. Когда план преступления уже проработан в деталях, находится в шаге от воплощения, наступает неожиданная развязка – Марта, простудившись, умирает от воспаления легких, к глубокому горю ни о чем не подозревавшего мужа и к облегчению Франца.
«Камера обскура» посвящена, в сущности, той же теме: причудливые шутки эроса, переходящие в зловещий гротеск, а потом и в кошмар. Степенный, порядочный, состоятельный искусствовед Кречмар теряет голову, влюбившись в шестнадцатилетнюю Магду, девушку-вамп, обаятельную и вульгарную. Жизненный строй, брак, жизнь дочери – все приносится в жертву злой любви. Кречмар становится игрушкой в руках капризной и коварной Цирцеи. Между тем на их общем пути встречается художник Горн, первый любовник Магды, с легкостью отвоевывающий сердце девушки.
Цепочка событий внутри «треугольника» приводит к тому, что Кречмар теряет зрение. Циник Горн негласно поселяется в их доме, бесстыдно обирает Кречмара и получает особое удовольствие, предаваясь любовным утехам с Магдой на глазах (незрячих) слепца. И этот роман завершается летальным финалом: узнавший обо всем Кречмар пытается застрелить Магду, но сам погибает от ее руки.
Можно ли сказать, что эти романы плохи? Ну, нет. В них молодой Набоков уже предстает мастером уверенным и сильным, прекрасно владеющим методом «преображающей изобразительности». Особенно ярко это проявляется в «Короле…». Текст здесь полнится милыми мелочами-олицетворениями вроде «неказистый насупленный ресторанчик», «облачки в бледном чистом небе были какие-то завитые», «тучки, плывущие гуськом, все одинаковые, все в профиль». Есть и более развернутые, размашисто-метафорические визуальные планы: «город сиял, переливался, падал чудесными складками, но не держался ни на чем, а повисал, ослабевший, словно бесплотный, в голубом сентябрьском воздухе». Или: «Солнце, прокатившись по мягкому исподу замшевых туч, нашло прореху и торопливо прорвалось».
Рисунок характеров и отношений героев по определению не слишком оригинален, однако автор находит ракурсы, нарушающие банальную типажность адюльтерной схемы. Обманутый муж, Драйер, оказывается самым живым и непредсказуемым из всех «вершин треугольника», фантазером и чудаком, пусть и лишенным должной проницательности… А страстные любовники показаны людьми изрядно ограниченными, с мещанскими интересами и кругозором. Кроме того, Набоков вводит в повествование забавно-загадочную фигуру старичка-иллюзиониста, каковая изящно намекает на литературную фикциональность, невсамделишность всего происходящего.
В «Камере обскуре» внешних изобразительных эффектов меньше, зато заостряются, получают больший драматизм центральные сюжетные коллизии, рельефнее обозначены психологические характеристики персонажей. Правда, автор может порой впасть в неожиданную прямолинейность: «…ибо трудно себе представить более холодного, глумливого и безнравственного человека, чем этот талантливый карикатурист». Это о Горне. Повествование здесь динамичнее, с большей энергией устремлено к трагической, хотя слишком уж приуготованной развязке.
Главное в обоих произведениях, конечно, язык – непринужденный, гибкий, способный и к лаконичной лепке визуальных образов, и к преображению их в подвижные радужные фантомы.
Так можно ли сказать, что эти романы хороши? Ну, нет. Как уже было сказано, фабулы обоих состоят из блочных конструкций бульварной литературы, эксплуатирующих «вечные и неизменные» схемы страстей и влечений. Творческое отношение к «структуре» проявляется здесь только в изобретательной комбинаторике этих элементов, в хитрой фабульной «машинерии». Повествование изобилует множеством барьеров, ловушек (герои-любовники счастливо их избегают), ответвлений, мини-лабиринтов. Всего этого, однако, недостаточно, чтобы сделать повествование по-настоящему живым и вызвать ту самую дрожь художественного наслаждения между лопатками читателя.
Вдобавок изображение взаимоотношений героев изобилует стандартными красивостями и условными знаками интенсивности, накаленности чувств. Вот описание одного из первых свиданий Кречмара и Магды в «Камере обскуре»: «…все плыло, кружилось, и вдруг под его рукой что-то дивно дрогнуло, бедро ее чуть поднялось, она двинулась дальше». Или: «Она… принялась вылезать из рукавов макинтоша, нагнув голову, наклоняя плечи то вправо, то влево, и на Кречмара веяло фиалковым жаром…».
Любовная сцена в «Короле, даме, валете»: «Постель тронулась, поплыла, чуть поскрипывая, как ночью в вагоне. “Ты…” – сказала Марта, лежа навзничь и глядя, как бежит потолок… – Франц… – сказала Марта, не открывая глаз. – Франц… ведь это был рай…».
Вряд ли можно списать подобные изыски на счет пародирования стиля бульварных романов. Это сам Набоков демонстрирует свой «роскошный, изысканный слог», на данном этапе владения им.
И тут пора поговорить подробнее о том, как Набоков трактует «пошлость». В его мироощущении это очень важная категория, и писатель несколько раз приступается к ее определению, особенно в текстах на английском. Однако до сколь-нибудь внятных дефиниций он так и не доходит. В одном из интервью Набоков, представляя образцы пошлости, приводит длинный список житейских и культурных клише, а заканчивает перечисление словами: «И, конечно, “Смерть в Венеции”».
Показательны и периоды, посвященные литературной пошлости, в книге «Гоголь»: «Литература – один из лучших питомников пошлости… пошлость особенно сильна и зловредна, когда фальшь не лезет в глаза и когда те сущности, которые подделываются, законно или незаконно относят к высочайшим достижениям искусства… Это… “волнующие, глубокие и прекрасные романы”; это те “возвышенные и впечатляющие” книги, которые содержат и выделяют квинтэссенцию пошлости».
Нетрудно заметить, что авторская красноречивая риторика описывает здесь круг: и так ясно, что пошлые книги – это те, которые содержат и выделяют квинтэссенцию пошлости. Дальше автор упоминает, не называя по имени, некий роман-фальшивку, единственной содержательной характеристикой которого оказываются «тяжеловесные пируэты вокруг высоких идей».
Иными словами, ни конкретных примеров «мнимо значительной литературы», ни критериев отнесения того или иного произведения к сфере пошлости он не дает.
Теперь встает вопрос: почему «Смерть в Венеции», трактующая тему гомосексуального влечения в изощренно психологическом ключе, принадлежит, по ясно выраженному мнению Набокова, к этой сфере, а вызывающе банальные обстоятельства и положения «Короля…» и «Камеры обскуры» не превращают эти романы в пошлые? Верно, в них немало сюжетной изобретательности, остраняющих ходов и эффектов, однако изящные карточные домики этих романов строятся все же из очень захватанных карт.
Но есть у Набокова берлинской поры и совсем другие произведения – «Подвиг», «Дар». Бросающаяся в глаза особенность этих романов – их прочная автобиографическая основа, пусть и просвеченная творческим вымыслом. Тема и сюжет в обоих случаях – становление личности, очень напоминающей личность автора. И здесь сразу возникает иной уровень подлинности и внутреннего драматизма, иное качество текста.
«Подвиг» по жанру – роман воспитания, не классический, не продолжающий «Исповедь» Руссо или «Детства», будь то Аксакова, Толстого или Горького. Здесь играет всеми гранями точный, нюансированный психологизм XX века, здесь повествовательная перспектива и хронологическая последовательность не закреплены жестко – они колеблются, мерцают. Набоков, несомненно, наделяет своего героя, Мартына Эдельвейса, многими ощущениями, переживаниями, мыслями от щедрот своего уникального личностного опыта.
Рассказывая о ранних годах Мартына, автор отрадно погружает читателя в атмосферу счастливого детства: умной и деятельной родительской любви, понимания, достатка и комфорта, благожелательной природы. На двух десятках страниц развертывается идиллия – не безмятежно-глянцевая, а проникнутая волнениями и приключениями души мальчика, потом подростка, постигающего мир через книги, полеты воображения, нечастые столкновения с реальностью.
Юношеский период жизни героя, пришедшийся на эмиграцию, отмечен той же изобильной интенсивностью чувств и восприятий: первая любовь на корабле, уносящем семью из Крыма в Константинополь, дом дядюшки в Швейцарии с его непривычным европейско-буржуазным уставом, годы учебы в Кембридже с поисками пути и спортивными упражнениями, острые до гротеска портреты профессоров и приятелей-студентов, эскизы эмигрантской жизни. И снова – любовь, книги, радости, разочарования, мечты… Взросление богато одаренной натуры показано здесь как будто под микроскопом – и одновременно сквозь окошко калейдоскопа, в веселой игре разноцветных деталей.
Роман, однако, называется «Подвиг», и его упругая неспешность подводит к некой финальной кульминации, к исподволь культивируемой неожиданности. Состоит она в том, что, закончив университет, набравшись опыта, испытав неудачу в многолетней любви, Мартын решает отправиться на родину, в Россию, нелегально перейдя границу. Совершив этот акт, герой бесследно растворяется в пространстве чуждой совдепии.
Тут-то и возникает зияние, не случайное, а программное, обусловленное идеологическим пуризмом, самоограничением автора. Решение, постепенно вызревающее в душе Мартына (а то, что это именно процесс, а не мгновенное озарение, в романе подчеркивается), никак не мотивировано. Здесь Набоков изменяет принятому ключу точного, консистентного психологического письма. Он на протяжении всего романа ограждает своего героя от «идей»: от размышлений о закономерности или случайности происшедшего в России, о причинах и следствиях революции, о сущности советского режима.
Поэтому вполне уместно недоумение более конвенционального персонажа романа Зиланова: «Я никак не могу понять, как молодой человек, довольно далекий от русских вопросов, скорее, знаете, иностранной складки, мог оказаться способным на… на подвиг, если хотите». Правда, можно предположить, что автор относится к этому недоумению юмористически – но это значит, что и заглавие романа имеет оттенок двусмысленности. Нет, Набоков вовсе не издевается над героизмом и подвижничеством активистов белого движения. Но причины, толкнувшие Мартына на его безрассудный поступок, с демонстративной небрежностью отдаются читателю на домысливание. Интимные и влекущие впечатления российского детства? Не явленная в словах – из некоего душевного целомудрия – ностальгия? Романтическое, книгами сформированное влечение к благородному авантюризму? Стремление испытать себя опасностью?
Все варианты ответа возможны – и недостаточны. Набоков скорее намекает на особую природу своего героя, помещающую его по ту сторону обычных, рациональных представлений и определений. Но это, опять-таки, противоречит очень ясному, детализированному рисунку образа. Получается, что жесткая установка автора на «идейную невинность» Мартына оборачивается не просто открытостью (размытостью?) финала, но и досадным провисанием – психологическим и смысловым.
«Дар» – своего рода продолжение «Подвига», точнее, экстраполяция центрального образа в творческую сферу. Мартын Эдельвейс не нашел для себя достойного занятия в прозаической эмигрантско-европейской реальности. Годунов-Чердынцев – поэт, и этим его жизнь оправдана, облагорожена, вознесена над бедной действительностью.
Большинство критиков и литературоведов сходится в том, что «Дар» – высшее художественное достижение Набокова, по крайней мере его «русского» периода. Действительно, этот «портрет художника в юности» счастливо сочетает уверенную зрелость мастерства с прекрасно переданным ощущением таланта растущего, «летающего во сне».
Один из секретов успеха в том, что здесь автор и герой пребывают в плодотворном симбиозе – ведь оба они художники. Поэтому особенную, покоряющую убедительность и прелесть обретают здесь частые у Набокова метаморфозы «здесь и сейчас», когда память и воображение поэта подчиняют и преобразуют данности внешнего мира, когда действительность плавится от жара вдохновения и заново формируется, но уже по новым, эстетическим законам.
Книга переполнена демонстрациями «дара»: в дерзких переносах значений и признаков, в сравнениях и метафорах, оборачивающихся семантическими вспышками, в красочных и парадоксальных оптических эффектах. И здесь, в романе, проникнутом ощущением счастья и сознанием правоты художника, весь этот парад образного изобилия и технической виртуозности совершенно лишен нарочитости и щегольства. Превращения, олицетворения природного и предметного мира, сложные контаминации реального и воображаемого – все эти «малые чудеса» в «Даре» неизменно органичны, они в равной мере раскрывают «метод» автора и мироощущение, состояние души героя: «…прощальное сочетание деревьев, стоявших как провожающие и уже уносимых прочь, полинявший в стирке клочок радуги, дорожка, от которой остался только жест поворота… еще какие-то самые последние, самые стойкие мелочи, и еще через миг все это без борьбы уступило Федора Константиновича его настоящему, и, прямо из воспоминания… прямо из оранжерейного рая прошлого, он пересел в берлинский трамвай».
Или: «Он шел по улицам, которые давно успели втереться ему в знакомство, – мало того, рассчитывали на любовь; и даже наперед купили в его грядущем воспоминании место рядом с Петербургом, смежную могилку… Вот, наконец, сквер, где мы ужинали, высокая кирпичная кирка, и еще совсем прозрачный тополь, похожий на нервную систему великана… Во мраке сквера, едва задетого веером уличного света, красавица, которая вот уже лет восемь все отказывалась воплотиться снова (настолько жива была память о первой любви), сидела на пепельной скамейке, но когда он прошел вблизи, то увидел, что это сидит тень ствола».
При этом текст романа насыщен точными и емкими деталями берлинской эмигрантской жизни, с заботами и нехватками, с поисками квартиры и работы, с неизменными интеллигентскими посиделками и эфемерной литературной активностью. Здесь мелькают узнаваемые силуэты – под масками и вуалями, иногда шаржированные, здесь задорно передразнивается стиль зубров эмигрантской критики и публицистики. Здесь, страшно молвить, почти ощутимо бьется пульс времени, возникает рисунок определенного общественного уклада.
Можно сказать, что «Дар» – наиболее возможное для Набокова приближение если не к ЛБИ, то к литературе «человеческого существования», взятого в широком социокультурном контексте. И одновременно – это лучший роман автора. Случайно ли, что Набоков именно здесь испытал потребность дополнить архитектуру повествования еще одной несущей колонной? Я говорю, конечно, о «тексте в тексте», о встроенном в роман жизнеописании Чернышевского. Безотносительно к тону и характеру этого жизнеописания – к ерническому тону и полемическому характеру – важно понять, что этот «чужеродный», вставной фрагмент был необходим автору. Почему? Наверное, не только ради возвеличивающего Годунова-Чердынцева контраста.
Набоков, очевидно, почувствовал, что без опоры на историю российской мысли, на сшибку личностей и принципов, пусть и полувековой давности, его артистическая постройка будет проседать, шататься. Жесткая критика шестидесятнической «идейности», дискредитация утилитаризма, политического радикализма, «ангажированности» – все это оказалось необходимой частью психологического портрета героя. У Годунова-Чердынцева есть мировоззрение – и это ставит его в особое положение по отношению к другим персонажам Набокова, центральным и второстепенным. Точнее – обогащает образ, делает его крупнее, определеннее. И это при том, что герой очень живо представлен здесь в других ракурсах и проявлениях: в житейских повадках и привычках, в поэтической лихорадке и привязанности к матери, в памяти об отце и любви к Зине, в благородной ревности к коллеге Кончееву…
Сочинение книги о Чернышевском становится в «Даре» свидетельством человеческого и творческого созревания Годунова-Чердынцева. И в этом – невольное признание Набоковым сферы «общих смыслов», существующих за гранью личностного или сугубо духовного, метафизического опыта. Дальнейшая его литературная карьера сложилась, однако, так, что он лишь удалялся от найденного здесь равновесия…
Почему так получилось? Вероятно, в силу прогрессирующего нарциссизма писателя. Понятие это я употребляю, разумеется, не в «клиническом», а в широком культурно-психологическом смысле. Набоков чем дальше, тем больше был увлечен одинокими путешествиями по тропинкам своего «райского сада», существовавшего в памяти и воображении. Его внутренний мир был столь интенсивен и богат, столь активно впитывал и преображал красоту мира, что не испытывал ни в чем нехватки. Стоило ли размениваться на то, чем обычно была занята ЛБИ, – на постижение внележащей действительности, с ее закономерностями и несовершенствами, с глухой и отдаленной болью других, с их заблуждениями, надеждами, борьбой?
Именно поэтому немалая часть его творчества, его прозрачно-герметичных текстов (не всех, не всех!) видится в перспективе времени сводом блестящих упражнений в образотворчестве и сюжетосложении, коллекцией драгоценных, но не слишком востребованных артефактов. Думаю, Набоков не счел бы это слишком высокой ценой за длительное удовольствие быть самим собой, быть наедине с самим собой.
2014
Кортасар в закатных лучах
О Хулио Кортасаре, когда-то гремевшем и восхищавшем, а нынче уходящем постепенно из «фокуса» читательского интереса, – хорошо или ничего? Ничего оставлю другим, а мне есть что сказать в память и честь этого прославленного литературного игрока – но и в объяснение заката его славы. Поэтому в рамках настоящего текста тональность ностальгическо-эссеистическая, поминальная будет совмещаться с суждениями аналитическими, относящимися к сфере объективного и рационального, которую покойный, надо сказать, не особенно жаловал.
Мы, поколение родившихся вокруг 1950-го срединного года, первое впечатление от Кортасара получили в возрасте двадцати с небольшим, когда в Москве, в 1971-м, вышел сборник его рассказов «Другое небо». И многие, многие попали тогда в резонанс с этой красной книжкой, содержавшей опусы разных времен и наклонений, распахнувшей перед нами новые горизонты. Там было достаточно разного и ни-на-что-ранее-читанное-не-похожего, чтобы посеять в наших душах великое любопытство и жажду – еще и еще Кортасара, нового, манящего огнями, виражами и превращениями. В сборник, кроме заглавного рассказа, входили и «Южное шоссе», и «Аксолотль», и «Мамины письма», и «Остров в полдень», и «Здоровье больных»… Фрагменты из «Историй о хронопах и фамах» (точнее, «о кронопах и славах» – тогда так перевели) там тоже присутствовали.
Чем он покорял? Без банальности не обойтись – конечно, размахом и прихотливостью воображения, ощущением трюка, переходящего в чудо, ударяющей в голову смысловой насыщенностью, а главное, презрением к правдоподобию, к привычным приемам повествования, сюжетосложения. Не только классика, от Пушкина до Чехова и от Стендаля до Томаса Манна, но и «модернизм» в лице Хемингуэя и Булгакова, Бабеля и Белля, Камю и Фолкнера показались тут пресноватыми и слишком «регулярными». До открытия Борхеса в СССР было еще далеко, да и о магическом латиноамериканском реализме мы тогда только-только услышали. Хотя – какой из Кортасара реалист, пусть и магический?
Но тут пора оставить тихую заводь воспоминаний и выйти на простор анализа, дефиниций, сопоставлений. Можно ли определить – точно и внятно – «объективную ценность» творчества Кортасара или, по меньшей мере, его уникальность, оригинальность?
Попробуем начать с того, что одушевляло писателя, что составляло самый глубокий план его фантазийных трансформаций, переплавок реальности. Кортасар, как художник и как индивид, обретающийся в этом мире, глубоко неудовлетворен общими параметрами удела человеческого. Ох, как давит на него атмосферный столб биофизических ограничений, житейских привычек, социальной рутины! Он отказывается мириться с тем, что человек существует в одной ипостаси, а не в двух или многих, что он должен подчиняться закону причинности и всяческим расписаниям, что его отношения с миром определяются жесткой оппозицией «субъект – объект», что время его жизни ограничено и уныло влачится в одном направлении – от прошлого к будущему.
Кортасар был всегда убежден в неполноте, недостаточности обычной действительности, той скучной эмпирики, в которую мы по определению погружены. Он, словно визионер, религиозный мистик, чувствовал присутствие других измерений – и пытался вызвать, выкликать их, явить их – самому себе и читателям.
Это не было сугубо индивидуальной чертой его натуры и творчества. На страницы книг Кортасара выплеснулся характерный для XX века протест против упорядоченности жизни, против регламентаций и утешений цивилизации, жажда воссоединения с полнотой бытия, жажда Золотого века, утраченного родом людским. Из многочисленных его предшественников и союзников по борьбе с догматическими истинами рассудка назову здесь Льва Шестова. В «Апофеозе беспочвенности» русский философ писал: «…Фактически, действительно, А всегда более или менее равняется А. Но могло быть иначе. Мир мог бы быть так устроен, что допускал бы самые фантастические метаморфозы… Теперь камень есть и довольно долго остается камнем, растение – растением, животное – животным. Но могло бы быть, что камень на наших глазах обращался бы в растение, а растение – в животное». Это допущение необычайно соблазнительно и для аргентинского писателя.
Из рассуждений, разбросанных по сочинениям Кортасара, можно понять: автор считает роковым изъяном западной цивилизации выбор пути гиперрационализма, научно-технологического овладения и манипулирования миром. Этот путь привел человека к потере свободы, естественности, спонтанности, к жесточайшему самоотчуждению.
Кортасар хотел быть участником самой грандиозной и радикальной революции, какую только можно себе вообразить: революции сознания, восприятия человеком внешней и внутренней реальности. В его понимании литература должна была стать одним из путей, ведущих в будущее, свободное от проклятий рассудочности и отчужденности, в утопическое будущее, где произойдет воссоединение человека с потерянным раем, с «центром», с Царством, – для символического обозначения своих упований Кортасар использовал разные образы, в том числе заимствованные из буддизма и индуизма.
Итак, речь идет об утопии и одновременно о бунте – против закона и порядка, стен и границ, против ровной, гладкой плоскостности бытия/времени. Неудивительно, что такой глобальный революционаризм имел свой прикладной, политический извод. В 60-е годы Кортасар стал приверженцем кубинского пути и мифа. Разумеется, нищета, невежество, насилие, царившие на просторах его родного континента, оскорбляли естественное чувство справедливости писателя. Однако его увлечение кубинским, а затем и чилийским, никарагуанским социальными экспериментами было прямым продолжением глубоко личностного и эстетически претворенного утопизма.
Утопизм был в 60-е годы веянием времени – и не только в Латинской Америке. Убежденность в том, что радикальное изменение условий человеческого существования, самого «чувства жизни» – где-то совсем рядом, на расстоянии вытянутой в приветственном жесте руки, кружила головы молодым людям в Калифорнии и Париже, в Нью-Йорке, Праге и Москве. А представители старших поколений с надеждой и некоторой завистью взирали на эту волну безоглядной свободы и безотчетного энтузиазма. (В 1968 году Кортасар восхищался студенческим восстанием в Париже, коллекционировал надписи на стенах зданий – его фольклор и метафизику.)
Литературная утопия тоже пережила в ту пору своего рода ренессанс. На Западе появилось тогда немало литературных сочинений, озабоченных проектами идеального человеческого общежития – от произведений Урсулы Ле Гуин и Роберта Сильверберга до последнего романа Олдоса Хаксли «Остров».
В «домене» советской научной фантастики ярким проявлением этой тенденции было творчество молодых братьев Стругацких, которые в своих эскизах «желаемого будущего» славили творческий поиск, романтику риска и расширения горизонтов, отдавая при этом щедрую дань юмору, игре, веселому абсурдизму. Тут интересно сопоставить утопию Кортасара с «футурологией» молодых (сравнительно) братьев Стругацких. Идея сравнивать «Полдень. XXII век» и «Понедельник начинается в субботу» с «Игрой в классики» или «62. Модель для сборки» может показаться диковатой, но она многое проясняет в плане различий утопического дискурса по обе стороны тогдашнего «железного занавеса».
Стругацкие в своих эскизах «желательного будущего» отдавали щедрую дань юмору, веселью, наслаждению (прежде всего – творчеством), игре. Особенно ярко это проявилось, конечно, в «Понедельнике…», сказке для научных сотрудников младшего возраста. Текст повести искрится раскованным озорством, бесшабашным балагурством, розыгрышами и словесными кунштюками, совершаемыми с самым серьезным видом. Это действительно напоминает «смеховые» страницы «Игры в классики» и «62. Модель для сборки».
Упор у Стругацких делается все же на борьбу – за всеобщее благоденствие и счастье, против недостатков, пережитков, «родимых пятен». Кроме того, определяющее свойство молодых магов, населяющих залы и лаборатории НИИЧАВО, – предпочтение работы развлечениям, т. е. преодоление «гедонизма». Люди коммунистического будущего у Стругацких часто отказываются от своего сокровенного и прихотливого, от «низа» и каприза, ради исполнения долга и «общественного созидания».
Подобное отношение к жизни не вызвало бы сочувствия ни у Кортасара, ни у его героев. Прежде всего, утопия аргентинца вообще не развернута в будущее, не привязана к всеобщему и унифицированному, пусть и идеальному, устроению общества. В его «видении», конечно, присутствовала мечта о жизни, свободной от политического насилия и социальной эксплуатации, от диктата потребительства и корысти, от «идолов рынка». Жизненный идеал писателя не привязан, однако, к какому-либо четко обозначенному общественному устройству. Догматически понимаемый коммунизм был ему чужд, и в романах Кортасара встречается немало колких выпадов по адресу Брежнева, Мао и прочих вождей-начетчиков из Москвы, Пекина или других мест.
От футурологического оптимизма в стиле Стругацких аргентинца отдаляло и отношение к труду. Гимнов работе, как высшей цели и ценности, от него не услышишь. Герои Кортасара все больше предпочитают заниматься тем, что приносит им радость, а если это невозможно – попросту бездельничать, «смотреть на облака», дурачиться… Лозунг обитателей Телемской обители (это, если кто не помнит, из Франсуа Рабле) «Делай, что хочешь!» служит для этих людей своего рода категорическим императивом. Впрочем, тому, что их увлекает, они отдаются с энтузиазмом, и этот подход вполне совместим с рефлексией молодого Маркса об «уничтожении труда», или, по крайней мере, о преодолении его разделения и отчуждения.
Важно отметить и другое. Позитивный идеал писателя включает в себя, помимо прочего, тотальную свободу утоления желаний, слом любых ограничений, любых нравственных запретов, особенно в сексуальной сфере. Об этом, однако, речь подробнее пойдет позже.
Утопическую диспозицию Кортасара интересно сопоставить с подходом другого властителя западных дум 60–70-х годов, швейцарца Макса Фриша. С ним Кортасара сближает общий импульс протеста против условий человеческого существования, против бремени привычки и рутины, против «завтра», оборачивающегося вечным возвращением «вчера». Оба были заняты поиском «другого неба», причем не в отдаленной исторической перспективе, а здесь и сейчас, на путях личностного преображения. В стремлении наглядно передать тоску современного человека по утраченной подлинности бытия Кортасар и Фриш нередко прибегают к сходным сюжетным ходам и модельным ситуациям, используют одни и те же образы: море, корабль, остров – как символы качественно иного существования, естественного, цельного, осязаемо конкретного.
«Остров показывался всего на несколько минут, но воздух всегда был так чист, и море с такой беспощадной четкостью очерчивало остров, что все новые мельчайшие детали неумолимо наслаивались на воспоминания от прошлых полетов» (Кортасар, «Остров в полдень»). Герой пьесы Фриша «Граф Эдерланд» словно вторит ему, говоря об острове Санторине: «Потухший вулкан среди моря, скалы, словно уголь с кровью – такие красные и такие черные. И высоко над шумящим прибоем – город… Город словно из мела – такой белоснежный. Он протянул свои башни навстречу ветру и свету, одинок и свободен, упрям, весел и смел…».
Завершая это сопоставление, скажем, что Кортасар, как и Фриш, был вдумчивым, пусть и строптивым, учеником великого мечтателя-интеллектуала Роберта Музиля, отковавшего в романе «Человек без свойств» прихотливую концепцию индивидуальной утопии…
* * *
Однако все эти общие рассуждения об авторском видении и чаяниях – теория, пусть и не вовсе сухая. А сила и неповторимое обаяние Кортасара заключались, конечно, в конкретном, в ярких, покоряющих манифестациях его фантазии и писательского дара. Поговорим же о практическом методе, о способах и приемах, с помощью которых он приобщал читателей к своему мироощущению, «чувству жизни». При всех своих повадках чудачащего выдумщика, отвязного шутника и балагура Кортасар был большим, искусным мастером повествования, точно рассчитывавшим свои дерзкие эффекты и пируэты.
В ранних своих произведениях писатель имел обыкновение с самого начала эпатировать публику, пробуждая ее от дремы в вязких объятьях рутины или громким хлопком в ладоши, или невозмутимой тональностью протокольного отчета о невероятном. В рассказах того периода, в частности, вошедших в сборник «Зверинец», он любил разъедать монолитные стены бытия и врата восприятия кислотой абсурда, откровенного издевательства над нормальным и общепринятым, над «реализмом» («Письмо в Париж одной сеньорите», «Цефалея»).
Зрелый же Кортасар создал собственную литературную вселенную, многомерную и разноликую, со своими созвездиями, черными дырами, законами гравитации и аннигиляции. Главный конструктивный принцип этой вселенной – усложнение. Главный способ формообразования в ней и одновременно главный творческий прием Кортасара – переход, превращение. В его произведениях происходят обрывы и инверсии причинных связей, обмены идентичностями, всяческое оборотничество: людей, ситуаций, отношений. Превращение наглядно демонстрирует, что под коркой застывшей обыденности течет и кипит лава потенциально возможного, представимого, хотя и не обретшего до сих пор предметную определенность. Запечатлеть превращение в слове, изобразить его – значит наполнить плотью, пусть на время, мятущиеся тени возможного, расширить человеческую – свою? – власть над многомерным и многодонным миром.
Как это делается? Прежде всего – атмосфера, поначалу обманчиво реалистическая, психологически уютная, располагающая читателя к доверию. Но очень скоро она насыщается элементарными частицами «иного», зарядами таинственного или невероятного. Часто от этих допущений исходит смутный аромат опасности – но ведь всякий разрыв с обыденностью несет в себе угрозу.
Во многих рассказах Кортасара (говорим пока о них) ощутим – пусть хорошо замаскированный – «поворот винта», момент трансформации, когда в хронотоп обыденности вдвигается клин чудесного: короткое замыкание между разными эпохами, материализация беспутного алогизма сна, скачок в иное бытийное состояние. Магниевая вспышка магии новым светом освещает мир и окрестности.
Вот человек, пристально вглядывающийся в загадочных обитателей аквариума – аксолотлей, вдруг сам оборачивается одним из этих земноводных, и уже с той стороны созерцает непроницаемую стену между бытием и инобытием («Аксолотль»). Вот мотоциклист, очутившийся в больнице после аварии, перевоплощается в бреду в индейца, которому предназначена роль ритуальной жертвы. В промежутках кошмара он пытается вернуться в «здесь и сейчас», с больничным комфортом, бульоном и потоками световой рекламы за окном, но постепенно его затягивает реальность более высокого порядка – древняя реальность мифа и смерти («Ночью на спине лицом кверху»).
Герой Кортасара легко переносится из Аргентины 30-х годов, с унылой жарой, жениховством, биржей, – в галереи парижских улочек и кабачков эпохи Второй империи, где девушки смешливы, пугливы и щедры на любовь, а ночные похождения приперчены страхом перед бродящим поблизости маньяком-убийцей («Другое небо»)…
Или – скучающая буржуазка, путешественница, бездарно и безотрадно растрачивающая жизнь, вдруг увидит в провинциальном музее картину, словно ожидающую ее, взывающую к ней, – и войдет в нарисованный интерьер, сольется с ним, приобщившись к законченности и значительности артефакта («Конец этапа»).
Есть и более головокружительные техники превращения. Например, в рассказе «Лента Мебиуса» банально-жестокая история, место которой на страницах судебной хроники, оборачивается запредельным экспериментом-переживанием. Девушка, которую изнасиловал и нечаянно убил полублаженный-полубродяга, в своем посмертном бытии, претерпевая сложные метафизические трансформации, сохраняет некое личностное ядро – и это благодаря возникшей парадоксальной «эмпатии» к ее невольному палачу. Самоубийство последнего, упреждающее нож гильотины, оставляет тень надежды на встречу преображенных сущностей в бесконечности…
Но самую лаконичную и изощренную версию превращения Кортасар демонстрирует в рассказе «Непрерывность парков». Там изящным скользящим изгибом плоскости повествования (вот уж воистину «лента Мебиуса»!) он совмещает сферы сущего и воображаемого. Персонаж книги, которую читает герой рассказа, вдруг проникает в реальность (самого рассказа, конечно же) и закалывает кинжалом читателя – того, в чьем восприятии он только и существует.
Здесь автор прикасается к магическим возможностям собственно литературного нарратива, которые могут соперничать с порождениями самой отчаянной фантазии. Перед нами показательное упражнение на тему: композиция текста как средство обогащения, возгонки реальности…
* * *
Однако писатель, разумеется, не хотел ограничиваться роскошными пирами воображения, сеансами самодовлеющей литературной магии. Для него была важна – и чем дальше, тем важнее – ситуация человека как субъекта изменений и превращений. В произведениях Кортасара внешние события тесно, хоть и сложным образом, связаны с ментальной реальностью, с личностным выбором, с модусами существования и поведения героев.
В небольшой повести «Преследователь» идет подспудный и непрерывный поединок между героем-рассказчиком, парижским джазовым критиком, и «объектом» его анализа, гениальным и беспутным саксофонистом Джонни (прототип – легендарный Чарли Паркер). В этой странной борьбе (рассказчик высоко ценит Джонни и житейски заботится о его благополучии) выявляется родовая, тканевая несовместимость двух человеческих типов. Критик целиком принадлежит здешней реальности, он по сю сторону звуков и мелодий, он – «потребитель», пусть весьма квалифицированный и даже бескорыстный. Джонни – творец, спонтанный и неприкаянный, обреченный на то, чтобы вечно пробивать головой стены и пересекать границы, обдирая бока. Его дар, стимулируемый алкоголем и наркотиками, уносит его к новым вершинам, в конечном счете саморазрушительным.
Вот рассказ «Инструкции для Джона Хауэлла». Зритель, уютно скучающий в театральном зале на банальном представлении – «посторонний», – внезапно вырван из этого статуса наблюдателя. Его настойчиво приглашают (кто, почему – неизвестно) стать участником действия, разворачивающегося на сцене. Уже скачок, уже нарушение привычного порядка. Но ситуация тут же закручивается новым витком спирали. Герою «диктуют» его роль – и он начинает догадываться, что речь идет не об игре, а о заговоре, о гибели всерьез для одной из участниц спектакля. Подчиниться, стать одним из исполнителей непонятного плана – или возмутиться?
Возникает ситуация экзистенциального выбора. Герой, руководствуясь безотчетным импульсом, решает проявить непокорство, пойти против навязанных ему правил. Тем самым он вступает в зону свободы и смертельного риска…
А другой персонаж писателя, опять же по своей воле, решает: он не может сблизиться с понравившейся ему женщиной, если не будет выполнен сложный предварительный ритуал, предполагающий цепочку маловероятных совпадений. Он подчиняет свою жизнь жестокому и абсурдному эксперименту. Мало кто был бы способен наполнить умозрительную схематику этого рассказа («Из блокнота, найденного в кармане») столь подлинной человеческой горечью, отчаянием от неспособности отринуть «правила игры» собственного изобретения.
Понятие игры – центральное в творческом мире Кортасара. Игра у него – продолжение реальности другими, очень разными средствами. Есть игры грустные и жестокие (как в отмеченном выше рассказе или в «Ночной школе») – и игры раскрепощающие, поднимающие над ситуацией, даже безнадежной. То и другое принадлежит целому жизни и порождающей силе сознания/ воображения. В рассказе «Сатарса» у командира повстанческого отряда странное хобби: он сочиняет палиндромы: «Голод долог», «Событие – и ты бос». Сугубо отвлеченное это занятие становится символом неподвластности человека обстоятельствам. Но и чем-то большим. Блуждание в кольце слов, борьба с формальными ограничениями оборачиваются семантическими прорывами. Приключения языка накладываются на человеческую драму, сочетания и столкновения слогов высекают новые смыслы, интеллектуальная сосредоточенность позволяет легче смотреть в глаза смерти.
Другой существенный мотив Кортасара – детство как бытийное состояние. Дети с их обостренным и раскованным восприятием жизни, с их фантазиями и фобиями, с их уязвимостью и наивным визионерством противостоят скучной и фальшивой упорядоченности мира взрослых. Кроме того, детство здесь – лакмусовая бумажка, демонстрирующая несправедливость, фундаментальную дефектность этого мира. Символ плачущего или гибнущего ребенка переходит из одного произведения писателя в другое. Впрочем, тема трактуется без излишней сентиментальности и «теплоты», без выжимания слезы. Детство у Кортасара близко к первоистокам жизни, где не действительны расхожие конвенции морали и цивилизации.
А что сказать о животных и насекомых, которые теснятся на страницах его книг: о крысах и тиграх, кошках и лошадях, канарейках и улитках, муравьях и кроликах? Попадаются тут, кстати, и мифические существа: единороги, драконы, василиски. Откуда и к чему весь этот зверинец? Фауна у Кортасара, урбаниста и антропоцентриста, указывает на стихийно-природное начало бытия, не прирученное, спонтанное, опасное. Громадный, страшный конь, являющийся по ночам героям рассказа «Лето», мужу и жене, давно утратившим подлинность чувств, становится символом возмездия жизни за неспособность к любви, за взаимный утешительный обман.
И, конечно, важнейший момент кортасаровского мироощущения – постоянный и веселый вызов здравому смыслу, ставка на юмор и карнавал, все переворачивающий вверх дном. Юмор у Кортасара многолик. Иногда он рядится в одежды пародийной серьезности – и тогда рождаются многочисленные «инструкции» по поведению в обычнейших ситуациях, по отправлению расхожих житейских обрядов. В других случаях, например, в книге «Истории о хронопах и фамах», автор выдумывает, извлекает из небытия новые существа (или сущности?) абсолютно ирреальной природы («хронопы, эти зеленые, влажные и щетинистые фитюльки…»). Правда, эти существа все же соотносятся опосредованно с социально-психологическими видами человеческой «фауны», и за их комическими приключения ми и столкновениями следишь не только с абсурдистским весельем, но и с сочувствием.
А еще герои писателя зачастую видят свое назначение/развлечение в неуклонном и обстоятельном разыгрывании друг друга и окружающих, что превращает повседневную жизнь в череду хеппенингов, провокаций, practical jokes.
* * *
Со временем Кортасар все больше сосредоточивался на том, что может противостоять энтропии и «духу тяжести» в пространстве человеческих отношений, в сфере социального. В более поздних его произведениях воля к расширению горизонтов и обновлению повествовательных форм дополняется пафосом поиска солидарности. Писатель стремится нащупать точки динамического равновесия между максимальной самореализацией индивида – и его способностью контактировать с «другими». Кортасар строит разнообразные конфигурации человеческого взаимодействия – группы, ансамбли, «созвездия», – тут же анализирует их, испытывает на прочность, продуктивность, эстетическую пригодность.
В повести «Южное шоссе» на расхожем житейском примере грандиозной транспортной пробки тонко прослеживается постепенное наращивание «паутины» взаимоотношений между собратьями по несчастью, по ситуации, в которой людям волей-неволей приходится преодолевать отчуждение, понимать и «принимать» друг друга. Но ситуация разряжается – и сетка связей, взаимопонимания и взаимопомощи разрывается.
В «Выигрышах» пестрое сообщество случайных попутчиков по лотерейному круизу на океанском лайнере раскалывается на два лагеря по простому критерию «конформизм – бунтарство». Большинство – всем довольно и за бесплатный комфорт с компотом готово мириться с некоторыми, пусть и абсурдными, ограничениями свободы. Меньшинство любознательных и упрямых отказывается подчиниться диктуемым сверху правилам поведения. Эта кучка очень разных во всем остальном людей совместно пускается на поиски приключений и истины. Попытка разгадать некрасивую тайну лайнера заканчивается, естественно, насилием и кровью.
В центральном – самом многословном и, может быть, наименее удачном – своем романе «Игра в классики» Кортасар, среди прочего, изображает некое добровольное сообщество, самоучредившееся в Париже, – Клуб Змеи. Члены его, французы и экспатрианты, музыканты, художники и философы, своим эксцентричным образом жизни и бесконечными диалектическими прениями стремятся приблизиться к полносущностному бытию, которое обозначается метафорически: то Аркадия, потерянный рай, тысячелетнее царство, то центр, ось, мандала. Но путь их и метод – апофатический. Эти люди, и прежде всего главный герой романа Оливейра, с педантичной одержимостью занимаются отрицанием, разрушением всяких привычных смыслов, способов поведения, ориентиров и отношений: «…надо распахнуть настежь окна и выбросить все на улицу, но перво-наперво надо выбросить само окно и нас заодно с ним. Или погибнуть, или выскочить отсюда опрометью».
Солидарности в общепринятом смысле слова здесь, прямо скажем, немного. Выясняется, однако, что одним лишь негативизмом, одними «дзен-пощечинами homo sapiens’у» ни общность, ни индивид держаться не могут. В финале романа Оливейра сидит на подоконнике своей комнаты, ноги наружу, и балансирует между вариантами: самоубийство, полная потеря себя (безумие) – или возвращение в мир человеческих отношений, к приязни и поддержке своих более ординарных друзей.
Поиск, однако, продолжается. В романе «62. Модель для сборки» писатель вновь помещает в фокус группу чудаков и эксцентриков. Свой круг дружеского общения, наполненного игрой, любовными приключениями, эпатирующими выходками и розыгрышами, они именуют «зоной». Однако на этой плоскости встреч и расставаний, приколов и попоек, легкого богемного нонконформизма постепенно проступает загадочно-абсурдный рисунок отношений, непостижимый в понятиях рациональности и психологизма. Сам Кортасар отмечал, что в романе он попытался испытать и воплотить шальную идею: люди полагают, что живут своей обычной жизнью, а в их поступках и выборах проявляет себя некая внеположная, надличная сила – то ли Zeitgeist, то ли ее величество Эволюция собственной персоной.
Текст пронизывают сквозные метафоры и мифологемы: мотив вампиризма, фигура василиска, образ куклы, влекущий за собой семантический пласт марионеточности, автоматизма, а также ханжества, сексуальных и прочих табу. Ситуации, в которых взаимодействуют персонажи, обретают смысл и прозрачность в свете того или иного символа – но лишь на мгновение, а потом снова погружаются в марево многозначности. Но чем более причудливыми, лишенными нормальной житейской логики предстают фабульные связи, тем напряженней и увлекательней игра подстановок, ассоциаций, мерцаний. Как будто само повествование становится автором и главным действующим лицом не имеющей развязки драмы…
Тут уместно говорить, пожалуй, об «утопии текста», которая теснит не только социально-идеологические устремления, но и самое экзистенцию, персоналистское измерение жизни.
* * *
Результат эксперимента, очевидно, не вполне удовлетворил автора. Кортасар продолжал колебаться между магическим и инструментальным отношением к миру. Точнее – к его преображению. Сколь бы ни был чужд ему рационалистический, «системный» подход, сколь бы ни влекли его развеселая патафизическая анархия и процедуры расширения сознания, временами в нем брал верх социальный борец, ненавидящий диктатуры, спецслужбы и транснациональные корпорации больше, чем законы генетики, гравитации, причинности.
В последнем своем большом романе, «Книге Мануэля», писатель вернулся в пространство человеческих измерений, умерив буйство семиотической игры. Этот роман стал для писателя вызовом и испытанием, здесь он предпринял отчаянное усилие совместить «горизонт одного» с «горизонтом всех». Кортасар набрасывает в романе контур «группы» в сартровском смысле слова. Это общность людей, соединившихся добровольно ради достижения сверхличной цели. Говоря проще, речь тут идет о кучке революционеров из Южного полушария, готовящих в Париже акцию: захват высокопоставленного латиноамериканского деятеля с требованием освобождения политических заключенных. Подготовка этой акции, Бучи – смягченный перевод на русский кодирующего матерного словца, – и составляет сюжетный план романа.
Целенаправленная операция освободительного свойства – в другой терминологии террористическое нападение – здесь занимает место абстрактного Рока, неосознаваемой движущей силы в «62. Модель для сборки». Как бы ни относиться к «прямому революционному действию», надо признать, что в «Книге Мануэля» построена оригинальная модель человеческого сообщества, меняющего окружающую реальность – и меняющегося по ходу своей активности. Для Кортасара было очень важно показать, как участники «группы» – Маркос и Гомес, Людмила и Сусанна, Патрисио и Эредиа, – действуя солидарно, приближаясь к своей цели, не только не сплющиваются под гнетом ответственности и «партийной дисциплины», но, наоборот, умножают степени своей свободы, свободы каждого и всех вместе.
Герои романа движутся к финалу, к жестокой развязке весело. Смеясь, изменяю мир. Для Кортасара это – императив. Борец с существующим порядком – хроноп по определению. Смех, шутка, спонтанность и карнавал, балагурство и чудачество были для него неотделимы от «действия».
Смех – и благодать плоти. Не случайно именно в этом романе, с его революционной перспективой и заглубленным пафосом самопожертвования, правит бал дискурс секса. Кортасар не просто откровенен в своих описаниях, не просто отстаивает тезис о законности любой формы влечения и его удовлетворения – после Генри Миллера, Набокова и битников этим никого нельзя было удивить или эпатировать. Он, похоже, ставит тут себе парадоксальную эстетическую задачу: длящимися, подробными, многословными периодами передать бегущие волны телесной бури, ее толчки, конвульсии и затишья, ее фазовые сдвиги. Он обстоятельно изображает неистовство соитий, занимается тонкой словесной огранкой оргазма, – пусть это и звучит оксюмороном.
Кортасар программно стремится уравновесить серьезность целей, драматизм пути – вызывающей раскованностью сознания, нравов и повадок своих героев. Дается это не просто – в тексте ощутимы напряжения, «ребра жесткости». Диалектика общего дела и безграничной свободы обретает порой конфликтный характер. Разрешение ее, по мысли автора, – в далекой временной и смысловой перспективе, где видение розы, птицы, женского лона стирает с горизонта знак доллара, а пожалуй, и эмблему серпа с молотом.
* * *
…Кортасар умер в середине 80-х, еще до того, как его творчество выявило свою несовместимость с атмосферой «конца века» и с субстанцией новой прекрасной эпохи. Конечно, и сегодня в мире немало читателей и почитателей его книг. Но общая востребованность и «статусность» его прозы нынче намного меньше, чем несколько десятилетий назад.
Может быть – это всего лишь естественный процесс устаревания «бренда», автор которого – ровесник Первой мировой войны? Оно, конечно, так, но есть для этого причины и более специфические, связанные с параметрами социальной и культурной эволюции.
Крушение СССР и социалистического лагеря, сколь бы неуклюжей и «отягощенной злом» эта постройка ни оказалась, сыграло свою роль в закате утопического мировидения. Все-таки рухнула единственная, пусть и несовершенная, альтернатива всесилию мамоны. Заодно «завис» и кубинский эксперимент, который в последние два десятилетия жизни Кортасара служил ему компасом и критерием. Романтика и экзотика «реального социализма», будь то в восточно-европейской или латиноамериканской его ипостаси, сильно поблекла в глазах широкой интеллектуальной публики.
Но можно говорить и о более масштабных сдвигах в коллективном сознании на рубеже тысячелетий. Не стоит пытаться покрывать все смысловые гнезда растяжимой, безразмерной концепцией постмодернизма. И все же именно с постмодернизмом книги Кортасара обнаружили тканевую несовместимость. Хотя, казалось бы, столь любимые им игровые подходы и стратегии сродни этому культурному течению.
Дело в том, что аргентинский писатель всегда «играл всерьез», даже когда веселился и дурачился напропалую. Помыслы и ожидания Кортасара, что ни говори, были связаны с будущим – пусть в нем и предстояло обрести заново ценности и состояния духа, утраченные на предыдущих стадиях истории человечества. В западной же пост-кортасаровской парадигме будущее вовсе девальвировалось, утратило значимость и реальность. Частный, но показательный пример – смещение массового интереса сначала к альтернативной и фантазийной истории (представленной в сочинениях Толкина), а потом к сказочной «фэнтези» в духе серии романов Роулинг о Гарри Поттере.
Далее – веселые и жестокие литературные чудеса Кортасара, третируя быт, освещали при этом горизонты, лабиринты, пропасти экзистенции. Они по-своему свидетельствовали о «зачатье и рожденье, боли и смерти», говоря словами Гессе, – об уделе человеческом, о его константах, драматических возможностях и вариантах. Кортасар в своих книгах всегда что-то отрицает, на чем-то настаивает – пусть и запальчиво, пусть и впадая в ересь своеволия. А нынешний литературный мейнстрим – желчно-глянцевый эпатаж Бегбедера и Уэльбека вкупе с умеренно сюрреалистическими «сториз» на манер Джулиана Барнса или Иэна Макьюэна – беззаботно помещает реальность под знак вечного и малоосмысленного круговорота, делает восприятие жизни плоским, во многом конформистским и инфантильным.
Инфантильным – но ведь и само детство, этот последний (или первый) ресурс естественности, цельности у Кортасара, меняет свою суть в последние десятилетия. Электронные игры вытесняют игры уличные и домашние, требующие перевоплощения, изобретательности, взаимодействия или соперничества с товарищами. Воображение при этом атрофируется, теряет мускулатуру и вольное упорство полета – все это замещается тренировкой реакции и беглости пальцев. Друзья, даже просто партнеры для интернет-путешествий и приключений не нужны…
Казалось бы, в гражданско-политической сфере устремления и упования Кортасара сбываются. На его родном континенте хунты и диктатуры правого толка практически исчезли, их сменили демократически избранные правительства. По всему миру катится волна борьбы за права человека и гражданина – при этом борьбы мирной, обходящейся без партизанской героики и захватов посольств. Рушатся законодательно закрепленные табу, поток либертинизма размывает традиционные представления и предрассудки в самых различных жизненных сферах. В Европе и Америках, отчасти даже в Азии с Африкой уличные демонстранты и завсегдатаи социальных сетей, «зеленые» и феминистки, правозащитники и на-чистую-воду-выводители теснят со всех сторон госчиновников, церковных прелатов, явных бюрократов и тайных агентов спецслужб.
Сомневаюсь, однако, чтобы Кортасара, будь он жив, эта картина сильно порадовала. Уж больно институциональные формы приняли эти процессы, в истоках своих бурные и спонтанные. Программы, конференции, публичные кампании, финансирование из негосударственных и межгосударственных фондов… Конечно, может быть, здорово, когда общество щедро оплачивает собственное реформирование, даже если оно – косметическое. Однако организационные прокладки и амортизаторы неизбежно гасят кинетическую энергию перемен. Писателю, наверное, захотелось бы подбросить в это пространство несколько петард творческого сумасбродства.
Главное же – в коллективном культурном сознании заметно понизился спрос на метаморфозы. Люди, потенциальные читатели, уже не ждут, что «за поворотом, в глубине лесного лога» им откроется нечто удивительное, качественно иное, странным светом освещающее их обыденное существование. Нет, пусть уж жизнь прирастает продвижениями по службе, заботой о здоровом питании, новыми «гаджетами» и густыми, однородными в своем разнообразии потоками новостей…
Впрочем, кто сказал, что социокультурная эволюция должна совершаться согласно ожиданиям и предвидениям художников, фантазеров, визионеров? Верно, они катализируют процессы обновления, – но будущее наступает не для них и выглядит не так, как им представлялось. Вот и с чаяниями Кортасара оно не совпало. Широкая мода на его творчество схлынула. Что ж, тем упрямее и благодарнее будет память читателей, принадлежащих к одному с ним карассу. Да и новые «резонансы», вопреки вектору эпохи, будут, я уверен, случаться.
2014
Примечания
1
Здесь и далее все цитаты из текстов Вахтина даются по изданию: Вахтин Б. Так сложилась жизнь моя… Л.: Советский писатель, 1990.
(обратно)2
Анализ сюжета и образности повести «Абака-сов – удивленные глаза» обнаруживает в ней и прямые переклички с третьей «симфонией» А. Белого – «Возврат». Подробнее об этом см.: Амусин М. Город, обрамленный словом. Пиза: Издательство университета Пизы, 2003. С. 94–95.
(обратно)


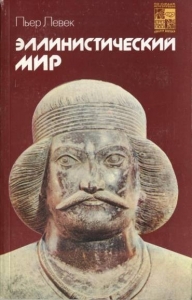
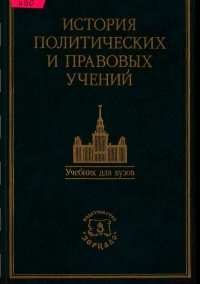
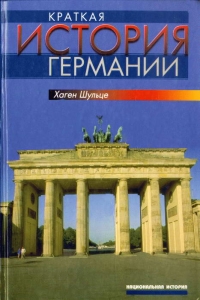
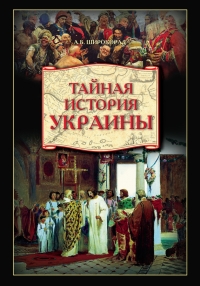
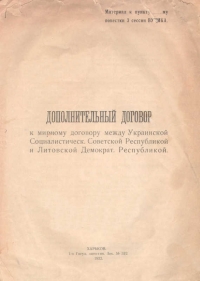
Комментарии к книге «Огонь столетий», Марк Фомич Амусин
Всего 0 комментариев