Галина Вениаминовна Синило История немецкой литературы XVIII века
Допущено
Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов учреждений высшего образования по специальностям «Культурология», «Романо-германская филология»
Рецензенты: заведующий кафедрой мировой литературы и культурологии Полоцкого государственного университета имени Ф. Скорины доктор филологических наук, профессор А.А. Гугнин; заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка доктор филологических наук, профессор Т.Е. Комаровская; профессор кафедры истории зарубежных литератур Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова доктор филологических наук, профессор Н. Т. Псасарьян
В оформлении книги использована работа А. Кауфман «Портрет И.В. Гёте» (1787–1788)
Введение
1. XVIII век как историко-культурная эпоха. Просвещение как главный культурный феномен эпохи
Немецкая литература XVIII в. является органичной составляющей европейской культуры и литературы этой эпохи, которую чаще всего именуют эпохой Просвещения. Однако ныне совершенно очевидно, что понятие «XVIII век» как обозначение культурной эпохи шире, чем термин «Просвещение», так как все многообразие философских, идейно-эстетических, художественных поисков этого времени несводимо только к просветительским тенденциям. Тем не менее просветительская идеология является, безусловно, ведущей идеологией эпохи, что частично оправдывает применение для обширной второй фазы европейского Нового времени (после первой – XVII в.) обозначения «эпоха Просвещения».
«Эпоха Просвещения» – предельно устоявшееся в постсоветском культурном пространстве словосочетание, термин, знакомый всем со школьной скамьи. Тем не менее именно на примере этой эпохи мы особенно ясно можем убедиться, насколько что-то кажущееся абсолютно знакомым может оказаться «знакомым незнакомцем». Долгое время наука, особенно советского периода, воспринимала эпоху Просвещения искаженно, превратно понимая ее идейно-философские устремления, явно недооценивая ее художественные открытия. Не случайно российский литературовед, исследователь английской литературы XVIII в. И.О. Шайтанов отметил в конце 1980-х гг., что «по отношению к XVIII столетию, к его художественному мышлению у нас особый долг – непонятости, недооцененности»[1]. Имелось в виду то обстоятельство, что, признавая новаторство эпохи Просвещения в выработке социально-политических и философских концепций, их в то же время сводили к голому рационализму, материализму и атеизму, к подготовке Великой Французской буржуазной революции; в свою очередь новаторство в области художественной культуры, и особенно литературы, отрицалось или умалялось, в лучшем случае сводилось к возникновению «просветительского реализма». В целом же литература века Просвещения, особенно в советском литературоведении, мыслилась как сугубо рационалистическая, схематизирующая человека, лишенная психологической глубины; все, что отличалось полетом фантазии, творческим воображением и тонкой интуицией, выводилось за рамки Просвещения (например, сентиментализм); Просвещение резко противопоставлялось романтизму, а последний виделся как результат борьбы с просветительскими установками, преодоления их «ига». При таком подходе совершенно невозможно объяснить ни большой интерес современных культурологов, антропологов, мыслителей (например, М. Фуко, Р. Барта, X. Ортеги-и-Гассета) к культуре и литературе века Просвещения, ни значительное влияние художественных открытий литературы XVIII в. на писателей модернизма и постмодернизма.
Ситуация изменилась именно в последние десятилетия XX в. Ученые заговорили о веке Просвещения как об «эпохе, к которой стоит вернуться» (Ю.И. Кагарлицкий). Известная российская исследовательница культуры и литературы XVIII в. Н.Т. Пахсарьян пишет: «К исходу двадцатого столетия стало особенно ясно, что идейно-эстетический облик XVIII столетия воспринимается нами в преломленном виде, что он не просто сформирован, а отчасти, по-видимому, и деформирован в нашем читательском сознании многими историко-культурными факторами… Еще в период романтизма, справедливо осознававшего себя и осознаваемого нами до сих пор как кардинальная эстетическая революция, эпоха Просвещения (а к нему прежде всего свелась в восприятии романтиков основная культурная жизнь XVIII в.) стала рассматриваться как время торжества холодного рассудка, изгоняющего воображение даже из области художественного творчества, как период господства “жесткой” рационалистической эстетики с ее неприемлемой для романтиков жанрово-стилевой иерархией, как пора чрезмерно трезвых, поверхностных суждений о мире, обществе, человеке»[2]. Отстаивая мысль о новаторских открытиях литературы XVIII в., исследовательница справедливо видит причину этого в «либеральном художественном духе» эпохи: «Дух свободы, проникающий в поэтологические принципы эпохи, способствует развитию прикладной теории того или иного жанра, исходящей не из заранее предписанных общетеоретических законов творчества (эстетика выделяется в отдельную, общую науку, она – над практикой и потому не задает литературные программы какому-либо направлению или им всем вместе), а из индивидуальной практики писателя, из “законов, им самим над собою признанных”. Из этого либерального художественного духа XVIII в., не меньше чем из эпохи барокко или романтизма, с которыми так любят открыто связывать себя писатели XX столетия, протянуты нити к пестрой, многоликой литературной атмосфере сегодняшнего дня, с ее эстетическим плюрализмом»[3].
Несмотря на все позитивные перемены, культура и литература XVIII в. изучены по-прежнему недостаточно, по-прежнему необходимо комплексное исследование художественных явлений эпохи Просвещения в широком социокультурном контексте. Только в этом контексте могут быть по-настоящему поняты и оценены и новаторские достижения немецкой литературы XVIII в.
Итак, XVIII в., условно именуемый по-прежнему эпохой Просвещения, является самостоятельной историко-культурной эпохой, рамки которой не совпадают с рамками календарного столетия. Важные новые социокультурные процессы возникают в различных западноевропейских странах в конце 80-х – 90-е гг. XVII в., и они теснейшим образом связаны с глубокими экономическими и политическими переменами, прежде всего – с окончательным переходом Западной Европы к буржуазному строю.
Опираясь на крупнейшие политические события эпохи, специалисты располагают XVIII в. как самостоятельную культурную эпоху между двумя революциями – «славной» революцией в Англии 1688–1689 гг. и Великой Французской буржуазной революцией 1789–1794 гг. Но, как известно, датировка культурных, литературных процессов по тем или иным историческим событиям, связывание длительных процессов с какой-то определенной точкой истории всегда несут на себе отпечаток условности и схематизма. Поэтому на самом деле никогда не может быть резкого разрыва между эпохами, они не должны контрастно противопоставляться. Новая эпоха постепенно «вызревает» внутри прежней, впитывая и переосмысливая ее опыт, а не только дистанцируясь от него и споря с ним. В сложном процессе перехода от одной эпохи к другой всегда участвует множество факторов – историко-политических, экономических, идеологических и других. Результатом взаимодействия этих факторов становится изменившийся в целом облик времени, причем поначалу изменения могут происходить подспудно, быть незаметны современникам или различимы только самыми прозорливыми. Однако с какого-то времени все мыслящие люди начинают ощущать, по словам М. Цветаевой, «новое звучание воздуха». В этом смысле отдельные существенные изменения, преобразившие состояние общества и его менталитет, проявлялись и накапливались еще в эпохи Ренессанса и XVII в. – в связи с новыми экономическими процессами (началом становления буржуазных отношений в Западной Европе), социально-политическими потрясениями (война за независимость в Нидерландах и буржуазная революция в Голландии; пуританская революция в Англии, ускорившая переход страны на новые экономические рельсы; всеевропейская Тридцатилетняя война), новыми духовно-религиозными тенденциями (Реформация и Контрреформация), в связи с расширением географических горизонтов (прежде всего – открытие и активное освоение Америки, создание Вест-Индской и Ост-Индской торговых компаний). Немаловажную роль сыграло кардинальное изменение научной картины мира в XVII в. (окончательное утверждение гелиоцентрической системы, идея множественности миров, начало опытного знания и становление основных экспериментальных наук). Свою лепту в изменение облика времени внесли философия, искусство, литература, глубоко исследовавшие взаимодействие человека и мироздания, человека и среды, так или иначе в целом подведшие общественное сознание к необходимости социально-политических и духовно-этических перемен.
Особенно ясным для мыслящих людей стал тот факт, что неограниченная монархия, все формы тирании изжили себя, равно как и сословные барьеры, разделяющие людей. Исторически XVIII в. – время заката абсолютизма в Европе, постепенного дряхления феодальной системы или ее остатков, век «кризиса европейского сознания» (П. Азар). Однако одновременно этот век был периодом укрепления гражданского общества и успешного цивилизационного развития во многих областях жизни. В силу этого XVIII в. присущ особый исторический оптимизм, особенно в сравнении с трагическим XVII в.
XVII в. был эпохой духовного стоицизма, когда мыслящему человеку ничего не оставалось, кроме как последовать совету Марка Аврелия: «Сожмись внутрь себя!» Можно было уйти в сферу артистически-изящного, в прекрасный мир искусства, или погрузиться в глубины собственного духа в поисках мистического озарения и интуитивного постижения трансцендентного Бога, или уйти в сферу чистого разума, «снимающего» противоречия. В целом же господствовал скепсис по поводу возможности «исправления» человека и гармонизации социума. Скорее, человек XVII в. ощущал неодолимость зла, заполонившего мир и угрожающего истинным духовным ценностям, человеческому в человеке. Основной этической задачей человека мыслилось сохранение верности самому себе и Богу, внутреннее противостояние злу.
XVIII в. исходит из того, что действительность и человека можно изменить к лучшему. Как одну из релевантных черт эпохи, ее менталитета исследователи отмечают убеждение в «возможности изменять человека к лучшему, рационально изменяя политические и социальные установления»[4]. В этом контексте чрезвычайно важным является слово рационально – т. е. на разумных началах, не через хаос, кровь и насилие, не путем революционной ломки действительности. Следует подчеркнуть, что взгляды просветителей именно по этому вопросу подвергались наибольшему искажению в советской науке. Просветители представали как революционеры, подготовившие Великую Французскую революцию. Однако большинство из них стояло на позициях постепенного изменения социума путем «просвещения умов», формирования разумного общественного мнения, принятия разумных законов, которые будут изменять действительность. Практически все выдающиеся просветители, ставшие свидетелями революции во Франции, осудили ее методы, особенно якобинскую диктатуру (например, И.В. Гёте, Ф. Шиллер, Ф.Г. Клопшток). Просветители были убежденными противниками насилия во всех его видах и апеллировали к разумной естественной природе человека. Безусловно верно только одно: они изменили общественное сознание, подвели многих людей к мысли о невозможности мириться с тиранией и угнетением человека, узурпацией его естественных прав и в этом смысле «революционизировали» сознание. При бездарности политики королевской власти во Франции и дошедших до предела общественных противоречиях в стране не могла не произойти революция. Однако просветители, великий лозунг которых – «Свобода, Равенство, Братство» – взяли на вооружение французские революционеры, вовсе не готовили революцию. Они предпочли бы обойтись без нее. Знаменитая Декларация прав человека и гражданина, принятая в первые дни существования Первой Республики во Франции, стала синтезом духовных устремлений века Просвещения, сформировавшего понятия «гражданское общество» и «права человека». Однако для самого Просвещения единственным критерием истины, единственным двигателем исторического прогресса был Разум, который, учитывая естественную природу человека, будет приводить общественные отношения в соответствие с этой природой.
Таким образом, важнейшими категориями просветительской идеологии и эстетики, культуры в целом являются Разум и Природа, образующие нерасторжимое единство. XVIII в. часто именуют Веком Разума, и это справедливо, ибо просветители испытывали особый пиетет перед разумом, верили в его великую преобразующую силу Но было бы ошибкой утверждать, что они абсолютизировали разум, верили в его безграничные возможности. Разум для них как раз ограничен – «ограничен рамками опыта и контролируется опытом»[5]. Более того, с точки зрения просветителей разум является продуктом опыта, поэтому он должен поверяться и проверяться опытом. Итак, первое, что отличает рационализм XVIII в. от рационализма предшествующей эпохи – картезианского рационализма, – это его эмпирический характер и связанная с ним критика всякой метафизической спекулятивности. Все, что не соответствует разуму, должно предстать перед его судом и измениться (или отмениться), но критерием притязаний разума должен стать опыт, естественная природа человека. Все, что не поддается проверке на опыте, должно внушать здоровое сомнение. На смену гипотетическим дедуктивным построениям прежней науки все больше приходит индукция – путь от наблюдения над конкретными явлениями, от фактов к обобщению, к выведению закономерностей.
Таким образом, рационализм (от лат. ratio – разум; признание главенства разума как важнейшего критерия истины и средства постижения действительности) Просвещения имеет несколько иную природу, нежели картезианский рационализм. Можно утверждать, что просветители ведут полемику с Декартом и стремятся к компромиссному соединению рационализма и сенсуализма (от лат. sentio – чувствую, «ощущаю»; для сенсуализма характерно представление, что человек постигает мир именно через органы чувств, через ощущения, т. е. путем опыта). Именно это соединение – своеобразный рационалистический сенсуализм – можно считать одной из основных характеристик философских взглядов просветителей. При этом разум и чувство (чувство как ощущение) не противопоставлены, а предполагают друг друга. Более того, именно в эту эпоху, как писал X. Ортега-и-Гассет, «сам рационализм начинает уже открывать не новые разумные основания, но границы разума, его пограничье с бесконечным пространством иррационального»[6].
Век Разума не случайно оказывается также великим Веком Чувства, эпохой утонченной чувствительности, соединяющейся с тончайшей же аналитичностью в отношении чувства. Для XVIII в. в равной степени характерны как «просвещенные умы», так и «чувствительные души». Но в реальности они не существовали отдельно друг от друга. При этом даже в чувстве человек XVIII в. оставался мыслителем, аналитиком. Как пишет П. Бенишу, «человек чувствительный XVIII века не просто являет собой некий психологический тип, но воплощает определенный способ мышления, оставаясь философом в самом чувстве»[7]. Просветители были убеждены, что, как утверждали французские энциклопедисты, «чем разум человека становится просвещеннее, тем его сердце – чувствительнее». Таким образом, сердце и ум, хотя и разделяются, как две относительно автономные сферы в человеке, но практически всегда действуют и реагируют вместе. В этом плане очень показателен заголовок самого знаменитого романа французского писателя Кребийона-сына – «Заблуждения сердца и ума».
XVIII в. называют также «веком философов». Действительно, он дал миру целую плеяду блестящих мыслителей: Локк, Шефтсбери, Беркли, Юм, Монтескьё, Вольтер, Дидро, Руссо, Гольбах, Гельвеций, Ламетри, Кондильяк, Лейбниц, Лессинг, Мендельсон, Кант, Гердер, Гёте, Шиллер… Поражает разнообразие их взглядов и концепций, но при этом их объединяет общая просветительская платформа: отрицание неограниченной монархии (антиабсолютизм), борьба с феодальными пережитками, прежде всего – сословными предрассудками (антифеодализм), протест против религиозного фанатизма и засилия Церкви во всех сферах жизни (антиклерикализм). Их объединяют общее обостренно-критическое отношение к действительности и представление, что ее нужно менять по законам разума. Любопытно, что философами в это время называли не только тех, кто профессионально занимался философией, но и всякого человека, опирающегося в своих поступках и суждениях не на авторитет или веру, а на ясную информацию и разумное самостоятельное суждение.
Суждение просвещенного человека XVIII в. было вопрошающим и критичным, поэтому еще одно распространенное определение эпохи – «век критики». Отсюда проистекают серьезные перемены в религиозных воззрениях, в самой роли религии в обществе. При этом главным объектом критики является не религия, а Церковь. Атеизм и материализм встречаются редко и не свойственны взглядам крупнейших просветителей. Самым распространенным типом религиозного верования был деизм, который, как и рационалистический сенсуализм, можно считать философской (точнее – религиозно-философской) базой Просвещения. Деизм исходит из того, что Бог существует, что Он является Творцом мира. Однако, сотворив мир, Бог не вмешивается более в его дела, не стоит за каждым явлением мира. Собственно, речь шла об отрицании того, что религиозная традиция называет Промыслом (Провидением) Божьим, да и то степень отрицания действия Промысла Божьего была различной у разных просветителей. В целом же деизм давал возможность оправдывать необходимость общественных перемен, ибо дурное состояние социума есть продукт действия воли человеческой, а не Божественной. Кроме того, деизм исходит из представления о «естественной», «разумной» религиозности, присущей человеку. Религиозное чувство совершенно необходимо для воспитания человечности, для поддержания нравственности и сохранения общественной морали. В этом смысл знаменитого высказывания Вольтера, который также не был атеистом, но мыслил как деист: «Если бы Бога не было, Его следовало бы выдумать, но кто же, будучи в здравом уме, усомнится в его существовании» (согласно другой версии высказывания, зафиксированной в сочинениях Вольтера, – «…но вся природа кричит о Его существовании»).
Одновременно меняется представление о морали, о формировании этических представлений общества. Просветители приходят к выводу, что эти представления в значительной степени имеют не религиозный, а светский характер. Нравственные нормы – не то, что дано извне и сверху, но совокупность нравственных принципов, выработанных внутри этого общества в соответствии с естественными возможностями человека и требованиями разума.
Просветители были убеждены в универсальности «разумного» и «естественного», в их общераспространенности и вечности, в их неизменности для любых времен и народов. Но это не означает, что мышление просветителей было антиисторическим. Скорее, это проявление своеобразного историзма, свойственного Просвещению: вера в нравственный прогресс и совершенствование человечества (с особой ясностью эта идея выражена в работе великого немецкого просветителя Г.Э. Лессинга «Воспитание рода человеческого» с характерным подзаголовком: «Сто тезисов о нравственном прогрессе человечества»).
Родиной Просвещения стала Англия, в которой уже в конце XVII в. сложились благоприятные условия для формирования просветительской идеологии и превращения Просвещения в широкое социокультурное движение. Этому немало способствовали те обстоятельства, что в Англии буржуазные отношения интенсивно развивались уже в XVII в., что здесь не было резкого противостояния дворянского и буржуазного сословий (как, например, во Франции и Германии), что Англиканская Церковь в целом соответствовала просветительским идеалам толерантности и веротерпимости.
Одним из создателей просветительской идеологии был выдающийся английский философ Джон Локк, автор трактата «Опыт о человеческом разуме» (1690), оказавшего большое влияние на Просвещение в целом. Локк, один из крупнейших представителей рационалистического сенсуализма, утверждавший, что именно благодаря ощущениям человек познает мир, выступил с критикой врожденных идей. Он утверждал, что никаких врожденных идей не существует, что люди не приходят в мир с готовым сознанием. Скорее, наоборот: сознание каждого представляет собой tabula rasa – «чистую доску» древних, и в этом смысле все люди приходят в мир с равным интеллектуальным и духовным потенциалом. Наше сознание формируется под воздействием опыта, который чертит на «чистой доске» свои письмена. И если церковники провозглашали: «Все от Бога!», то Локк заявил абсолютно противоположное: «Все от опыта!» (при этом он, как и большинство просветителей, был деистом по своим религиозным взглядам, сторонником «естественной» религии).
Итак, сознание человека – продукт опыта. Опираясь на локковское понятие «опыта», французские просветители формируют представление о «среде» как о решающем факторе формирования человеческого характера. «Среда» – вся совокупность жизненного опыта, общество, в котором живет индивидуум, – определяет человека. Таким образом, чтобы человек стал другим, более совершенным в нравственном отношении, нужно изменить «среду». В большинстве своем просветители исходили, опираясь на позиции деизма, из идеи, что человек – по замыслу Творца и как высшее создание природы – наделен разумом и склонностью к добру, что нужно доверять разумной естественной природе человека. И поэтому человек не может быть изначально порочным. Таким делает его «среда» – общество, живущее не по законам разума, не по естественным законам. Поэтому, безусловно, для изменения человека необходимо изменить «среду», общество в целом. Но как? Вовсе не путем революционного взрыва, насильственной ломки всех отношений, ибо это не соответствует пути разума. Более того, ведь именно разум является ведущим началом, определяющим движение истории, развитие общества. И если «среда» формирует человека, то и сама «среда» – так или иначе плод ошибочных суждений разума, заблуждений, искажений подлинной разумности и естественности. «Мнение правит миром», – утверждали просветители, сформировавшие представление об общественном мнении, которое во многом определяет действительность. Поэтому начать путь изменений все равно нужно со сферы ментальной, с изменения сознания отдельных людей и общества в целом, с формирования здорового, разумного «мнения». Именно поэтому путь «просвещения умов», духовного, нравственного воспитания человека представлялся просветителям единственным путем изменения мира. Просвещение (нем. die Aufklärung) – никогда еще название столь не соответствовало установкам движения, которое видело свою главную задачу в несении людям света знаний, в избавлении разума от предрассудков и варварства, в приведении каждого человека и всего общества к его естественному состоянию, соответствующему критериям высокого разума.
В связи с убеждением, что «мнение правит миром», большинство просветителей в области социально-политической придерживались концепции «просвещенной» (конституционной, основанной на разумных началах) монархии, противостоящей тирании, неограниченной, абсолютной монархии. Редко кто из них придерживался республиканских взглядов – в силу того, что власть при республиканском (демократическом) строе принадлежит большинству, а оно, как резонно полагали просветители, не может (по крайней мере, сразу) состоять из лучших людей. Лучшие – всегда в одиночестве, часто непонимаемы обществом. Разумные взгляды нужно прививать постепенно, и это должным образом сделает просвещенный властитель, философ на троне, который соберет вокруг себя духовную и интеллектуальную элиту общества, а она уже будет формировать разумное общественное мнение и постепенно менять «среду». В результате изменится человек, иным станет общество. Просветители полагали, что в силу своей разумной природы люди могут договориться о том, что в обществе должны действовать разумные законы, что общее благо является условием личного блага каждого, и наоборот. Они мечтали построить Царство Разума, основанное на общественном договоре. Идея общественного договора, впервые четко сформулированная еще в XVII в. Т. Гоббсом, получила широкое развитие у всех просветителей, и особенно французских (этой проблеме посвятил свой трактат «Об общественном договоре» Ж.Ж. Руссо).
Еще одной чрезвычайно важной концепцией Просвещения была концепция «естественного человека», или «естественного состояния». Под «естественным человеком» понимался человек как высшее создание Бога и Природы, человек свободный и раскованный, живущий по естественным законам, в гармонии с природой и другими членами общества. «Естественное состояние» – великая просветительская утопия, мечта о свободном, гармоничном, разумном обществе. Концепция «естественного человека» помогала бороться с сословными предрассудками и видеть в человеке прежде всего человека, утверждать идею равенства людей, необходимость изменения общественного сознания и общества. Для просветителей было характерно противопоставление природы и современной цивилизации, исказившей подлинную природу человека. Именно поэтому нужно вернуться к этой неискаженной природе, возродить «естественное состояние», предполагающее жизнь, основанную на естественных законах Разума и Природы. И если некоторые просветители полагали, что цивилизация в целом не противоречит природе, что для достижения «естественного состояния» нужно избавить общество от предрассудков и варварства, но сохранить лучшие завоевания цивилизации (такова, например, позиция Вольтера, высказанная в «Простодушном»), то другие резко противопоставляли природу и цивилизацию, как, например, Руссо, провозгласивший: «Назад, к Природе!»
Отстаивая концепцию «естественного состояния», просветители еще раз подтверждали не узкоклассовый, а общечеловеческий характер своих основных идей. Действительно, невозможно свести Просвещение только к «форме идеологической борьбы третьего сословия за свои права», ибо просветители боролись за права человека вообще, за отмену сословных барьеров между людьми. Их учение носило универсальный характер и защищало прежде всего общечеловеческие ценности, противостояло всем формам шовинизма и дискриминации человека. Они с гордостью называли себя космополитами – «гражданами мира». Так, Фридрих Шиллер заявлял: «Я пишу как гражданин мира, который не служит ни одному князю». Карло Гольдони в посвящении комедии «Семья антиквара» писал: «Писатели всех стран составляют единую республику, являясь благодаря этой прекрасной матери согражданами и братьями. Отдаленность территорий, различие климата, несходство языка не делают различными сердце и дух, и ученые, живущие в разных городах, провинциях и странах всего света, относятся друг к другу как жители единой страны, поселившиеся в разных домах. Поэтому ошибается тот, кто презирает другие народы, почитая только свой собственный, но не менее заблуждается и тот, кто превозносит иностранцев и презирает своих соплеменников. Можно восхвалять одаренных людей Англии, не оскорбляя французов, а мы можем одобрять и тех и других, отдавая должное нашим выдающимся итальянцам».
Космополитизм был важен как протест против национальной ограниченности, шовинизма, расизма, любых неразумных барьеров между людьми. Просветители исходили из того, что в человеке нужно видеть прежде всего человека. Одним из девизов Просвещения можно считать слова Лессинга, вложенные в уста его героя – Натана Мудрого: «…человек – сначала человек, а уж потом – еврей иль христианин».
Вместе с тем для Просвещения вовсе не было характерно забвение национального, пренебрежение к национальным культурам, их различиям. Наоборот, именно у просветителей обнаруживается впервые осознанное и доброжелательное внимание к проблеме национального характера как собственного народа, так и народов других стран, стремление воплотить национальный колорит и национальный характер в искусстве и литературе. Именно усилиями просветителей рождаются этнография, фольклористика, сравнительное изучение культур. Особую роль в этом сыграло немецкое Просвещение.
XVIII в. в целом можно охарактеризовать как эпоху оптимизма (особенно в сравнении с XVII в.). Действительно, как в мироощущении, так и в искусстве этой эпохи нет трагических разрывов и диссонансов, болезненных антиномий, нарочито акцентируемых контрастов. Оптимистическая идея прогресса распространяется в это время не только на область социально-экономическую, научно-техническую, но и на искусство, литературу (знаменитый «спор “древних” и “новых”», в котором «новые» отстаивали превосходство современных авторов над античными, что, безусловно, не соответствует истине, но хороню иллюстрирует страстную убежденность эпохи в неизбежности прогресса во всех областях жизни[8]). Просветители были также убеждены в том, что стремление к счастью заложено в самой природе человека, а потому его можно научить быть счастливым, можно построить разумное, гармоничное и счастливое общество. Однако оптимизм Просвещения нельзя считать примитивным, совсем не замечающим жизненных противоречий. Как справедливо отмечает А.Я. Якимович, «это очень своеобразный оптимизм, оптимизм без иллюзий, видящий действительность и понимающий все иронически-трезво»[9].
В целом исследователи отмечают как очень характерную черту мышления и культурной атмосферы эпохи диалектическое соединение противоречивых тенденций. Н.Т. Пахсарьян пишет: «Соединение противоречивых устремлений и настроений – оптимизма и скептицизма, иронии и меланхолии, патетики и трезвости, опоры на естественноприродное и социальное, материализма и мистики, старого и нового и т. д. – очень показательно для XVIII столетия и осуществляется на почве компромисса – очень важной категории менталитета этой эпохи»[10]. Не случайно в качестве эмблемы эпистемы (модели познания), свойственной XVIII в., зарубежные эпистемологи[11] называют маятник, который обладает широкой амплитудой колебаний, умещающей в себе множество позиций, и постоянно стремится от крайних точек к центру, к срединной позиции. Так и для интеллектуально-культурной атмосферы XVIII в., особенно для просветительского мышления, характерны толерантность, терпимость к чужому мнению, плюрализм, способность к компромиссу при сохранении верности своим принципам. Как отмечает Т.Е. Длугач, «компромисс по сути дела есть выражение обоюдного (всестороннего) уважения и признания прав других автономных личностей»[12]. Прежде всего это признание права автономной личности на свое собственное суждение, с которым не обязательно соглашаться, но которое нужно уметь хотя бы выслушать. Своеобразным девизом Просвещения можно считать знаменитые слова Вольтера, страстного полемиста, который однажды заявил своему оппоненту: «Я не принимаю Вашего мнения, но готов отдать жизнь за то, чтобы Вы имели право высказать его». Просветители в высшей степени ценили свободное, независимое мышление, умение выражать и отстаивать свое мнение. При этом весьма часто они вели полемику между собой. Н.Т. Пахсарьян справедливо пишет: «Просвещение – это идейное, интеллектуальное, культурное движение, имеющее общие исходные принципы. Однако просветители вовсе не были согласны друг с другом во всем и всегда: ученик Дж. Локка А.Э.К. Шефтсбери вел полемику со своим учителем, поклонник энциклопедистов Ж.Ж. Руссо пришел в конце концов к резкому расхождению с ними, Ш. Монтескьё был сторонником монархии, тот же Руссо – республиканцем. Существовали также определенные различия в воззрениях просветителей различных стран, разных этапов. Английское Просвещение было, очевидно, наиболее ранним и наиболее компромиссным, французское – наиболее ярким, авторитетным и разнообразным, немецкое – наиболее поздним и носящим прежде всего философско-эстетический характер. В движении Просвещения участвовали буржуа и дворяне, светские люди и священнослужители, их просветительские воззрения порой причудливо сочетались в Англии – с пуританизмом (у Д. Дефо, С. Ричардсона), в Германии – с пиетизмом (у X. Томазия[13]), во Франции – со спиритуализмом (у Э.Б.Д. Кондильяка). Объединяла этих разных людей прежде всего высочайшая оценка свободного размышления»[14].
Принцип толерантности и культурного плюрализма, осуществляемый на почве компромисса, определяет своеобразие внутреннего и внешнего (межкультурного) диалога в XVIII в. Если предыдущие эпохи европейской культуры (Средневековье, Ренессанс, XVII в.) были культурами диспута, в которых позиции «собеседников» резко противопоставлены, то культуру XVIII в. определяют как «культуру разговора, беседы» (В. Библер), в которой несовпадающие позиции «собеседников» дополняют друг друга и направлены на совершенствование самого диалога как основы культуры – диалога с «другими» и с самим собой. Действительно, XVIII в. ведет диалог как с «другими» – соседними эпохами, так и с самим собой – внутренний диалог, порожденный несовпадением позиции Просвещения и непросветительских явлений эпохи (это касается и художественных направлений). Более того, самому Просвещению – в силу несовпадения позиций просветителей – присуща «беседа с самим собой», т. е. внутренний диалог. Согласно же М.М. Бахтину, внутренний диалог является основой существования всякой культуры, равно как и межкультурный диалог составляет основу бытия культуры вообще. Поэтому не удивительно, что в культуре XVIII в. представлены феномены, не втянутые в орбиту просветительского движения, сохраняющие свою автономность или даже противостоящие просветительской позиции. Наглядным воплощением «культуры беседы», каковым является XVIII в., выступает социально-философский роман Д. Дидро «Племянник Рамо», написанный в форме диалога.
Итак, Просвещение – это широкое социокультурное движение и определенное мировоззрение, базирующееся на следующих основополагающих идеях: Разум и Природа как критерии подлинных ценностей; синтез рационализма и сенсуализма (рационалистический сенсуализм); вера в человеческий разум как двигатель прогресса и понимание, что разум ограничен опытом и является продуктом опыта; убежденность, что «среда» формирует человека, но «мнение правит миром»; уверенность, что разумность предполагает развитие чувствительности; защита «естественного состояния» и борьба с сословными предрассудками, внесословный подход к человеку; антиклерикализм и защита «естественной религии» – деизма; критика суеверий и фанатизма, отстаивание толерантности и веротерпимости; отрицание тирании и неограниченного абсолютизма; защита неотъемлемых прав человека и гражданина; идеал государства как «общественного договора»; убеждение, что путь «просвещения умов», воспитания сознания – единственный путь изменения мира и человека; акцентирование воспитательной функции искусства, видение в нем важного инструмента совершенствования человека, преображения мира.
XVIII в. был эпохой, когда сформировались понятия «гражданское общество» и «права человека», когда кардинально изменилось европейское сознание, когда к самостоятельному, независимому мышлению подключилось множество людей, в том числе и из низов общества. Это произошло прежде всего благодаря развитию просветительского движения. Отвечая на вопрос «Что такое Просвещение?», великий немецкий мыслитель этой эпохи И. Кант в одноименной работе написал: «Просвещение – это выход человека из состояния несовершеннолетия, в котором он находился по собственной вине. <…> Имей мужество пользоваться своим собственным умом! – таков девиз эпохи Просвещения!» С этими словами перекликается мысль одного из крупнейших французских культурологов М. Фуко о том, что Просвещение было не только коллективным действием, но и мужественным поступком индивида, решившего жить самостоятельно и ответственно[15].
Сложные процессы, происходившие в социуме и сознании человека, неизбежно воздействовали на искусство и литературу, и именно последняя, как всегда, наиболее полно и наглядно отражала важнейшие перемены и в обществе, и в ментальности людей. Отмечая, что большинство отечественных специалистов достаточно сдержанно оценивает степень новаторства литературы XVIII в., Н.Т. Пахсарьян подчеркивает, что «такое суждение несправедливо и знакомство с лучшими художественными произведениями этого периода сможет его опровергнуть»[16]. Исследовательница также полагает, что «насущной потребностью современного филологического знания является, по-видимому, более четкое ощущение самоценности и оригинальности литературы XVIII столетия, чему в определенной степени поможет уяснение специфики взаимодействия и эволюции основных литературных направлений эпохи»[17].
Совершенно понятно, что и уяснение специфики немецкой литературы XVIII в. невозможно без знакомства с основными художественными направлениями эпохи и их репрезентацией в европейской литературе в целом.
2. Основные художественные направления XVIII века
Художественная парадигма XVIII в. отличается чрезвычайной сложностью и многообразием, прихотливым взаимодействием различных художественных (в том числе и литературных) направлений, часть из которых была получена в наследство от XVII в., что еще раз подтверждает невозможность резкого разрыва между эпохами, контрастного их противопоставления. Новое всегда вырастает из старого, постепенно рождается в нем, и если даже оно ведет полемику со старым, то неизбежно учитывает и переосмысливает его опыт. Старое же чаще всего претерпевает трансформацию, как это случилось с барокко и классицизмом, которые не только продолжили развитие в прежнем виде, но и видоизменились в свете просветительского мировоззрения. К ним прибавились художественные направления и стили, порожденные самим Просвещением.
Долгое время в наших учебниках и учебных пособиях господствовала слишком ясная и примитивная схема генезиса и эволюции художественных направлений в эпоху XVIII в.: в первой половине века развивались просветительский классицизм и просветительский реализм, во второй половине – сентиментализм, который якобы родился в результате переосмысления основных положений Просвещения и критиковал их. Таким образом, сентиментализм по сути дела выводился за рамки Просвещения. Кроме того, в конце века появился преромантизм, проложивший дорогу романтизму, и он также находился в резкой оппозиции к просветительской идеологии (при этом часть исследователей отождествляла преромантизм и сентиментализм, а часть полагала, что первого и вовсе не было). Все это дополнялось резкой поляризацией двух половин века: в первой господствовал разум, во второй – чувство, взаимоисключающие друг друга.
Такая схема оказывается чрезвычайно далекой от истинного положения вещей, от взгляда современных исследователей культуры и литературы XVIII в. Весьма сомнительно противопоставление разума и чувства, которые, скорее, предполагают друг друга, равно как сомнительно и то, что существование просветительского классицизма завершилось к середине века, а сентиментализма начался с его середины. Очевидно, что оба направления развивались на протяжении всей эпохи, хотя просветительский классицизм сложился раньше, а сентиментализм был особенно ярок во второй половине столетия.
Особенно же сомнительно в свете последних научных данных существование некоего просветительского реализма. В свое время известная исследовательница, теоретик литературы Л.Я. Гинзбург заметила, что слово «реализм» меньше всего подходит для просветительской литературы[18]. Это действительно так хотя бы потому, что те произведения, которые традиционно относят к просветительскому реализму (прежде всего романы Дж. Свифта, Д. Дефо, Г. Филдинга, А.Р. Лесажа, А.Ф. Прево, Д. Дидро), содержат в себе такие элементы поэтики, которые не совсем присущи классическому реализму, основанному на социальном детерминизме, миметическом изображении жизни, предполагающий создание «типичных характеров в типичных обстоятельствах» (Ф. Энгельс), а также соединение типизации и индивидуализации. При этом реалисты XIX в. стремятся к объективному отражению жизни в формах самой жизни, избегая ментального разрушения реальности – всяческих элементов условности и фантастики. Просветители же, напротив, весьма часто использовали в своих произведениях эти элементы, равно как и элементы утопии. Кроме того, писатели, традиционно относимые к просветительскому реализму, часто обращаются к открытому дидактизму и морализации, подчиняют фабулу произведения доказательству или опровержению того или иного философского тезиса, превращают персонажей в рупоры авторских идей. К тому же в романах названных выше писателей обнаруживаются черты классицизма, барокко, рококо, сентиментализма. Возникает вопрос: реализм ли это? И может ли художественный стиль реализоваться только в одном жанре – жанре романа? Все это подтверждает, что существование просветительского реализма как самостоятельного художественного направления сомнительно, что за реализм мы принимаем элементы жизнеподобия, социального и психологического анализа, свойственные другим художественным стилям эпохи. Обычно в качестве критериев реалистических произведений XVIII в. называют правдивость, демократичность, критическое отношение к действительности. Но таковы, например, и произведения сентиментализма, такие же качества присущи и многим другим художественным стилям. Подобные критерии носят, скорее, оценочный характер, и потому большинство исследователей ныне не разделяет точки зрения о существовании просветительского реализма.
В XVIII в. развиваются, сложно взаимодействуя, различные художественные направления: барокко, классицизм, рококо, сентиментализм, преромантизм. При этом в большинстве случаев они оказываются полностью или частично вовлеченными в сферу просветительского мышления, просветительской идеологии и дают по крайней мере несколько вариантов – непросветительский и просветительский: например, барокко в старом его варианте и просветительское барокко, классицизм и просветительский классицизм, рококо и просветительское рококо (хотя последнее, как и сентиментализм, в наибольшей степени подчинено выражению просветительского мировоззрения). При этом собственно просветительская литература образует специфическое идейнохудожественное течение, которое проникает в другие художественные направления, органично сливаясь с ними. Как отмечает Н.Т. Пахсарьян, «сформировавшись в некое идейно-художественное течение, просветительская литература развивается как бы между и поверх литературных направлений, частично накладываясь на них, сливаясь с ними, но никогда полностью их не поглощая. Так что в каждом литературном направлении XVIII столетия мы можем обнаружить его “просветительский” и “непросветительский” варианты, в чем можно убедиться, обратившись к анализу поэтики конкретных произведений»[19].
Главными художественными направлениями эпохи явились просветительский классицизм, рококо, сентиментализм. При этом в наследие от предыдущей эпохи XVIII в. получил барокко и классицизм, которые продолжили развитие как в прежнем своем варианте (особенно в архитектуре, скульптуре, живописи, музыке), так и в трансформированном, просветительском (например, барокко в поэзии Б.Х. Броккеса). Однако, безусловно, эстетика классицизма – в силу свойственного ей рационализма – оказалась более созвучной Веку Разума. В связи с этим обновленный классицизм – просветительский классицизм – стал одним из генеральных направлений XVIII в., развивавшимся на протяжении всего столетия. В целом его эстетика остается все той же, основанной на примате разума и незыблемости идеала красоты как плода высокого разума. Однако в основе нового классицизма лежит уже не картезианский (декартовский) рационализм, но рационализм, соединенный с сенсуализмом, ищущий опору в опыте и чувственном познании мира. Именно поэтому акцент у классицистов новой эпохи делается не на открытии новых разумных оснований, но, по словам X. Ортеги-и-Гассета, «границ разума, его пограничья с бесконечным пространством иррационального»[20]. Кроме того, сам разум («здравый смысл») понимается, по словам Гадамера, «как момент гражданского нравственного бытия». Это влечет за собой высокую гражданскую проблемность произведений просветительского классицизма.
Просветительский классицизм, в отличие от классицизма XVII в., все более тяготеет к оценке собственной эстетики как «истинного стиля». В нем еще больше усиливается стремление к упорядоченности, стройности, соразмерности, к поискам закономерностей, свойственных «правильному искусству». Все это приводит к рождению в XVIII в. эстетики – и как особой науки, и как термина, зафиксированного словарями: в 1750–1758 гг. немецкий ученый А.Г. Баумгартен издает двухтомный труд «Эстетика» («Aesthetica»), в котором слово «эстетика» обрело современный смысл: «наука о прекрасном, о закономерностях искусства и художественного творчества». При этом Баумгартен стоял на рационалистических философских и эстетических позициях, был учеником К. Вольфа и И.К. Готшеда. Законы творчества и закономерности «правильного искусства» просветители-классицисты выводят уже не только из античных источников, но прежде всего из художественного опыта французского классицизма XVII в. Наследие великих французских классицистов (Ф. Малерба, П. Корнеля, Ж. Расина, Ж.Б. Мольера, Ж. Лафонтена, Н. Буало) стало своего рода эстетическим эталоном, на который равнялся просветительский классицизм (это особенно характерно для французских просветителей-классицистов и для раннего немецкого просветительского классицизма, созданного Готшедом).
Отличительной чертой просветительского классицизма является также то, что он в гораздо большей степени, нежели классицизм предыдущей эпохи, опирается на категорию вкуса, хотя еще и не индивидуального, но некоего «просвещенного вкуса», общего для разумных просвещенных людей. Однако уже зреет понимание, что «стиль – это человек» (Ж.Л. Бюффон), что творчество – индивидуальный процесс, что произведение несет на себе неизгладимый отпечаток авторской индивидуальности. Из этого проистекает тяготение нового классицизма к соединению предельно обобщенного, типичного (что было и ранее свойственно классицизму) с индивидуальным, неповторимым. Этим же обусловлена гораздо большая терпимость просветительского классицизма к разнообразию, меньшая значимость для него жанровой иерархии (это подтверждает знаменитый афоризм Вольтера: «Все жанры хороши, кроме скучного»). И если классицизм XVII в. сознательно тяготел к единообразию, к единым законам стиля, то новая эпоха порождает обилие вариантов классицизма – как национальных (например, классицизм И.И. Винкельмана и специфический «веймарский классицизм» в Германии), так и индивидуальных (например, у Ш.Л. де Монтескьё, Д. Дидро, Г.Э. Лессинга).
Просветительский классицизм отличается также тем, что он не существует в изолированном виде, но тяготеет в творчестве различных авторов к синтезу с другими художественными стилями, чаще всего с рококо (как у А. Поупа) или сентиментализмом (как у Д. Дидро), часто в синтезе с барокко и рококо (как у Д. Дефо, Дж. Свифта, Вольтера, Ш.Л. де Монтескьё), с барокко, рококо и сентиментализмом (у Г. Филдинга, Т. Дж. Смоллета, А.Р. Лесажа, А.Ф. Прево). Тенденции классицизма представлены у многих писателей XVIII в., они постоянно присутствуют на различных этапах Просвещения. При этом наиболее отчетливо они обнаруживают себя в тех жанрах, в которых еще классицизм XVII в. достиг особых вершин, – в героической эпопее, оде и особенно трагедии и комедии. Яркими образцами просветительского классицизма, наиболее полно репрезентирующими его эстетическую сущность, стали драматургия Вольтера и его эпическая поэма «Генриада», философские и морально-дидактические поэмы А. Поупа, драматургия Дж. Аддисона (особенно трагедия «Умирающий Катон»), трагедии В. Альфьери и комедии К. Гольдони, трагедия И.В. Гёте «Ифигения в Тавриде», сознательно написанная по всем канонам классицизма XVII в. и несущая в себе идеи «веймарского классицизма», философская драма Г.Э. Лессинга «Натан Мудрый», зрелая драматургия Ф. Шиллера и многое другое. Просветительский классицизм ярко выражен в русской литературе: драматургия и поэзия М.М. Хераскова (особенно эпопея «Россияда»), драматургия Д.И. Фонвизина, И.А. Крылова (у обоих – в синтезе с рококо), творчество М.В. Ломоносова, А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина (у всех – во взаимодействии с барокко, сентиментализмом и рококо), А.Н. Радищева (в синтезе с сентиментализмом). В белорусской литературе тенденции просветительского классицизма представлены в XIX в. в комедиях В. Дунина-Марцинке-вича – в сложном синтезе с сентиментализмом и становящимися романтизмом и реализмом.
Новым художественным направлением стало рококо, явившееся одним из генеральных стилей XVIII в. В западном литературоведении уже давно именно к рококо причислили практически все наиболее яркие художественные феномены эпохи, полагая, что Просвещение – это ведущая идеология XVIII в., а рококо – его ведущий стиль. Вероятно, это одна из крайностей по отношению к рококо. Но в неменьшей степени другая крайность была присуща советской науке: рококо аттестовали как весьма незначительное явление, как малое, камерное, даже «несерьезное» искусство – легковесное, наполненное эротическими намеками «салонное», «будуарное» искусство, «искусство завитушек», порожденное «загнивающей» аристократией и отражающее кризис феодализма. К рококо относили только произведения писателей второго или третьего плана, малые жанры и т. и. Была также распространена концепция рококо как трансформации или даже «деградации» барокко. Его рассматривали и как «подсистему» классицизма, обслуживающую малые жанры.
Серьезное изучение эпохи демонстрирует, что все эти концепции несостоятельны. В конце XX в. в советском и постсоветском (особенно российском) литературоведении произошли кардинальные перемены во взглядах на рококо, и все же по-прежнему оно недостаточно изучено в нашем культурном пространстве, по-прежнему сохраняется предрассудок отношения к рококо как к легковесному и не очень оригинальному искусству, представляющему собой лишь трансформацию некоторых черт барокко. Так, даже в таком авторитетном издании, как академическая «История всемирной литературы» в девяти томах, читаем: «Более широкое (чем барокко. – ГС.) распространение в XVIII в. не только в изобразительном искусстве, но и в литературе получило рококо, явившееся своеобразной трансформацией отдельных черт барокко. Это было искусство гедонизма, в котором опосредованным образом отразился кризис феодально-абсолютистского строя. Художники и поэты рококо славили жизнь как погоню за мимолетным наслаждением, как галантную игру “любви и случая”, как быстротечный праздник, которым правят Вакх и Венера»[21]. Уважаемые исследователи при этом оговариваются, что «рассматривать рококо только как явление аристократическое было бы принципиально неверно», что «для писателей Просвещения школа рококо нередко могла стать этапом в эмансипации чувственного», что «какими-то гранями были близки просветителям и такие черты рококо, как гедонизм, эпатирование церковного ханжества»[22]. Однако в целом, как очевидно, они считают рококо порождением барокко и выводят его за рамки Просвещения, что представляется сомнительным.
Таким образом, эпоха, боровшаяся с предрассудками, взывает к пересмотру наших предрассудков по отношению к рококо, что в последнее время отражается как в западном, так и в постсоветском (опять же преимущественно российском) литературоведении. Если на Западе поначалу термин «рококо» употребляли как синоним «барокко» (Я. Буркхардт), то на рубеже XIX–XX вв. в нем начинают видеть последний великий стиль (т. е. стиль, охватывающий все сферы и виды искусства), порожденный европейской культурой (Э. Эрматингер, В. Клемперер, Ф. Нойберт, Э. Хюбенер). Во второй половине XX в. такие ученые, как Ф. Мэнге, Р. Лофер, X. Хатцфельд (Гатцфельд), П. Брэди, Д. По, Ж. Вайсгербер, подходят к рококо не просто как стилю с его формальными признаками, но и как к глубокому и сложному феномену европейской культуры и литературы, обладающему собственным мировидением, формирующему собственную концепцию мира и человека. Как отмечает Н.Т. Пахсарьян, «концепция рококо как единого “стиля эпохи” (Лофер) начинает соперничать с представлением о нем как об одном из художественных направлений XVIII столетия»[23]. Сама же российская исследовательница, благодаря которой произошли существенные изменения во взглядах на рококо в постсоветском литературоведении, придерживается именно этой точки зрения и обнаруживает истоки художественного мироощущения рококо «в том кризисе интереса к большой Истории, ослаблении героического пафоса и повороте к частному, интимному существованию человека, которыми отмечена культурная атмосфера конца XVII в.»[24].
Определенные внешние черты стиля рококо фиксирует уже само его название: термин «рококо» образован искусственно по аналогии с «барокко» от франц. roquaille – «мелкие камешки», «ракушки». Таким образом, изысканной формы перламутровая раковина стала своего рода эмблемой стиля рококо, отличительными особенностями которого являются причудливость, прихотливость фантазии, изящество, блеск, тяготение к миниатюрности. Однако, разумеется, сущность рококо несводима к этим внешним признакам, непонятна вне контекста его особого мироощущения.
Долгое время социальные «корни» искусства рококо искали в салонном аристократическом искусстве Франции начала XVIII в. и даже определяли рококо как «стиль эпохи Регентства», отличавшейся в придворной среде крайней легкомысленностью и распущенностью нравов (имеется в виду правление Филиппа Орлеанского, назначенного регентом после смерти Людовика XIV, ибо наследник, Людовик XV, правнук «короля-солнца», был еще мал). Однако подобный подход сужает видение той социальной среды, которая формировала рококо, вносит вульгарно-социологические оттенки в его понимание. Как справедливо замечает Н.Т. Пахсарьян, «связывать порождение любого культурного феномена, особенно в Новое время, с деятельностью определенного класса – значит упрощать проблему генезиса этого феномена»[25]. Исследовательница подчеркивает, что «если в старых учебных пособиях рококо связывали исключительно с переживающим упадок и разложение аристократическим дворянским кругом, то теперь сферой формирования этого искусства считают скорее те слои дворянства, которые склонны были к компромиссу с буржуазией, и собственно буржуазную демократическую среду общества, хотя вопрос этот подробно не разработан и концептуально не осмыслен»[26]. Заметим, что в пользу этой концепции свидетельствует и распространенность рококо именно в бюргерской среде в Германии; крупнейшие немецкие рокайные (рокайльные) авторы были бюргерами по происхождению.
Рококо органично вписывается в контекст Просвещения, что теснейшим образом связано с философскими корнями искусства рококо, с его мировоззренческими особенностями. Основой мировидения рококо является гедонизм нового типа, не связанный, как это трактовали раньше, со сплошной погоней за наслаждениями, с бездумным и безумным прожиганием жизни. Гедонизм рококо исходит из того, что стремление к счастью и наслаждению является естественной потребностью человека, лежащей в основе его разумной природы. В силу этого и сам гедонизм рококо – «естественный», «разумный» гедонизм. Он предполагает смягчение излишне ригористических требований, предъявляемых человеку старой ханжеской моралью. В связи с этим представители рококо критиковали ханжество общества в целом и Церкви в особенности, делали ставку на гуманную снисходительность к человеку, который всегда наделен теми или иными слабостями. Именно опора на «естественную» природу человека и критика религиозной морали в наибольшей степени сближают мировоззрение авторов рококо и просветителей. При этом рококо не обязательно полностью, всегда и во всем включено в орбиту Просвещения. Как отмечает Н.Т. Пахсарьян, «пафосом Просвещения было формирование и осуществление идеала, тогда как писателям рококо была бы близка мысль П. Валери: “Идеал – это манера брюзжать”»[27].
Действительно, рококо меньше всего свойственно стремление к морализаторству, к пафосности, к провозглашению идеалов. Не свойственны ему также тяготение к трансцендентному, метафизическому, стремление ставить «вечные» вопросы – черты, характерные для барокко. Именно поэтому рококо – новое явление, а не трансформация элементов барокко. Рококо целиком обращено к современности, к частному бытию человека, к его внутренним проблемам, к сложностям взаимодействия человека и социума в силу двойственности как индивидуальной, так и общественной морали. Н.Т. Пахсарьян подчеркивает, что писатели рококо стремятся «анализировать и отражать нравы и психологию современного общества, демонстрировать двойственность человеческой природы, ее естественно-скандальные аспекты, выражать компромиссное общественное сознание. В отличие от жизнестроительного пафоса просветительской литературы, ставящей перед человеком задачи самовоспитания, совершенствования себя и мира, литература рококо утверждает естественное несовершенство человека, стремится выявить в нем нюансы “игры тщеславия и достоинства” (Гатцфельд), представить добродетель и идеальность чувств как “труднодостижимые цели” (А. Зимек)»[28].
Следует заметить, однако, что именно стремление выразить компромиссное общественное сознание и понимание необходимости компромисса как непременного условия человеческого общежития также роднит мышление рококо с просветительским. Тем не менее рококо прежде всего делает особый акцент на двойственности и двусмысленности (амбигитивности) человека и морали. В связи с этим, как отмечает Н.Т. Пахсарьян, «одной из важных черт поэтики рококо становится амбигитивность (двойственность-двусмысленность), пронизывающая все компоненты произведения – от первоначального представления читателю достоверного/недостоверного сюжета, композиционной структуры с открытой или прямо незавершенной развязкой, до художественной интонации, в которой непрестанно смешиваются скептическое и трогательное, ирония и меланхолия»[29].
Столь же компромиссно и весьма органично рококо соединяет различные художественные тенденции, в том числе и уходящие корнями в предшествующую эпоху. В сущности, рококо вбирает в себя опыт и барокко, и классицизма, по словам Н.Т. Пахсарьян, «“снимая” их антиномичное противостояние друг другу»[30]. Исследовательница подчеркивает, что «на смену причудливо-сложным метафорам барокко в рококо приходят изящно-прихотливые метонимические сравнения, классицистические ясность и лаконизм дополняются подчеркнутой фрагментарностью и орнаментальностью»[31]. При этом рококо чуждо барочное стремление к метафизичности, к постановке «вечных» и «роковых» проблем бытия, но близки барочные эмоциональность и живописность деталей. Рококо чужды строгий рационализм классицизма, всяческая иерархия жанров, но ему близко стремление классицизма проникнуть в глубины человеческой души. Однако рококо не свойственны пафос классицизма (как и вообще какой бы то ни было пафос), его концентрация на предельно типическом, на создании не образа, но образца, его уход в «вечные», апробированные образы и сюжеты. Рококо, как уже отмечалось, целиком обращено к современности, к психологии обычного, частного человека, и оно раскрывает эту психологию во всей ее амбивалентности, двойственности, порой двусмысленности, играя полутонами, намеками, частностями. «“Играя” частностями, литература рококо обращает внимание современников на те “ограничения, сомнения, беспокойства”, которые таились внутри просветительской мысли, на ту непрочность, неуловимость, двойственность человеческой природы, от которой просвещенному разуму трудно и просто нельзя отмахнуться»[32].
Важнейшим феноменом, присущим рококо и лежащим в основе его мировидения, эстетики и поэтики, является игра. Авторы рококо, пожалуй, раньше других поняли, какое значение в жизни человека имеет игра. Человек, как известно, является прежде всего Homo Ludens – «человеком играющим» (определение известного культуролога И. Хёйзинги), и только в силу этого, возможно, он становится Homo Sapiens – «человеком разумным», создает культуру. Рококо воспринимает и репрезентирует жизнь в искусстве как игру, равно как и само себя понимает как игру, приносящую радость и наслаждение – то «разумное» наслаждение, которое лежит в основе «естественной» природы человека и является опорой гедонизма рококо. Отсюда проистекает особая игривость как отличительная черта стиля рококо. Однако, бесконечно играя и втягивая в эту игру читателя, зрителя, слушателя, рококо поднимает чрезвычайно серьезные проблемы, в том числе и социальные.
Особой заслугой рококо, безусловно, явилось открытие в мире искусства сферы частного, интимного существования. При этом, впадая в некоторую крайность, рококо в полемике с прежними подходами сводит все в жизни к частному и интимному. Тем не менее это не отменяет актуальности и остроты поднимаемых в литературе рококо проблем, но порождает особую манеру репрезентации этих проблем: игривость, легкость, изящество, мягкость, интимность интонации, искусство намека, ироничность, остроумие, эротизм, тонкая гривуазность. Рококо всегда стремится говорить о серьезных проблемах легко, непринужденно, остроумно. Его отличительными чертами являются блеск (в том числе и интеллектуальный), тяготение к миниатюрности и изяществу. Показательно, что именно такая иронически-игривая тональность свойственна столь важному жанру эпохи, как философская повесть. В том числе это касается и знаменитых философских повестей Вольтера, в которых поэтика классицизма соединяется с поэтикой рококо, что особенно сказывается в их тональности, в иронически-игривой, блестяще-интеллектуальной и остроумной манере. Подобная тональность проистекает не столько из стремления позабавить читателя и облегчить ему усвоение просветительских идей, сколько представялет собой глубоко аналитический прием актуализации этих идей, рассчитанный на активизацию читательского восприятия: читатель, как утверждал Вольтер, должен не пассивно «усваивать», но бесконечно «догадываться и предполагать». Это в высшей степени соответствует установке Просвещения – как в жизни, так и в искусстве – на «мужество пользоваться своим собственным умом».
Весь интерес литературы рококо, подчеркивает Н.Т. Пахсарьян, «направлен на постижение интимной психологии частного человека, на историю естественно-скандальных “заблуждений сердца и ума”»[33]. Не случайно первые тенденции литературного рококо можно обнаружить в произведениях писателей, отстаивавших позиции «новых» в знаменитом «споре “древних” и “новых” [“современных”]», или «споре о древних и новых», который развернулся в 90-е гг. XVII в. во Франции и Англии. Во главе «новых», или «современных», стояли Ш. Перро и Б. Фонтенель, «древних» возглавили Н. Буало, Ж. Расин, Ж. Лафонтен, Ж. Лабрюйер. Спор инициировал Перро поэмой «Век Людовика Великого» (1687), где помимо безмерного восхваления «короля-солнца» провозгласил превосходство современной литературы над древней (античной). Эти рассуждения продолжил поэт и философ Фонтенель в «Свободном рассуждении о древних и новых» (1688), где выступил также с осуждением суеверий, свойственных язычникам (а значит – и древним). Далее Перро развил свои взгляды в серии диалогов «Параллели между древними и новыми авторами» (1688–1697). Рассуждения «новых» строились на отождествлении искусства с наукой и перенесении на первое идей научно-технического прогресса. С их точки зрения, если современное общество опередило древних в естественных науках, значит оно не могло не превзойти их и в области искусства. Из этого вытекало, что современные писатели гораздо лучше, а главное – прогрессивнее древних. При этом Перро в «Параллелях…», где он сопоставлял науку, архитектуру, скульптуру, живопись, красноречие и поэзию, выступил против авторитаризма и поставил под сомнение принцип подражания в искусстве. «Древние» же полагали, что античным авторам нужно подражать, ибо они чрезвычайно глубоко выразили сущность человеческой природы, создали ярко выраженные, предельно типические, «образцовые» и вечные характеры. В силу этого невозможно говорить о превосходстве современных писателей над античными. Полемизируя с «новыми», Лабрюйер в «Характерах» (1688) говорил о неизменных константах человеческой личности. Следует подчеркнуть, что преклонение «древних» перед античностью и обращение к созданным ею образам и сюжетам служило помимо эстетических устремлений средством противостояния действительности и даже ее критики.
«Новые» становились все более популярными, хотя исторически они были не правы: прогресс в искусстве – понятие несуществующее, ибо ни один гениальный автор не отменяет предыдущего и не превосходит его, но наиболее полно выражает свое время и одновременно несет в себе вечность, соединяет национальное и универсальное (это лучше всего и раньше всего в конце XVIII в. осознают и объяснят немецкие просветители, в особенности И.Г. Гердер, утвердивший исторический подход к искусству). В этом плане совершенно очевидно, что Данте не может «отменить» или «превзойти» Гомера, а Шекспир – их обоих и т. д. Таким образом, по сути были правы «древние», но на стороне «новых» были симпатии широкой публики, ибо они обращали внимание на современность и ее злободневные проблемы. Отмечая значение «спора “древних” и “новых”» для французской культуры, К.А. Чекалов видит это значение в следующем: «…утверждение и даже абсолютизация рационализма и представления о неуклонном прогрессе в искусстве; акцент на познании политических, этических, религиозных аспектов современной цивилизации; осознание приоритетной роли национальной литературы; возрастающая роль женщин в культурной эволюции»[34]. Исследователь подчеркивает, что «все эти феномены, характерные для культуры Просвещения, в той или иной степени с ним [спором] связаны»[35].
К этому можно прибавить, что «спор “древних” и “новых”» оказался чрезвычайно важным не только для французской культуры. Так, он вызвал особый резонанс в Англии, где к нему подключился в числе прочих Дж. Свифт в своем первом памфлете «Битва книг» (1697), и именно на сторону «древних». Действие памфлета происходит в Лондоне, в Королевской библиотеке, где книги сходят с полок и в буквальном смысле вступают в битву. При этом древних авторов возглавляют прекрасные античные боги, а современных – уродливая богиня Критика. Благодаря такой расстановке сил Свифт недвусмысленно и усмешливо-ядовито высказывает свое критическое отношение к современности, в том числе к современной литературе и критике. В целом спор был важен для всего XVIII в., и не только для него, ибо, в сущности, это был спор о роли и статусе классического наследия, о необходимости ориентации на какой-либо эстетический канон или поисков собственных путей в искусстве, – спор, который в той или иной форме периодически повторяется в культуре. В эпоху же XVIII в. он стимулировал появление искусства рококо, первые литературные тенденции которого можно обнаружить именно в творчестве «новых».
Рококо формирует свою систему жанров: «легкая поэзия» – преимущественно галантная любовная лирика и анакреонтика, подчиненная гедонизму нового типа; «легкая» же галантно-эротическая, часто одновременно сатирическая и философская, ироикомическая поэма; прозаическая и стихотворная волшебная сказка; философская повесть с элементами сказки или фантастики; комедия масок; любовно-психологическая комедия; эссеистика; галантно-эротический, комедийный и социально-психологический роман. Именно последний жанр оказался особенно органичным для рококо, именно с социально-психологическим романом связаны его наиболее значимые открытия. Можно даже сказать, что по-настоящему этот жанр, столь важный для последующих эпох европейской литературы, был создан писателями рококо.
Рококо по-разному развивалось в различных европейских странах. Как направление оно наиболее четко выявилось во Франции. Отсюда, вероятно, долгое время держалось мнение, что рококо – сугубо французское явление, что отнюдь не так. Однако именно французское рококо оказалось наиболее влиятельным для остальных европейских культур и литератур. Именно во Франции раньше всего возникла та утонченная культура мысли, чувства и поведения, тот особый «галантный стиль» жизни, которые отличают рококо. Именно во Франции рококо нашло яркое выражение в живописи и скульптуре (особенно в мелкой пластике), дав миру имена Ф. Буше, Фрагонара, А. Ватто, Фальконе.
В развитии французского рококо выделяют три основных этапа: 1) 1690–1720 гг. – раннее рококо, которое часто тяготеет к интерференции с барокко (А.Р. Лесаж, А.Ф. Прево) или просветительским классицизмом (Ш.Л. де Монтескьё, Вольтер); 2) 1730-40-е гг. – зрелое рококо, характеризующееся взлетом социально-психологического романа (А.Ф. Прево, П.К. Мариво, К.П. Кребийон-сын); в это же время рококо ярко представлено в театре (П.К. Мариво) и поэзии (Ж.Б.Л. Грессе); рокайные тенденции отчетливо выражены в философских повестях Вольтера и в романах Д. Дидро (чисто рокайным является его первый роман – «Нескромные сокровища», 1748); 3) 1770-90-е гг. – позднее рококо, которое, несколько отойдя на задний план в связи со стремительным развитием сентиментализма в 1750-60-е гг., вновь заявляет о себе и разделяется на своеобразные варианты – «сатирический» (Э.Д. Парни, П.А. Шодерло де Лакло) и «апологетический» (Луве де Кувре, Дж. Казанова). Шедеврами драматургии рококо являются и две пьесы П.О. К. Бомарше из его трилогии о Фигаро – «Севильский цирюльник» (1775) и «Женитьба Фигаро» (1784).
В Англии рококо появилось очень рано – в драматургии эпохи Реставрации в конце XVII в. (особенно ярко – в пьесах У. Конгрива), но не сложилось в столь четко выраженное направление, как во Франции. Тем не менее рокайные тенденции «разлиты» по культурному пространству Англии XVIII в., дают яркие плоды в живописи (У. Хогарт, Дж. Рейнолдс, Т. Ромни), определяют лицо английской эссеистики и журналистики (Р. Стил и Дж. Аддисон) и взаимодействуют с другими художественными тенденциями у различных писателей на разных этапах: с барокко – в поздних романах Д. Дефо; с просветительским классицизмом и барокко – у Дж. Свифта; с просветительским классицизмом – у А. Поупа, К. Честерфилда; с сентиментализмом – в романах Л. Стерна и О. Голдсмита. Черты рококо ярко выражены в творчестве Г. Филдинга, сложно взаимодействуя с барокко, просветительским классицизмом и сентиментализмом (при этом многие исследователи, в том числе и английские, полагают, что творчество Филдинга представляет собой образец искусства рококо в чистом виде). Рококо ярко выражено в драматургии Р.Б. Шеридана, прежде всего в его комедии «Школа злословия».
В Италии литературу рококо представляют знаменитые фьябы (волшебные философские сказки для театра) К. Гоцци – в синтезе с барокко, а также творчество П. Ролли, К. Фругони, П. Метастазио.
Рококо достаточно весомо представлено и в литературе Германии, где оно развивается скачкообразно и обнаруживает себя на различных этапах – как в синтезе с другими художественными тенденциями, так и в более или менее чистом виде. На рубеже веков появляется раннее рококо, представленное в прозе К. Вейзе (в синтезе с барокко) и поэзии И.К. Гюнтера (также в синтезе с барокко, в наиболее чистом виде – в студенческих песнях). Затем, в 40-е гг. XVIII в., совершив определенный скачок и под очевидным влиянием французского и английского рококо, немецкое рококо достигает зрелости в творчестве Ф. фон Хагедорна, поэтов-анакреонтиков И.В. Глейма, И.П. Уца, И.Н. Гёца. На зрелом и позднем этапах немецкого Просвещения рококо наиболее ярко представлено в поэзии и прозе К.М. Виланда, его тенденции обнаруживаются в творчестве Г.Э. Лессинга, в лирике Ф.Г. Клопштока (в синтезе с сентиментализмом), в самом раннем (студенческом) творчестве И.В. Гёте.
Под явным влиянием западноевропейских образцов рококо распространяется и в русской культуре. Рокайными тенденциями (чаще всего – в синтезе с барокко, просветительским классицизмом и сентиментализмом) отмечено творчество М.В. Ломоносова, И.П. Дмитриева, Г.Р. Державина, И.А. Крылова, Д.И. Фонвизина. Однако особенно ярко рококо представлено в творчестве И.Ф. Богдановича: шедевром рокайного искусства стала его эротическая и философская ироикомическая поэма «Душенька» (1778).
Еще одним важным художественным направлением XVIII в., порожденным прежде всего духом Просвещения, стал сентиментализм. Сам термин, произведенный от латинского sentio – «чувствую», «ощущаю», а точнее – от английского sentimental – «чувствительный», закрепился сравнительно поздно, когда сентиментализм как стиль и направление уже существовал. Это произошло благодаря знаменитому
роману Л. Стерна «Сентиментальное путешествие» (1768), в предисловии к которому знаменитый английский писатель разделил всех путешественников на разряды (и весьма парадоксально, гетерогенно), а затем объявил, что он выбирает именно сентиментального (чувствительного) путешественника. Д.А. Иванов отмечает, что слово sentimental и раньше существовало в английском языке, но было связано с принадлежностью к области разума и означало «здравомыслящий», «высоконравственный», «назидательный», но затем – и именно благодаря Стерну – поменяло значение. «Теперь sentimental значит также “чувствительный”, “способный к переживанию возвышенных и тонких эмоций” и вводит его в круг наиболее модных слов своего времени»[36].
Таким образом, как подтверждает сам термин, в основе сентиментализма – своеобразный культ чувства и чувствительности, осознание способности чувствовать, ощущать, сопереживать, сострадать как конституирующей черты личности, как высшего критерия подлинной человечности. В связи с этим сентиментализм весьма часто и правомерно называли и называют чувствительным направлением в искусстве. Однако следует помнить, что неправомерно выведение сентиментализма за рамки Просвещения и тем более – противопоставление сентиментализма Просвещению, его культу Разума. Во-первых, напомним, что это культ Разума, соединяющийся с культом Природы, с поправкой на опыт. Основа Просвещения – рационалистический сенсуализм. В этих рамках остается и сентиментализм, базой которого является все тот же сенсуализм Дж. Локка, но при этом философия Локка дополняется философией «морального чувства» А.Э.К. Шефтсбери, а также влиянием концепций субъективного идеализма Беркли и Д. Юма (в Германии – интуитивистской философии И.Г. Гамана), иначе расставляются акценты в соотношении разума и чувства.
Если можно так выразиться, сентименталисты в еще большей степени, чем другие просветители, осознают, насколько разум нуждается в поверке опытом, естественными законами природы, естественными чувствами. Именно сентименталисты первыми распознали двойственность самого разума. С их точки зрения, в разуме можно обнаружить собственно разум, здравый смысл как одно из ведущих позитивных начал в личности и жизни социума, движущих историей и ведущих к несомненному прогрессу, и рассудок, который всегда эгоистичен, утилитарен, корыстен, служит карьере, достижению успеха. Рассудку противостоит чувство, которое находится в согласии с высоким разумом, дополняет и предполагает его («чем разум человека становится просвещеннее, тем его сердце – чувствительнее»). Для сентименталистов именно в чувстве по-настоящему раскрывается человек, чувство прежде всего является подлинным критерием истины, мерилом человечности. Еще Шефтсбери провозгласил, что нравственное начало заключено в природе человека, что «мудрость – скорее от сердца, чем от ума». «Мы велики своими чувствами», – заявил Ж.Ж. Руссо, который во второй половине столетия стал вождем европейского сентиментализма, его крупнейшим представителем и теоретиком.
Безусловно, именно сентименталисты острее всего ощущали неправедность и неестественность современной цивилизации, извратившей природные законы, именно они с особой страстью отстаивали концепцию «естественного состояния» и боролись с сословными предрассудками (и здесь важнейшую роль сыграли трактаты и романы Руссо). Сентименталисты распознали неравенство в самом третьем сословии; отсюда – их пристальный интерес к людям, находящимся на самой нижней ступеньке социальной лестницы, – крестьянам, батракам, слугам и т. д., в целом – ко всем презираемым, униженным, угнетенным. Именно они часто становятся главными героями сентименталистских произведений, именно их внутренний мир, их чувства впервые исследуются европейской литературой серьезно, трогательно, с присущим сентиментализму нравственным пафосом. Безусловно, именно литература сентиментализма отмечена наиболее ярко выраженными демократическими тенденциями. При этом, однако, незыблемым для сентименталистов, как и для просветителей вообще, остается тезис о внесословном подходе к человеку, об изначальной «естественной» природе человека. Поэтому они стремятся всячески доказать, что люди наделены равной способностью чувствовать независимо от их происхождения, что чувство уравнивает всех, что, например, одинаковой способностью любить наделены герцогиня и горничная, аристократ и простой батрак. Но и в самом чувстве писатель и герой сентиментализма остаются аналитиками, стремящимися осознать свои чувства, понять логику алогичного (поэтому, например, романы сентименталистов так часто перерастают в моральные трактаты, содержат в себе в изобилии нравственно-психологические размышления).
Главный интерес сентименталистов, как и авторов рококо, сосредоточен на постижении психологии обычного человека, его глубинной внутренней жизни. Однако этот интерес опирается на иное понимание «естественности», нежели в рококо. В сентиментализме, как справедливо указывает Н.Т. Пахсарьян, «“естественность” натуры человека трактуется не как ее “скандальность”, а как потребность и возможность добродетельного поведения. Потому сентиментализм на своем первом этапе развития близок просветительским идеям воспитания человека, жизнестроительства, совершенствования мира, направляет полемический пыл против снисходительно-двойственной морали рококо»[37].
Однако далее, на втором этапе развития сентиментализма (преимущественно во второй половине века), в сентиментализме действительно усиливается внутренняя полемика – с самим собой и с общей верой Просвещения в неизбежность прогресса, с его оптимистическим прогнозом развития цивилизации. В сознании сентименталистов все более укрепляется мысль о несовместимости или даже враждебности природы и цивилизации, «естественности» и научно-технического прогресса. Именно цивилизация изуродовала «естественную природу» человека, узурпировала «естественное право». Наиболее ярко это представление выражено в руссоизме и руссоистском варианте сентиментализма, в энергичном призыве Руссо: «Назад, к Природе!» Только возвращение к жизни на лоне природы, по естественным ее законам станет спасением для извращенной цивилизации. Бросая вызов современной цивилизации, Руссо даже абсолютизирует эру дикости, провозглашает дикаря подлинно «естественным человеком» (в этом с ним не соглашался Вольтер, более диалектически решавший проблему соотношения природы и цивилизации и критиковавший руссоизм в своей философской повести «Простодушный»).
Эволюция сентиментализма в сторону руссоистского варианта Просвещения, как подчеркивает Н.Т. Пахсарьян, «приводит в конце концов к полемике с просветительскими идеями прогресса цивилизации, усиливает упования сентименталистов уже не на чувство как “способ нравственного мышления”, а на чувствительность, на противопоставленную рассудочности эмоциональность человека. Поздний “предромантический” сентиментализм питает интерес к иррациональному, загадочному в человеческой душе и в мире, так что появление так называемого “готического” романа, повести – не только свидетельство интереса к увлекательному приключенческому сюжету, но к миру таинственного, рокового, непознаваемого, т. е. всего того, что станет важнейшим предметом художественной рефлексии в романтической литературе XIX века»[38]. Это, безусловно, подтверждает, что сентиментализм на позднем его этапе плавно перетекает в пре(д)романтизм и готовит почву для романтизма (особенно очевидно это в Германии).
Таким образом, сам сентиментализм – вместе со всем Просвещением – проходит определенные этапы развития, видоизменяется и эволюционирует. Однако при этом его неизменными чертами остаются тяготение к «идиллическому хронотопу» (М.М. Бахтин), предпочтение тем «деревенской жизни», противостояния сельского уединения суете и фальшивости городской цивилизации, культ природы, обостренный интерес к внутреннему миру человека, сфере его чувств, культ чувства, нравственный пафос и меланхолические интонации, демократические тенденции и повышенный критицизм по отношению к современному состоянию общества.
Сентименталистов интересовала не столько действительность, сколько реакция на нее героя, мир его мыслей и чувств, его психологическое состояние. В связи с этим излюбленными жанрами, в которых ярче всего выразил себя сентиментализм, стали философско-метафизическая и одновременно пейзажная лирика (прежде всего элегия), описательно-дидактическая поэма, возрожденные и обновленные георгика и идиллия, воспевавшие сельский труд на лоне природы, «мещанская» трагедия, «трогательная», или «слезная», комедия и в особенности – социально-психологический роман. В прозе сентименталисты предпочитали нарратив от первого лица, исповедальные формы повествования (письма, дневник, исповедь). Они стремились к предельному «вживанию» в своих героев, вкладывали в свои произведения все свои чувства и эмоции.
Раньше всего сентиментализм родился в Англии – во второй половине 1720-х гг., когда появилась знаменитая поэма Дж. Томсона «Времена года» (1726–1730), в которой соединились философско-медитативная, дидактическая и пейзажная поэзия, черты георгики и идиллии. Этот жанр становится чрезвычайно популярным, и именно «Времена года» оказывают широкое влияние на другие европейские литературы, в том числе и немецкую. На новом этапе мотивы Томсона развивают и преображают Э. Юнг и Т. Грей, создавшие истинно сентименталистскую элегию, в наибольшей степени подходящую для утонченных и возвышенных медитаций на фоне природы, насыщенную меланхолическими интонациями. Классическим образцом подобной элегии стало произведение Т. Грея «Элегия, написанная на сельском кладбище» (1751). С сентиментализмом связана также поэзия О. Голдсмита, его черты присущи творчеству Дж. Макферсона и Р. Бёрнса, для которых особенно характерно внимание к шотландскому фольклору. В 1740-е гг. именно в английской литературе происходит настоящая «революция» в романе, его кардинальное преображение. Это связано с появлением сентименталистских социально-психологических романов С. Ричардсона «Памела» (1740) и «Кларисса» (1747–1748), в центре которых – повседневные заботы, чувства и переживания простого человека. С ними был связан «взрыв» популярности эпистолярного романа – жанровой формы, весьма востребованной сентиментализмом. Черты сентиментализма (но в синтезе с другими художественными тенденциями) обнаруживаются в романах Г. Филдинга. В 1760-е гг., с появлением романов Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1760–1767) и «Сентиментальное путешествие» (1768), происходит еще одно кардинальное преображение романа: героем его оказывается само сознание, поток мыслей, чувств и ассоциаций. Стерн, пародирующий сложившиеся формы просветительского романа, синтезирует тенденции сентиментализма и рококо и создает тип так называемого сентиментально-юмористического романа, который становится чрезвычайно популярным и особым образом преломляется также в немецкой литературе. Жемчужиной литературы сентиментализма справедливо считается роман О. Голдсмита «Векфилдский священник» (1766). К сентиментализму имеют отношение поздний роман Т. Дж. Смоллетта «Путешествие Хамфри Клинкера» (1771) и роман Г. Макензи «Человек чувства» (1773).
Первые тенденции сентиментализма во французской литературе можно усмотреть в романах знаменитого аббата Прево, прежде всего в «Истории шевалье де Гриё и Манон Леско» (1729), где они переплетаются с тенденциями барокко и рококо. Новый этап в развитии французского сентиментализма связан с влиянием С. Ричардсона, а затем Л. Стерна. В первую очередь это сказывается в романах Д. Дидро «Монахиня» (1760) и «Жак-фаталист и его хозяин» (1773), но в синтезе с рококо и просветительским классицизмом. В наиболее чистом виде сентиментализм представлен в творчестве Ж.Ж. Руссо. Его эпистолярный социально-психологический и философский роман «Юлия, или Новая Элоиза» (1761) стал одним из самых выдающихся шедевров сентиментализма, самым издаваемым и читаемым романом века (за сорок лет после своего выхода он выдержал сорок изданий; книгопродавцы впервые в истории книжного дела выдавали его для чтения за определенную плату, настолько велик был читательский спрос). Влияние «Новой Элоизы» было огромно, в том числе на штюрмерское поколение в Германии, на западноевропейских и русских романтиков. Велик был успех и еще одного романа Руссо – «Эмиль, или О воспитании» (1762), а также его «Исповеди» (1766–1769; изд. 1782–1789), в которой уже заметен переход к иному пониманию личности и другому типу психологизма. В «Исповеди», как отмечает Д.А. Иванов, «Руссо отходит от важнейшего принципа сентименталистской поэтики – нормативности изображаемой личности, провозглашая самоценность своего единственного и неповторимого “я”, взятого в индивидуальном своеобразии»[39]. Заметим, однако, что, с одной стороны, это, безусловно, предвосхищает принципы преромантизма и романтизма, но с другой – оказывается близким и некоторым поздним вариантам сентиментализма, например – немецкому штюрмерству. Руссо стал властителем дум не одного поколения. Созданная им концепция – руссоизм во многом ассоциируется в последующем сознании со всем зрелым и поздним Просвещением, а в плане литературном, стилевом руссоизм неизменно предполагает сентиментализм. Традиции Ж.Ж. Руссо продолжили его ученики – Л.С. Мерсье, Н. Ретиф де ла Бретон, Ж.А. Бернарден де Сен-Пьер (выдающимся произведением французского сентиментализма является роман последнего «Поль и Виржини», 1787).
В Германии первые тенденции чувствительного стиля, типично сентименталистские темы и интонации можно отметить уже в 1720-е гг. в эстетике «швейцарцев» – швейцарско-немецких критиков И.Я. Бодмера и И.Я. Брейтингера, а в конце 1720-х гг. они уже отчетливо выражены в творчестве швейцарско-немецкого поэта А. Халлера (Галлера), чрезвычайно популярного в Европе и России XVIII в. Сентиментализм еще более ярко представлен в 1740-е гг. в творчестве К.Ф. Геллерта и достигает апогея в 1750-60-е гг. в поэзии Ф.Г. Клопштока. В 1770-е гг. возникает особый вариант немецкого сентиментализма – штюрмерская литература, результат творчества участников движения «Бури и натиска». Их идейными вождями и вдохновителями были И. Г. Гер дер и И.В. Гёте, их кумирами – Руссо и Клопшток. Штюрмерское движение породило целую плеяду талантливых писателей-сентименталистов, но самыми значительными из них были молодые Гёте и Шиллер. Шедеврами сентиментализма стали лирика Гёте штюрмерского периода, его роман «Страдания юного Вертера» и первые пьесы Шиллера – «Разбойники» и «Коварство и любовь». Особым влиянием Стерна отмечено творчество последнего немецкого сентименталиста и одного из романтиков – Жан-Поля (настоящее имя – Иоганн Пауль Фридрих Рихтер; 1763–1825).
Сентиментализм ярко проявился и в русской литературе – под прямым влиянием западноевропейского, особенно Руссо, Гёте, Шиллера. Тенденции сентиментализма представлены в творчестве Ф.А. Эмина, Н.А. Львова, А.Н. Радищева (в «Путешествии из Петербурга в Москву», 1790). Однако самым крупным явлением русского сентиментализма стало творчество Н.М. Карамзина («Письма русского путешественника», 1790; «Бедная Лиза», 1792; «Наталья, боярская дочь», 1792, и др.), для которого чрезвычайно важными были уроки немецких сентименталистов. В русской литературе сентиментализм прямо прокладывает дорогу романтизму. Черты сентиментализма присутствуют в творчестве В.А. Жуковского, который блистательно переводил на русский язык английских и немецких сентименталистов (в том числе «Элегию, написанную на сельском кладбище» Т. Грея, «Ленору» Г.А. Бюргера, баллады Ф. Шиллера и др.).
Все три основных направления эпохи – просветительский классицизм, рококо, сентиментализм – развиваются на протяжении всего XVIII в., активно взаимодействуют между собой, а также с барокко и кристаллизующимся в конце века преромантизмом. Все стили крайне редко представлены в чистом виде, чаще всего происходит интерференция двух и более художественных стилей в творчестве того или иного автора, в отдельно взятых произведениях. Именно поэтому оказался чрезвычайно востребованным и органичным термин, предложенный Н.Т. Пахсарьян, – «смешанная поэтика». Так чаще всего определяют поэтику Вольтера, Дидро, Стерна и других крупнейших писателей XVIII в. Правда, по отношению к особенно сложным феноменам, каковым является, например, творчество И.В. Гёте, вобравшее в себя практически все художественные стили и тенденции не только его эпохи, но и всей мировой литературы, возник термин «художественный универсализм», предложенный А.А. Аникстом. В целом же такая полистилистичность является в высшей степени отличительным качеством литературы XVIII в.
Только с учетом всего западноевропейского контекста, в особенности художественного опыта английской и французской литератур, можно понять особенности развития немецкой литературы XVIII в.
3. Специфика социокультурной ситуации и литературного процесса в Германии XVIII века
Социокультурная ситуация в Германии была менее благоприятной для развития просветительского движения, нежели во Франции, а тем более – в Англии. Это было связано с целым рядом причин – исторических, политических, социально-экономических.
Германия, точнее – Священная Римская империя германской нации, как она именовалась, вступала в новую эпоху, неся в социально-экономическом и политическом плане тяжкий груз наследия XVII в. Во-первых, это упадок или стагнация экономической жизни, вызванные последствиями Тридцатилетней войны (1618–1648), от которых Германия не могла оправиться практически целое столетие. Во-вторых – страшная раздробленность Германии: единой страны фактически не было, но существовал конгломерат из большого количества мелких княжеств (около трехсот) и более пятидесяти вольных имперских городов, обладавших магдебургским правом. «Лоскутное одеяло», – так с горечью скажет о своей родине великий немецкий просветитель Г.Э. Лессинг. И в этом «лоскутном одеяле» каждый князь (курфюрст) тянул свой «лоскут» на себя, претендуя на суверенитет, боясь его потерять, а потому часто вступая в союзы с различными иностранными державами, что шло не на пользу Германии, закрепляло сепаратизм и фактически вассальное положение многих княжеств. Власть императора, который избирался коллегией князей из членов Габсбургского дома, была призрачной за пределами Австрии. Каждый князь чувствовал себя абсолютным самодержцем в своих владениях, равно как и каждый помещик-юнкер – в своем поместье. Каждый князь в самом маленьком княжестве стремился к роскоши, подобной роскоши Версаля, каждый помещик-крепостник выжимал последние соки из своих крестьян. По степени жестокости крепостное право в Германии могло посоперничать с тем, которое существовало в России. Не случайно немецкая просветительская литература наполнена гневными обвинениями крепостникам. Практически бесправным было и немецкое бюргерство, особенно его низы.
Священная Римская империя германской нации была весьма странным, монструозным образованием. Еще в XVII в. Самуэль Пуфендорф (Samuel Pufendorf, 1632–1694), последователь Гуго Гроция, первый в Германии теоретик естественного права, занимавшийся также теорией государства, назвал Германскую империю монстром (Monstrum). В работе «De statu nostri imperii romano-germanici» («О строе нашей романо-германской империи», 1667) Пуфендорф предлагал для преображения Германии отделение от Австрии и ее владений в романских странах и сплочение немецких княжеств в федерацию. Его современник, Габриэль Вагнер, стоял на противоположных позициях и возлагал надежды на сильную власть императора. Однако эти надежды каждый раз оказывались призрачными, как призрачным было упование на «просвещенного» монарха Иосифа II, взошедшего на престол в 1764 г.
С некоторых пор надежды немцев стали связываться с Пруссией, которая возвысилась как вассал Франции еще при великом курфюрсте Фридрихе I (с 1701 г. – король Пруссии), а затем стала самостоятельной и достигла большего экономического и культурного расцвета, чем другие немецкие государства, при императоре Фридрихе II (1740–1786), прозванном Фридрихом Великим. Однако несмотря на все его заслуги, он вряд ли соответствовал идеалу просветителей. Фридрих II, который, как и русская императрица Екатерина II, желая прослыть просвещенным монархом, завязывал переписку с выдающимися просветителями, считался другом Вольтера и даже пригласил его жить в Берлине. Как известно, Вольтер, который до этого 14 лет состоял в переписке с Фридрихом II, вскоре разошелся во взглядах с императором и спешно покинул Берлин (перед этим под окнами берлинской квартиры Вольтера был сожжен его памфлет на Берлинскую академию наук и ее главу – Мопертюи). Вольтер разгадал двуличный характер Фридриха II, который, по словам французского просветителя, «вколачивал просвещение в своих подданных капральской дубинкой». Он имел в виду, что Фридриха больше всего волновали его армия и военная мощь Пруссии, что и высмеял в «Кандиде», изобразив в виде вербовщиков «болгарской» армии именно прусских вербовщиков, отлавливавших по заданию императора «длинных парней» (известно, например, что от них едва спасся и бежал в Лейпциг Готшед, который был весьма приличного роста). Не только Вольтер, но и немецкие просветители понимали, что Пруссия стала на путь казарменно-военной централизации и бюрократизации. Их беспокоила опасность этого пути и то, что на нем, учитывая агрессивную политику Пруссии, может оказаться вся Германия, если будет объединена под эгидой Пруссии. Так, известно, что Гёте, часто отзывавшийся о деятельности Фридриха положительно, тем не менее настойчиво отговаривал веймарского герцога Карла Августа, при дворе которого он был министром, от присоединения к «Союзу немецких князей», задуманного прусским императором. Гёте опасался прусского казарменного пути, хотя и болел за единство Германии, переживал, как и другие просветители, ее раздробленность и разобщенность. Еще в «Прафаусте» прозвучали ироничные строки: «Святой, высокий римский трон, // Как до сих пор не рухнул он?» (перевод Н. Холодковского). И они же остались неизменными в окончательной редакции первой части «Фауста» (сцена «Погреб Ауэрбаха в Лейпциге»): «Всей Римскою империей Священной // Мы долго устоим ли во вселенной?» (перевод Б. Пастернака).
Итак, проблема объединения Германии, как и в XVII в., была особенно актуальной и болезненно переживаемой немцами в XVIII в., будет таковой и в следующем столетии. Разобщенность карликовых немецких княжеств закрепляла произвол мелких деспотов, затрудняла создание единого экономического и культурного пространства, усиливала языковой сепаратизм (по-прежнему чрезвычайно актуальна проблема создания единого литературного языка), более того – консервировала феодальный уклад жизни с его жесткой сословной иерархией и практически натуральным хозяйством.
Тем не менее уже на рубеже XVII–XVIII вв. в Германии пусть и медленно, но неуклонно происходят изменения в социально-экономической жизни. Как отмечают исследователи, «в последние десятилетия
XVII века здесь сначала подспудно, замедленно, в противоречивой форме начали зарождаться и развиваться поцессы, характерные для нового типа социально-экономических отношений»[40]. Оживляется торговля (особенно благодаря Гамбургу и морской торговле с Англией), появляются мануфактуры, некоторые княжества пытаются следовать новомодной экономической доктрине меркантилизма. Однако этот меркантилизм не был связан с растущей свободой предпринимательства, как в Англии, но сочетался с запретами и ограничениями. Характеризуя ситуацию в Германии, Б.Я. Гейман пишет: «Единой общеимперской экономической политики в то время, естественно, не существовало. Каждый из территориальных князей действует самостоятельно, озабочен увеличением доходов своей казны. Пошлины, взимаемые за провоз товаров через границу местного государства, через землю помещика или территорию вольного города, бесчисленные дорожные и мостовые поборы делали невыгодным производство товаров на дальний рынок. Примерно до середины столетия промышленность по преимуществу работала на внутренний рынок. Однако, несмотря на все помехи, несмотря даже на войны, которые и в этом столетии неоднократно ведутся на землях Германии, для XVIII в. характерен рост производительных сил. Возобновлялся процесс первоначального накопления. Он происходит неравномерно в различных районах, противоречиво в различных областях экономики, с остановками, срывами, но все же имеет значительный размах»[41].
Все эти процессы вызывают неизбежную перестройку общественного сознания, хотя и чрезвычайно замедленную, особенно в отношении сознания бюргерства, которое долгое время остается в своей массе косным, ограниченным, подверженным всякого рода суевериям и предрассудкам. Однако именно бюргерская среда в первую очередь выдвигает плеяду немецких просветителей, которые борются за рост самосознания бюргерства, за его просвещение, приобщение к европейскому уровню цивилизованности, который тогда ассоциировался в первую очередь с Англией, Голландией, Францией. В связи с этим одной из особенностей немецкого Просвещения, по крайней мере на раннем его этапе, становится его воспитательно-моралистический харктер, наличие в нем сильной дидактической струи, реализовавшейся в бюргерски-моралистической литературе (ее крупнейшим и авторитетнейшим представителем был К.Ф. Геллерт, действительно много сделавший для воспитания немецкого бюргерства и крестьянства, для расширения их духовных горизонтов).
На фоне европейского Просвещения немецкое отличается также своим мирным, толерантным и в целом религиозным характером. С одной стороны, немецкие просветители страстно обличали тиранию, подчеркивали, что они не служат ни одному князю, но отстаивают подлинную человечность, с гордостью называли себя «гражданами мира» – космополитами, с другой – они в высшей степени выступали за мирное эволюционное развитие, постепенное преобразование общества на разумных началах в Царство Разума. Показательно, что даже те из них, кто защищал от нападок Французскую республику и получил диплом почетного гражданина Франции (например, Клопшток и Шиллер), осудили якобинскую диктатуру и террор, насильственные методы изменения социума.
Немецкие просветители создали свой вариант деизма, отличающийся от деизма Локка и Вольтера, отрицавшего любое участие Бога в истории, Божественное Провидение. Для Лейбница же и Лессинга Промысел Божий – не пустой звук, они признают наличие некоторых врожденных идей (в частности – то, что Творец изначально внес в мир и природу человека добро, нравственное начало, «предустановленную гармонию»), их вариант деизма отличается мягкостью и меньшим радикализмом по отношению к традиционным монотеистическим религиям. Создателем немецкого деизма, соединившим рационалистическую философию и глубокую веру, был Г.В. Лейбниц, опиравшийся на философию Б. Спинозы. В целом именно влияние спинозизма, спинозовского панентеизма придает особую окрашенность философским исканиям немецкого Просвещения. «Спор о Спинозе», развернувшийся в Германии в 1780-е гг., стал одним из важных стимулов становления немецкой классической философии, блистательный взлет которой ознаменовала философия И. Канта.
Немецкие просветители, как и их собратья в других европейских странах, вели упорную борьбу с религиозными фанатизмом и ханжеством, с суевериями и предрассудками. Однако это вовсе не делало их ни атеистами, ни материалистами. Материализм вообще не представлен в немецкой философии Просвещения: большинство просветителей исповедуют «естественную религию», основанную на вере в существование Творца и Его Промысла в мире и более вписывающуюся в парадигму христианства. Тем не менее христианство, с точки зрения просветителей, также нуждается в эволюции в сторону «религии разума», в сторону большей толерантности. Именно немецкому Просвещению свойствен в наибольшей степени доброжелательный интерес к нехристианским монотеистическим конфессиям, в частности к иудаизму, к общим библейским основам иудейско-христианской цивилизации. Об этом размышлял Лессинг в философской драме «Натан Мудрый», об этом писали Гердер и Гёте, которые были и крупными учеными-библеистами своего времени. Показательно, что в атмосфере толерантности и диалога культур именно в Германии складывается еврейское Просвещение – Таскала, родоначальником которой был выдающийся еврейский и немецкий мыслитель Мозес Мендельсон (Moses Mendelssohn, 1729–1786), близкий друг Лессинга и прототип Натана Мудрого.
Многие немецкие просветители были выходцами из пасторских семей, исповедовали лютеранство. Это не мешало им критиковать деятельность Церкви и вести полемику с лютеранской догматикой. При этом в духовно-религиозной жизни Германии с конца XVII в. наметились новые тенденции, связанные с противостоянием застойному догматизму Лютеранской Церкви: возник пиетизм (от лат. pietas – «набожность») – особое религиозно-мистическое течение внутри протестантизма. Пиетисты исповедовали религиозно окрашенную внесословность в подходе к человеку, опираясь на идею равенства всех людей перед Богом, заявленную в Библии. Это приближало взгляды пиетистов к той «естественной религии», о которой говорили просветители. На этой почве, а также на почве «практического христинства» (активной благотворительности, реальной помощи сиротам, обездоленным) пиетисты сошлись с просветителями. Пиетизм стал достаточно весомым фактором развития Просвещения в Германии, особенно на раннем его этапе. Прежде всего это касается деятельности выдающихся пиетистов Ф.Я. Шпейера, А.Г. Франке, Г. Арнольда[42].
Немаловажным фактором развития Просвещения в Германии явилось масонское движение. Масонство (от франц. franc-magon – «вольный каменщик») – тайное религиозно-этическое общество, которое развилось из средневековых цеховых объединений (братств) строителей-каменщиков. Предшественниками масонов в Германии были розенкрейцеры, движение которых развернулось в XVII в. и которые опирались на мистическую философию Я. Бёме (бёмизм лежит и в основе религиозно-философских взглядов масонов). В XVII–XVIII вв. братства «вольных каменщиков» превратились в союзы символических «строителей», объединявших идейных единомышленников – представителей аристократии, духовенства, людей науки и искусства, т. е. аристократии духа. При этом масоны культивировали знаки и ритуалы, которые, как они полагали, восходят к строителям Соломонова Храма в Иерусалиме. В обновленном виде, как религиозно-филантропическая организация, масонство возникает в Англии ок. 1717 г., а затем распространяется во Франции, Нидерландах, Германии. По сути дела, оно было заменой для просвещенных и посвященных людей скомпрометировавшей себя в их глазах официальной Христианской Церкви. Все масоны, к какой бы ложе они ни принадлежали, считали себя членами единого братства. Первый параграф «Книги уставов», принятой Великой английской ложей в качестве конституции масонства 1723 г., провозглашал право любого человека независимо от вероисповедания стать членом братства. Декларация религиозной терпимости и опора на деизм совпадали со взглядами просветителей и привлекали их сердца к масонам. Они видели цель масонского братства в постепенном, с помощью духовных усилий лучших людей, интеллектуалов и людей искусства, преобразовании мира на разумных началах.
В Германии первая масонская ложа была основана в Гамбурге в 1737 г., затем ложи возникли в Пруссии, Саксонии и других немецких государствах. Масонство получило довольно широкое распространение не только в среде дворянства, но и образованного бюргерства. Членами масонских лож были многие выдающиеся немецкие просветители, в том числе Лессинг, Гердер, Гёте, Виланд. Деятельность идеального масонского братства – Общества Башни – отражена во второй части дилогии Гёте о Вильгельме Мейстере. При этом, безусловно, просветители часто идеализировали масонство, что иногда влекло за собой и разочарование в нем. Так, Лессинг критиковал немецких масонов за предрассудки (в том числе на религиозной и национальной почве), не соответствующие заявленным идеалам братства (философский диалог «Эрнст и Фальк. Беседы для вольных каменщиков [масонов]» – «Emst und Falk. Gespräche für Freimaurer», 1778–1780).
Важнейшими центрами немецкой культуры XVIII в., особенно на раннем этапе Просвещения, были следующие города: Лейпциг, город студентов, ученых и поэтов, где развернулась деятельность К. Томазиуса, который начал издавать первый в Германии научно-критический и нравоучительный журнал на немецком языке – «Ежемесячные беседы» («Monatsgespräche», 1688–1689); город, где сформировалась личность Г.В. Лейбница и где в Лейпцигском университете учились многие будущие выдающиеся просветители; в Лейпциге выходили нравоучительные еженедельники, издававшиеся И.К. Готшедом: «Разумные порицательницы» («Der vernünftigen Tadlerinnen», 1725–1726) и «Честный человек» («Der Bidermann», 1728–1729); Гамбург – город морской торговли, тесных контактов с Нидерландами и Англией, город, где начал выходить первый нравоучительный еженедельный журнал «Разумник» («Der Vernünftler», 1713–1714), а затем – издаваемый Б.Х. Броккесом и М. Рихеем очень значительный еженедельник «Патриот» («Der Patriot», 1724–1726); этот же город, особенно в первой половине века, был важным центром развития немецкой поэзии: с ним связана деятельность Б.Х. Броккеса и Ф. фон Хагедорна; Цюрих в Швейцарии, где развернулась деятельность И.Я. Бодмера и И.Я. Брейтингера и где они издавали свои «Беседы живописцев» («Discourse der Malern», 1721–1723). На более поздних этапах Просвещения большое значение приобретают Страсбург, Франкфурт-на-Майне, Гёттинген и особенно Веймар, который становится настоящей литературной столицей Германии после переезда туда К.М. Виланда, И.В. Гёте, И.Г. Гердера, Ф. Шиллера.
Особенностью художественной парадигмы немецкого XVIII в. является достаточно широкая представленность в искусстве и литературе тех художественных направлений, которые доминировали в XVII в., -барокко и классицизма. Прежде всего яркие плоды по-прежнему дает барокко, особенно в архитектуре и музыке (два гения музыкального барокко – великие немецкие композиторы Г.Ф. Гендель и И.С. Бах – творят в первой половине XVIII в.). В литературе барокко также представлено ярко, но постепенно оно трансформируется в духе идеалов Просвещения. Безусловно, именно просветительские направления – просветительский классицизм, рококо, сентиментализм – являются ведущими для немецкой художественной культуры XVIII в. Немецкое Просвещение, которое на раннем этапе развивалось медленнее, нежели в Англии и Франции (и сам ранний этап оказался протяженнее), на зрелом и позднем этапах отличается глубиной философско-эстетических исканий, новаторскими художественными открытиями. Именно в Германии просветители наиболее глубоко знали античную культуру и создали разнообразные и универсальные концепции античности. Здесь же по-новому открыли библейскую эстетику и поэтику. Однако, опираясь на непревзойденные образцы древнего искусства, древней поэзии, немецкое Просвещение стремилось к обретению самобытного пути развития немецкой культуры и литературы. Именно немецкие просветители (прежде всего Гердер и штюрмерское поколение, а затем веймарские классики) диалектически подходят к вопросу о соотношении универсального и национального в литературе.
Немецкая культура и вместе с ней литература XVIII в. проходят в своем развитии несколько этапов, в целом совпадающих с этапами развития просветительского движения.
Первый этап – Раннее Просвещение (1690-1740-е гг.), охватывающее более полувека. В нем можно выделить два качественно различных периода. Первый из них – переходный, или предпросветительский (1690–1720 гг.), когда активизируются эстетические и литературные споры, начинают выходить научные и художественные журналы, ведется активная литературная полемика и закладывается философская основа Просвещения. В этот период продолжается развитие литературного барокко – как высокого, прециозного (поэзия Второй Силезской школы), так и «низового», опирающегося на традиции Г.Я.К. Гриммельсгаузена, его «Симплициссимуса». «Низовое» сатирическое барокко в первую очередь представлено в творчестве К. Рейтера (в романе «Шельмуфский»), его черты присутствуют в романах К. Вейзе. Новым явлением времени становится оформление – впервые в истории немецкой литературы – школы немецкого классицизма, который так и не сложился в Германии XVII в. как самостоятельное направление. Немецкий классицизм по-настоящему рождается только в конце XVII в. в виде «школы разума». Поэты «школы разума» (Р.Ф. фон Каниц, Б. Нейкирх, И. Кёниг и др.) ориентировались на французский классицизм и развернули полемику со Второй Силезской школой. На этом этапе рождается и немецкое рококо – в прозе К. Вейзе и поэзии И.К. Гюнтера, в его студенческих песнях. В целом же творчество Гюнтера являет собой типичный образец «смешанной поэтики»: оно синтезирует все лучшее, что было наработано немецкой поэзией в XVII в., и одновременно несет в себе тенденции классицизма (в жанре оды) и рококо.
В этот же переходный период происходит своеобразная философская подготовка Просвещения и начинается практическая деятельность немецких просветителей. Важнейшую роль в создании философского фундамента Просвещения в Германии сыграл Г.В. Лейбниц, чья концепция оказала сильное воздействие на все немецкое и европейское Просвещение. Идеи Лейбница развивал, адаптируя их для немецкого читателя (и именно по-немецки, что было совершенно новым для Германии), К. Вольф. В это же время разворачивается деятельность первого немецкого просветителя К. Томазиуса по воспитанию немецкого бюргерства в духе идеалов Просвещения, в результате чего немецкое Просвещение выходит из «кабинетной» стадии и действительно становится широким социокультурным движением.
Следующий период Раннего Просвещения (1720-40-е гг.) получил название «эпоха Готшеда», ибо именно И.К. Готшед является ключевой фигурой культурного и литературного процесса этого времени. Готшед реформирует язык, литературу, театр, теоретически обосновывает и создает просветительский классицизм в Германии (прежде всего в драматургии), но ориентируясь при этом на французский классицизм XVII в. и игнорируя необходимость поисков национальной самобытности. Эстетика Готшеда была излишне ригористичной и рационалистической, и с ним развернули полемику швейцарские критики (или просто «швейцарцы») И.Я. Бодмер и И.Я. Брейтингер. «Швейцарцы» отстаивали концепцию воображения и создали новый вариант просветительского классицизма, обогащенный тенденциями сентиментализма. Спор между «швейцарцами» и Готшедом во многом стал определяющим для дальнейших путей развития немецкой культуры.
В этот же период важные изменения происходят в немецкой поэзии и прозе. Барокко, трансформировавшееся в русле просветительского мировоззрения, представлено в поэзии Б.Х. Броккеса. В поэзии его младшего друга Ф. фон Хагедорна возникают образцы зрелого искусства рококо. Одновременно в творчестве швейцарско-немецкого поэта А. Халлера (Галлера) отчетливо кристаллизуются черты сентиментализма (в синтезе с классицизмом). В этот же период формируются жанры просветительского памфлета (К.Л. Дисков, Г.В. Рабенер), сатирического, нравоописательно-моралистического и утопического романа (И.Г. Шнабель и его «Остров Фельзенбург»). Ключевой фигурой литературного процесса в 1740-е гг. стал К.Ф. Геллерт, в творчестве которого синтезированы элементы рококо и сентиментализма. Именно Геллерт повернул немецкую литературу и в целом языковую норму в сторону чувствительности, преобразовал басню, комедию, роман, даже частную переписку. Тем самым он подготовил переход к Зрелому Просвещению.
Второй этап – Зрелое Просвещение (1750-60-е гг.) – получил также именование «эпоха Лессинга», ибо именно с деятельностью и творчеством этого великого просветителя связаны зрелость и европейский уровень немецкого Просвещения. На этом этапе прежде всего возникают очень весомые эстетические концепции, связанные с особой интерпретацией античности и формированием просветительского классицизма нового типа (различные его варианты обосновываются в теоретических работах Г.Э. Лессинга и И.И. Винкельмана). Крайне важной была также деятельность Лессинга – практическая и теоретическая – в области театра. В его драматургии синтезируются тенденции просветительского классицизма, рококо и сентиментализма. На этом же этапе дают яркие плоды сентиментализм (поэзия Ф.Г. Клопштока) и рококо (поэзия и проза К.М. Виланда).
Третий этап – Позднее Просвещение (1770-е гг. – первая треть XIX в.) – делится на два периода. Первый из них – эпоха «Бури и натиска», или штюрмерский период (1770-е – середина 80-х гг.), – отмечен сильнейшим влиянием Руссо и руссоизма. Возникает особый бунтарский вариант сентиментализма – штюрмерская литература. Вдохновителями движения «Бури и натиска» становятся И. Г. Гер дер и И.В. Гёте. «Бурные гении» создают центры и кружки в Страсбурге, Франкфурте-на-Майне, Гёттингене, Швабии. Наиболее яркими представителями штюрмерской литературы, кроме молодых Гёте и Шиллера, являются Ф.М. Клингер, Я.М.Р. Ленц, Г.Л. Вагнер, Ф. Мюллер,
Ф.Л. фон Штольберг, К. фон Штольберг, Л.К. Гёльти, И.Г. Фосс, И.А. Лейзевиц, М. Клаудиус, Г.А. Бюргер, Ф.Д. Шубарт. Усилиями штюрмеров была создана подлинно национальная, самобытная немецкая литература, ориентированная тем не менее на универсальные ценности.
Второй этап Позднего Просвещения и одновременно высшего его взлета получил определение «эпоха классики», или «веймарская классика» (середина 1780-х гг. – первая треть XIX в.). Это время самых весомых достижений немецкой культуры и литературы, связанных со зрелым и поздним творчеством Гёте и Шиллера, с их новой эстетической программой – «веймарским классицизмом», а также с художественным универсализмом Гёте на заключительном этапе его творчества (с конца 1790-х гг.). Вместе с тем в творчестве Гёте и особенно Шиллера уже предварены некоторые тенденции романтизма. Близок устремлениям веймарских классиков и в то же время прокладывает особую дорогу в искусстве гениальный поэт-новатор Ф. Гёльдерлин, который намного опередил свое время, стремительно прошел романтическую парадигму и исчерпал ее, когда она только еще складывалась. Многими сторонами своего философского мышления и своей поэтики он предвосхитил поиски литературы XX в., органично вошел в круг поэтов эпохи декаданса и модернизма, оказал большое влияние на немецкоязычную и – шире – европейскую поэзию XX в.
Далее наиболее важные феномены немецкой литературы XVIII в. будут рассмотрены в соответствии с динамикой трех родовых и видовых форм литературы – поэтические (преимущественно лирические) жанры, проза (преимущественно эпические жанры), драматургия. И только творчество универсального гения немецкой литературы – И.В. Гёте требует рассмотрения в синтезе всех трех родов поэзии, в единстве и внутренней эволюции.
Немецкая поэзия XVIII века
Немецкая литература XVIII в., пожалуй, в наибольшей степени опровергает мнение об этом веке как об эпохе, тяготевшей преимущественно к прозаическим жанрам, как об эпохе романа. Достижения немецкого XVIII в. в области поэтических форм, и прежде всего в лирике, столь значительны, что они во многом обусловили поиски и новации лирической поэзии XIX–XX вв., и не только немецкой. Кроме того, некоторые вершинные явления немецкой литературы XVIII в., как, например, «Фауст» Гёте, синтезируют все три рода поэзии в широком понимании этого слова, оставаясь вместе с тем прежде всего поэзией, т. е. стихотворным произведением[43]. Вместе со всей немецкой литературой поэзия претерпевает определенную эволюцию по ходу века – от Раннего Просвещения (1690-1740-е гг.) к Зрелому (1750-60-е гг.) и Позднему, представленному штюрмерством (1770-е – середина 80-х гг.) и «веймарской классикой» (середина 1780-х гг. – первая треть XIX в., до смерти Гёте в 1832 г.). При этом именно в поэзии, и прежде всего лирической, наиболее чувствительной к изменениям социокультурной ситуации, духовной атмосферы общества, раньше всего фиксируются перемены в художественных тенденциях в целом.
1. Поэзия на рубеже XVII–XVIII веков (1690–1720)
Литературное развитие Германии на рубеже XVII–XVIII вв. отличается достаточной сложностью и неоднозначностью, особенно в области стихотворных форм. В поэзии соседствуют и переплетаются самые разнообразные художественные тенденции, ведется оживленная полемика, вырабатываются новые эстетические программы. Продолжается развитие барочной поэзии, вершинными явлениями которой в XVII в. стали лирические произведения П. Флеминга, А. Грифиуса, Ангелуса Силезиуса, поэтов Пегницкого пастушеского и цветочного ордена (Г.Ф. Гарсдёрфер, И. Клай, 3. Биркен), Второй Силезской школы (К.Г. фон Гофмансвальдау, Д.К. фон Лоэнштейн, К. Грифиус и др.). Лучшие традиции барочной лирики синтезируются и получают особое преломление в первую очередь в творчестве И.К. Гюнтера и Б.Х. Броккеса. Одновременно в лирике Гюнтера (в его оде) оживают заветы великого реформатора немецкой поэзии, главы Первой Силезской школы М. Опица, разработавшего еще в начале XVII в. («Книга о немецкой поэзии», или «Книга о немецком стихотворстве», 1624) оригинальный вариант классицизма. Однако «ученый классицизм» Опица не получил практически никакого развития в растерзанной Тридцатилетней войной Германии, исключая отдельные тенденции в его собственном творчестве и творчестве его учеников, также поэтов Первой Силезской школы – П. Флеминга и Ф. фон Логау, у которых (особенно у первого) эти тенденции явно подчинены барочному мировидению и очевидно переплетаются с ярко выраженными чертами барочного стиля. По-настоящему время становления немецкого классицизма наступает на рубеже XVII–XVIII вв., и разные его варианты возникают в поэзии И.К. Гюнтера, К. Вейзе, творчестве поэтов «школы разума». Одновременно на этот же период – период еще собственно Предпросвещения, когда только начинают разрабатываться основные положения просветительской эстетики, когда идет философская подготовка Просвещения (в первую очередь в трудах Г.В. Лейбница), формируется его социально-этическая программа (прежде всего в сочинениях и практической деятельности К. Томазиуса), – приходится и формирование раннего немецкого рококо. И в этом смысле вновь ключевой оказывается фигура Гюнтера – безусловно, самого талантливого и многогранного немецкого лирика рубежа веков, связавшего собою две различные эпохи развития немецкой поэзии и литературы в целом.
Начало оживленной полемики о путях развития поэзии, об «истинном» и «разумном» (или «неразумном») вкусе в литературе было положено поэтами «школы разума», составившими оппозицию барочному стилю, и особенно стилю Второй Силезской школы. Поэзия «школы разума» (само название свидетельствует об опоре ее адептов на рационализм) и стала первой фазой немецкого классицизма, еще не просветительского, но подготовившего почву для становления последнего в его готшедовском варианте. Не случайно И.К. Готшед, «отец» просветительского классицизма в Германии, обосновавший его теоретически, считал именно поэтов «школы разума» – Р. Каница, И. Кёнига, Б. Нейкирха – зачинателями «правильного» литературного вкуса в Германии (впрочем, к числу последних Готшед причислял и Гюнтера, в художественной палитре которого перекрещиваются самые разнообразные тенденции).
Для поэтов «школы разума» в отличие от того типа классицизма, который разрабатывал Опиц, были характерны безоговорочное признание авторитета Ф. Малерба и Н. Буало (особенно последнего), опора не столько на античные образцы, сколько на творчество тех, кто уже ориентировался на них, – французских классицистов. Именно оно стало эталоном для немецких классицистов рубежа веков и для просветительского классицизма готшедовского типа. В целом немецкий классицизм эпохи Предпросвещения и Раннего Просвещения имеет подражательный характер, светит отраженным светом блистательного искусства французского классицизма. При этом объектом подражания становятся не столько трагедии Корнеля и Расина, комедии Мольера, сколько оды Малерба, сатиры и послания Буало.
Поэты «школы разума» вели бурную полемику с барочными поэтами, прежде всего с представителями Второй Силезской школы, что в целом способствовало оживлению литературной жизни в Германии. Как отмечал Л.В. Пумпянский, «давно уже, со времени первых выступлений Опица, немецкая литература не знала таких принципиальных споров, затрагивающих коренные вопросы эстетики и прежде всего вопрос о правде и неправде в литературном изображении жизни, о “естественном” (“разумном”) и “неестественном” поэтическом стиле»[44]. Именно в это время вновь появляются книги по поэтике на немецком языке – как, например, трактат Д.Г. Морхофа «Учение о немецком языке и поэзии» (1682), в котором впервые выявляются элементы исторического подхода к поэзии. С новой школой связано также появление первых немецких научных журналов, сыгравших большую роль в распространении идей Просвещения в Германии. Первым такого рода изданием был журнал на латинском языке «Acta eruditorum», который с 1682 г. издавал в Лейпциге университетский ученый И.Б. Менке (именно в этом журнале, приобретшем европейскую известность, Г.В. Лейбниц опубликовал в 1684 г. свои знаменитые работы по дифференциальному и интегральному исчислению). Для журнала была характерна и определенная литературная направленность, выражавшаяся в ориентации на французский классицизм. С помощью этого и других журналов начался процесс выработки единого литературного мировоззрения, подготовивший почву для будущих реформ Готшеда.
Средой, в которой оформилась «школа разума», был Прусский двор. Княжество Бранденбург-Пруссия возвысилось при «великом курфюрсте» Фридрихе Вильгельме I (1640–1688) как политический вассал Франции, поэтому здесь были особенно влиятельны французские моды и вкусы, в том числе и литературные. Это обусловило укрепление в прусской придворной поэзии авторитета Малерба и Буало и формирование здесь классицизма раньше, чем в других германских княжествах. Придворная поэзия и прежде существовала в Германии, более того – была типичным явлением в XVII в. Однако совершенно новым для немецкой литературы был стиль, который начал доминировать в этой поэзии, являясь полной противоположностью стилю барокко: вместо изощренной метафоричности, декоративной пышности, избыточной живописности, громоздкой монументальности, подчеркнутой динамичности – сдержанность, строгая рациональность, логическая упорядоченность слов и образов, вместо сложнейших синтаксических конструкций – простота и безыскусность синтаксиса, равно как и поэтической речи в целом.
Впервые подобным установкам стал следовать Рудольф Людвиг фон Каниц (Rudolf Ludwig von Canitz, 1654–1699), признанный глава «школы разума», первый пропагандист взглядов Буало в Германии. Он был аристократом, обладателем баронского титула, одним из крупнейших дипломатов своего времени, и поэзия не была главным его занятием. Тем не менее Каниц был не дилетантом, а профессиональным поэтом. Он учился в Лейденском и Лейпцигском университетах, а затем совершил обязательное для молодого человека того времени образовательное путешествие по Европе, побывав в Италии и Франции, где знакомился с учеными и поэтами. В 1676 г., буквально через два года после выхода в свет «Искусства поэзии» Буало, в послании из Франции своему другу Цапфе, который был лично знаком с мэтром французских классицистов, Каниц писал, что во французской поэзии «стих и разум не находятся в разрыве». В его устах это звучало как похвала и как осуждение современной немецкой поэзии, из которой, по его мнению, влияние маринизма «изгнало разум». Исторически это был первый отзвук немецкой поэзии на учение Буало о «разуме» (Ja raison) как основе поэзии. Разум, здравый смысл являются основой подлинной поэзии и в понимании Каница. Безусловно, поэтика Буало оказала на него глубочайшее воздействие. Так, явно подражательны по отношению к сатирам Буало девять сатир Каница – главное, что им написано. Как и Буало, он осуждает общечеловеческие пороки, светскую и вообще городскую суету, в духе Горация противопоставляет этой суете очарование и осмысленность сельского уединения, довольство малым, «золотую середину». Одна из лучших сатир Каница – «О поэзии», содержащая многочисленные переклички с «Искусством поэзии» Буало и, как и у него, выпады против прециозного стиля. Собственный стиль Каница отличается ясностью и логичностью, более того – намеренной прозаичностью, стремлением практически избегать метафорики (именно за это Готшед позднее провозгласит его «зачинателем хорошего вкуса в Германии»). Каниц также создал первые образцы немецкой классицистической оды в духе Малерба. Его ода на смерть жены (1695) стала образцово-хрестоматийной, обязательно изучалась в школе; как вспоминает Гёте в «Поэзии и правде», он в детстве знал ее наизусть.
Под влиянием Каница к новой школе примкнул Беньямин Нейкирх (Benjamin Neukirch, 1665–1729), выходец из Силезии, долгое время следовавший традициям Второй Силезской школы (с центром в Бреславле) и издававший с хвалебными предисловиями многотомное собрание сочинений К.Г. фон Гофмансвальдау и других силезских поэтов. Однако приезд в Берлин в 1692 г., встречи и беседы с Каницем перевернули представление Нейкирха о поэзии. В 1700 г. он открыто провозгласил разрыв с силезцами: «Иным мой стих покажется бедным и бессильным. Еще бы! Я не впрыскиваю в него мускатный сок, не кормлю его амброй. Пусть мой зрелый стих сам ищет себе пищу». Это был открытый отказ от изощренной метафоричности и декоративности стиля бреславльских поэтов, которые пытались, подражая маринистам, передать средствами немецкого языка «сладость» звучания итальянского. Переход Нейкирха в ряды адептов «школы разума» знаменовал закат бреславльского барокко. Именно он развернул активную полемику с силезцами, непрестанно критиковал эстетику барокко и боролся за новую, «разумную», поэзию. В огромном наследии Нейкирха наиболее значимы сатиры, близкие сатирам Каница, но отличающиеся большей остротой социальной критики. Нейкирх был также автором торжественных од в духе Малерба. Кроме того, перу Нейкирха принадлежит стихотворное переложение (1727) романа Ф. Фенелона «Телемак», ставшее событием в немецкой культуре. В «Поэзии и правде» Гёте скажет, что оно оказало на него в детстве «сладостное и благодетельное влияние». Для Готшеда Нейкирх был одним из самых крупных поэтов предшествующего поколения, но уже Бодмер видит его заслугу только в очищении немецкой поэзии от излишней прециозности, отказывая ему в настоящем таланте.
Нейкирх не был придворным поэтом-профессионалом, но им стал, сделав блестящую карьеру главного церемониймейстера Берлинского двора, выходец из Курляндии Иоганн Бессер (Johann Besser, 1654–1729), перебравшийся затем в Дрезден, столицу Саксонии. Учеником и преемником Бессера в Дрездене был Иоганн фон Кёниг (Johann von König, 1688–1744), автор поэмы «Лагерь Августа» (1731), посвященной маневрам Августа Саксонского и получившей у современников именование «саксонская “Илиада”». Однако сколь тема творения Кёнига является ничтожной в сравнении с темой «Илиады», так и сравнение самого автора с Гомером выглядит достаточно смехотворным, что прекрасно понимали последующие поколения немецких поэтов. Среди поклонников «школы разума» было огромное количество бездарных писак, графоманов, процветавших при дворах мелких немецких князей, ведь вся Германия, состоявшая из 300 княжеств и 50 вольных имперских городов, представляла собой, по словам Лессинга, «лоскутное одеяло». Усвоить новый «логический» стиль было нетрудно, и писание од «на случай» с целью снискать расположение вельможи или самого князя стало поветрием для Германии. Именно поэтому просветители, во многом опиравшиеся на достижения «школы разума», беспощадно критиковали придворную поэзию.
С эстетикой «школы разума» (но не с придворной поэзией) связано творчество крупнейшего немецкого эпиграмматиста рубежа XVII–XVIII вв. Кристиана Вернике (Christian Wernicke, 1661–1725), которого впоследствии Лессинг сравнит с Марциалом. Однако по силе и глубине мысли, по остроте социальной критики эпиграммы Вернике не могут сравниться с эпиграммами (Sinngedichte) Ф. фон Логау, творчество которого также было заново открыто в эпоху Просвещения усилиями прежде всего Лессинга. Вернике пишет не столько о пороках общества и абсурдности немецкой истории, сколько о причудах и недостатках отдельных людей. Главная же его тема – критика барочных поэтов; больше всего его занимает отточенная и остроумная, логически соразмерная и исполненная мысли форма. Как и Буало, Вернике утверждает необходимость опоры на здравый смысл, соблюдения меры во всем, ибо только так можно создать подлинную поэзию. В течение своей жизни Вернике несколько раз переиздавал сборник с одним и тем же названием – «Надписи, или Эпиграммы», каждый раз дополняя его. Исторически главная его роль заключалась в остроумной критике эстетики барокко и утверждении классицизма.
Независимо от «школы разума» и даже во многом раньше первых ее представителей к необходимости кардинального изменения поэтического языка приходит Кристиан Вейзе (Christian Weise, 1642–1708). Талант этого разносторонне одаренного писателя ярче всего раскрылся в прозе и драматургии и был тесно связан с традициями «низового» барокко, а также с исторически новыми тенденциями рококо. В поэзии же Вейзе (бывший ректором знаменитой классической гимназии в своем родном городе Циттау) настаивал на ее нравоучительной функции и умеренной трезвости, даже намеренной прозаичности поэтической речи. По его мнению, поэзия должна отличаться от прозы особым ритмом и наличием рифмы, но использовать те же лексику и синтаксис, которые употребляются в обыденной речи. Это отличало эстетические принципы Вейзе от принципов Буало и «школы разума», но также было связано с оппозицией прециозному крылу барокко. Подчеркнутые педагогизм и морализаторство стихотворений Вейзе делают его предшественником бюргерской моралистической поэзии немецкого Просвещения, ярче всего представленной в творчестве К.Ф. Геллерта.
Иоганн Кристиан Гюнтер
Наиболее яркой величиной на небосклоне немецкой поэзии сложного переходного времени был Иоганн Кристиан Гюнтер (Johann Christian Günther, 1695–1723), синтезировавший все лучшее, чего достигла поэтическая традиция в XVII в. (заветы М. Опица, достижения Второй Силезской школы, поэтов-мистиков), и во многом предвосхитивший просветительскую поэтику. Трагически короткая жизнь поэта – неполных 28 лет – стала своего рода символом трагизма бытия, его неприкаянная судьба – символом бесприютной и скитальческой судьбы поэта вообще.
Гюнтер родился в Силезии, в городке Штригау, в семье врача, потерявшего практику и почти разорившегося. Старый знакомый отца помог определить пятнадцатилетнего Гюнтера в гимназию в Швейднице, где он проучился пять лет (1710–1715) и получил основательное классическое образование. Директор гимназии И.К. Лейбшер, талантливый филолог-классик, оценил одаренность юноши и специально занимался с ним греческой и латинской просодией. Преподававший в гимназии силезский стихотворец Беньямин Шмольке обучал Гюнтера немецкому стихосложению. Молодому поэту прочат блестящее будущее. Вместе с первой славой пришла первая любовь: Гюнтер полюбил племянницу и воспитанницу Лейбшера – Элеонору Яхман, которая надолго стала музой поэта и героиней его любовной лирики, воспетой под именем Леонора. В надежде получить образование, обрести место под солнцем и получить право на союз с Леонорой Гюнтер в 1715 г. покидает Швейдниц и отправляется в скитания. Именно в этот момент им написано стихотворение «Влюбленная печаль», или «Печаль, пробужденная любовью» («Der verliebte Kummer»; в переводе Л. Гинзбурга – «Проснувшаяся печаль»), в котором уже сконцентрированы важнейшие мотивы его лирики: любовь и разлука, одиночество и бесприютность чувствительного сердца, противостояние враждебному миру, предчувствие горестной судьбы и одновременно надежда на гармонию и покой. Вся сложная гамма чувств выражена достаточно простым и очень живым, полнокровным языком, с подкупающе искренней интонацией:
DJe Liebe weckt an diesem Morgen Den Kummer der verliebten Sorgen Mit mir gar zeitig wieder auf, Die Seuffzer wachen in dem Munde, Die Thrähnen suchen aus dem Grunde Des Hertzens ihren alten Lauff. Любовь сегодня пробудила Печаль, что сердце бередила И растравляла душу мне. В груди проснулся стон протяжный, Слеза дрожит росинкой влажной, В сердечной вызрев глубине. Тревога, спавшая доселе, Вспугнула лень в моей постели И не дала забыться сном, Туда зовя меня всецело, Где Одиночество воссело На камень, на сердце моем. Ах, чуя близкую разлуку, Душа испытывает муку… Ты рядом, за стеной жила, И то, бывало, как страдаю! Теперь же Швейдниц покидаю, Лишившись хлеба и угла. Мольбы мои, упреки, грезы Безмолвно б высказали слезы, Но сушит их нещадный страх. Кому печаль свою поверю? Глухой стене? Лесному зверю? Иль буре, воющей в горах? Die Schmiedin meiner süssen Kette Zieht meine Faulheit aus dem Bette, Jn welchem sie der Schlaff noch wiegt. Jhr Auge schläfft, ich aber weine, Die Einsamkeit sitzt auf dem Steine, Der mir an meinem Hertzen liegt. Чем ты, дитя, добросердечней, Тем злей, жесточе, бесконечней Боль, что в груди своей таю. О, неужель с себя не сброшу Молчанья горестную ношу, Поведав исповедь мою? Но я страшусь!.. О, мир проклятый, Где каждый встречный – соглядатай, Где осторожность не спасет: Дверь затворишь – подсмотрят в щелку, А то, что скажешь втихомолку, По свету эхо разнесет. Одна лишь ты на целом свете Надежно сохранишь в секрете То, что тебе доверил друг: Его понявши с полуслова, Ты разделить уже готова Его мучительный недуг. Он обречен, он пропадает, К твоей груди он припадает, Изранен смертною тоской. Так голубь, бурею гонимый, Прильнувши к горлице родимой, Найдет спасенье и покой. (Здесь и далее перевод Л. Гинзбурга)Гюнтер отправляется на учебу в Виттенберг, где приобретает славу автора жизнерадостных студенческих песен, становится любимым поэтом студенческой молодежи. С 1718 г. он продолжает учебу в Лейпциге, где штудирует медицину Гюнтер бедствует, переживает все «прелести» полуголодного студенческого существования, попадает в долговую тюрьму, но не отказывается от веселой студенческой жизни и все более именно в поэзии обнаруживает свое истинное призвание. Однако и здесь обретению хотя бы относительной независимости и средств к существованию препятствует гордый и бескомпромиссный нрав поэта. Он резко критикует угодливую и педантичную придворную поэзию, восстанавливает против себя бездарного, но влиятельного рифмоплета Краузе, а также магистра Фриче, поэта-ханжу, пользовавшегося поддержкой местного духовенства. Все это очень скоро приведет к жестокой травле поэта, который как никто ощущает духовное удушье, несвободу, невозможность реализовать себя и следовать своему предназначению. Не случайно он обращает к родной стране («К его Отечеству» – «An sein Vaterland»; в переводе Л. Гинзбурга – «К Отечеству») горькие строки, в которых чувство любви соединяется с горечью и болью от ощущения духовного запустения и убожества немецкой действительности, тем самым подхватывая мысль А. Грифиуса об утраченных «сокровищах души»:
В таком безмерном запустенье Я вижу родину свою. Она – зачахшее растенье, Ее с трудом я узнаю. Ни вдохновения, ни мысли — Они давным-давно прокисли В удушье мерзостной тюрьмы. Плоды искусства затерялись, И тщетно мир спасти старались Святые, светлые умы!Порыв Гюнтера к духовной свободе и его протест против убожества окружающей реальности окажутся крайне важными для молодых поэтов штюрмерского поколения, в частности – для Гёте. Все более и более Гюнтер пытается обрести опору в самом себе, в своих разуме и чувствах, в призвании поэта, пытается, говоря словами И. Канта, «иметь мужество жить собственным умом». Он сближается в Лейпциге с просветительским кружком И.Б. Менке, что способствует расширению его интеллектуальных и духовных горизонтов, органичному вхождению в его поэзию просветительских идей и элементов просветительской поэтики.
Вместе с тем внешние обстоятельства жизни поэта складываются крайне неблагополучно. В 1719 г. Менке, профессор истории, известный саксонский историограф, пытается помочь ему получить место придворного поэта в Дрездене, при Саксонском дворе. Гюнтер отправился в Дрезден, где его должны были представить Августу Саксонскому и где он должен был прочесть в присутствии монарха свою знаменитую оду на заключение Пассаровицкого мира. Сохранились полуанекдотические сведения о том, что поэт так и не смог этого сделать, ибо настроенные против него придворные подпоили его. В результате место получил И. Кёниг. С этого момента в жизни Гюнтера начинается полоса беспокойных странствий, бедствий, болезней, нужды. Он пытается вернуться в родную Силезию, открыть врачебную практику, но это не удается: от него отворачивается бюргерство, отрекается собственный отец (как предполагают исследователи, особую роль в трагической судьбе поэта сыграла травля со стороны лютеранского духовенства). Не сбылась и надежда соединиться с Элеонорой Яхман. Все плотнее подступали к нему неизбывное одиночество и беспросветная нужда. Холодной ранней весной 1720 г. во время очередного странствия Гюнтер отморозил себе ногу из-за плохой обуви и почти умирал в маленьком городке Лаубен, однако смерть на этот раз почему-то отступила, оставив ему еще несколько лет, словно бы для того, чтобы он смог еще написать некоторые свои прекрасные стихотворения. В 1721 г. поэт вновь покинул Силезию, попытался устроиться в Лейпциге, но безрезультатно. Последним его приютом стала Иена. Здесь он умер, окончательно сломленный жизнью. Его проводили в последний путь несколько земляков, похоронивших его на свой счет.
Так завершилось бесприютное и очень короткое земное существование поэта, произведения которого при жизни ходили только в рукописных списках. Однако уже в 1724 г. вышло первое собрание стихотворений Гюнтера, разошедшееся мгновенно и имевшее огромный успех. Главная причина этого успеха заключалась в предельной искренности и взволнованности его поэзии, в пронизывающем ее остром личностном начале, превращающем ее порой в исповедь, в дневник души. Поэзия Гюнтера привлекает духом вольности и непокорства, подкупает неизменной верой в высокое предназначение поэзии, сохранявшееся в душе поэта всегда, в какие бы тупики и ямы ни загоняла его судьба.
В творчестве Гюнтера наглядно соединяются и переплетаются старые, привычные темы и формы, а также совершенно новаторские. Мировидение поэта отмечено истинно барочными контрастами и парадоксами: бренность, хрупкость бытия, трагичность удела человеческого – и жгучее упоение жизнью, опьянение ее красками; эфемерность человеческого существования, его абсурдность – и сила духа, противостоящая бренности и призрачности бытия; прославление земной жизни – и поиски утешения в загробном воздаянии, в той гармонии, которая открывается после смерти и противостоит прижизненному аду; дерзновенный, в духе библейского Иова, спор с Богом – и надежда на Его беспредельную милость:
О Ты, Который есть начало всех начал! Что значит поворот вселенского кормила? Скажи, зачем в ту ночь отец меня зачал? Зачем Ты сделал так, что мать меня вскормила? Когда б Тобой на жизнь я не был осужден, Я был бы среди тех, кто вовсе не рожден, В небытии покой вкушая беспредельный. Но, созданный Твоею властною рукой, Вериги нищеты влачу я день-деньской, И каждый миг меня колотит страх смертельный. Будь проклят мир! Будь проклят свет дневной! Будь трижды проклято мое долготерпенье! Оставь меня, но вновь не тешься надо мной, Не умножай мой страх! Даруй мне утешенье! Христос, Спаситель мой! Я вновь тебе молюсь. В бессилии в твои объятия валюсь: Моя земная жизнь страшней любого ада… Я чую ад внутри, я чую ад вовне… Так что ж способно дать успокоенье мне? Лишь только смерть моя или Твоя пощада!Такие настроения, безусловно, в большей степени характерны для позднего творчества Гюнтера. Однако параллельно с ними развивается и другая линия, отмеченная неудержимым жизнелюбием, оптимизмом, верой в осуществимость человеческого счастья. Особенно это сказывается в ранней лирике Гюнтера, в его студенческих песнях. Это новое явление на фоне немецкой поэзии рубежа XVII–XVIII вв. Здесь органично сплавились книжная анакреонтическая традиция и традиция народной песни (при этом Гюнтер уже мог опереться на такие прецеденты, как анакреонтические оды Г.Р. Веккерлина, любовные, застольные и плясовые песни М. Опица и П. Флеминга). Поэт провозглашает стремление человека к радости и счастью естественным и необходимым, он неудержимо славит краски мира и веселье, добиваясь особого сочетания изящества и простоты. В студенческих песнях Гюнтера нельзя не увидеть отчетливо выраженных мотивов рококо с его здоровым и свежим гедонизмом, вниманием к простому человеку и простым и вечным ценностям жизни:
Brüder! lasst uns lustig seyn, Weil der Frühling währet, Und der Jugend Sonner — Schein Unser Laub verklähret: Grab und Bahre warten nicht; Wer die Rosen ietzo bricht, Dem ist der Krantz beschehret. Unsers Lebens schwelle Flucht Leidet keinen Zügel, Und des Schicksals Eiffersucht Macht ihr stetig Flügel: Zeit und Jahre fliehn davon, Und vielleichte schnitzt man schon An unsers Grabes Riegel.Приведем полный перевод Л. Гинзбурга, который хорошо передает основное настроение немецкого поэта, песенный строй его произведения:
Братья, братья, прочь тоску! Вешний день ловите! Солнце ластится к листку! Радуйтесь! Любите! Темен, слеп, бездушен рок. Смерть близка… Так в должный срок Розу жизни рвите! Жизнь уносится стремглав, Словно в небо птица. Эту истину познав, Нужно торопиться. Ждет гробов разверстых пасть. Поспешите ж, братья, всласть Радостью упиться! Ах, куда ушли от нас, Кто совсем недавно Молод был, как мы сейчас, Веселился славно? Их засыпали пески, Их могилы глубоки. Время так злонравно! На погосте мертвецы Под плитой глухою — Наши деды и отцы, Ставшие трухою. Колокольный слышен звон. Кто созрел для похорон? Может, мы с тобою?.. Но в гаданьях проку нет. Небо справедливо. Мы же предков чтим завет: Пьем вино и пиво! Эй! От жажды сохнет рот! Братья! Жизнь полна щедрот! Наливайте, живо! Поднимаю сей стакан За свою отраду, Ту, в чьем брюхе мальчуган Зреет мне в награду. Ну, так выпьем! А засим Хором вновь провозгласим: Славу винограду!Особенно очевидно соединение традиций XVII в. и новаторства, открывающего дорогу новой поэзии XVIII в., в любовной лирике Гюнтера. В ней ярко представлена традиция утонченной, изысканной, изощренно-метафоричной поэзии в духе маринизма и Второй Силезской школы (прежде всего Гофмансвальдау) – от раннего стихотворения «На смерть его[45] любимой Флавии» («Auf den Tod seiner geliebten Flavie») до позднего цикла стихотворений «К Филлиде» («An die Phyllis»). Одновременно в любовной лирике Гюнтера очевидно звучат рокайльные мотивы, выражающиеся прежде всего в провозглашении любви в качестве естественного и основополагающего закона жизни. Так, в стихотворении «К Зелинде» («An Selinden») поэт говорит о том, что любовь – «наивысшее благо жизни» («der Erden höchstes Guth»), что «лишь она дает жизни жизнь» («Sie giebt dem Leben erst das Leben»). В раннем стихотворении «Ужель, прелестница младая…» Гюнтер протестует против нарушения естественных законов, противоестественного умерщвления плоти, против угасания красоты в монашеской келье, а в одном из поздних – «Когда он подарил Филлиде кольцо с изображением черепа» («Als er der Phyllis einen Ring mit einem Todten-Kopffe überreichte»; в переводе Л. Гинзбурга – «При вручении ей перстня с изображением черепа») – говорит, варьируя знаменитую тему библейской Песни Песней, о великой силе любви («Любовь и смерть, равна их сила, // Что все в себе соединила, // И мы – ничто в ее руках») и призывает, напоминая о краткости жизни, наслаждаться полнотой бытия («А бедный череп к нам взывает: // В гробу желаний не бывает, // Ни жизни нет там, ни любви. // Мы строим на песке зыбучем! // Так торопись! В лобзанье жгучем // Миг ускользающий лови!»).
Особенно необычен на фоне любовной поэзии того времени цикл стихотворений, обращенных к Леоноре. Поэт не только шлет послания своей возлюбленной, но и перелагает стихами ее ответы. Таким образом, эти стихотворения образуют своего рода лирический роман, исполненный живых чувств, трогательный и грустный, непонятный вне реалий быта и нравов того времени, исследующий конкретные ситуации немецкой жизни. Это история любви двух бедных людей, которые не могут соединиться в силу тяжких материальных обстоятельств. Леонора живет на попечении родственников, попрекающих ее каждым куском хлеба, и ждет, когда же ее возлюбленный сможет наконец-то вызволить ее из этой унизительной ситуации, жениться на ней. Поэт также жаждет этого, заклиная Леонору не забывать его, пока он учится и скитается в поисках заработка. Превыше всего для них их любовь, но у этой истории любви грустный финал: поэт вынужден отказаться от своей Леоноры, ибо так и не может найти место под солнцем, не может обречь возлюбленную на нищенскую и скитальческую участь. В стихотворениях Гюнтера разворачивается целая гамма чувств: радость взаимной любви и ревность, страдания в разлуке и надежда на встречу. При всей простоте языка здесь есть место для утонченной эротичности и галантной шутки. Новаторство поэта заключается в том, что он воспевет не отвлеченную пастушку или галантную красавицу, но совершенно реальную девушку по имени Магдалена Элеонора Яхман, для которой изобретает массу ласкательных имен: Леонора, Онорела, Магдалис и т. п. Как отмечает немецкий литературовед Ф. Мартини, в стихах Гюнтера выявляется «страсть подлинной любви», а у его Леоноры «действительно есть тело и душа»[46]. Стихи к Леоноре отличаются поразительной искренностью интонации, необычайной свежестью и разнообразием чувств, безыскусностью, ориентацией на народную песню. В них выявляются не только рокайльные тенденции (в исследовании интимной, частной психологии человека, в легкости и изяществе, фривольных шутках), но и первые ростки чувствительного направления в немецкой литературе, выражающиеся в глубоком интересе к жизни души, в трогательном изображении переживаний влюбленных.
К циклу стихов о Леоноре примыкает одно из лучших стихотворений Гюнтера – «Похвала зиме» («Lob des Winters»), в котором поэт, намеренно отказываясь от высокого стиля и трансформируя черты барочной оды, воспевает любимую им зиму за простые удовольствия, которые она несет человеку, – за то, что на морозном воздухе ароматнее табак, азартнее охота, горячее кровь, за то, что долгими зимними вечерами больше времени для занятий поэзией, что «утренняя заря пробивается позже, чтобы можно было дольше целоваться». «Der Winter soll mein Frühling seyn» – «Зима должна быть моей весной!» – восклицает Гюнтер, в своем отношении к зиме чем-то неуловимо напоминая Пушкина, для которого зима также была самым лучшим, самым творчески плодотворным временем года.
Гюнтер сказал новое слово и в жанре классицистической оды, и сделал это иначе, нежели поэты «школы разума». Особенно показательна его знаменитая ода «На заключение Пассаровицкого мира» (в оригинале – «Auf den zwischen Jhrer Römisch Kayserlichen Majestät und der Pforte geschlossenen Frieden, 1718», 1719), именуемая также «Eugen-Ode» («Ода в честь Евгения [Савойского]»). 27 июля 1718 г. в городке Пассаровицы император Карл Австрийский заключил мир с Турцией, ознаменовавший победу в долгой войне австрийской армии под началом знаменитого полководца Евгения Савойского. Эта победа отвела угрозу турецкого ига от австрийских и немецких земель, более того – от Западной Европы, а Евгений Савойский стал подлинно народным героем. Понимая истинное значение победы для европейцев и не находя примеров настоящей героики в Германии, Гюнтер восхищается полководческим гением и военной доблестью Евгения Савойского и создает ему великолепный памятник – не просто героическую оду, но целую одическую поэму в 500 строк, закованную в кристаллическую форму из 50 десятистишных строф, написанных чеканным четырехстопным ямбом. Огненно-четкий, исполненный бурного волнения и динамики стих Гюнтера рисует сцены боев и триумфа, но именно для того, чтобы прославить победу как залог прочного мира (поэт слишком хорошо помнит, что значила для его Германии и всей Европы Тридцатилетняя война, чтобы славить самое войну). Пользуясь тем, что театр главного сражения был некогда местом, где римляне сражались с варварами, поэт очень искусно вводит в современный контекст мотивы античной героики (гомеровские образы героев Троянской войны, доблестных римлян Вергилия), равно как и героические библейские образы («меч Господа и Гидеона [Гедеона]»), что подчеркивает особый религиозно-духовный смысл победы. Новшеством Гюнтера, необычным на фоне одической традиции того времени, было то, что в героических строфах, исполненных высокого пафоса, находится место бытовым сценам и образам простых солдат – таких, как Ганс, вернувшийся с войны и рассказывающий соседям о боях за кружкой пива, рисуя пролитым пивом на столе план сражения.
В том типе оды, который разрабатывал Гюнтер, яркие классицистические тенденции соседствуют с барочными, высокий пафос – с нарочито приземленными интонациями в духе «низового» барокко, торжественные интонации – с песенными структурами. Р.М. Самарин отмечал: «Стремительный и умело отчеканенный четырехстопный ямб оды Гюнтера, ее новый колорит, органически соединявший античную мифологическую декорацию с европейской современностью начала XVIII в., композиция оды, искусно развертывавшая политическую тему, – все это было ново для жанра немецкой и шире – европейской оды XVIII в. Ода Гюнтера была заметным шагом вперед по сравнению с одой французского или английского классицизма; Гюнтер опирался на французскую классицистическую традицию, но, преодолевая ее, продвигался дальше»[47]. Известен огромный интерес к поэзии Гюнтера, и к поэтике его оды в частности, со стороны М.В. Ломоносова, учившегося в Германии. Создатель оды русского классицизма, в которой также ощутимы тенденции барокко, ориентировался на оду Гюнтера.
Тенденции классицизма, и уже преломленного через просветительскую идеологию, очевидны в сатирических, полемических и поэтологических стихотворениях Гюнтера. Особенно показательна большая сатира, соединяющая в себе все три упомянутых плана, – «Разоблаченный Криспин из Швейдница в Силезии, или Злокозненность, наказанная музами» (1718). В образе Криспина (именем Криспинус некогда Гораций именовал одного из своих литературных противников) Гюнтер в первую очередь высмеивает бездарного Т. Краузе, однако в целом это – в духе классицизма – ненавистный поэту обобщенный образ придворного рифмоплета-педанта, холопа и ханжи, самодовольного обывателя. В этой сатире, написанной безукоризненно правильным и звучным александрийским стихом (точнее, его немецкой имитацией в виде шестистопного ямба, разработанной еще Опицем), Гюнтер излагает и свою эстетическую программу. Поэзия для него является результатом высокого союза Аполлона и Софии – поэтического дара и мудрости. Она предполагает соединение подлинного таланта и науки, учености; она должна возвышать души и бичевать пороки своего времени. Подобный подход чрезвычайно близок эстетике Просвещения, особенно просветительскому классицизму.
Особое место в поэзии Гюнтера и немецкой поэзии в целом занимает песня «На пути в Яуэр» («Auf der Reise nach Jauer»), написанная той самой холодной весной 1720 г., когда поэт отправился в одно из своих путешествий, едва не закончившееся смертью. И хотя впереди неизвестность, поэт полон веры в собственные силы. Он призывает друга отправиться вместе с ним, вместе делить радость и горе, вместе дышать воздухом свободы, вырваться из пут жалкого и ничтожного обывательского прозябания. Энергичный и упругий маршевый хорей, которым написана эта песня, а также выраженный в ней неукротимый порыв навсегда свяжутся в немецкой поэзии с мотивом странничества и отзовутся в поэзии немецкого штюрмерства и романтизма.
После 1720 г., после тяжкой весны, существования на грани жизни и смерти, в поэзии Гюнтера наступает перелом: усиливаются трагические и религиозно-мистические мотивы. Душа поэта ведет диалог с Богом, то принося покаяние, то задавая дерзкие вопросы, подобные вопросам библейского Иова. Это такие стихотворения, как «Покаянные мысли о состоянии мира» («Bussgedanken über den Zustand der Welt»), «Верность духа Богу» («Die Zuversicht des Geistes dem Gott»), «К Богу» («An Gott»), «Как был он через внутреннее утешение укреплен в своем нетерпении» («Als er durch innerlichen Trost bey der Ungeduld gestärket wurde»). Они образуют своеобразный цикл, в центре которого – болезненная и проклятая для человеческого сознания проблема теодицеи, проблема осмысленности мира и оправдания Бога перед лицом самого страшного и непонятного зла – страданий праведных и невинных. Как предполагают исследователи, постановку этой проблемы в творчестве стимулировали не только перенесенные поэтом страдания и невзгоды, но и внимательное чтение «Теодицеи» Г.В. Лейбница (1710). Поэт остро чувствует всю несправедливость мира, иронизирует над собой и этим обезбоженным миром и одновременно страстно жаждет Бога, жаждет истины. Своего рода метатекстом для религиозных стихотворений Гюнтера становится Книга Иова. Сознавая, что причина многих его бедствий в нем самом, поэт вместе с тем повторяет вслед за библейским героем дерзкий вопрос: почему в этом мире страдает именно тот, в ком «терпимость, совестливость, миролюбье, честь, // Прилежность, набожность, усердие в работе»? Почему страдают лучшие и чувствуют себя хозяевами жизни негодяи и лжецы? Поэт словно бы ведет спор с незримыми собеседниками (как некогда Иов со своими друзьями), которые пытаются его утешить, и гневно обличает несостоятельность прописных истин, фальшивость официально провозглашаемых розово-утешительных ценностей:
О, скопище лжецов, о, подлые скоты, Что сладко о добре и кротости вещают! Спасение сулят погибшим ваши рты, А нищим вечное блаженство обещают. Так где ж Он, ваш Господь? Где Он, Спаситель ваш, Который все простит, коль все Ему отдашь, Как вы внушаете?.. Где Сын его чудесный? А где же Дух Святой – целитель душ больных? Пусть явится! Ведь я больней всех остальных! Иль маловато сил у Троицы небесной?!С гораздо большей остротой, чем поэты-мистики XVII в., Гюнтер говорит о неразрешимых противоречиях бытия и сознания, о неблагополучии действительности. В его горьких вопросах нельзя не усмотреть и спор с концепцией предустановленной гармонии Лейбница, с его тезисом о том, что добро и зло уравновешены в мире, что Творец избрал наилучший из всех вариантов при сотворении мира. Как и в случае с Иовом, видение тотальной несправедливости мира, допущенной Богом, открывается поэту через его личное страдание:
Личина сорвана, нелепых басен плод! И все ж я сознаю: есть Существо над нами, Которое казнит, беду и гибель шлет, И я… я избран Им лежать в зловонной яме. Порой Оно спешит, чтобы меня поднять, Но вовсе не затем, чтоб боль мою унять, А смертных поразить прощением притворным, То, указав мне цель, влечет к делам благим И тут же мне велит сопротивляться им, Чтоб счел меня весь мир преступником позорным. Так вот он где, исток несчастья моего! Награда мне за труд – нужда, обиды, хвори. Ни теплого угла, ни денег – ничего. Гогочут остряки, меня узревши в горе, Бездушьем схожие – заметь! – с Тобой, Творец! Друг оттолкнул меня, отвергли мать, отец, Я ненавистен всем и ничего не стою. Что породил мой ум, то вызывает смех, Малейший промах мой возводят в смертный грех, Душа очернена усердной клеветою.И все же, несмотря на все метания и сомнения, душа поэта устремлена к Богу, и этим порывом преисполнены духовные песни Гюнтера, в которых он продолжает традиции П. Герхардта и по-новому варьирует их. Его духовные песни, как и всю его поэзию, пронизывает острое личностное начало, в них глубоко аналитическая мысль соединяется с трепетным религиозным чувством, высокий пафос – с достаточно простым словарем, торжественность интонаций – с песенными структурами. Такова, например, его «Вечерняя песня» («Abend-Lied»):
Дух высшей истины! Гряди! Затепли огнь в моей груди, Чтоб средь кромешного тумана И непроглядной темноты Дорогу освещал мне Ты — Не жалкий луч самообмана. Не покидай, великий Бог, Меня среди ночных тревог. И пусть, едва сомкну я очи, Твой ангел явится ко мне И оградит меня во сне От ненавистных чудищ ночи. Ты руку надо мной простер. Но, глядючи в ночной простор, Ищу Твой лик тревожным взглядом. И в одиночестве зову Тебя во сне, как наяву: «Отец мой! Будь со мною рядом! Тебе подвластный одному, Я все бестрепетно приму И все сочту веленьем Божьим, Пусть станет в бытии земном Мне этот сон последним сном, А ложе это – смертным ложем. Но если пощадишь меня И солнце завтрашнего дня Я восприму, как дар волшебный, То, отогнав недобрый рок, Мне повели проснуться в срок И дай пропеть свой гимн хвалебный!»Необычайно разнообразное по своим регистрам творчество Гюнтера стало живым мостом, связывающим две эпохи. Через во многом еще риторический строй его поэтической речи пробивается живая индивидуальность, сама поэзия понимается как «изначальная склонность души». В сущности, Гюнтер был первым немецким поэтом, сделавшим факты своей биографии достоянием поэзии. Остро личностное начало, бунтарские порывы, пронизывающие поэзию Гюнтера, искренность его языка будут особенно близки молодому штюрмерскому поколению, прежде всего – Гёте. Как замечает Ф. Мартини, «раскол в душе» Гюнтера и «правдивость его языка близки иррационализму эпохи молодого Гёте…Гёте увидел в нем своего предшественника»[48]. Сам же Гёте в «Поэзии и правде» отмечал особую смелость Гюнтера, избравшего служение поэзии, силу его таланта, мощь его творческой фантазии: «…поэт, если он не шел дорогой Гюнтера, играл в свете жалкую роль шута и блюдолиза» (здесь и далее перевод Н. Ман)[49]; Гюнтер «может быть назван поэтом в полном смысле слова. Он был наделен бесспорным талантом, пылким темпераментом, силой воображения, редкой памятью, умением схватывать и воссоздавать, поразительной творческой плодовитостью. Одухотворенный, остроумный, располагающий многоразличными знаними и редким ритмическим чутьем, он обладал всем для того, чтобы поэтическими средствами создавать вторую действительность рядом с обыденной, прозаической»[50].
2. Поэзия 1720-1730-х годов
В 1720-1730-е гг., в преддверии и в период начинающейся литературной диктатуры И.К. Готшеда (1700–1766), поставившего благородную цель создания высокой профессиональной литературы Германии, но ратовавшего за подражание французским образцам, насаждавшего в поэзии излишнюю рассудочность, боровшегося со всякого рода метафоричностью и тем самым по сути уничтожавшего самое суть поэтического мышления, именно поэзия готовила почву для оппозиции излишнему рационализму. В поэзии этого времени особенно очевидны такие тенденции, как втягивание в орбиту Просвещения барокко (создание своего рода просветительского варианта барокко), появление зрелого рококо и первых ростков сентименталистской поэзии, еще тесно связанной с барокко, рококо и просветительским классицизмом. Именно на этом этапе литературного развития происходит становление такого устойчивого русла немецкоязычной лирической поэзии (точнее, двух «рукавов» ее, сливающихся в единое русло), как Naturlyrik («лирика природы») и Gedankenlyrik («лирика мысли»). Примерными эквивалентами этих терминов на русском языке могут послужить не столько «пейзажная лирика» и «философская лирика», сколько, быть может, «натурфилософская лирика», «философско-метафизическая лирика». В любом случае это такая разновидность философско-медитативной лирики, в которой сосуществуют, взаимопроникая друг в друга, конкретно-чувственное и абстрактно-философское, в которой предельно напряженная эмоциональность сочетается с не менее напряженной работой мысли, в которой сливаются в едином потоке природа, вселенная и воспринимающее ее лирическое «я», в которой на наших глазах осуществляются два, казалось бы, взаимоисключающих процесса – анализ и синтез, раздробление реальности и ее восприятия на отдельные составляющие и воссоединение их в рамках единого лирического целого, единого лирического «потока сознания». Безусловно, нечто типологически-сходное можно обнаружить и в других литературах: созерцательная, философско-медитативная поэзия английских сентименталистов Дж. Томсона, Т. Грея, Э. Юнга, в русской литературе – «ученая» поэзия М.В. Ломоносова, философская ода Г.Р. Державина. Однако на этом фоне немецкая традиция выделяется своим неповторимым обликом и тем, что она выработала довольно устойчивые жанровые и ритмические структуры, навсегда связавшиеся с понятием Gedankenlyrik. Одним из основателей этой традиции, равно как и представителем поэзии барокко, трансформировавшегося в свете просветительских взглядов, был Б.Х. Броккес.
Бартольд Хинрих Броккес
Бартольд Хинрих Броккес (Barthold Hinrich Brockes, 1680–1747) родился в Гамбурге, изучал право в Халле (Галле), где слушал лекции К. Томазиуса. С восприятия идей последнего и начинается формирование просветительских взглядов Броккеса, окончательно выкристаллизовавшихся в результате изучения трудов Лейбница и его популяризатора К. Вольфа. Всю свою дальнейшую жизнь Броккес прожил в родном городе как почтенный патриций и сенатор, дипломат. Он был меценатом, поддерживавшим развитие литературы и искусства, ратовавшим за права немецкого языка. Броккес учредил в Гамбурге «Общество ревнителей немецкого языка» (позднее было переименовано в «Патриотическое общество»). Вместе с входившим в это общество известным гамбургским поэтом Михаэлем Рихеем (1678–1761) Броккес на протяжении 1724–1726 гг. издавал журнал «Der Patriot» («Патриот»).
Броккес начал свой путь в русле традиции Второй Силезской школы – прежде всего как ученик К.Г. фон Гофмансвальдау. В ранних произведениях, которыми он особо гордился, – в тексте оратории «Страсти Христовы» (1712), музыку к которому написал Г.Ф. Гендель, в переводе поэмы Дж. Марино «Вифлеемское избиение младенцев» («Verdeutscher Bethlehemischer Kindermord», 1715) – ярко выражены черты барокко: напряженный драматизм, контрастность, метафоричность, обилие оксюморонов, типично барочное соединение аллегоричности и натурализма. Но далее барочное мироощущение и барочная эстетика существенно трансформируются в свете просветительского мировидения. Помимо того, что Броккес испытал сильное влияние идей Томазиуса, Лейбница, Вольфа, он живо интересовался философией Локка и английскими поэтами, художественно воплощавшими идеи Локка и Шефтсбери. Так, в конце творческого пути (1740) Броккес перевел поэму А. Поупа «Опыт о человеке» и весьма близкие ему по настроению «Времена года» Дж. Томсона. Последний перевод (1745) оказал значительное влияние на становление немецкого сентиментализма и философско-описательной поэзии.
Однако и независимо от опыта Дж. Томсона еще в поэзии 1720-30-х гг. Броккес идет своими путями, соединяя утонченную барочную эмоциональность и пластичность изображения с чувствительностью в духе локковского сенсуализма, а также с лейбницианско-вольфовским рационализмом, конкретно-чувственное воплощение природы – с размышлением о ее разумности и целесообразности. Кроме того, это особая разновидность духовной, религиозной поэзии. Большая философская мысль и страстное религиозное чувство вкупе с гедонистической свежестью и наивностью восприятия превращают все лирическое наследие Броккеса в гигантское целое. Не случайно, собрав все свои стихотворные опыты в девяти томах, он дал им единое название – «Земное наслаждение в Боге, предстающее в физических [естественных; в оригинале – physikalischen] и моральных стихах» («Irdisches Vergnügen in Gott, bestehend in physikalischen und moralischen Gedichten», 1721–1747). Религиозно-философским стержнем, на который нанизывается каждое стихотворение этого сборника, является телеология Лейбница, его учение о том, что бытие оправдано высшими целями Бога, что Творец, создавая этот мир, «избрал лучший из всех возможных миров». В сборнике многомерно варьируется, в сущности, одна мысль – о высшей целесообразности творения, разумном устройстве мироздания, совершенстве природы как подтверждении существования высших замыслов Бога. Поэт неустанно и щедро славит великолепие природы, вглядываясь в бесконечно большое и бесконечно малое. Как справедливо заметил Б.Я. Гейман, «за Броккесом останется заслуга первого немецкого поэта, в творчестве которого природа перестает быть мертвой декорацией, приобретает чувственное воплощение и эмоциональную действенность»[51]. Самое, пожалуй, сильное и несомненное в поэзии Броккеса – чувство непрестанного изумления перед огромным Божественным миром, в котором все прекрасно и гармонично – от небесных светил, от звездного небосвода до мельчайшей букашки, до хрупкого цветка. Лейбницианско-вольфовская телеология сочетается у Броккеса с пантеизмом (точнее, панентеизмом) – ощущением Бога везде, во всем, в каждой малости. Нет предмета, который был бы для него в природе недостойным внимания и вдохновения. Он всматривается не только в таинственное сочетание пестика и тычинок в чашечке цветка, но и в прихотливую и на первый взгляд – но только на первый! – лишенную смысла толкотню мошкары, нестройное зудение которой, пронизывающее влажный воздух, только подчеркивает умиротворение, наступившее после сильной грозы («Тишина после сильной грозы»):
…Все ожило вокруг От юной мошкары, пронырливой и быстрой, Что сырость и жара плодит несчетно вдруг, — Отрадно наблюдать за их игрой цветистой: Вот словно делится на армии народец, Полки сомкнулись, устремившись в бой, Вот снова мирно все, и в пляске круговой Жужжит и кружится веселый хороводец. (Перевод А. Гугнина)Будучи по преимуществу поэтом живописных мелочей, мастером выразительной детали, Броккес умеет создать и картину воистину космического размаха – как, например, в поэме «Солнце», которую он предваряет строкой из Экклесиаста: «И сладок свет, и благо очам – видеть солнце» (Еккл 11:7; перевод И.М. Дьяконова). Рисуя красочную картину восхода солнца, поэт превращает всю поэму в восторженный гимн созидательной мощи Творца. Вселенная видится Броккесу гигантской Книгой, в которой осмысленна каждая строка, каждая буква. В стихотворении, которое так и названо – «Вселенная-Книга» («Welt-Buch», 1727), он говорит о том, что можно и нужно учиться читать эту великую Книгу, но – увы! – многие не умеют этого делать. С точки зрения Броккеса, человек, не умеющий воспринимать чувственную прелесть природы и понимать ее разумность, высшую целесообразность, духовно мертв (почти два столетия спустя этой мысли отзовется великий австрийский поэт Р.М. Рильке в «Часослове», в знаменитом стихотворении «Уж рдеет барбарис…»).
В наследии Броккеса есть, безусловно, стихотворения и в духе весьма наивной телеологии – в ее упрощенном, вольфовском варианте: стихи о пользе овощей, домашних и диких животных. Есть также научно-дидактические (в определении самого поэта – «физико-моральные») поэмы, в которых он стремится соединить и передачу чувственных ощущений от мира природы, и научные знания о ней, и размышления на морально-религиозные темы: «Горы» («Die Berge», 1724), «Воздух» («Die Luft», 1727), «Дождь» («Der Regen», 1727) и др. Подобного рода произведения весьма показательны для ученой поэзии Века Разума (точно так же Ломоносов будет писать знаменитые стихи о пользе стекла). Однако Броккес остается истинным поэтом там, где он открывает простор изобилию живописных деталей, преизбыточности звуков и запахов и где сопровождает это описание размышлением и напряженным религиозным чувством.
Одним из примеров таких бесспорных удач Броккеса является лирическая кантата со специфическим заглавием, отражающим именно стремление к синтезу конкретно-чувственного и религиозно-философского и вдобавок задающим определенный музыкальный ритм: «Die uns im Frühlinge // zur Andacht reizende // Vergnügung des Gehörs, // in einem Sing-Gedichte» («Весною в нас // благоговение возбуждающее // услаждение слуха // в стихотворении для пения», 1721). Наделенный тонким музыкальным слухом, Броккес создает этот текст для пения, а музыку к нему напишет известный композитор Г.Ф. Телеман (заметим, что многие тексты из генерального сборника Броккеса положил на музыку И.С. Бах). Песенную и благоговейно-религиозную интонацию задает также эпиграф из Псалтири: «An den Bergen sitzen die Vögel des Himmels, // und singen unter den Zweigen» («На горах сидят птицы небес и поют среди ветвей»; точнее, в самой Книге Псалмов, или Книге Хвалений, как она называется в оригинале, сказано: «При них [горах] обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос» – Пс 104/103:12). Броккес не случайно апеллирует именно к Псалму 104-му (в греческой и славянской нумерации – 103-му), дает развернутую вариацию на его тему, ибо это один из тех Псалмов, который содержит целостную картину гармонично устроенного Богом мироздания и который можно назвать философско-созерцательным. Все это близко творческим устремлениям поэта.
Кантата членится на арии, предназначенные для пения, и речитативы двух типов – «Die Aufmunterung» («Ободрение», или «Поощрение») и «Die Betrachtung» («Созерцание», или «Наблюдение»). При этом в ариях использована классическая регулярная силлаботоника, а в речитативах – так называемый вольный стих, преимущественно неравностопный ямб с произвольным чередованием строк разной длины (подобный вольный стих еще в XVII в. культивировал А. Грифиус в своих пиндарических одах, мастерски играя на резких контрастах долгих и кратких строк). Показательно, что тенденция к увеличению длины стиха свойственна как раз тому типу речитатива, который определен как «Созерцание», и эта долгая строка действительно вносит ощущение величавого эпического созерцания, настроения и интонации, свойственные идиллии:
Da stellen sich in dem beblühmten Grünen, Das, durch den Tau, geschmückt mit Demant-gleichem Schein, Die ämsigen, die unverdross’nen Bienen, Mit sumsenden Gemurmel, ein… …Hier brüllt ein satter Ochs; dort wiehern muntre Pferde; Im Grase rauscht und knirscht der Biß der fetten Herde…(«Здесь в покрытой цветами зелени, // Которая благодаря росе украшена сиянием, подобным бриллианту, // Являются (снуют) усердные, неутомимые пчелы со своим жужжащим бормотанием… // Здесь ревет сытый бык, там ржут бодрые лошади; // Сытое стадо шуршит и хрустит травой…»; здесь и далее подстрочный перевод наш. – Г. С.).
Мы погружаемся в стихию звуков, самых разнообразных, и потому в тексте так уместны мастерские звуковые имитации, ономатопеи в лучших традициях Пегницкого пастушеского ордена и Второй Силезской школы. Броккес создает полное ощущение слышания и видения: например, стремительно мелькающих, со свистом несущихся ласточек («…die schnellen Schwalben schwirren») или воркующих горлинок («…die Turtel-Tauben girren»). Он подбирает большое количество глаголов, чтобы передать разнообразные звуки, издаваемые соловьем, а также воздействие его пения на человека: «Ihr kleiner Hals, voraus ein flötend Glucken quillt, // Lockt, schmeichelt, girret, lacht, singt feurig, schlägt und pfeift…» («Его маленькое горло, из которого изливается заливистое бульканье, // Заманивает, ласкает, воркует, смеется, поет страстно, бьет и свистит…»). Воистину, как говорит поэт, все звуки птичьих песен, все манеры, мелодии, напевы Дух Природы объединил в соловье: «Fast aller Singe-Vögel Klang, // Manieren, Melodey, Gesang // Hat der Natur-Geist, wie es scheint, // In einer Nachtigall vereint». В кантате поражает превосходное знание поэтом самых разнообразных животных и птиц, их повадок и напевов, умение вглядываться в самое малое и неприметное, вслушиваться в самые разнообразные звуки. Иногда его текст кажется пособием по флоре и фауне родного края. Однако это раздробление действительности на отдельные мельчайшие компоненты (в «Созерцаниях») дополняется ощущением единого могучего потока жизни, единства всего живого, славящего Бога – в ариях: «Alles redet itzt und singet, // Alles tönet und erklinget // GOTT von Deiner Wunder-Macht!» («Все говорит сейчас и поет, // Все звучит и возглашает, // БОГ, Твою чудесную силу!»).
Это глобальное единство, заданное в начале, раздробляется на частности, а затем вновь воссоединяется, но уже на новом уровне – с видением непрестанно движущейся, неумолчной птичьей массы – «крылатых обитателей покрытых листвой ветвей», поющих песнь ликования и благодарности благости Творца. И в этом хоре не может не прозвучать голос человека, и особенно поэта, которому дана частица Божьего творческого дара. Обращают на себя внимание неожиданные перебивы ритма в самых эмоционально напряженных местах, как, например, в следующем:
Geflügelte Bürger beblätterter Zweige, Befliederte Sänger, ihr preiset, ihr rühmt, Da alles belaubet, da alles beblühmt Die Güte des Schöpfers; und ich schweige? Nein…Согласно заданной ритмической схеме, четвертая строка должна была бы звучать, вероятно, следующим образом: «…Die Güte des Schöpfers; und ich aber schweige?» («…Благость Творца; и разве я умолчу?»). Однако поэт, нарушая читательское ожидание, опускает aber («но», «разве») и выносит в следующую строку одно-единственное слово nein («нет»), тем самым добиваясь особой экспрессии, заостряя мысль о неуместности и невозможности молчания в ликующем хоре природы. Лишь поколение спустя к подобным ритмико-синтаксическим экспериментам обратится великий обновитель немецкой поэзии Ф.Г. Клопшток. Броккес же призывает собственное сердце взмыть вверх и голосом и струнами распространять славу о чудесах Творца, Который является единственным источником гармонии:
Auf! auf! mein Herz, mit Stimm’ und Saiten Des Schöpfers Wunder auszubreiten, Von Dem allein die Harmonie entspringt.А затем вновь, после вслушивания в скрипение вальдшнепа, в пробы голоса молодого ворона, в шелест ветвей и листьев, в кваканье лягушки, в журчание ручья, в тихое прикосновение ветра (и вновь – великолепная звукопись: «Die Schneppe schnarrt und ächzet»; «Ein junger Rabe krechzet»; «…es lispeln Zweig’ und Blätter»), поэт говорит о невозможности не слышать всего этого великолепия, призывает не молчать и подхватить благодарственную песнь Богу:
Willt du, Mensch, da Gott zu Ehren, Alles tönet, schallt und spricht; Tauben Ottern gleich nicht hören? Höre, rühme, schweige nicht! Laß, da selbst von harten Klippen Schöne Töne rückwärts prallen, Die durchs Ohr gereizte Lippen GOTT ein Dank-Lied wieder schallen!Чувство, одушевляющее поэта, так искренне, так очевидна его огромная любовь к этому земному миру, в каждой малости которого для него сияет отблеск мощи Творца, что, думается, и современный читатель готов простить ему излишнее пристрастие к мелочам, умилительную серьезность в отношении к каждой букашке и педантичность, с которой он бесконечно иллюстрирует все одну и ту же мысль: целесообразность и совершенство сотворенного Богом мира. Поэт XX в., также связанный с традицией «лирики природы» и «лирики мысли», – Георг Маурер (Georg Maurer) – в эссе «Природа в лирике от Броккеса до Шиллера» («Die Natur in der Lyrik von Brockes bis Schiller») напишет о том, что, «если Броккес описывает природу со всей силой своего чувства, причем скрупулезные описания не нарушают общего замысла, а напротив, придают ему смысл и напряжение, – тогда ему удаются стихотворения, которые принадлежат к самым великолепным образцам немецкой поэзии о природе» (перевод А. Гугнина)[52].
Поэзия Броккеса – наглядное воплощение просветительского сенсуалистического рационализма. Чувства, выраженные в его стихах, не являются, в сущности, субъективными, но претендуют на некую обязательность и идут рука об руку с размышлениями. Однако, несомненно, Броккес готовит почву для появления чувствительного направления в немецкой поэзии, противостоит излишне рационалистической эстетике Готшеда. Опыт Броккеса будет крайне важен для швейцарских критиков, полемизировавших с Готшедом, – Бодмера и Брейтингера, для швейцарско-немецкого поэта А. Галлера (Халлера), для Клопштока и штюрмерского поколения. Не случайно Гердер отмечал особую любовь Броккеса к предмету своего изображения, особое восторженное состояние его души.
Фридрих фон Хагедорн
Влияние Броккеса испытал и его младший друг, также знаменитый гамбургский поэт Фридрих фон Хагедорн, или Гагедорн (Friedrich von Hagedorn, 1708–1754), сказавший новое и яркое слово в поэзии немецкого Просвещения, во многом подготовивший ее зрелые формы.
Поэт родился в дворянской семье. Его отец был дипломатом датской службы и дал своему сыну юридическое образование. Однако Хагедорн отказался от дипломатической карьеры и поступил, испытав ряд жизненных неудач, на службу в качестве секретаря в крупную английскую торговую фирму в Гамбурге, обрел материальный достаток и женился на дочери местного портного, что, с точки зрения тогдашних нравов, было безусловным мезальянсом. Однако именно бюргерский образ жизни, умение радоваться жизни и быть счастливым, необычайное обаяние, незаурядные знания и поэтический талант привлекали к Хагедорну сердца гамбуржцев и заставляли гордиться им как особой достопримечательностью вольного ганзейского города. Слава Хагедорна как поэта, чрезвычайно образованного человека, знатока классических языков, древней и современной литературы, обладавшего самым взыскательным вкусом, была велика и во всей Германии. Из разных немецких княжеств ему на суд присылали литературные произведения, и его оценка получала силу окончательного приговора.
Поэзия Хагедорна развивалась в русле анакреонтики и представляла собой яркий образец искусства рококо, органично сплавленного с некоторыми другими тенденциями. Хагедорн очень хорошо знал в оригинале и ценил искусство Анакреонта и его античных подражателей, но при этом опирался также на Горация, галантную поэзию XVII в. (итальянскую, испанскую, английскую), поэзию Второй Силезской школы (прежде всего Гофмансвальдау), на опыт студенческих песен Гюнтера и в особенности на французскую и английскую поэзию рококо. Авторитетом для Хагедорна был также и Буало, критиковавший излишества прециозного стиля. Изящество и виртуозность сочетаются в поэзии Хагедорна с простотой и разумной мерой, игривость и утонченный гедонизм – с морализаторством. Таким образом, ярко выраженные рокайльные тенденции синтезируются в его поэзии с барочными и классицистическими, что придает ей неповторимое своеобразие и еще раз демонстрирует органичность «смешанной поэтики» для литературы XVIII в.
Мироощущение Хагедорна чрезвычайно оптимистично и гармонично. Он, в отличие от своего старшего друга Броккеса, не склонен к религиозной экзальтации и тяготеет к деизму в его умеренном, шефт-сберианском, варианте. Оптимизм раннего Просвещения преломляется у Хагедорна своеобразно: «мудрость – это знание того, как быть счастливым», и человека – существо разумное (animal rationale – «разумное животное») – можно научить жить счастливо. Такой подход неизбежно влечет его к Эпикуру и Горацию, к философии меры и «золотой середины». Хагедорн много переводит и перелагает Горация, который выступает для него не только как образцовый поэт, но и как учитель жизни; к своему кумиру поэт обращает стихотворение «К Горацию», в котором излагает и собственное жизненное кредо. Личная свобода, частная жизнь, исполненная простых радостей и разумных наслаждений, – вот истинное счастье. «Настоящее счастье – не принадлежать ни к какому сословию», – утверждал Хагедорн, и это было крайне важно в Германии, разделенной сословными перегородками. Наслаждение малым, каждым мгновением честной частной жизни, безмятежное спокойствие и ясность души, которой чужды разрушительные страсти и разнузданная чувственность, гармония духа и разума, избегающего роковых «проклятых» вопросов бытия и упорядочивающего «малое» (но столь важное для человека) бытие, – вот нравственный идеал Хагедорна. В сравнении с Броккесом, который повлиял на Хагедорна в плане эмоциональности, чувствительности поэзии, у последнего, как справедливо замечает С.В. Тураев, «резко меняются акценты: поэта интересует не столько внешний мир, Вселенная, природа, сколько сам человек и его маленький внутренний мир, круг близких ему по духу друзей»[53]. Согласно Хагедорну, человек должен отстаивать независимость своей частной жизни, только тогда он может раскрыться по-настоящему; этому способствует также дружеский круг: «Без друзей нет жизни. Надо с кем-то делить свое сердце, свои заботы, свои шутки, свой смех и слезы». Это, однако, не означает, что Хагедорн замыкается в кругу мелких и узких тем, не касаясь основных проблем века Просвещения. Так и о дружбе поэт рассуждает как о явлении глобальном, ниспровергающем социальные, национальные и прочие искусственные барьеры, поставленные между людьми. Как и для остальных просветителей, человек для Хагедорна прежде всего космополит, и в стихотворении «Блаженство» он пишет о солидарности всех людей, являющихся «гражданами мира».
Ранние стихотворения Хагедорна вошли в сборник «Стихотворные опыты, или Избранные пробы пера в часы досуга» («Versuch einiger Gedichte, oder Erlesen Proben poetischer Nebenstunden», 1729), более поздние – в «Собрание новых од и песен» («Sammlung neuer Oden und Lieder», Bd. 1–3, 1742–1752). Последний сборник несколько раз переиздавался и разросся до пяти книг, объединенных в три тома. Хагедорн предстает как великолепный мастер «легкой» поэзии, противостоящей в равной степени излишней монументальности и тяжеловесности барокко, излишней трезвости и рассудочности готшедовского классицизма, сухости и педантизму бюргерской морализаторской литературы. Он создает прекрасные застольные песни, отличающиеся необычайной легкостью и изяществом, воспевающие вино, веселье, любовь, радость бытия: «Вино» («Der Wein»), «Юность» («Die Jugend»), «К радости» («An die Freude») и др. В духе гедонизма рококо поэт утверждает, что естественные радости и удовольствия не противоречат разуму, но просветляют его. Все, что дарит человеку природа, служит на благо ему. В стихотворении «День радости» («Der Tag der Freude») Хагедорн призывает:
Umkränzt mit Rosen eure Scheitel (Noch stehen euch die Rosen gut) Und nennet kein Vergnügen eitel, Dem Wein und Liebe Vorschub thut. Was kann das Todten-Reich gestatten? Nein! lebend muss man fröhlich seyn. Dort herzen wir nur kalte Schatten: Dort trinkt man Wasser, und nicht Wein. Венцом из роз себя венчайте (Лишь юным – роза суждена!), Утех мирских не отвергайте: Любви и дерзкого вина. Что в царстве мертвых нам предложат? Пока мы живы – будем жить, Когда умрем, начнем, быть может, Как трезвенники, воду пить. (Перевод Г. Ратгауза)Свою мудрость, свою этическую программу поэт предлагает ненавязчиво, в легкой, отточенной, иронически-изящной форме. Очень типично для него стихотворение, представляющее небольшой шутливый рассказ о каком-либо типичном случае, любовный анекдот, но всегда с итоговой дидактической формулой, которая учит душевному равновесию и невозмутимости духа несмотря ни на что. И хотя в целом Хагедорн – певец обобщенных чувств и размышлений, он органично вводит в поэзию приметы современного ему быта, создает картину уютного бюргерского существования – например, картину бюргерского «праздника на воде» – на реке Альстер (приток Эльбы), на которой стоит Гамбург, среди живописных окрестностей родного города, картину праздника с вином, музыкой и пышными красавицами в стихотворении «Альстер» («Die Alster»):
Der Elbe Schiffahrt macht uns reicher, Die Alster lehrt gesellig sein! Durch jene füllen sich die Speicher, Auf dieser schmeckt der fremde Wein. In treibenden Nachen Schifft Eintracht und Lust, Und Freiheit und Lachen Erleichtern die Brust. Нас Эльба всех обогащает, А Альстер счастье нам дает, Та кошельки нам набивает, А этот пить вино зовет. В челнах проплывают Довольство и смех, Здесь хватит свободы И счастья на всех. (Перевод А. Гугнина)В 1750 г. выходят «Нравоучительные стихотворения» Хагедорна, в которых в наибольшей степени нашли выражение жизненные идеалы автора: мудрость «золотой середины», разум и справедливость, разумное наслаждение скоротечными часами жизни. В скованной немецкой действительности это было важным шагом вперед к раскрепощению человеческой личности, к признанию полноты и возможного совершенства земного бытия.
Хагедорн также возрождает (а по сути – создает) в Германии жанр басни в эзоповском ее варианте – в знаменитом сборнике «Опыты стихотворных басен и рассказов» («Versuch in poetischen Fabeln und Erzählungen», 1738). В басне Хагедорна особенно наглядно переплетаются тенденции классицизма и рококо. С одной стороны, он следует традиции Лафонтена и достигает предельного обобщения в той или иной животной маске, при этом, как и великий французский баснописец-классицист, перенося акцент с собственно морали на художественную разработку фабулы, на внесение в нее живых подробностей. У Хагедорна эти тенденции представлены еще более ярко, ибо преломлены через специфическую рокайльную манеру: он стремится не только обличить порок, но и доставить читателю удовольствие, преподнести поучение в игривой, изящной, остроумной форме. Особенно виртуозен и изящен Хагедорн в диалогах, создающих специфический комический и юмористический эффект. В его баснях животные постоянно беседуют, причем в изысканнейших формах салонной вежливости: лиса беседует с козлом («Der Fuchs und der Bock»), волк – с молодым оленем («Der kranke Hirsch und die Wölfe»), лошадь – с зайцем («Der Hase und viele Freunde»). Эти «светские» разговоры, вложенные в уста животных, служат одним из средств юмористического оживления серьезного матерала, актуализации читательского восприятия. В сущности, басня Хагедорна скорее является стихотворной новеллой, широко вбирающей в себя материал повседневного немецкого быта. Хагедорн дает большой импульс развитию басни в Германии: этот жанр, практически игнорировавшийся барочными поэтами, становится очень популярным, басни пишут Д. Триллер, Д. Штоппе, И.В.Л. Глейм, М. Лихтвер, К.Ф. Геллерт, Н.Д. Гизеке, А. Шлегель, К.М. Виланд, Г.Э. Лессинг. Ближе всех к Хагедорну при этом оказывается Геллерт.
Главной заслугой Хагедорна перед немецкой литературой является создание легкого и изящного поэтического языка, гибкой стиховой формы, передающей свежее и полнокровное гедонистическое мироощущение, ненавязчиво пропагандирующей новую вне сословную мораль, свободный и осмысленный образ жизни «естественного» человека. В этом смысле Хагедорн значительно повлиял на молодых Лессинга и Гёте, на Виланда, Бюргера и др.
Альбрехт Галлер
Одной из крупнейших фигур – фигур общеевропейского масштаба – в немецкоязычной поэзии Раннего Просвещения стал швейцарец Альбрехт Галлер (Халлер; Albrecht Haller, 1708–1777), чья личная и поэтическая судьба оказалась тесно связанной с Германией и немецкой литературой. Как и Броккес, он является одним из зачинателей немецкой «лирики природы» (Naturlyrik) и «лирики мысли» (Gedankenlyrik), описательной и метафизической поэзии. В том варианте, в каком она является у Броккеса, акцент, безусловно, падает на чувственно-конкретное, описываемое энтузиастически-вдохновенно и в то же время логично и рационально. Собственно философская мысль, особенно связанная с парадоксами и противоречиями бытия, его антиномиями и сложнейшей диалектикой, еще чужда Броккесу. Следующий шаг сделал Галлер, чье творчество во многом разворачивается параллельно с поздним творчеством Броккеса (лучшее в области лирики создано было молодым поэтом). Галлер также писал о высшей целесообразности творения, но при этом был ближе самому Лейбницу, нежели Броккес, ибо совершенство мира не означало для Галлера отсутствия противоречий в нем. Он прямо ввел в поэтический текст философские размышления, соединил их с глубокой эмоциональностью и создал новую модель «поэзии мысли», в которой мысль, в сущности, и стала главным объектом поэтической рефлексии.
Галлер родился в Берне, в семье юриста, изучал медицину и естественные науки в Тюбингенском (Германия) и Лейденском (Голландия) университетах, совершил образовательные путешествия в Лондон и Париж. В 1728 г. он вернулся в Швейцарию и в Базеле изучал математику и физику у знаменитого Иоганна Бернулли (широта естественнонаучного кругозора Галлера особо скажется в его поэзии). В 1729 г. Галлер открывает в Берне врачебную практику. Одновременно его неудержимо влечет к себе поэзия (пристрастие к сочинению стихов обнаружилось у него еще в детстве). В 1732 г. выходит в свет сборник Галлера «Опыты швейцарской поэзии» («Versuch schweizerischer Gedichte»), который только при жизни выдержал 11 изданий и прославил автора как большого мастера Naturlyrik и Gedankenlyrik, как поэта-философа и одновременно сатирика. Сборник открывала знаменитая поэма «Альпы» («Die Alpen», 1729), которая впервые ввела в поэзию альпийский ландшафт и стала образцом просветительского соединения аналитической мысли, научного подхода к природе и конкретно-чувственного ее восприятия.
Острая критика бернского патрициата в сатирах Галлера приводит к тому, что поэт вынужден покинуть родной город и переехать в Германию. С 1736 по 1751 г. Галлер является профессором Гёттингенского университета, где приобретает общеевропейскую известность своими трудами по ботанике, физиологии, анатомии («Флора Швейцарии», «Первые начала физиологии»), а также блестящей педагогической деятельностью. Одновременно он продолжает писать в разных поэтических жанрах (басни, эпиграммы, стихотворения на случай), но поэзия теперь отодвигается на второй план. Европейская слава Галлера вынудила патрициат Берна переменить свое отношение к нему: в 1745 г. он был заочно избран членом Большого совета Берна, а в 1751 г. возвратился в родной город, однако смог занять лишь пост директора солеварен в Роше. В конце жизни, несколько подзабыв бунтарские настроения юности, Галлер пишет свои весьма посредственные в художественном отношении «политические романы», в которых рассматривает и оправдывает различные формы правления: «Узонг» («Usong», 1771), «Альфред, король англосаксов» («Alfred, König der Angelsachsen», 1773), «Фабий и Катон» («Fabius und Cato», 1774). Он, некогда предвосхитивший руссоистские мотивы в своих «Альпах», ведет полемику с Руссо, опровергая его «Общественный договор», и даже содействует изгнанию великого мыслителя из Берна.
Галлер навсегда вошел в историю литературы именно своими ранними произведениями, остался в сознании образованных европейцев певцом Альп и поэтом-философом. Он широко прославился моральнодидактическими и религиозно-философскими поэмами «Мысли о разуме, суеверии и неверии» («Gedanken über Vernunft, Aberglauben und Unglauben», 1729), «Лживость человеческих добродетелей» («Die Falschheit menschlier Tugenden», 1730), «О происхождении зла» («Über den Ursprung des Übels», 1734), «Незавершенная поэма о Вечности» («Unvollkommenes Gedicht über dei Ewigkeit», 1734). В них варьируются религиозно-философские идеи «Теодицеи» и «Монадологии» Лейбница, а также этические идеи Шефтсбери. В духе лейбницианской телеологии Галлер говорит о высшей целесообразности мира, доказывающей существование Творца, о предустановленной гармонии добра и зла, защищает «естественную» религию – деизм, отвергая в равной степени и атеизм, и религиозные предрассудки, суеверия, фанатизм. Вслед за Лейбницем он провозглашает возможность согласования религиозного чувства и научно-философского познания, их непротиворечивость, прославляет человека как высшее творение Бога. Во многом Галлер близок Броккесу, но если в сознании последнего мир предстает цельным, ясным, гармоничным, то для первого очевидны существование сложных, трудноразрешимых проблем в обществе, противоречивость мира и человека (Галлер оказывается ближе самому Лейбницу, в то время как Броккес – популяризатору Лейбница Вольфу). Мысль о высочайшем совершенстве созданного Богом мира уживается у Галлера с представлением о греховности человека, поэтому религиознофилософские размышления соединяются в поэмах с обличением пороков общества. При этом рассудочность соседствует с великой и волнующей эмоцией.
Особенно показательна «Незавершенная поэма о Вечности», или «Незавершенная ода о Вечности» («Unvollkommene Ode über dei Ewigkeit»), которую современники называли совершеннейшим и великолепнейшим поэтическим произведением и которая до сих пор включается в немецкие хрестоматии. В небольшой по размерам поэме еще ощущается барочный антураж (мысли о бренности мира и человека, представление о мире как «сцене», «театре», где человек играет слепую роль, о величии и ничтожности человека), но сама манера поэта, взывающего к темным лесам, ручьям, безмолвным скалам, тоскующего по безвременно ушедшему другу («Mein Freund ist hin. // Sein Schatten schwebt mir noch vor dem verwirrten Sinn…» – «Мой друг ушел. // Но тень его парит еще перед моим безумным взором…»), искренность чувств, резкие перебивы ритма, бесконечное вопрошание, всматривание в таинственный универсум и в себя самого – все это говорит о новом подходе к миру и человеку, о новаторстве поэтики Галлера, предваряющего поэтические эксперименты Клопштока. Так, очень показательно начало поэмы:
Ihr Wälder! wo kein Licht durch finstre Tannen strahlt Und sich in jedem Busch die Nacht des Grabes mahlt: Ihr holen Felsen dort! wo im Gesträuch verirret Ein trauriges Geschwärm einsamer Vögel schwirret. Ihr Bäche! die ihr matt in dürren Angern fliesst Und den verlohmen Strom in öde Sümpfe giesst: Erstorbenes Gefild’ und Grausen-volle Gründe! О dass ich doch bey euch des Tales Farben fände! О nährt mit kalten Schaur und schwarzem Gram mein Leyd! Seyd mir ein Bild der Ewigkeit!Поэтическим шедевром Галлера общепризнанно считается поэма «Альпы», которая родилась как своего рода отчет – научный и поэтический – о его странствиях по горам Швейцарии в 1728 г. В этой поэме еще чрезвычайно сильны элементы классицистической поэтики. Автор открывает красоту дикого горного пейзажа, тем самым уже противостоя канону регулярного парка как эталона красоты для классицизма, но воспроизводит первозданную красоту по-классицистически стройно и гармонично, рационально, укладывая каждый мотив и образ в замкнутую десятистишную строфу с итоговой сентенцией в финале. Особенно способствует впечатлению абсолютного равновесия и симметрии четкий шестистопный ямб Галлера (в этом смысле «Незавершенная поэма о Вечности» – полная ритмическая противоположность «Альпам»). Однако на фоне почти идеальной гармонии и равновесия тем большее воздействие на читателя оказывает прорывающееся иногда лирическое волнение, тем более заметно стремление изобразить природу не статичной, но бесконечно меняющейся, разнообразной. При этом красоты альпийского ландшафта – водопады, реки, альпийская флора – видятся глазами не только поэта, но и естествоиспытателя, повествующего о той пользе, которую человек извлекает из природных богатств Альп. В этом плане Галлер близок Броккесу с его «физико-моральными» поэмами, но первый все же больше описывает и меньше рассуждает. Он делает очень важный шаг от поэзии рассудочной к наивно-безыскусственной, чувствительной (определенные переклички обнаруживаются с «Временами года» Дж. Томсона, написанными в 1725–1730 гг.).
Важное значение в поэме имеют также картины жизни швейцарских горцев, корреспондирующие с картинами девственной природы.
Галлер во многом предваряет руссоистские мотивы в литературе, создавая идиллию простой и осмысленной жизни подлинных «учеников природы», которые умеют довольствоваться малым. Горцы предстают как воплощение «естественной природы», противостоящей уродливой цивилизации, и это противопоставление дает возможность поэту настроить читателя на критическое восприятие жизни современного общества.
Открытым текстом эта критика выражена в сатирах молодого Галлера – «Испорченные нравы» («Die verdorbenen Sitten», 1731), «Модный герой» («Der Mann nach der Welt», 1733). Первой сатире поэт предписал эпиграф из Ювенала: «Трудно не писать сатиры». Под условными античными именами поэт производит смотр современным патрициям, «отцам города», и обнаруживает за их кажущейся безупречностью разнообразные пороки. Этим мнимым «отцам города» поэт противопоставляет гражданскую доблесть бернцев прошлого, жертвовавших всем ради отечества. Во второй сатире поэт создает две вариации образа «модного героя»: представитель «золотой молодежи», повеса, буян, игрок и развратник Помпоний и «почтенный бюргер» Порций, бернский Тартюф. Порций набожен, прилежно ходит в церковь, выступает против развращенных нравов. Вдобавок он судья и судит всех столь строго, что многие по его приговору были изгнаны из города. Однако это всего лишь маска, прикрывающая подлинное лицо лицемера, стяжателя, корыстолюбца: Порций скупает зерно и терпеливо ждет неурожая, чтобы нажиться на народном горе. Сатира Галлера – негодующая, гневная сатира, исполненная высокого гражданского пафоса. Не случайно Ф. Шиллер в своей знаменитой статье «О наивной и сентиментальной поэзии» (1795) называет Галлера в числе мастеров патетической сатиры и отмечает в нем глубокое переживание моральной дисгармонии общества и «дух, насыщенный живым идеалом».
Галлер был чрезвычайно популярен не только в Германии, но и в Европе, его много переиздавали и переводили на протяжении XVIII в. Так, в 1786 г. в Москве была издана в переводе Н.М. Карамзина поэма Галлера «О происхождении зла» с весьма характерным подзаголовком: «Поэма великого Галлера». Интерес к наследию Галлера со стороны Карамзина и других сентименталистов подтверждает, что швейцарский поэт, чье творчество первым было втянуто в орбиту немецкой литературы, существенно повлиял на формирование чувствительного направления не только в Германии, но и в России. Современники справедливо видели в его поэзии оппозицию сугубо рассудочной поэтике Готшеда.
Спор между И.К. Готшедом и «швейцарцами» о путях развития поэзии
Еще более активную оппозицию рационалистически-утилитарному подходу Готшеда к поэзии составили соотечественники Галлера – швейцарские (цюрихские) ученые и критики Иоганн Якоб Бодмер (Johann Jacob Bodmer, 1698–1783) и Иоганн Якоб Брейтингер (Johann Jacob Breitinger, 1701–1776), условно именуемые «швейцарцами».
Безусловно, Готшед был авторитетнейшей фигурой литературной жизни Германии 1720-30-х гг. Его языковая и театральная реформа, споры вокруг его эстетики чрезвычайно способствовали развитию самосознания немецкой литературы и культуры в целом. Однако в главном своем произведении – «Опыте критической поэтики для немцев, в котором в первую очередь рассматриваются общие правила поэзии, после чего – все особенные виды стихотворений, поясняемые примерами, но везде показывается, что внутренняя сущность поэзии состоит в подражании природе» (1730) – Готшед настолько акцентирует дидактическую функцию поэзии, настолько (в борьбе с барокко) осуждает гиперболизм страстей, эмоциональность и всяческую метафоричность языка, настолько требует логичности и правдоподобия, предельной типизации, что уничтожает самый дух поэзии. Поэзия превращается лишь в логически-обобщенную, лишенную всякой индивидуальности и подлинной жизненной силы иллюстрацию к какому-либо моральному тезису. Так, Готшед предлагает следующий рецепт создания поэтического произведения: «Прежде всего необходимо выбрать поучительную моральную тезу, которая должна быть положена в основу… Далее следует придумать какую-нибудь очень общую ситуацию, годную для изображения такого действия, которое позволяет очень наглядно подать данную тезу». При этом Готшед исключает любые элементы условности и фантастики, отвергает импровизацию.
В противовес Готшеду «швейцарцы», оставаясь в рамках рационализма, выдвигают на первый план воображение и чувственную, пластическую силу поэзии (это сказывается и в названии издававшегося ими в 1721–1723 гг. журнала «Discourse der Malern» – «Беседы живописцев»). В целом для них характерны ориентация не на Францию, а на Англию как классическую страну Просвещения, на сенсуализм Локка, а также соединение культа разума и внецерковной религиозности. Наиболее значительные работы были написаны Бодмером и Брейтингером совместно: «О значении воображения и использовании его для улучшения вкуса» («Von dem Einflüsse und Gebrauche der Einbildungskraft zur Ausbesserung des Geschmacks», 1726) и «Критическая поэтика, в которой поэтическая живопись исследуется в отношении ее обоснования воображением и поясняется примерами из знаменитейших старых и новых авторов» («Kritische Dichtkunst, worin die poetische Malerei in Absicht auf die Erfindung im Grunde untersucht und mit Beispielen aus den berühmtesten Alten und Neuen erläutert wird», Bd. 1–2, 1741). Их «Критическая поэтика» полемически была заострена против «Опыта критической поэтики» Готшеда. В целом «швейцарцы» исповедуют рационалистическую концепцию искусства: для них остаются важными авторитет Аристотеля и Буало, разумность, подражание природе, воспитательная функция искусства. Однако они несколько иначе понимают самый разум, иначе расставляют акценты, нежели Готшед, и это меняет систему в целом.
Важнейший акцент Бодмер и Брейтингер делают на воображении и его роли в искусстве, на творческой индивидуальности, которая основывается не только на «разумном подражании природе», но и на силе чувственного восприятия, фантазии, чудесном. Воображение (die Einbildungskraft) понимается ими вслед за Локком как способность памяти воспроизводить чувственные восприятия внешнего мира, которые и становятся арсеналом творческого воображения. При этом поэзия уподобляется живописи (буквально – «живопись словами», согласно Горациеву принципу ut pictura poesis – «поэзия, подобная живописи»). Важно, что воображение не только воспроизводит реально пережитое, но и способно объять бесконечные «возможные миры». В работе «Критические размышления о поэтических картинах у поэтов» (1741) Бодмер писал о том, что воображение способно «извлекать при помощи своей сверхволшебной силы из «состояния возможности» то, что не существует, и придавать ему видимость действительности, так, что мы словно видим, слышим и ощущаем эти новые создания». Задача поэта, когда он обращается к «возможным мирам», и заключается в том, чтобы придать сверхчувственному видимость конкретночувственного.
В сущности, полагали «швейцарцы», поэзия всегда имеет дело не с действительным миром, но с «возможным», т. е. созданным поэтической фантазией, и этим она отличается от науки (последней свойственна «правда рассудка», а первой – «правда воображения»). Особенно оправдана фантазия там, где речь идет о теме, имеющей огромное духовно-религиозное значение. Примером того, как «возможные миры» могут воплощаться в конкретно-чувственных образах, для Бодмера и Брейтингера был «Потерянный Рай» Дж. Милтона. Эта поэма стала для них эталоном сочетания логической основы, воображения и фантазии, живописности и глубины философских обобщений, высокого религиозного и морального пафоса, великой школы мышления и великой школы чувств. Бодмер и Брейтингер считали делом своей жизни оправдание великого творения Милтона перед судом рационалистической эстетики и знакомство с ним немецкоязычного читателя. Не случайно Бодмер посвятил этому отдельную работу – «Критическое рассуждение о чудесном в поэзии и о связи чудесного с нравственным на основе защиты поэмы Джона Милтона о “Потерянном Рае”» («Kritische Abhandlung von dem Wunderbaren in der Poesie und dessen Verbindung mit dem Wahrscheinlichen, in einer Verteidigung des Gedichts Joh. Miltons von dem Verlorenen Paradiese», 1741). Бодмер всю жизнь упорно работал над переводом «Потерянного Рая»: сначала он перевел поэму прозой (1732), затем создал новую редакцию перевода (1742), приближенную к готшедовской языковой норме, и только в 1780 г. опубликовал полный стихотворный перевод поэмы. Во многом именно под влиянием «швейцарцев» Клопшток увлекся замыслом написать по примеру Милтона свою «Мессиаду» – грандиозную христианскую эпопею. В свою очередь Бодмер, увлекшись примером Клопштока и по образцу Милтона, пишет эпическую поэму «Ной» («Noah», 1750) и другие «патриархады», посвященные библейским патриархам («Авраам», «Иосиф» и др.).
Бодмер и Брейтингер также заново открыли для немцев средневековую поэзию – прежде всего поэзию миннезингеров, опубликовав на протяжении 1748–1759 гг. «Большую гейдельбергскую рукопись», находившуюся со времен Тридцатилетней войны в Париже и полученную ими во временное пользование. В 1758–1759 гг. они издали двухтомное «Собрание песен миннезингеров швабского периода, содержащее произведения ста сорока поэтов» («Sammlung von Minnesingern aus dem schwäbischen Zeitpunkt, CXL Dichter enthalted») и тем самым, возможно, спасли от небытия произведения немецкого миннезанга. В 1753 г. Бодмер напечатал вольное переложение «Парцифаля» Вольфрама фон Эшенбаха, выполненное гекзаметром (уже под влиянием Клопштока, впервые применившего гекзаметр в «Мессиаде»), а в 1757 г. опубликовал вторую часть «Песни о Нибелунгах» под названием «Месть Кримхильды и Плач. Две героические поэмы швабской эпохи с добавлением отрывков из поэмы о Нибелунгах и из Иосафата» (историю Зигфрида Бодмер практически полностью отбросил, считая ее не соответствующей законам эпопеи). Он также написал несколько статей о средневековой немецкой поэзии. Все это во многом стимулировало интерес к германской старине у Клопштока, штюрмерского поколения, а затем и у немецких романтиков.
Полемика «швейцарцев» с Готшедом, отстаивание ими концепции воображения, поиски равновесия между рациональным и эмоционально-чувственным началами, равно как и практическое осуществление этого равновесия у Броккеса, Хагедорна, Галлера (у каждого, безусловно, в своем индивидуальном ключе), соединение в поэтической палитре Раннего Просвещения в Германии тенденций просветительского классицизма, просветительского барокко, рококо и зарождающегося сентиментализма, – все это обусловило дальнейший расцвет немецкой поэзии.
3. Поэзия Зрелого Просвещения (1750–1770)
Во второй половине 40-х гг. XVIII в. немецкое Просвещение постепенно вступает в свою зрелую стадию. Об этом свидетельствует не только широкое распространение просветительских идей, но и появление качественно новых форм просветительского классицизма, зрелого рококо, становление яркого и мощного сентиментализма, рождение новаторских жанров и стиховых форм в поэзии. Именно в конце 40-х гг. в литературу вступают Клопшток, Лессинг, Виланд, чьи имена стали символами общеевропейского значения немецкого Просвещения. Однако их появление на литературной арене было подготовлено многими явлениями, и прежде всего поэтическими, на литературной арене Германии.
В середине 1740-х гг. под влиянием полемики Готшеда и «швейцарцев» в Лейпциге складывается новый кружок литераторов, получивший условное именование «Бременская группа», или просто «бременцы», ибо в Бремене издавался журнал, их объединявший, – «Bremer Beiträge» («Бременские материалы»). Ядро группы составляли Карл Кристиан Гертнер (1712–1791) – главный редактор журнала, а также его молодые сотрудники Иоганн Андреас Крамер (1723–1788), Иоганн Адольф Шлегель (1721–1793), будущий отец теоретиков немецкого романтизма А.В. и Ф. Шлегелей. К ним примкнули также лейпцигские студенты и поэты Конрад Арнольд Шмидт (1716–1789), Иоганн Арнольд Эберт (1723–1795), Николаус Дитрих Гизеке (1724–1765), Иоганн Кристоф Шмидт (1727–1807) и некоторые другие. Первоначально «бременцы» были сторонниками Готшеда и вели резкую полемику с Бодмером и Брейтингером. Однако постепенно они выходят из-под власти готшедовской гражданственно-моралистической дидактики и все больше отдают дань тематике частной жизни, поэзии, глубоко окрашенной эмоционально, но в то же время разумно-сдержанной, мягко, изящно трактующей темы юности, дружбы, любви. Элементы просветительского классицизма тесно переплетаются в их творчестве с рокайльными (обильную дань «бременцы» отдают анакреонтике) и сентименталистскими. Традиционные мотивы рококо трактуются «бременцами» более глубоко и личностно, все более очевидна их ориентация на английский сентиментализм. Именно в чувствительной атмосфере этого кружка расцветает талант Клопштока, в свою очередь оказавшего большое влияние на своих друзей, особенно на Эберта и Гизеке. Свидетельством внимания «бременцев» к поэзии английского сентиментализма стал прозаический перевод «Ночных дум о человеке» Э. Юнга, выполненный Эбертом в 1754–1756 гг. «Бременцев» поддерживали и печатали свои произведения в «Бременских материалах» Хагедорн, Галлер, драматург и эпический поэт Иоганн Элиас Шлегель (1721–1798), старший брат И.А. Шлегеля, Геллерт.
Образец «смешанной поэтики» являет собой творчество типичного «бременца» Фридриха Вильгельма Цахариэ (Friedrich Wilhelm Zachariae, 1726–1777), уроженца Тюрингии, начавшего поэтический путь в годы учебы в Лейпциге. В поэзии Цахариэ, работавшего в самых разнообразных жанрах, прихотливо переплетаются черты свойственной просветительскому классицизму героики и дидактики, а также рококо (особенно в ироикомических поэмах) и сентиментализма. Цахариэ перевел гекзаметрами «Потерянный Рай» Милтона (1760) и писал религиозные поэмы в подражание ему, а также Клопштоку и Бодмеру, автору «Ноахиды» («Поэмы о Ное»), в свою очередь испытавшей влияние «Мессиады» Клопштока. В духе Юнга написана поэма Цахариэ «Наслаждения [радости] меланхолии» (1761). Однако самым известным его произведением стала ироикомическая поэма «Забияка» (1744), созданная им в восемнадцатилетнем возрасте. Эта поэма, написанная торжественным александрийским стихом в стиле рококо и пародирующая высокий стиль классической эпопеи, представляет собой наиболее значительный и талантливый отзвук в немецкой литературе на знаменитую поэму А. Поупа «Похищение локона» (1712). Безусловно, подражая Поупу, Цахариэ вместе с тем остается оригинальным. Так, вместо античных богов у английского поэта действуют эльфы и сильфы, у Цахариэ – аллегорические салонные богини Мода и Галантность с их свитой – Нарядом, Комплиментами. Вместо Амура у немецкого поэта выступает Роман и т. п. Кроме того, Цахариэ обильно вводит в поэму немецкий бытовой материал, зарисовки студенческих нравов. Согласно сюжету, истинно галантным кавалерам, студентам Лейпцига, противостоит исключенный из Иенского университета дуэлянт, пьяница, курильщик Рауфбольд, само имя которого означает «забияка». Покровительствуемый богом драки Пандуром, он учиняет дебош на балу, желая научить лейпцигских щеголей «героическим» доблестям Иены. Это вызывает гнев богини Галантности и бога Линдана, покровителя Лейпцига. Они наказывают забияку, заставив его влюбиться в светскую модницу и потерпеть поражение от счастливого соперника Сильвана, стать предметом насмешек и бежать из Лейпцига. Поэма построена на контрастах между изящными салонными и мифологическими сценами и сценами «первобытной» иенской дикости, студенческой попойки и уличных бесчинств (в изображении последних очевидны традиции «низового» барокко). Отдавая предпочтение цивилизованности Лейпцига, поэт вместе с тем смеется и над излишним салонным жеманством.
Тенденции рококо широко представлены также в анакреонтической поэзии 40-60-х гг. Поэты-анакреонтики, близкие «бременцам», продолжили традиции Хагедорна. Крупнейшими из них были три поэта, которые подружились и начали свой творческий путь еще на студенческой скамье в Галле, – Иоганн Вильгельм Людвиг Глейм (Johann Wilhelm Ludwig Gleim, 1719–1803), Иоганн Петер Уц (Johann Peter Uz, 1720–1796), Иоганн Николаус Гёц (Johann Nicolaus Goetz, 1721–1781). Расцвету анакреонтики в Германии способствовал перевод Псевдоанакреонта, который выполнили нерифмованными трехстопными ямбическими стихами Уц и Гёц («Die Oden Anakreons in reimlosen Versen» – «Оды Анакреонта в нерифмованных стихах», 1746). Это ритмическое новшество было важно для более адекватной ориентации на Анакреонта и его античных подражателей, а также способствовало оживлению интереса к античной метрике и возможностям передачи ее на немецком языке (эта проблема будет успешно решена Клопштоком). Однако еще раньше большой толчок развитию анакреонтики дал сборник Глейма «Опыт шуточных песен» (1745). Именно Глейм собрал вокруг себя в Гальберштадте кружок поэтов-анакреонтиков, в который входили Иоганн Георг Якоби, Иоганн Беньямин Михаэлис, Вильгельм Гейнзе, Гюнтер Гёккинг и др. В своих стихах Глейм развивает мотивы разумного гедонизма Хагедорна, в шутливо-гривуазной манере воспевает вино, любовь, радость жизни, провозглашает путь к счастью доступным для каждого человека. Любовь понимается Глеймом как легкая и изящная игра, доставляющая радость. Декоративный рокайльный антураж в лирике Глейма (беседки, увитые розами, нарциссы, зефиры, ленты и т. и.) соединяется с реальными сценами бюргерского быта. В дальнейшем Глейм эволюционирует в сторону чувствительности («Песни для народа», 1772; «Хижинка», 1794). «Песни для народа», в которых Глейм дает слово простым людям, славящим свой честный труд и выражающим покорность Божьей воле, становятся популярным жанром в штюрмерской поэзии.
Глейм также чрезвычайно много сделал для поддержки поэтов, оказывая им существенную материальную помощь. Он делал это искренне и щедро. С любовью и легкой иронией Гёте писал о нем: «Глейм всегда ощущал в себе живое творческое стремление, но полностью оно его не удовлетворяло, почему он и отдался другому, может быть, более могущественному порыву – способствовать творчеству других. Обе эти деятельности неизменно переплетались в течение всей его долгой жизни; поэзия и материальная помощь поэтам были необходимы ему, как дыханье. Выручая нуждающиеся таланты из всякого рода затруднений и тем доподлинно помогая литературе, он приобрел такое множество друзей, должников и нахлебников, что ему охотно прощали пространность его творений, ибо чем можно было заплатить за щедрые благодеянья, как не терпимостью к его стихам»[54].
Рокайльному канону, созданному Глеймом, полностью следовал уроженец Вормса пастор Гёц, автор сборника «Стихотворные опыты уроженца Вормса» (1745). Он прославился также как переводчик античных поэтов (Сапфо, Катулл, Тибулл, Гораций), французской и итальянской поэзии (Лафонтен, Вольтер, Грессе, Гварини). Многие стихотворения Гёца были изданы после его смерти (сборник «Смешанные стихотворения», 1785). Одно из самых популярных из них – «Девичий остров», в котором поэт варьирует известный мотив путешествия на остров Венеры и высказывает пожелание поцарствовать на чудесном острове, который богиня любви населила бы только прекрасными девицами.
Одним из самых талантливых немецких анакреонтиков был Уц, автор сборника «Лирические стихотворения» (1749). Он тщательно работал над языком и формой своих произведний, добиваясь особых изящества, грациозности, остроумия, стремясь приблизиться к французским образцам, на которые опирался. Уц тяготел к более серьезной трактовке философии «золотой середины» и тихих радостей жизни в духе Горация и Хагедорна (оды «Поэзия», 1755; «К радости», 1756). Его ода «Теодицея» (1755) является парафразой одноименного трактата Лейбница и продолжает броккесовско-галлеровскую традицию «поэзии мысли».
Особый чувствительный вариант анакреонтики создает Иоганн Георг Якоби (Johann Georg Jacobi, 1740–1814), поклонник нежных чувств и изящно-грациозных поэтических миниатюр, «маленький поэт маленьких песен». Основными мотивами его поэзии («Поэтические опыты», 1763) становятся поцелуи голубков и просто поцелуи («Голубок», «Поцелуй»), шалости амуров с золотыми крылышками. По мнению Якоби, поэт, своим изящным красноречием создающий мир прелестных и грациозных символов, должен умиротворять людские сердца, отвлекать их от горя и забот.
Некоторую дань анакреонтике отдал в раннем творчестве и Эвальд Кристиан фон Клейст (Ewald Christian von Kleist, 1715–1759), офицер прусской армии, погибший от смертельной раны. Тяжкие материальные обстоятельства вынудили его воевать, но он так и не смог скопить достаточно денег, чтобы жениться на любимой девушке. Человек благородный и честный, противник военной муштры, он послужил прототипом для образа майора Тельхейма в «Минне фон Барнхельм» Лессинга, который был его другом. Поэзия Клейста отмечена философичностью и трагизмом. Он продолжает традиции Броккеса и Галлера, английских поэтов-сентименталистов, в частности Дж. Томсона, под влиянием «Времен года» которого (в переводе Броккеса) была написана его поэма «Весна» (1749). Как и у Томсона, в основе поэмы – прогулка поэта и созерцание природы. В поэме есть элементы идиллии: на расцветающих полях крестьяне заняты весенними работами. Однако в отличие от «Альп» Галлера этой идиллии угрожает война, и Клейст, резко осуждая политику немецких князей, в духе пророка Исаии предлагает им перековать мечи на орала, а копья свои – на серпы, стать не источником бедствий для простых людей, но опорой их благоденствия. Резкое осуждение завоевательных войн, «коронованных палачей», «праздной черни в пурпурных одеяниях», богатая метафоричность языка, обилие неологизмов сближают Клейста с Клопштоком. Клейст отдал также дань жанру идиллии, прославляя жизнь простых людей на лоне природы – крестьян, пастухов, рыбаков. Особую известность приобрела его рыбачья идиллия «Ирин» (1757).
Влияние Клейста испытал швейцарский (цюрихский) поэт, гравёр, живописец по фарфору Соломон Гесснер (Salomon Gessner, 1730–1786), сыгравший важную роль в развитии не только швейцарской, но и немецкой поэзии. Гесснера восхищала живописность поэзии Клейста (в 1753 г. поэты познакомились и стали друзьями), ему близки были также анакреонтики Хагедорн и Глейм. На него воздействовали поэтические установки «швейцарцев», прежде всего – идиллические «патриархады» Бодмера (под прямым воздействием последнего написана эпическая поэма Гесснера «Смерть Авеля», 1758). Однако решающее влияние на Гесснера оказали исполненная живописной пластики и чувствительности поэзия Броккеса, идиллии Феокрита и «Буколики» Вергилия. Основным жанром Гесснера и стали пастушеские идиллии, максимально приближенные к античным образцам идиллии и буколики. В 1754 г. под названием «Дафнис» появилась выполненная Гесснером вольная обработка знаменитого греческого романа «Дафнис и Хлоя». Воспринятая из этого романа сильно ритмизованная проза стала основной формой идиллий Гесснера.
Огромный успех выпал на долю сборников Гесснера «Идиллии» (1756) и «Новые идиллии» (1772). Идиллия Гесснера – написанная ритмизованной прозой «картинка» (прямое значение греческого слова «идиллия») из пастушеской жизни. Действие его идиллий перенесено в условную «счастливую Аркадию», в «золотой век» греческой и римской культур, когда, с точки зрения поэта, была еще возможна «естественная жизнь» в единении с природой. Главную свою задачу он и видит в изображении «естественных людей», «чистой человечности», которые практически утрачены современным обществом. Гесснер четко осознает, что те идиллические сцены счастья, блаженства, гармонии, которые он создает в своем воображении, не соответствуют реальности. Так, в предисловии к сборнику «Стихотворения» (1762) поэт пишет: «…подобные сцены не соответствуют нашей действительности, в которой крестьянин принужден отдавать свой избыток, приобретенный тяжелым трудом, своему князю и городам, а притеснения и бедность лишили его добрых нравов, сделали робким и принизили его характер». Эти слова недвусмысленно свидетельствуют, что Гесснер рассматривает свою идиллию как утопию, противостоящую безобразной реальности, как воплощение того идеала «неиспорченной природы», к которой нужно вернуться от уродливой цивилизации. По мнению поэта, «эклога населяет неиспорченную природу… обитателями, ее достойными, показывает их поступки в счастье и горе. Они свободны от всех рабских отношений и потребностей, которые порождены отдалением от природы». У Гесснера явственны переклички с идеями Руссо, хотя и нет прямой критики современной цивилизации. Эта критика, однако, осуществляется от противного – через утверждение идеала «естественного состояния».
В идиллиях Гесснера еще обильно присутствует рокайльная декорация: зефиры, ручейки, мотыльки, кусты роз, яркие краски. В них очевидно тяготение к изяществу и миниатюрности, равно как и сами они представляют собой изящные поэтические миниатюры: не описание обширных пространств, как у Томсона, Броккеса, Галлера, Клейста, но изображение уютных и укромных уголков, оттеняющих трогательные и искренние чувства человека. Однако рукотворной, декорированной природе поэт, как Броккес и Галлер, предпочитает природу естественную, поражающую разнообразием красок и состояний, наполненную динамикой. Эта природа пропущена в его идиллиях через чувствительное сердце, в них ощутим сдвиг в сторону сентиментализма. Его пастухи и пастушки – не условные галантные персонажи, но именно воплощение самой естественности, простые и цельные души, ощущающие подлинное единение с природой. В его идиллиях отсутствуют и столь характерные для рококо и общепринятые для пасторали эпохи Ренессанса и XVII в. эротические мотивы. Гесснер создал особый сентименталистский тип идиллии и оказал большое влияние на дальнейшее развитие этого жанра у Якоби, Мюллера-живописца, Фосса, Гёте. Поэзию Гесснера высоко ценили Гердер, Гёте, А.В. Шлегель (последнее свидетельствует и о влиянии Гесснера на романтиков). Гесснер был очень популярен и во Франции, где в числе его поклонников были Дидро и Руссо.
Кристиан Фюрхтеготт Геллерт
Однако ключевой фигурой литературного процесса середины века был Кристиан Фюрхтеготт Геллерт (Christian Fürchtegott Geliert, 1715–1769), немало способствовавший достижению немецким Просвещением зрелости и распространению просветительских идей и настроений в самых широких кругах бюргерства. Геллерт – самый почитаемый и читаемый из немецких писателей 1740-50-х гг. Кроме того, это единственный немецкий писатель первой половины XVIII в., которого активно издают и читают в Германии и сейчас, и в первую очередь его поэтические произведения – духовные стихотворения и басни. А в 70-е гг. XVIII в. критик Томас Аббт писал: «Несомненно, что в Германии именно басни Геллерта углубили вкусы нации. Они постепенно проникали в дома, где прежде никогда не читали. Спросите любую сельскую девушку о баснях Геллерта, она их знает». А другой критик в начале 80-х признавал: «Все, кто хотя бы чуть-чуть возвысились над крестьянским сословием, ныне читают, и читают первым делом сочинения Геллерта».
Действительно, Геллерт содействовал распространению в самых широких кругах вкуса к чтению. Расшатывая канон Готшеда, он органично сочетал апелляцию к разуму с чувствительностью, трогательно изображал жизнь бюргерства, его проблемы и переживания, тем самым высоко поднимая его в собственных глазах. В своих произведениях Геллерт предстает прежде всего как религиозный моралист, но ему глубоко чужды ханжество и религиозный фанатизм, он выступает за религиозную терпимость.
Геллерт родился в провинциальном городке Гайнихен в Саксонии, учился на богословском факультете Лейпцигского университета, где слушал лекции Готшеда. После окончания университета ему пришлось работать домашним учителем в различных дворянских домах, пережить множество лишений, прежде чем в начале 40-х гг. он вернулся в Лейпциг, где прославился своими баснями и исследованиями об эзоповских баснях. Вскоре он стал преподавать в университете (лекции по риторике и теории изящных искусств), в 1751 г. получил профессуру. Огромный успех имели лекции Геллерта о поэзии и морали («Moralische Vorlesungen», опубликованы в 1770 г.). В конце 60-х гг. его слушателем стал молодой Гёте. К профессору Геллерту приходили и домой, чтобы посоветоваться по различным вопросам, причем люди самых разных сословий. Он обладал огромным обаянием и подлинной житейской мудростью, что и влекло к нему людей. В «Поэзии и правде» Гёте, вспоминая свои первые дни в университете, пишет: «Геллерт был на редкость любим и уважаем молодежью. Я уже успел его посетить и был им ласково принят. Невысокого роста, изящный, но не сухопарый, с кроткими, скорее грустными глазами, с прекрасным лбом, ястребиным, но не слишком крупным носом, красиво очерченным ртом и приятным овалом лица, он сразу располагал к себе. Попасть к нему оказалось нелегко. Два его фамулуса, словно жрецы, охраняли святилище, доступ в которое был открыт не для всякого и не во всякое время; впрочем, такая осмотрительность была вполне оправданна, ибо на то, чтобы принять и удовлетворить всех желавших поговорить с ним по душам, ему потребовался бы целый день, с утра до вечера»[55].
Новаторство Геллерта проявилось прежде всего в жанрах комедии и романа, но огромную популярность он приобрел раньше всего как автор басен и духовных стихотворений. Последние были собраны им в сборник «Духовные оды и стихотворения» («Geistliche Oden und Gedichte», 1757), в котором, при всей опоре на устойчивую немецкую традицию лютеранской духовной песни (М. Лютер, П. Герхардт, И.К. Гюнтер), очевидно движение автора к безыскусственности и чувствительности. При этом именно Геллерт впервые вводит различие между «одой для сердца», которая в его понимании синонимична духовной песне и выражает в большей степени индивидуальные чувства автора, и «ученой одой», в которой предстают более обобщенные духовные ситуации и прямо поясняются многие места Священного Писания. При этом Геллерт часто обращается к тексту того или иного библейского Псалма и создает вольное его переложение, включающее и факты постбиблейской истории христианства, и современный поэту материал. Как полагает российская исследовательница А.Д. Жук, именно в творчестве Геллерта «складывается жанровый канон духовной оды», а после него в немецкой духовной оде преобладает «ученая ода» с «установкой на разум», духовная же песня «выводится за рамки одического жанра»[56]. Духовные оды и песни Геллерта, созданные им на мелодии уже известных духовных песен, исполняются до сих пор, многие его духовные стихотворения вдохновляли композиторов. Особенно широко известно положенное на музыку Бетховеном стихотворение «Похвала Богу от природы» («Небеса благословляют славу Владыки»).
Однако вне всякой конкуренции по своей популярности у широкого читателя были басни Геллерта. Они выходили отдельными сборниками на протяжении 1746–1748 гг. под одним и тем же названием – «Басни и рассказы» («Fabeln und Erzählungen»), переводились на многие языки, в том числе и на русский. Беспрецедентным является тот факт, что сборник басен Геллерта был самой читаемой в Германии XVIII в. книгой после Библии. Геллерт-баснописец продолжает традицию Хагедорна, и его басня в еще большей степени, согласно справедливому замечанию Б.Я. Геймана, «развивается в сторону конкретизации фона, приближения его к немецкой бюргерской действительности, усиления местных бытовых красок»[57]. В связи с этой установкой Геллерт изобретает множество новых сюжетов, которых не было и не могло быть у его предшественников, ибо часто это сюжет не традиционно басенного происхождения, не предполагающий вовсе животной маски, но являющийся случаем из современной жизни, плодом наблюдений и размышлений самого автора. Такой тип басни, в основу которой положен реальный жизненный случай, Геллерт и называет «рассказом». Басня-«рассказ» преобладает у него над басней в эзоповском смысле, а в качестве героев чаще фигурируют люди, нежели животные. Кроме того, в отличие от утонченно-светского языка Хагедорна и Лафонтена, на которого также опирается Геллерт, его язык гораздо проще, демократичнее, он максимально приближен к разговорному языку бюргерской среды и вместе с тем содержит в себе сознательную установку на просвещение этой среды, формирование у ее представителей литературного вкуса и правильного литературного языка.
В своих баснях Геллерт осуждает круг общечеловеческих пороков – скупость, хвастовство, заносчивость, ханжество, а также разоблачает порочность придворной жизни («Монима», «Герод и Геродий», «Рюнсольт и Люция» и др.), выступает за крепкие семейные узы и твердые моральные принципы. Он подчеркивает, что истинная нравственность, достоинство, благородство имеют вне сословный характер, и убеждает своего читателя, что нет смысла стремиться в более высокое сословие, ибо именно там человек попадает в самое страшное рабство – рабство дурных предрассудков и сословного чванства («Начинка»). Во многих баснях Геллерта звучат острые социальные ноты. Так, в басне «Упряжная лошадь» («Das Kutschpferd») он высказывает страстное сочувствие униженным и угнетенным, тем, кто принужден выполнять черную работу, чтобы обеспечить праздную жизнь «благородных трутней»:
Ты гордо «низких» презираешь, Ты, благородный трутень, знай, Что ты напрасно спесью козыряешь: Ведь ты у бедных блага отбираешь — На их труде ты основал свой рай. (Здесь и далее перевод А. Гугнина)Поэт утверждает, что презрение к людям «низкого» происхождения обусловлено только предрассудками и сословными перегородками, неравными возможностями для людей в современном обществе, которое держится на труде и поте «низших» сословий: «Они б умнее стали, чем ты есть, // Когда бы, как тебя, их воспитали, // Мир обойдется без тебя, без них – едва ли». В басне «Лошадь и слепень» («Das Pferd und die Bremse») Геллерт предупреждает о возможном социальном взрыве, страшных последствиях неизбежной ненависти угнетенных к их мучителям. Как истинный просветитель, он выступает против всякой узурпации естественных прав человека. Так, в «рассказе» «Инкле и Ярико» («Incle und Jarico») осуждается поступок англичанина, продавшего работорговцу свою возлюбленную – индианку, которая когда-то спасла ему жизнь.
Геллерт пропагандирует в баснях основные просветительские идеи, делает их достоянием широкого круга людей. В простой, доходчивой манере он излагает свои философско-этические взгляды, полемизирует с излишним рационализмом Вольфа и Готшеда, с неприемлемой для него эпикурейски-стоической концепцией бесстрастия, абсолютного душевного равновесия, которое якобы необходимо истинному мудрецу. В противоположность такой позиции («Эпиктет») Геллерт подчеркивает, что мир настолько переполнен горем и страданиями, что закрывать на них глаза и пребывать в иллюзорном душевном равновесии может только безнравственный человек. Настоящий же человек должен уметь чувствовать и сочувствовать, и не просто сострадать, но и делать добро. «Человек! Старайся делать добро людям!» – эта фраза из «рассказа» «Бедный моряк» является девизом Геллерта, главным императивом, который он обращает к своим современникам.
Весьма часто в баснях Геллерта нет отрицательных персонажей, но даются образцы истинно морального поведения. Так, в той же басне «Бедный моряк» происходит соревнование в великодушии между должником и его кредитором-филантропом, вместо стихии юмора и сатиры господствует стихия чувствительности. Геллерт полагал, что его басни в первую очередь должны культивировать в читателях чувствительность сердца, способность сопереживать и сочувствовать. Так, в «рассказе» «Новые супруги», изображая печальное событие, поэт стремится уйти от прямого дидактизма и пробудить в читателе чувство сострадания:
Оплачьте случай сей печальный Вы, сострадания полны. ……………………………………………. Кто над чужой бедой страдает, Свой жар сердечный пробуждает — Ведь к ближнему любовь нас только возвышает.Таким образом, Геллерт создает особый жанр «чувствительной», «трогательной» басни, отказываясь от открытого морализаторства и прямого обличения (те же тенденции проявляются в его комедиях и романах).
Фридрих Готлиб Клопшток
Все литературное развитие Германии первой половины XVIII в. готовило почву для появления самого крупного и талантливого поэта середины столетия, дерзкого новатора и реформатора поэтического языка – Фридриха Готлиба Клопштока (Friedrich Gottlieb Klopstock, 1724–1803), кардинально изменившего облик немецкой поэзии, во многом определившего тенденции ее развития, в том числе и в XX в. В «Поэзии и правде» Гёте говорит: «…неминуемо должна была прийти пора, когда поэтический гений себя осознает, создаст для себя соответствующие условия и положит начало своей независимости и достоинству. В Клопштоке объединилось все для начала подобной эпохи»[58]. Именно в поэзии Клопштока достигается неповторимый синтез аналитичности и не просто чувствительности – сверхчувствительности, то соединение глубины философской мысли и экстатичности, которыми отличается немецкая философская поэзия. Именно Клопшток создает невиданную ранее по размерам лирическую эпопею, особые жанровые модификации оды и философского гимна, связав их со специфическими ритмическими структурами и наполнив их особой семантикой. Кроме того, Клопшток невиданно расширил тематический круг немецкой лирической поэзии, преобразив старые и введя в нее новые тематические пласты и исторически новые образы и мотивы, кардинально изменив ее стилистику.
Клопшток родился в Саксонии, в городе Кведлинбург близ Гарца, в многодетной и набожной семье юриста, приверженной пиетизму. Это изначально предопределило глубокую и искреннюю веру, особую религиозную экзальтацию, присущую Клопштоку как человеку и поэту Гёте пишет: «Это был юноша чистых чувств и нрава. Серьезно и основательно воспитанный, он с самого раннего возраста придавал большое значение самому себе и своим поступкам; наперед обдумывая и соразмеряя каждый жизненный шаг, он, уже предчувствуя свою духовную мощь, обратился к наивысшей теме – Мессии…»[59] И еще одно качество изначально отличало Клопштока: страстное свободолюбие, ненависть ко всем формам тирании. Безусловно, это было связано с атмосферой родного города: истинно саксонский Кведлинбург незадолго до рождения Клопштока попал под власть Пруссии, и будущий поэт с детства ощущал нежелание горожан подчиняться новым властям, витающий в самом воздухе дух сопротивления деспотизму.
Еще во время учебы (1739–1745) в старинной богословской школе Шульпфорта близ Наумбурга, где Клопшток получил блистательные знания в области античной литературы, греческого и латинского языков, он открывает для себя три культурные и языковые стихии, которые затем своеобразно отзовутся и переплетутся в его поэзии: Библия, стилистика и образность которой навсегда окажутся важными для него, воспитанного в пиетистской среде; мир античной поэзии (и прежде всего – Гомер, Вергилий, Гораций); Германия, ее легендарно-историческое, героическое прошлое и противоречивое настоящее.
В Шульпфорте Клопшток задумывает героическую эпопею, сюжет которой подсказали древности его родного Кведлинбурга: там находилась могила Генриха I Птицелова, который в 933 г. одержал победу над вторгшимися в Саксонию венграми. Юный поэт стремится доказать, что на немецком материале и по-немецки тоже можно создать поэзию подлинно эпического дыхания. Однако далее, и прежде всего под влиянием «швейцарцев» (Бодмера и Брейтингера), чья полемика с Готшедом живо обсуждалась в Шульпфорте, замысел Клопштока видоизменяется: он решает воспеть «подвиг Спасения», писать – в соревновании с великим Дж. Милтоном и его «Потерянным Раем» – большую поэму о Христе и называет ее «Мессия» («Der Messias»), но иногда именует «Мессиадой» («Die Messiade»), обозначая тем самым следование античной традиции. Это проявилось даже в стихотворном размере, совершенно новом и необычном не только для немецкой, но и для европейской поэзии на живых языках: поэма была написана правильными дактилическими гекзаметрами, воспроизведенными в силлаботонике по системе Опица. Именно Клопшток научился это делать, как и грамотно имитировать элегический дистих в элегиях, эолийские логаэды (строфические размеры) – в одах. Таким образом, изначально в содержании поэмы, ее структуре и ритмах, ее языковой «плоти» органично соединились Библия, античность, дух германской речи. Все это было переплавлено жаром души молодого поэта, жившего в предельном напряжении чувств. «Искупитель должен был стать его героем, которого он вознамерился провести через всю земную юдоль и страдания к высшему небесному торжеству. В этом должно было соучаствовать все Божественное, ангельское и человеческое, что заложено в молодой душе. Воспитанный на Библии и вскормленный ее мощью, Клопшток, словно современник, общается с праотцами, пророками и предтечами, но все они, во все века, составляют лишь нимб вокруг Спасителя…»[60]
Работа над поэмой о Мессии продолжается и во время учебы Клопштока на богословском факультете Лейпцигского университета (1746–1748), куда он переводится из Иены. В Лейпциге он усиленно штудирует философию (особенно сильное впечатление произвели на него сочинения Лейбница), в нем все более крепнет мысль о том, что вполне возможно совмещать научное, философское познание и самое горячее религиозное чувство. Клопшток сближается с «бременцами», привнеся в их кружок особую чувствительность и серафическую восторженность. На долгие годы его близкими друзьями становятся Гертнер, Крамер, Эберт, Гизеке. В атмосфере дружеского кружка Клопшток по-настоящему складывается как поэт. Его переполняют чувства, он окрылен мыслью о том, что содружество поэтов может преобразовать немецкую поэзию и – более того – самое действительность.
В 1747 г. в кругу «бременцев» Клопшток прочел первые три песни «Мессиады», и они произвели ошеломляющее впечатление на слушателей грандиозностью темы, необычайным лирическим волнением, очень смелым поэтическим языком, наполненным неожиданными метафорами и неологизмами, непривычным размером. Впечатление было столь необычным, что «бременцы» не сразу решились их печатать. Они сделали это только после того, как получили восторженные отзывы от Хагедорна из Гамбурга и Бодмера из Цюриха. Публикация первых трех песен «Мессиады» в «Бременских материалах» в 1748 г. стала одним из самых крупных событий немецкой культуры XVIII в., а завершение поэмы растянулось до 1773 г. Сам Клопшток воспринял пришедшую славу как знак Промысла Божьего и одновременно как величайшую ответственность. Как пишет Гёте, «величие темы возвысило поэта в его собственных глазах. Надежда, что сам он воссоединится с этим хором, что Богочеловек его отличит, с глазу на глаз отблагодарит за усилия, как слезами уже благодарили его в этом мире чувствительные сердца, – все эти невинные, ребяческие мечты могли взрасти лишь в праведном сердце. Таким образом, Клопшток завоевал себе право рассматривать себя как священную особу и во всех своих действиях стал блюсти заботливую чистоту»[61].
Восторженный, исполненный энтузиазма и священного поэтического трепета поэт пытается выстроить свою жизнь по законам сердца, по законам «естественного» чувства. Его материальное положение, несмотря на раннюю славу, очень незавидно, но он не хочет начинать церковную карьеру и уезжает в небольшой городок Лангензальц, чтобы работать домашним учителем в купеческой семье. Втайне же им движет надежда обрести в этом городке счастье со своей кузиной Марией Софи Шмидт, с которой он переписывался и в которую был заочно влюблен. Поэту кажется, что он обрел в ней родственную душу. Ей он посвятил свою элегию «Будущая возлюбленная» (1747), в которой с присущей ему восторженностью нарисовал свой женский идеал – идеал нежного, чувствительного сердца – и выразил потрясенное состояние души влюбленного. Перебирая знаменитые имена воспетых поэтами возлюбленных, Клопшток уже называет имя Цщдли, под которым будет дальше воспевать свою истинную возлюбленную – Мету. Пока же он растерян и разочарован: Мария, оказавшаяся внешне еще более привлекательной, не отвечала на его чувства. К тому же в ее семье Клопштоку дали понять, что он очень незавидный жених, что девушке нужен более обеспеченный муж. «Уже в преклонном возрасте, – пишет Гёте, – его страшно тревожило, что первая его любовь была отдана девушке, которая, выйдя замуж за другого, оставила его пребывать в неизвестности относительно того, любила ли она его и была ли его достойна»[62].
В этот драматический для молодого поэта момент очень вовремя приходит предложение Бодмера приехать к нему в Цщрих, чтобы завершить «Мессиаду». Клопшток отправляется туда в июле 1750 г. Бодмер восторженно встречает поэта, предлагает поселиться в своем доме, где создает ему все необходимые для работы условия. Но Клопшток обнаруживает, что он не может работать «по заказу», под дружеским, но надзором; он пишет только тогда, когда приходит вдохновение, для него чрезвычайно важна предельная искренность чувств, изливаемых на бумагу. Пока же вдохновение велит ему воспевать красоты Цщрихского озера (знаменитая ода «Ц, юрихское озеро», 1750), природу, дружбу, любовь. И хотя за время короткого пребывания в Цюрихе молодым поэтом создано немало лирических шедевров, Бодмер им недоволен. В январе 1751 г. Клопшток покидает Швейцарию, чтобы с апреля того же года поселиться в Копенгагене, где его друзья и страстные поклонники выхлопотали для него стипендию для завершения «Мессиады» у датского короля Фридриха V. Его немного смущает существование в качестве придворного поэта, ибо подобных поэтов и поэзию такого рода он страстно ненавидел и обличал в своих гражданственных и политических одах. Однако Фридрих заверяет поэта, что он не будет обременен никакими придворными обязанностями, что его свобода ничем не будет ограничена. Это стало решающим фактором для переезда в Данию.
Перед отплытием в Данию, в Гамбурге, Клопшток встретил свою истинную любовь. Он познакомился с Маргаритой Моллер – Метой, страстной почитательницей его «Мессиады» и «Клариссы» Ричардсона. В Мете поэт нашел родственную душу, понимавшую его с полуслова. В 1754 г. Клопшток женился на ней. Однако счастье было недолгим: Мета умерла на четвертом году замужества. Поэт и после смерти хранил ей верность, оставшись вдовцом в 33 года. «Убеждения, связывавшие его с Метой, глубокая тихая любовь, короткое святое супружество, решительное нежелание вдовца вступить во второй брак – все это со временем можно было бы вспоминать в кругу блаженных»[63]. В ранней смерти Меты поэт увидел также очередное испытание, посланное Небом, и знак для себя: всячески воскрешать ее образ в своей поэзии. Он воспел ее под именем Цидли, посвятив ей лучшие свои стихи о любви, постоянно ощущая «Присутствие отсутствующей», или «Близость далекой» («Gegenwart der Abwesenden»), – так он назвал одну из своих од:
…Cidli, ich sähe Dich, du Geliebte, dich selbst! Wie standst du vor mir, Cidli, wie hing mein Herz An deinem Herzen, Geliebtere, Als die Liebenden lieben! Oh, die ich suchet und fand!(«…Цидли, я вижу // Тебя, о любимая, только тебя! // Стоишь предо мной, Цидли, так связано сердце мое // С твоим, о любимая, сердцем, // Как лишь любящие любят! // О, тебя я искал и нашел!» – Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, перевод наш. – Г. С.)
Датский период творчества Клопштока охватывает почти 20 лет – с 1751 по 1770 г. Здесь он чувствовал себя более комфортно, чем в любом из немецких княжеств, ибо Фридрих V действительно
приближался к тому типу монарха, которого просветители именовали просвещенным: он во многом разделял просветительские взгляды, проводил толерантную и миролюбивую политику Важно также, что Клопшток не чувствовал себя в Копенгагене одиноким и оторванным от родной языковой среды. При датском дворе было довольно много немцев, почитался и немецкий язык. Со временем в Копенгаген переселился друг Клопштока Крамер, а также его старый цюрихский знакомый – знаменитый педагог И.Б. Базедов. Здесь проводят детство и юность братья Штольберги, будущие поэты «Бури и натиска». Они с благоговением и восторгом внимают Клопштоку, который становится в Копенгагене признанным главой немецкого поэтического кружка. Именно это дает ему силы творить: для него творческий процесс немыслим без приливов вдохновения, последнее же возможно только в атмосфере дружеского кружка.
Дожидаясь этих приливов вдохновения, Клопшток неторопливо работает над «Мессиадой», пишет драмы на библейские сюжеты: «Смерть Адама» (1757), «Соломон» (1764), позднее – «Давид» (1773), создает ярчайшие образцы любовной лирики, «лирики природы» и религиозно-философской лирики, в том числе и знаменитое стихотворение «Празднество весны», или «Весенний праздник» («Die Frühlingsfeyer»), названное в первой редакции (1755) по первым строкам: «Nicht in den Ocean // Aller Welten…» («Не в океан // Всех миров…»). В 1759–1760 гг. Клопшток сотрудничает в издававшемся Крамером в Копенгагене журнале «Северный наблюдатель», где печатает программные статьи «Мысли о природе поэзии» («Gedanken über die Natur der Poesie», 1759), «О языке поэзии» («Von der Sprache der Poesie», 1760), в которых провозглашает необходимость обновления поэтического языка и поиска самобытного пути немецкой литературы.
В 1766 г. умер Фридрих V. Его преемник, Кристиан VII, окружил себя новыми людьми. В 1770 г. получил отставку и уехал из Дании министр Бернстофф, который покровительствовал Клопштоку. Вслед за ним поэт покидает Копенгаген и возвращается в Германию, в Гамбург. Последние 30 лет жизни он проводит на родине, в кругу родственников и друзей, занимаясь в первую очередь подготовкой к печати и публикацией своих произведений. В 1771 г. впервые вышел сборник од Клопштока, и это стало одним из крупнейших событий культурной жизни Германии XVIII в. (до этого, в 1757 и 1769 гг., были опубликованы два тома его «Духовных песен»). Молодое штюрмерское поколение воспринимает его как своего учителя и кумира. В начале 70-х гг. Клопшток работает над трактатом «Немецкая республика ученых» («Die deutsche Gelehrtenrepublik»), который так и остался незавершенным (первая часть вышла в 1774 г.). В нем поэт размышляет о путях развития немецкой культуры, о предназначении поэзии, говорит об ответственности писателя перед народом, а не перед тем или иным князем. Он подтверждает свою позицию собственными поступками. Так, неудачной оказывается его попытка в 1774 г. найти пристанище в Карлсруэ, при дворе одного из германских князей – маркграфа Карла Фридриха Баденского. Поэт вел себя слишком независимо, осуждая угодливость придворных, и особенно придворных поэтов, что вызвало всеобщее возмущение при дворе. В марте 1775 г. Клопшток демонстративно покидает Карлсруэ, даже не простившись с маркграфом и увозя с собой свою знаменитую оду «Восхваление князей», название которой нужно понимать от противного. Он возвращается в Гамбург. Во время поездки в Карлсруэ Клопшток заезжает в Гёттинген, где его восторженно встречают и чествуют поэты «Союза Рощи». Два раза (по дороге в Карлсруэ и обратно) он встречается во Франкфурте-на-Майне с Гёте, который также относится к нему с необычайным благоговением.
Горячий приверженец свободы, Клопшток приветствует начавшуюся в 1789 г. Французскую революцию. Многие его оды 1789–1792 гг. посвящены Французской Республике и французскому народу. В оде «Познайте себя» («Kennet euch selbst», 1789) Клопшток призывает немецкий народ познать себя самого, найти свой путь к свободе, разорвать цепи рабского покорства и молчания:
…О Schicksal! das sind sie also, das sind sie, Unsere Brüder, die Franken! Und wir? Ach, ich frag umsonst, ihr verstummet, Deutsche! Was zeigt Euer Schweigen? bejahrter Geduld Müden Kummer? oder verkündet es nahe Verwandlung?(«…О судьба! итак, это они, это они, // Наши братья, то франки! А мы? // Ах, я вопрошаю зря, вы молчите, немцы! Что значит // Ваше молчанье? Привычка к терпенью? // Горе печальное? иль возвещает оно близкое преображенье?»)
Поэт хочет видет свой народ преображенным, свободным. 14 июля 1790 г., в годовщину взятия Бастилии, на торжестве по этому случаю в Гамбурге Клопшток читает оду с показательным названием: «Они, а не мы» («Sie und nicht wir»). В оде выражено восхищение Францией, которая «взошла на вершину свободы», и грусть по поводу того, что это сделала не Германия. Клопшток искренне сочувствует Франции, ведущей войну за свободу. Будучи истинным немецким патриотом, он тем не менее посылает главнокомандующему немецко-австрийской армией, вторгшейся во Францию, свою оду «Освободительная война» («Der Freiheitskrieg», 1792), в которой утверждает, что народ, вдохнувший воздух свободы, нельзя покорить огнем и мечом. 26 августа 1792 г.
Национальное собрание Франции присудило Клопштоку, в числе немногих иностранцев, звание почетного гражданина Французской Республики (из немцев этого звания были удостоены Шиллер и демократический публицист И.Г. Кампе). Клопшток восторженно принимает это, по его словам, «беспримерное, величайшее отличие». Однако весьма показательно, что буквально в следующем, роковом для Франции и Европы, 1793 г., когда начался якобинский террор и Франция вступила на путь завоевательных войн, Клопшток осудил путь насилия и террора (оды «Мое заблуждение» – «Mein Irrtum», «Завоевательная война» – «Der Eroberungskrieg»), что еще раз говорит о его величайшей последовательности и верности своим принципам. Это проявилось и в его ответе Лафатеру, который посоветовал ему вернуть обратно диплом гражданина Французской Республики. Отказавшись сделать это, Клопшток заявил: «Я считаю несправедливым делом объявить себя враждебным целой нации только потому, что среди ее представителей оказались негодяи».
До конца дней, будучи уже весьма пожилым и больным человеком, Клопшток продолжал испытывать приливы вдохновения, творить. И все же последнее десятилетие его жизни было исполнено горького разочарования, и прежде всего из-за войн в Европе, свидетелем которых он стал. Одно из поздних стихотворений – «Разрыв» («Losreissung», 1801) – начинается горькими словами: «Weiche von mir, Gedanke des Kriegs, du belastest // Schwer mir den Geist!» («Прочь от меня, мысль о войне, ты угнетаешь // Тяжко мой дух!»). В мире, где все кричали о войне и победах, он мечтал о гармонии и мире между народами, о красоте природы и искусства, которые даруют вдохновение – несмотря на приближающийся призрак смерти:
Schöne Natur… о blühen vielleicht mir noch Blumen? Ihr seid gewelkt; doch ist süss mir die Erinnerung. Auch des heiteren Tags Weissagung Hellet den trüben mir auf.(«Прекрасная природа… расцветут ли еще для меня цветы? // Вы увянете; все же мне сладостно воспоминанье. // Также ясного дня пророчество // Светит мне, омраченному».)
Возможно, эти строки поэта отсылали к его собственной оде «Пророчество» («Weissagung», 1773), в которой он выразил свою страстную надежду:
Nicht auf immer lastet es! Frei, о Deutschland, Wirst du dereinst! Ein Jahrhundert nur noch, So ist es geschehen, so herrscht Der Vernunft Recht vor dem Schwertrecht! Вечно ли бремя? Оковы твои, Германия, Падут в грядущем! Еще лишь столетие, — Все сбудется, восторжествует Право разума над правом меча. (Перевод А. Гугнина)Последняя строка как нельзя лучше выражает лучезарную мечту всего века Просвещения, и Клопшток был одним из тех, кто приближал ее осуществление, преобразуя сознание своих современников. Он умер после долгой болезни 14 марта 1803 г. Его проводили в путь, воздав ему почести как первому поэту общенационального и общеевропейского масштаба. Он нашел успокоение рядом со своей Метой, с которой никогда мысленно не расставался и подлинное свидание с которой в мире ином предчувствовал («Свидание» – «Das Wiedersehn», 1798):
Lang sah ich, Meta, schon dein Grab Und seine Linde wehn; Die Linde wehet einst auch mir, Streut ihre Blum auch mir, Nicht mir! Das ist mein Schatten nur… Dann kenn ich auch die höhre Welt, In der du lange warst, Dann sehn wir froh die Linde wehn, Die unsre Gräber kühlt. Давно я вижу, Мета, гробницу твою, И липа над ней веет; Липа повеет однажды и мне, Склонит цветы свои ко мне, Не ко мне! Это только тень моя… Тогда узнаю я тоже высший мир, В котором ты уже так давно, Тогда ощутим мы липы веянье, Что наши гробницы овеет. (Перевод наш. – Г. С.)В сознание современников Клопшток вошел в первую очередь как автор поэмы «Мессия», грандиозной христианской эпопеи, исполненной дерзкого новаторства – с точки зрения как содержания, так и формы. В «Поэзии и правде» Гёте вспоминает, как им с сестрой, когда они были детьми, попалась в руки эта книга и как они «в свободные часы, забившись в какой-нибудь дальний угол, усердно заучивали полюбившиеся нам места, и в первую очередь, конечно, наиболее страстные и чувствительные»[64]. И уже с высоты пройденного им пути великий поэт констатирует: «Небесный мир, живо прочувствованный Клопштоком, когда он замышлял и писал поэму, еще и теперь доходит до сердца каждого…» [65]
Поэма, над которой Клопшток работал в общей сложности 25 лет (1748–1773), состоит из двадцати песен и написана неровно: особой художественной силой отличаются первые десять (это отмечает и Гёте), из них общепризнанно настоящими шедеврами вдохновенного искусства считаются первые три песни, прочитанные некогда в кругу «бременцев» молодым поэтом. Поэма потрясла чувства и умы многих, у многих вызвала растерянность своей новизной: казалось (особенно людям, приверженным Церкви), невозможно так свободно фантазировать на темы Священного Писания, да еще используя столь непривычный размер (впервые на немецком языке прозвучали правильные гекзаметрические стихи, что было необычно для слуха не только немцев, но и европейцев вообще). Замышляя свое творение, поэт совершенно сознательно решил противопоставить типичному для его времени восхвалению в эпопеях подвигов героев-воителей, монархов, полководцев подвиг совершенно иного рода – подвиг Спасения, великое самопожертвование Иисуса во имя людей. Подражая Гомеру, Клопшток провозглашает свою главную задачу и одновременно тему поэмы в первых же ее стихах, обращаясь не к музе, но к собственной бессмертной душе (в оригинале – «unsterbliche Seele»):
Sing, unsterbliche Seele, der sündigen Menschen Erlösung, Die der Messias auf Erden in seiner Menschheit vollendet Und durch die er Adams Geschlechte die Liebe der Gottheit Mit dem Blute des heiligen Bundes von neuem geschenkt hat. Пой, о дух мой бессмертный, людей согрешивших Спасенье, Что на земле Мессия свершил в полноте человечьей И чрез него поколеньям Адама любовь Божества Кровью святого Союза снова вернул как дар. (Перевод наш. – Г. С.)Начало поэмы совершенно очевидно отсылает к финалу «Потерянного Рая» Милтона и к его же «Возвращенному Раю». «Мессиада» – своеобразное продолжение милтоновских поэм и одновременно дерзкое соревнование с ними. В основе сюжета – евангельское описание последних дней земной жизни Иисуса, от моления о чаше в Гефсиманском саду до мученической смерти на кресте, а затем – явление Христа после Воскресения ученикам и вознесение на небо. При этом, как и Милтон (и, в сущности, как Гомер), вокруг краткого с точки зрения временной протяженности сюжета (всего три дня) Клопшток выстраивает огромное художественное пространство, создает, по меткому выражению Б.Я. Геймана, «грандиозное религиозно-космическое обрамление»[66]. В сущности, как и Милтон, немецкий поэт перелагает всю Библию – в единстве Ветхого и Нового Завета, выбирая наиболее значимые, с его точки зрения, мотивы и образы и давая им часто достаточно вольную интерпретацию. Такой подход оправдан и с художественной, и с религиозно-философской точки зрения: понять подвиг Спасения, свершенный Христом, невозможно без понимания замысла Божьего относительно всего мира и человечества, без грехопадения Адама, без истории избранного народа, призванного породить Мессию и восстановить мировую гармонию. Клопшток показывает значение подвига Христа для всех, кто жил до Него и после Него. В финальной части поэмы Иисус воскрешает не только ветхозаветных праведников, но и всех добродетельных язычников, эллинских и римских (в этом нельзя не усмотреть полемику не только с христианскими догматами, но и с Данте, который в «Божественной Комедии» помещает любезных его сердцу античных мыслителей и поэтов в лимбе, но не может разрешить им доступ в Чистилище и Рай).
Как и у Милтона, действие в поэме Клопштока происходит сразу в нескольких планах (то на небесах, то в преисподней, то на земле), и поэт играет резкими их сменами. Вокруг Христа разворачивается грандиозная борьба сил Бога и сил Сатаны. Как у Милтона пандемониум принимает решение развратить и погубить Человека, тем самым нанеся жестокий удар Богу, так и у Клопштока собрание дьяволов во главе с Сатаной решает погубить Христа, чтобы окончательно лишить человечество Спасения и жизни вечной. Именно по внушению Сатаны Иуда Искариот решает предать Учителя, а Синедрион приговаривает Его к смерти. При этом Клопшток ни в чем не повторяет Милтона и по-своему разрабатывает демонологический план. Так, кроме Сатаны, в его поэме фигурирует Адрамелех, некий Сверхсатана, который ищет способ уничтожения бессмертных душ. Особенной творческой удачей поэта является образ падшего ангела Аббадонны (у Клопштока – Abbadonaa; в традиционной русской передаче – Аббадонна), только намеченный у Милтона. Аббадонна терзается сознанием собственного падения, оплакивает его, жаждет прощения, милости и любви Бога. Он показан глубоко изнутри, психологически тонко и приковывает к себе внимание читателя, как привлек некогда В.А. Жуковского, переведшего в 1814 г. фрагмент из «Мессиады» под названием «Аббадонна»:
Сумрачен, тих, одинок, на ступенях подземного трона Зрелся от всех удален серафим Аббадонна. Печальной Мыслью бродил он в минувшем: грозно вдали перед взором, Смутным, потухшим от тяжкия, тайныя скорби, являлись Мука на муке, темная вечности бездна. Он вспомнил Прежнее время, когда он, невинный, был друг Абдиила. …Сильно билось в нем сердце; тихие слезы катились, Ангелам токмо знакомые слезы, по бледным ланитам; Тяжкими вздохами грудь воздымалась; медленный трепет, Смертным и в самом боренье с концом не испытанный, мучил В робком его приближенье…Столь же глубоко показаны борение чувств, тяжкие душевные муки Христа и перед арестом, в час моления о чаше, и в час смерти. Главное достоинство поэмы – именно в тонкости изображения внутреннего мира героев, их мыслей и чувств. Вся поэма перенасыщена чувствами, что превращает ее в грандиозную сентименталистскую эпопею, в которой эпическое начало теснейшим образом переплетается с лирическим. При этом сам автор активно присутствует в тексте, высказывая свое отношение к происходящему, выражая порой предельное лирическое волнение. Это было новым для жанра эпопеи и оказало влияние не только на сентименталистов младшего поколения, но и на романтиков.
В сущности, даже в эпосе Клопшток оставался лириком. Лирическая стихия на протяжении всего творческого пути была главной для поэта. И потому не меньшим, если не большим, чем появление «Мессиады», событием для немецкой культуры стал выход в свет в 1771 г. сборника лирических стихотворений Клопштока, вобравшего в себя все лучшее, написанное к этому времени поэтом, – его оды, элегии, песни, философские и религиозные гимны. А началось все с оды «К моим друзьям» (1747), прочитанной в кругу «бременцев» и открывшей новую страницу в немецкой поэзии. В этой оде выражены радостное сознание глубинного взаимопонимания, ликующее чувство братской общности, энтузиастический взлет творческих сил, невозможный без дружбы, ведь она «чувствительным, высоким душам // Гения мощный полет дарует. // Из всех златых столетий избрала ты // Друзей, природа: вновь, как и в древности, // Встают великие поэты, // Благословляя свое призванье» (перевод Г.И. Ратгауза). Стихотворение стало своего рода паролем кружка «бременцев», а затем паролем и ориентиром множества подобных дружеских кружков, в которых формировались поэты нового поколения, в том числе и «Союза Рощи» в Гёттингене, и кружка Гёльдерлина, Нойфера, Магенау в Тюбингенском университете. Их вдохновителем и кумиром был Клопшток, формировавший вокруг себя атмосферу творчества и энтузиазма.
Показательно, что ода «К моим друзьям» не только задает магистральную проблематику творчества Клопштока, но и самим звучанием стиха навевает определенные аллюзии: в его ритмической структуре угадываются преображенные под пером немецкого поэта строфические размеры эолийской силлабометрики, в данном случае – алкеева строфа. Клопшток экспериментирует с устойчивыми эолийскими логаэдами – алкеевой, сапфической, асклепиадовой строфой. Он не всегда следует точному их рисунку, но, скорее, создает на их основе свои собственные вариации, что было дерзко и непривычно для тогдашней немецкой поэзии (и европейской в целом). Не случайно в одном из ранних стихотворений он заявляет о себе как об «ученике греков» («Ученик греков» – «Der Lehrling der Griechen», 1747). Само звучание эллинской сольной мелики, органично «врастающее» в строй немецкой речи, по-видимому, символизирует для поэта обновление и грядущий расцвет немецкой поэзии и культуры, их самобытность, предполагающую усвоение всего лучшего, что накопили мировая культура и поэзия. Прихотливое, непредсказуемое и в то же время отчасти дисциплинируемое строем классической эллинской мелики движение стиха в одах Клопштока несет в себе мысль о свободе поэтического мышления и дыхания, о слиянности традиции и эксперимента. Пройдет полвека, и под пером самого гениального ученика Клопштока – Фридриха Гёльдерлина – немецкая философская ода навсегда канонизируется как ода, написанная классическими эолийскими строфическими размерами (прежде всего абсолютно точно воспроизведенными в силлаботонике алкеевой и 3-й асклепиадовой строфами). Приучать же немецкий слух к этим необычным метрам начал именно Клопшток. Точно так же он открывает для немецкой поэзии элегический дистих как канонический размер элегии – и в абсолютно точном его звучании, и в свободных вариациях на его основе. Первая немецкая элегия, написанная элегическим дистихом, – большое стихотворение Клопштока «Грядущая возлюбленная» («Die künftige Geliebte», 1747), в котором поэт с присущим ему необычайным волнением и эмоциональным напором начертал зыблющийся абрис чувствительной, трепещущей женской души, откликающейся на малейшее колебание его собственного духа:
Ach, wie schlägt mir mein Herz! Wie zittern mir durch die Gebeine Freud und Hoffnung, dem Schmerz unüberwindlich dahin! Unbesiegbare Lust, ein süßer begeisternder Schauer, Eine Träne, die mir still den Wangen entfiel; Und, о ich sehe sie! Mitweinende, weibliche Zähren, Ein mir lispelnder Hauch, und ein erschütterndes Ach… Ах, как бьется сердце мое! Как трепещут, пронзая все члены, Радость с надеждой, гоня непреодолимую боль! Необоримый восторг, вдохновенный сладостный трепет, Тихо слеза скатилась вниз по щеке; И – о, я вижу ее! С моими сливаются женские слезы, Что-то мне шепчущий вздох и потрясенное «ах!»… (Перевод наш. – Г. С.)Клопшток создает необычную для своего времени любовную лирику – трепетно-экстатическую, пытающуюся запечатлеть текуче-зыбкие миги и неуловимые движения души, пограничные состояния влюбленных между явью и сном, в царстве грезы, где сливаются их души. Особенно это касается цикла небольших од, посвященных Мете (Цидли): «Ее дрема» («Ihr Schlummer»), «К ней» («An sie»), «Страх [трепет] возлюбленной» («Furcht der Geliebten»), «Присутствие отсутствующей» («Gegenwart der Abwesenden»), «Лента [цепь] из роз» («Das Rosenband»), «Мертвая Кларисса» («Die tote Clarissa»), «К Цидли» («An Cidli») и др. В них с удивительной настойчивостью повторяется мотив сна, точнее – полусна, дремоты, сковывающей рассудок и высвобождающей глубинный, спонтанный язык души, голос сердца. Самое частотное слово в этих текстах – глагол schlummern («дремать», «находиться в полусне», «спать») и однокоренные образования от него. Дремота возлюбленной властно охватывает все существо влюбленного, извлекая из его души звуки необычайной гармонии («Ее дрема»):
Sie schläft. О gieß ihr, Shlummer, geflügeltes Balsamisch Leben über ihr sanftes Herz! Aus Edens ungetrübter Quelle Schöpfe den lichten, kristallnen Tropfen Und laß ihn, wo der Wange die Röt entfloh, Dort duftig hintaun! Und du, о bessere, Der Tugend und der Liebe Ruhe, Grazie deines Olymps, bedecke Mit deinem Fittich Cidli. Wie schlummert sie, Wie stille! Schweig, о leisere Saite selbst! Es welket dir dein Lorbeersprößling, Wenn aus dem Schlummer du Cidli lispelst! Она спит. О, пролей, ты, дрема, крылатую Жизнь бальзамически над нежным сердцем ее! Из Эдема источников незамутненных Возьми ты светлые, кристальные капли И дай им там, где сбегает со щек румянец, Душисто растаять! И ты, о лучшая, Добродетели и любви тишь, Грация твоего Олимпа, укрой Своим крылом Цидли. Как дремлет она, Как тиха! Молчи, о струна тишайшая! Да поникнет твой венец лавровый, Если от сна ты Цидли пробудишь. (Перевод наш. – Г. С.)В оригинале перед нами достаточно точная имитация алкеевой строфы с неожиданными и совершенно нетипичными для предшествующей немецкой поэзии enjambements – резкими разрывами синтаксиса и переносами на границах строк и строф, переливающихся друг в друга. Обращает на себя внимание соединение предельно кратких фраз, взываний, обращений, восклицаний, постпозитивных определений и качественных слов, дробящих поэтическую речь на отдельные составляющие, и обширной, многослойной синтаксической конструкции, в которой мысль воссоединяется в своей целостности. Именно эту манеру будет развивать дальше Гёльдерлин, доводя до логического предела обе взаимодействующие и разнонаправленные тенденции – стремление к предельной краткости и амплификацию.
Клопшток также достаточно точно имитирует сапфическую строфу с ее женственным, нисходящим ритмом, с ее выразительным кратким финальным адонием, содержащим всего два ударения и эффектно завершающим высказывание. Однако чаще всего он экспериментирует, создавая свои строфические формы, хранящие тонкие отзвуки эллинской метрики. Такова его «Лента из роз», или «Цепь из роз», – великолепный образец соединения сентименталистской чувствительности и рокайльного изящества, грациозности, миниатюрности. И вновь в центре внимания поэта – таинственное состояние полусна-полуяви, бессловесное, неподвластное сугубо рациональному языку слияние душ (не случайно лирический герой говорит: «Я хорошо чувствовал это и не знал этого»; «я шептал ей бессловесно»):
Im Frühlings schatten fand ich sie; Da band ich sie mit Rosenbändem: Sie fühlt’ es nicht und schlummerte. Ich sah sie an; mein Leben hing Mit diesem Blick an ihrem Leben: Ich fühlt’ es wohl und wußt’ es nicht. Doch lispelt’ ich ihr sprachlos zu Und rauschte mit den Rosenbändern: Da wachte sie vom Schlummer auf. Sie sah mich an; ihr Leben hing Mit diesem Blick an meinem Leben, Und um uns ward’s Elysium.Поэтический перевод этого стихотворения – один из считанных переводов из Клопштока на русский язык – очень удачно выполнен Александром Кочетковым и носит у него название «Цепь роз»:
В тени весенней спит она. Я цепью роз ее опутал, — Она не слышит: сон глубок. Взглянул я, – жизнь моя в тот миг Слилась со спящей воедино: То знал я сердцем лишь одним. Но я позвал ее без слов — И шелест роз мне тихо вторил. Тогда она проснулась вдруг. Взглянула, – жизнь ее в тот миг Слилась с моею воедино — И обнял нас небесный рай.Итак, любовь и дружба – «любовь и дружество», говоря пушкинскими словами, – темы, которые сделал основными в своей поэзии Катулл, по-настоящему открывает для немецкой лирики Клопшток. И крайне важно, что для поэта родство чувствительных душ – в дружбе ли, в любви ли – возможно в тесном единении с природой, что культ чувствительного сердца соединяется в его поэзии с культом природы. Именно под пером Клопштока рождается специфический ландшафт духа – ландшафт природный, который насквозь одухотворен, одушевлен лирическим «я», вбирающим его в себя, сливающимся с ним в едином порыве. В этом смысле программное значение имеет знаменитая ода «Цюрихское озеро» («Der Zürchersee», 1750), возникшая как результат непосредственных впечатлений от красоты швейцарского ландшафта сразу после приезда Клопштока в Цюрих по приглашению Бодмера. В этой оде, написанной асклепиадовой строфой, в едином потоке мыслей и чувств сливаются упоение расцветающей весенней природой, прославление дружбы, любви, творчества, возможного только в предельном напряжении всех духовных потенций человека, в состоянии энтузиастического порыва. Сама же природа осмысливается как подлинное убежище для поэтов, подобное античной Темпейской долине, ставшей символом поэтического вдохновения, и месту вечного блаженства – Элизиуму:
О, so bauten wir hier Hütten der Freundschaft uns! Ewig wohnten wir hier, ewig! Der Schattenwald Wandelt’ uns sich in Tempe, Jenes Tal in Elysium! О, так построили мы здесь хижины дружбы себе! Вечно жили мы здесь, вечно! Тенистый лес Превратился для нас в Темпе, Та долина – в Элизиум! (Перевод наш. – Г. С.)Стихия эмоций и поток мыслей, тончайших ассоциаций теснейшим образом переплетаются, создавая ту самую «поэзию мысли», в которую Клопшток не просто вносит свои нюансы и обертоны, но открывает ее новую страницу. Пластичность ландшафта у Броккеса и Галлера уступает место тончайшей амальгаме чувств и мыслей воспринимающего этот ландшафт поэтического «я», потоку ассоциаций. Субъект и объект, существующие в лирике предшественников Клопштока все-таки изолированно (что и придает ей оттенок эпичности), в его поэзии растворяются друг в друге, сливаются в стихии лиризма. Резко возрастает степень субъективности поэта, его художнического произвола, его стремления следовать прихотливым ассоциациям сознания и переливам чувств.
С самого начала еще одна лирическая тема оказывается чрезвычайно важной для молодого Клопштока: Бог, Его присутствие в мире, Его непостижимость и стремление человека постичь Его. Об этом поэт размышляет в оде «К Богу» («An Gott», 1759):
Ein stiller Schauer Deiner Allgegenwart Erschüttert, Gott, mich. Sanfter erbebt mein Herz Und mein Gebein. Ich fühl, ich fühl es, Daß Du auch hier, wo ich weine, Gott, bist. Тихое созерцание Твоего всеирисутствия Потрясает, Боже, меня. Нежнее трепещет сердце И все существо мое. Я чую, я чую, Что Ты и здесь, где я плачу, Боже. (Перевод наш. – Г. С.)Питомец пиетистов и наследник старой немецкой мистики, Клопшток открывает Бога в глубинах своей души, ощущает Его присутствие в каждом природном феномене. «Лирика природы» и «лирика мысли» тесно сопрягаются в его творчестве с духовным гимном. В поисках адекватной стилистики и ритмики для выражения религиозного чувства он совершенно закономерно обращается к образности, стилистике, ритмике библейских Псалмов и на этом пути делает открытие чрезвычайной важности: создает первый образец немецкого философского гимна, написанного верлибром (in freien Rhythmen – «в свободных ритмах»), намного опережая свое время, предвосхищая поиски молодого Гёте и позднего Гёльдерлина, перебрасывая мост из века XVIII в XX:
Der Wald neigt sich, der Strom fliehet, und ich Falle nicht auf mein Angesicht? Herr! Herr! Gott! barmherzig und gnädig! Du Naher! erbarme dich meiner! Лес склоняется, поток бежит, и я ль Не паду на лицо мое? Господь! Господь! Боже! Милосердный и милостивый! Ты, Близкий! помилуй меня! (Перевод наш. – Г. С.)В процитированном гимне «Весеннее празднество» использован антисинтаксический верлибр, оказавшийся столь важным для немецкоязычных поэтов XX в. и почти не прижившийся в других традициях. «Весеннее празднество», которое единодушно вспоминают, произнося имя Клопштока, гётевские Вертер и Лотта, наблюдающие весеннюю грозу, – великолепный образец Gedankenlyrik и Naturlyrik в соединении с религиозным гимном. Экстатическое восхождение человеческой души к Богу, иррациональный порыв, упоение грозной красотой природы соседствуют с напряженной работой мысли. Лирический герой не только сливается с космической стихией, в каждой частице которой присутствует Творец, но и пытается осмыслить мир как целое и свое место в целостном космосе:
Кто они – тысячи тысяч, несметные те мириады, Что населяют мельчайшую каплю? И кто я? Аллилуйя Творцу! Я – превыше земель, восстающих из моря, Превыше созвездий, из лучей, возникших в эфире! (Перевод Г.И. Ратгауза)Показательно, что если Броккес, описывая грозу («Тишина после сильной грозы»), четко осознает непреодолимую границу между человеком и непостижимым чудом Божественной природы, Самим Творцом, то у Клопштока эти границы становятся зыбкими, проницаемыми, он дает возможность почти физически ощутить экстатическое восхождение к Богу и одновременно нисхождение непостижимой Тайны к человеку.
В найденных им жанровых формах оды и гимна Клопшток создает также новаторскую политическую и гражданскую лирику, стремясь укрепить национальное самосознание, провозглашая поиски самобытного пути развития немецкой культуры и литературы. Уже в ранних одах поэта выступают два типа героев: те, кто с оружием в руках защищали родину в справедливой войне, как Герман (оды «Вопросы», «Герман и Туснельда», 1752) или Генрих Птицелов, и те, кто создавал культуру народа. Так, в «Вопросах» («Die Fragen»; первоначальное название – «Немцы», «Die Deutschen») поэт говорит о двух героях, которыми немцы могут гордиться, – Герман и Лейбниц. В оде «Кайзер Генрих» («Kaiser Heinrich», 1746) он гораздо выше ставит императора Генриха VI, нежели Карла Великого, и именно потому, что последний был только завоевателем, а первый покровительствовал миннезингерам и сам был поэтом. Варьируя мотив Горациева «Памятника», Клопшток в оде «Наши князья» («Unsere Fürsten», 1766) говорит о том, что слава поэтов переживает славу князей, несмотря на то, что последние считают бессмертными себя и уже при жизни воздвигли себе монументы. Та же мысль, но в еще более гневно-заостренной форме, выражена в оде с ироническим названием «Восхваление князей» («Fürstenlob», 1775). Поэт, обращаясь к собратьям по перу, говорит, что все сильные мира сего – тираны, завоеватели – считают великими себя и украшают свои гробницы мраморными статуями. Но для поэтов этот мрамор станет позором, если они будут воспевать как богов этих полулюдей, выродков и орангутангов. Клопшток благодарит свой дух, который ни разу не оскорбил святое искусство поэзии низкой лестью.
Все больше именно с поэзией, ее свободолюбивым духом, нежеланием прислуживать князьям, но стремлением служить народу Клопшток связывает преображение немецкой культуры, и все больше в его лирике 60-х гг. поэт выступает в древнегерманских одеждах. Ведь еще в конце 50-х гг. в работе «Мысли о природе поэзии» он внес существенную поправку в призыв Винкельмана подражать древним: необходимо ввести в современную литературу темы, образы, мотивы, не известные эллинам, – библейские и древнегерманские. Это он и осуществляет в своей поэзии. В знаменитой оде «Холм и Роща» («Der Hügel und der Hain», 1767) современный немецкий поэт беседует с «тенью греческого поэта» и «тенью барда» (беседы с «тенями» – дань традиции Оссиана, триумфально шествующего по Европе благодаря гениальной мистификации Макферсона). «Холм» – символ эллинской поэзии, Геликон, на котором обитают музы; «Роща» – символ культуры германской, место, где собираются барды, где раздаются мелодии бардовской лиры – «телин» (кельты и германцы отождествляются наукой того времени и образуют в сознании Клопштока единый древнегерманский комплекс). Современный поэт отдает должное великим заслугам эллинов, но говорит и о том, как важны для него заветы «тени бардов», как важен звучащий в его лире голос самой природы, «безыскусный голос души». Этот безыскусный голос оказывается важнее для Клопштока, нежели рационалистическая норма размеренной гармонии. Не случайно именно после появления этой оды в печати в 1771 г. гёттингенский кружок поэтов начал именовать себя «Союзом Рощи» (Hainbund), а Клопшток стал их подлинным кумиром.
Таким образом, и в тематическом, и в жанровом отношении Клопшток указал путь молодому поколению. Он выступил также как обновитель поэтического языка, требуя от него особой экспрессии, лирического волнения, не сводимого к чистой эмоциональности, но требующего интеллектуализма, напряженной работы мысли. В работе «О языке поэзии» Клопшток заявляет, что «в поэзии вообще должны выступать мысли более многосторонние, прекрасные, возвышенные, чем в прозе», и «когда мы хотим их выразить, то должны выбирать слова, которые их полностью выражают». Поэтический язык должен не отставать от стремительной мысли, от бурного чувства, а для этого нужны слова «большой выразительной силы». Именно поэтому Клопшток создает большое количество неологизмов, составных слов, обновляет звучание глаголов, сочетая их с необычными префиксами. Так, любимый его глагол wehen («веять») сочетается с 23 различными префиксами и наречиями, а излюбленные приставки ent- и hin- соединяются со множеством глаголов. Некоторые из его неологизмов прочно вошли в немецкую речь (durchwehen, entfalten, entfesseln, der Freiheitskrieg и др.). Но чаще Клопшток стремится к необычности, окказиональности звучания и смысла, добиваясь сгущения последнего путем «сворачивания» словосочетания в одно слово, не существующее в словаре: вместо bebend hingehen – hinbeben, вместо zitternd kommen – herzittern и т. д. Стремясь динамизировать язык, сделать его максимально выразительным, преодолеть тяжеловесную рационалистическую грамматику и синтаксис, Клопшток употребляет дерзкие «свернутые» конструкции с пропусками артиклей, союзов, даже обязательных сказуемых, широко пользуется инверсией, пренебрегая формальными логическими правилами и заявляя, что «предметы, наиболее затрагивающие чувство, должны выдвигаться на первый план». Бросая вызов голой рассудочности, он стремится растворить ее в бурной динамике чувств и мыслей. Как известно, готшедианцы расценивали это как «порчу языка». Ученик Готшеда К.О. фон Шёнах даже напечатал сатирический словарь неологизмов «Вся эстетика в ореховой скорлупе», в предисловии к которому обещал познакомить читателя со всей эстетической премудростью серафической поэзии. При этом он ядовито обыгрывает созвучие seraphisch («серафический») и sehr äffisch («очень обезьяний»), утверждая, что это не «серафическая», а «обезьянья» поэтика. Его раздражают неологизмы Клопштока, непредсказуемость его поэтического языка, сложность его метафорики. Клопштока защищает Лессинг, хотя в «Письмах о новейшей литературе» он также позволяет себе некоторую иронию по отношению к поэту, песни которого «настолько чувствительны, что читатель зачастую ничего не чувствует». И все же для Лессинга несомненно то, что Клопшток – гений, проникающий в неизведанное, выражающий невыразимое.
Очень тонкую характеристику особой поэтической манеры Клопштока дал Шиллер, в юности испытавший сильное его влияние: «Его сфера – это всегда царство идей, и все, что он перерабатывает, он переводит в бесконечное. Можно сказать, что он со всего, с чем обращается, совлекает телесность, чтобы превратить его в дух, в то время как другие поэты все духовное облекают плотью». Действительно, быть может, главное открытие Клопштока заключалось в «развоплощении», в переводе всего телесного в сферу духа, в передаче динамики духа – но с сохранением в глубине этого духа пластических очертаний конкретных феноменов многокрасочного земного мира. Поэтический язык Клопштока будет крайне важен для «бурных гениев» (особенно для братьев Штольбергов, Гёльти, Миллера), для Гёльдерлина, который, по его собственным словам, «часто парил в серафической небесной выси с певцом Бога, Клопштоком». Традиция Клопштока найдет свое развитие и продолжение в поэтической культуре XX в.: так, И. Бобровский назовет именно его «строгим мастером» (Zuchtmeister), который помог ему воплотить его главную тему – тему вины и покаяния, вписать в ландшафт историю духа, найти эталон языка.
4. Поэзия Позднего Просвещения (1770–1810)
Общественная и творческая деятельность Винкельмана, создателя первой стройной концепции истории мирового искусства и особой концепции античного искусства, Лессинга, В ил айда, анакреонтиков во главе с Глеймом, Геллерта и Клопштока обусловили взлет литературы немецкого Просвещения и подготовили переход к поздней ее стадии, давшей большие художественные ценности не только в рамках немецкой, но и мировой литературы. В первую очередь это касается позднего творчества Виланда, философско-эстетического и литературного наследия Гердера, штюрмерской литературы и – в наибольшей степени – глобального по своему размаху и непревзойденного по художественной ценности творчества Гёте и Шиллера. Как штюрмеры, так и «веймарские классики» во многом готовили почву для становления немецкого романтизма. По мнению многих немецких литературоведов, на особой «нейтральной» территории «между классикой и романтизмом» («zwischen Klassik und Romantik») располагается творчество гениального немецкого поэта Фридриха Гёльдерлина, связавшего собой две эпохи и намного опередившего свое время, чрезвычайно повлиявшего на пути развития немецкоязычной и мировой поэзии XX в.
Кристоф Мартин Виланд
Одним из тех, кто снискал славу немецкому Просвещению и стал первым немецким писателем, получившим общеевропейское признание, был Кристоф Мартин Виланд (Christoph Martin Wieland, 1733–1813), талант которого в равной степени проявился в поэзии и прозе, хотя в нашей стране он в основном известен как романист. Однако поэзию Просвещения нельзя представить без его вольных ямбов и виртуозных октав, которые сравнивали по красоте и изяществу с итальянскими октавами. «Нежность, изящество, прозрачность, естественная элегантность», – так характеризовал поэтический язык Виланда Гёте.
Виланд выступил на литературной арене чуть позже Клопштока и даже испытал его влияние, но в дальнейшем представлял во многом иное стилевое направление в немецкой поэзии – игриво-эротическое, философски-скептическое, связанное в первую очередь с поэтикой рококо. Для него чрезвычайно важен был опыт Хагедорна и анакреонтиков. Это отнюдь не означает, что в палитре Виланда не было никаких других элементов или что самому Клопштоку было чуждо рококо (последний был очень дружен с Глеймом, в его любовных одах есть рокайльные черты). Однако в целом Клопшток представляет (в терминологии Б. Брехта) «жреческую» (pontifical), т. е. возвышенно-экстатическую, линию немецкой поэзии, а Виланд – «профанную» (profan), т. е. сниженную, иронически-непочтительную, скептическую, чуждую религиозной экзальтации. Это не значит, что в поэзии Виланда нет серьезности и глубины, как и в творчестве такого внешне «несерьезного» автора, как Л. Стерн, который был одним из кумиров немецкого писателя. Поэтическое творчество Виланда являет собой типичный образец «смешанной поэтики»: при явном преобладании рококо в ней есть черты сентиментализма (большое влияние на него оказал Дж. Томсон) и просветительского классицизма, и весь этот синтез подчинен художественному воплощению комплекса просветительских идей, поискам гармоничного равновесия между рациональным и чувственно-эмоциональным, умом и сердцем. Его поэзия, в которой весьма часто с позиций рационализма критикуются немецкая действительность, суеверия и предрассудки, религиозное ханжество, фанатизм и излишний аскетизм, одновременно полемически настроена против рассудочного рационализма Готшеда и поражает буйством фантазии, щедростью красок, необычайной жизнерадостностью и полнотой жизнечувствования.
Виланд родился в семье пастора в деревушке Оберхольцхейм в Швабии, недалеко от «вольного» (имперского) города Биберах. Семья будущего писателя была чрезвычайно религиозной: отец был родственником А.Г. Франке (1663–1727), знаменитого лидера пиетистского движения, и много общался с ним. Мальчик воспитывался в строго религиозном духе, учился в пиетистской гимназии (1747–1749). Однако уже в гимназии он с увлечением читает французских просветителей, и прежде всего Вольтера, который произвел на него неизгладимое впечатление (в зрелом творчестве Виланда именно вольтерьянское начало – скептически-ироническое, желчно-критическое – будет чрезвычайно ощутимо). В 1750 г. Виланд начинает изучать право в Тюбингене, но гораздо больше юриспруденции его притягивают философия и литература, прежде всего поэзия. Он с восторгом читает Бодмера и Клопштока и сам пробует силы в этом русле: в подражание Клопштоку пишет сентименталистскую эпическую поэму в четырех песнях «Авраам испытуемый» (1753) – на знаменитый библейский сюжет «Жертвоприношение Авраама» из Книги Бытия (Быт 22); глубокое почтение перед Бодмером высказывает в статье «Рассуждение о красотах эпической поэмы “Ноахида”» (1753). Эти произведения создаются в Цюрихе, куда Виланд приехал еще в 1752 г. по приглашению Бодмера, заметившего новое молодое дарование. Бодмер надеялся выпестовать под своим чутким надзором нового великого религиозного поэта, «немецкого Милтона», как он хотел это сделать с Клопштоком. Однако эти надежды не оправдались, и в еще большей степени, нежели в случае с Клопштоком. Хотя поначалу молодой Виланд чувствует себя враждебным всякой легкости и игривости анакреонтиков (в сочинении 1755 г. «Чувствования христианина» осуждает их гедонизм, обвиняет в осмеивании всего возвышенного и священного, называет «неистовыми поклонниками Вакха и Венеры»), его все больше и больше привлекают именно анакреонтики, античные авторы, французские вольнодумцы. В его творчестве появляется все больше элементов чувственности, эротики, скепсиса, юмора. Как замечает Б.И. Пуришев, «его муза рассталась с крестом и власяницей, стала грациозной, лукавой, жизнерадостной и шаловливой»[67]. Сам же Виланд писал в этот переломный момент своей жизни: «Я уже не тот энтузиаст, гекзаметрист, аскет, пророк и мистик, каким я был».
В 1760 г. Виланд покидает Цюрих и возвращается в Биберах, где служит в ратуше письмоводителем городского совета. Свободное время он очень часто проводит в аристократическом салоне своего друга и покровителя графа Фридриха Штадиона. Для писателя было чрезвычайно важно общение с образованными людьми, посещавшими этот салон. В частности, здесь он встречается с писательницей Софи де Ларош (1730–1807), автором романов в духе Ричардсона. В 1765 г. Виланд женился на ней, что вызвало к жизни удивительный творческий союз, в котором Софи была музой и сотрудницей своего супруга.
В 60-е гг. Виланд заявляет о себе как блестящий поэт и прозаик, в 1769 г. получает профессуру в области философии и изящных искусств в Эрфурте. В 1772 г. по приглашению вдовствующей герцогини княжества Саксен-Веймар Анны Амалии он переезжает в Веймар, чтобы стать наставником двух сыновей герцогини – Карла Августа, который через два года займет престол, и Константина. Вся остальная жизнь писателя прошла в Веймаре, который во многом благодаря его усилиям стал признанной литературной столицей Германии. Когда в 1775 г. в Веймар по приглашению Карла Августа переселился молодой Гёте, он обрел в лице Виланда умного, тонкого и понимающего друга. На похоронах Виланда Гёте произнес глубокую и прочувствованную речь с характерным названием: «Речь памяти отменного поэта, брата и друга Виланда».
Поэтическая слава Виланда как крупнейшего поэта рококо начинается с публикации стихотворной новеллы «Диана и Эндимион» (1762), открывшей цикл его «Комических (греческих) рассказов». Новелла, точнее, небольшая поэма, потрясла немецкую публику своей грациозностью и изящной фривольностью, вызвав у одних восхищение, у других – бурное возмущение. Никто из немецких поэтов, отдавших дань рококо, не решался до этого столь откровенно – и одновременно изящно-завуалированно – говорить о плотской любви, о власти страсти, перед которой не могут устоять не только люди, но и бессмертные боги. Поэма носит травестийный оттенок: мифологический сюжет о любви Дианы и Эндимиона переосмысливается с юмором и лукавством, с элементами сатиры. Поэт обличает показное благочестие, оборачивающееся ханжеством, иронизирует над чопорностью холодной Дианы-девственницы, которая не устояла перед любовным призывом.
Эротизм и тонкая гривуазность произведений Виланда наряду со вниманием к жизни интеллекта и чувствительным струнам человеческого сердца были стимулированы его увлечением Л. Стерном, который стал самым любимым его писателем. Неповторимая рокайльно-сентименталистская манера Стерна, включающая в себя элементы гривуазности и самого желчного юмора, так или иначе отзывается как в прозе, так и в поэзии Виланда. Кроме того, одним из его жизненных учителей был английский философ и эстетик А.Э. К. Шефтсбери, которого Гёте назвал «духовным близнецом» Виланда («Речь памяти Виланда»). Виланда привлекает прежде всего изложенная Шефтсбери концепция калокагатии – единства добра и красоты, этического и эстетического начал. Опираясь на Платона и переосмысливая его понимание калокагатии, Шефтсбери трактует ее как нравственную цель, к которой в процессе самосовершенствования стремится человек. Достижение этой цели невозможно вне единства духовного и телесного начал в человеке. Идеал Виланда также заключается в гармонии разума и чувства, нравственности и естественных влечений плоти.
Этот идеал Виланд выразил в поэме «Музарион», или «Мусарион» («Musarion», 1763), вызвавшей восхищение многих как своими идеями, так и поэтическими качествами. Глубокое впечатление она произвела на молодого Гёте, который писал в «Поэзии и правде»: «Без сомнения, наилучшими природными данными обладал Виланд…И сколько же блестящих его произведений пришлось на мои университетские годы! “Мусарион” произвела на меня сильнейшее впечатление… Передо мною, так мне казалось, оживали античные времена! Все пластическое в Виландовом таланте воплотилось здесь с наибольшим совершенством…»[68] В поэме, действие которой происходит в некоем условном античном времени и пространстве, Виланд показывает различные философские и жизненные позиции. Клеант представляет крайний вариант стоической позиции самоограничения, удаления от мира и его радостей. Пифагореец Феофрон также не замечает окружающего, бесконечно воспаряя в заоблачные выси и вслушиваясь в «музыку сфер». Фаний вообще ненавидит человечество и испытывает отвращение ко всем радостям бытия, и в особенности к радостям плоти. Все три позиции оцениваются поэтом как ложные, не как мудрость, но как суемудрие. Истина на стороне простой и прекрасной девушки Музарион, исполненной жизнерадостности и умения по-настоящему любить. Именно любовь Музарион преображает Фания, который обретает счастье на лоне природы, в естественной жизни вдали от городской роскоши, фальши, суеты. Главное богатство любящей четы, по мысли поэта, – «здоровая кровь, ясный ум, спокойное сердце и безоблачное чело». Человек не должен стремиться к излишеству, но и не должен отказываться от даров природы и самой судьбы; ему следует жить не рассуждениями, но чувствами, просветленными ясным разумом. В поэме сильны элементы идиллии и утопии, и не случайно идеал Виланда, воплощенный в Музарион, облачен в греческие одежды: именно в Элладе (безусловно, идеализированной) поэт находит эталон естественности и гармонии, полноты бытия, благотворного воздействия на человека искусства, исполненного, по словам Винкельмана, «благородной простоты и спокойного величия». С этой формулой Винкельмана солидарен Виланд. Тем самым он задолго до формирования концепции «веймарского классицизма» предвосхищает ее.
Весьма скоро, однако, Виланд продемонстрировал, что его влечет не только эллинский мир, но и чудесный, многокрасочный мир фантазии, представленный в культурах разных народов. Обращаясь к европейским и восточным сказкам, средневековым куртуазным легендам, к традиции «Неистового Роланда» Л. Ариосто, преломленной через призму «Орлеанской девственницы» Вольтера, Виланд создает свои знаменитые «фейные сказки» (они же – ироикомические поэмы), ставшие шедеврами литературы рококо. Название «фейная сказка» (Feenmärchen), которое Виланд дал созданному им новому жанру, указывает на обилие в нем чудесных элементов, удивительных метаморфоз, на господство воображения – наперекор сугубо рассудочному подходу к миру. Поэт призывает музу устремиться в миры, «в которых фантазия повелевает, как царица». Так открывается его поэма «Идрис и Ценида» («Idris und Zenide», 1768), состоящая из целого ряда волшебных историй, связь между которыми нарочито затруднена для понимания (Виланд одним из первых использует фрагментарность как структурообразующий принцип, предваряя тем самым поиски романтиков).
Характеризуя ироикомические поэмы Виланда, Е.В. Карабегова отмечает такие их черты, как «сказочность, фантастичность, подчеркнутое присутствие автора, его ироническая оценка происходящего»[69], а также гипертекстуальность, свойственную ироикомической поэме как таковой и изобильно представленную у немецкого поэта. Кажется, Виланд поставил задачу в своей поэме собрать все возможные сказочно-мифологические сюжеты и архетипы (чудесные помощники и талисманы, заколдованные замки, царство фей, кентавры, похищающие красавиц, скатерти-самобранки и т. д., и т. и.). При этом все приправлено остроумием и тонкой эротичностью и служит не только развлечению читателя и доставлению ему удовольствия, но и способом актуализации как серьезных просветительских идей, скрытых за внешней несерьезностью, так и самого читательского восприятия. Е.В. Карабегова приводит мнение немецкого литературоведа Ф. Зенгле о том, что «под такой фривольной внешней формой должны скрываться метафизика, мораль, движение самых таинственных пружин человеческого сердца, критика, сатира, характеры, образы, страсти, рефлексии, чувства, – словом, все, что вы пожелаете, наряду с волшебством, историями о духах, с поединками, кентаврами, гидрами, Горгонами и амфибиями, все должно быть прекрасно изложено и перемешано друг с другом, и все это в разнообразном стиле, обрисовано с легкостью, в легких стихах, с кокетливой рифмой и в размере октавы»[70].
Виланд создал большое количество «фейных сказок»: «Ханн и Гюльценхе, или Много сказано – ничего не сказано. Восточная повесть» (1773), «Сикст и Клерхен» (1775), «Зимняя сказка» (1776), «Гандалин, или Любовь за любовь» (1776), «Герои Благородный. Рассказ из времен короля Артура» (1777), «Шах Лоло» (1778), «Перфонте, или Желания» (1778), «Клелия и Синибальд. Легенда XII века» (1783) и др. Виланд чрезвычайно много сделал для популяризации сказок и легенд разных народов, издав сборники «Рассказы и сказки» (1776–1780), «Джиннистан, или Избранные фейные и волшебные сказки, отчасти заново сочиненные, отчасти заново переведенные и обработанные» (1786–1789). Он во многом способствовал огромному интересу, который проявляли к жанру сказки романтики – и к народной немецкой сказке, и к восточной, исполненной невероятных чудес, и к средневековым легендам. При этом сам Виланд, несомненно, в 70-80-е гг. испытал влияние концепции Гердера, настаивавшего на значимости народного искусства как основы всякой литературы.
Небольшие стихотворные сказки Виланда, как и его большие ироикомические поэмы, насквозь пронизанные сказочными мотивами, являются шедеврами поэтического искусства. Характеризуя их, Б.И. Пуришев пишет: «Такой чистоты стиля, такого гибкого живого языка не знала немецкая эпическая поэзия до Виланда»[71]. Напоминая слова М. Горького о сказках «Тысячи и одной ночи», из которых Виланд часто брал сюжеты, – «словесный ковер изумительной красоты», исследователь отмечает: «Таким же “словесным ковром”, очень узорным и красочным, являются поэмы и сказки самого Виланда. Нарядность – их отличительная черта. Виланд буквально влюблен в чувственное великолепие земного мира. Природа у него сияет и блещет красотой. Мы видим “волшебное смешение скал, водопадов, тенистых рощ, долин и цветочных полей”. Родники источают прозрачное золото, поляны зеленеют смарагдами, а воздух напоен ароматом фиалок и жасмина (“Идрис”, II, 85–86). Здесь из земли вырастают дворцы, украшенные с небывалой роскошью, и красавицы так густо усеяны сверкающими карбункулами, что их блеск затмевает сияние дворцовых свечей (“Перфонте, или Желания”, III, 215–218)»[72]. На этом сверкающем фоне разворачиваются истории человеческих страстей, насыщенные тонкой эротикой и прославляющие подлинную любовь. При этом всем сказкам Виланда присущи философичность и поучительность, преподнесенные в изящной и остроумной форме. «Поверьте мне, – утверждал Виланд, – что не существует такой легковесной сказки, которая бы не могла сделать человека более мудрым».
Одно из лучших поэтических творений Виланда – ироикомическая поэма в 18 песнях «Новый Амадис» («Der neue Amadis», 1771; вторая редакция опубликована в 1818–1823), в которой поэт переосмысливает мотивы куртуазных романов и следует предписанию Горация «приправлять шутку сократической мудростью». Поэма поражает неожиданными поворотами сюжета, намеренно запутанной композицией, обилием авантюр и чудес. В ней царит, по словам автора, лукавый «дух Каприччио», который именно так распорядился действием. При этом поэт активно присутствует в своем произведении, сопровождая происходящее своим ироническим комментарием. На первый взгляд произведение кажется лишь пародией на рыцарскую литературу. Однако за внешней несерьезностью и озорством скрываются серьезные и глубокие мысли и идеи. Странствующий рыцарь Амадис ищет женщину своей мечты, в которой будет воплощена телесная и духовная гармония. Вновь и вновь влюбляясь и разочаровываясь, он приходит ко двору султана Бамбо и, как многие, поддается чарам красоты его галантных дочерей. Однако их внешняя красота оказывается пустой оболочкой, скрывающей бездуховность, нравственное уродство. Подлинную духовную красоту Амадис открывает во внешне непривлекательной, но умной и тонко чувствующей Олинде. Он с удивлением понимает, что наконец-то испытал подлинное глубокое чувство. Именно когда Амадис по-настоящему полюбил Олинду, к вящему удовольствию читателя раскрывается главная тайна: оказывается, чародей Тюльпан некогда лишил Олинду ее несравненной красоты, и теперь он готов вернуть ее ей. Все завершается свадьбой Амадиса и Олинды, выходят замуж и принцессы, что сопровождается ироническим афоризмом автора: «Мы надеемся, что каждый горшок нашел свою крышку». Как и в «Музарион», в «Новом Амадисе» торжествует идеал гармоничной красоты в единстве духовного и телесного, но при этом ведущая роль отдается духовно-нравственному началу, без которого плотская красота теряет смысл.
Общепризнанно самым блистательным поэтическим произведением Виланда и одним из шедевров поэзии XVIII в. считается ироикомическая поэма в 12 песнях «Оберон» (1780), о которой Гёте сказал: «…до тех пор, пока поэзия останется поэзией, золото золотом, а кристалл кристаллом, поэма “Оберон” будет вызывать общую любовь и удивление как шедевр поэтического искусства». Любовь и удивление продолжает вызывать мастерство, с которым Виланд рассказывает о главном чуде жизни – чуде любви и верности, чуде стойкой, претерпевающей самые невероятные испытания человеческой души.
Сюжет поэмы восходит к анонимному французскому рыцарскому роману «Гюон де Бордо» (рубеж ХII-ХIII вв.), образы повелителя эльфов Оберона и его супруги Титании Виланд позаимствовал из «Сна в летнюю ночь» Шекспира (Виланд великолепно знал творчество великого английского драматурга и первым целиком перевел его на немецкий язык: 8 томов вышли в Цюрихе в 1762–1766 гг.). Однако в «Обероне» гораздо больше аллюзивных пластов. Е.В. Карабегова, подчеркивая, что «в основе художественной системы “Оберона” лежит… принцип гипертекстуальности»[73], отмечает среди составивших основу произведения гипотекстов также роман «Тристан и Изольда», «Рассказ купца» из «Кентерберрийских рассказов» Дж. Чосера, новеллу из седьмого дня «Декамерона» Дж. Боккаччо, различные библейские сюжеты и эпизоды, которые «составляют наиболее важный структурный элемент поэмы» и в которых «заложена ее философская проблематика»[74](это прежде всего притча о грехопадении, экспозиция к Книге Иова, история Иосифа, Книга Ионы и др.).
Действие поэмы протекает в двух планах – реальном и условно-фантастическом, которые многократно пересекаются. Завязкой служит ссора Оберона и Титании, ставших свидетелями супружеской измены (комический эпизод, воспроизводящий «Рассказ купца» Чосера). Разгневанный на всех женщин Оберон отдаляет от себя Титанию и объявляет, что они смогут помириться только в том случае, если найдется молодая чета, которая выдержит все посланные им испытания (так вводится тема спора о человеке и его испытания – генеральная в Книге Иова, экспозиция которой стала также основой спора о человеке в «Прологе на небе» в «Фаусте» Гёте). Таким образом, супружеское счастье Оберона и Титании зависит от благородства и верности людей. Испытуемой парой и становятся главные герои поэмы: рыцарь Гюон и его возлюбленная Реция (Аманда). Им придется пройти через свое «грехопадение» и утрату «рая» и обрести счастье, доказав стойкость собственного духа, глубину и высоту чувств, подтвердив гордое звание человека.
Непосредственная фабула «Оберона» связана с тем, что благородный рыцарь Гюон невольно навлек на себя гнев короля Карла Великого, который отправил его в восточные земли с заведомо невыполнимым заданием, тем самым обрекая рыцаря на смерть. Попав в Вавилон, Гюон влюбляется в дочь вавилонского султана – Рецию. Однако его любовь кажется неосуществимой, равно как и трудное задание Карла. Странствуя с верным слугой Шерамзином, Гюон встречает короля эльфов Оберона, который, естественно, открылся рыцарю не случайно. Оберон обещает Гюону свое покровительство и помогает ему выполнить поручение короля и увезти с собой возлюбленную Рецию. Однако при этом король эльфов, выступающий в поэме Виланда как олицетворение животворящих сил природы и – что самое важное – нравственного христианского начала (это было дерзким и смелым новшеством писателя), берет с влюбленных обет целомудрия. Герои должны хранить его до возвращения в Рим, где Реция сможет принять христианство. Только тогда станет возможно их подлинное супружество. Гюон и Реция, обуреваемые страстью, нарушают обет (совершают «грехопадение») и оказываются на острове Титании, где, как изгнанные из Эдема Адам и Ева, должны начать суровую борьбу за существование и за свое право на счастье, противостоя искушениям, проходя через жестокие испытания, духовно преображаясь. «Так возникает немыслимая не только в рыцарском романе, но до сих пор и в ироикомической поэме тема – тема тяжкого труда на земле, когда герои, заботясь друг о друге, совершают каждодневный подвиг. Но они не только учатся трудиться, но и переживают настоящее духовное преображение…И если они и нарушили запрет Оберона, то, пройдя через испытание жизнью на острове, они стойко противостоят соблазнам и домогательствам султана и султанши в заключительных главах поэмы. Так естественная нравственность героев, их добрая природа, осознаются и утверждаются автором как огромная ценность, как залог и основа гармонии всего общества и мироздания»[75]. Виланд противопоставляет грубой чувственности и жестокости султана Альманзора и султанши Альманзориды чувствительность, гармоничность, возвышенность чувств Гюона и Реции, их доброту и человечность. Герои смогли заслужить прощение Оберона, который помогает им спастись от казни на костре по приказу султана и султанши, а также возвращает Гюона, его супругу и их сына ко двору Карла Великого, где герой прощен и самим королем.
В поэме сильны элементы воспитательности, ярко представленные в романах Виланда – типичных образцах «романа воспитания». В «Обероне» также очевидно влияние идей Лейбница и Шефтсбери о предустановленной гармонии добра и зла в мире, о том, что зло – частный компонент мироздания, способствующий совершенствованию того, кто его претерпевает. При всех отсылках к Книге Иова Виланд далек от акцентирования трагических антиномий, разрывающих сознание библейского героя, от постановки роковых и принципиально неразрешимых проблем (таковой, по сути, является проблема теодицеи). Гармоничное разрешение проблемы, всепобедная вера в человека (именно это роднит поэму Виланда с духом библейской книги) продиктованы истинно просветительским оптимизмом и законами жанра. Одновременно совершенно очевидно, что Виланд преобразует ироикомическую поэму, сложившуюся еще в XVII в. Как справедливо замечает Е.В. Карабегова, «использование художественных приемов бурлеска и травестии в ироикомической поэме Виланда “Оберон” не только и не столько направлено на создание эффекта комического снижения или возвышения, сколько служит воплощению магистральной идеи в культуре и литературе германского Просвещения – утверждения и оправдания свободной человеческой личности»[76]. Виланд создает своего рода возвышенную разновидность ироикомической поэмы, прославляющую свободную и полноценную человеческую личность, «свободную человечность». Как утверждают современные немецкие исследователи творчества Виланда, «вера в спасительную силу человеколюбия проявляется в “Обероне” пусть и с юмористическим оттенком, но все же в форме возвышенной идиллии», и именно это «сближает Виланда с Гердером, Гёте и Шиллером, с веймарским классицизмом»[77]. В то же время, как справедливо замечает Е.В. Карабегова, «в поэтике “Оберона” уже намечаются некоторые элементы, которые получат дальнейшее развитие в художественной сказке и лиро-эпической поэме немецкого романтизма – в творчестве Л. Тика, Э.Т. А. Гофмана и Г. Гейне»[78].
Известный российский и белорусский германист А.А. Гугнин полагает, что ироикомические поэмы Виланда, и в частности «Оберон», являются скорее стихотворными романами. Об «Обероне» исследователь пишет: «В своем романе Виланд пытается оживить традицию “Неистового Роланда” Ариосто, введя ее в контекст “галантной” поэзии рококо; легендарно-сказочный сюжет из эпохи Карла Великого он расцвечивает всеми красками иронической игры фантазии, где самоценность приобретает уже не столько сюжет, сколько именно изощренная фантазия, связанная, однако, строгой и искусной формой, рационально уравновешивающей буйство воображения и ироническую дистанцию автора»[79]. Это весьма глубокое замечание, касающееся специфики поэтики Виланда. Действительно, его поэмы имеют скорее романный модус, как романизируется в целом эпос в XVIII в. Известная российская исследовательница ироикомической поэмы Г.Н. Ермоленко отмечает, что «на долю комической поэмы выпадает функция критики эпоса и разрушения цельности эпической формы с помощью введения в текст романических и новеллистических элементов… В соперничестве эпоса и романа она выступает на стороне последнего»[80]. Безусловно, приемы иронического дистанцирования, открытые Виландом, скажутся в стихотворном романе эпохи романтизма, равно как и причудливое взаимопроникновение реального и сказочно-фантастического планов. Однако невозможно согласиться с мыслью А.А. Гугнина о том, что Виланд «ведет эстетическую игру ради самой этой игры», что, «излагая свой сюжет, он на каждом шагу посмеивается или даже издевается над сюжетом и над героями»[81]. Эстетическая игра Виланда имеет чрезвычайно серьезное назначение, и прежде всего она нацелена на воспитание полнокровной и свободной личности через прекрасное и изящное искусство, что и роднит установки Виланда с устремлениями «веймарского классицизма».
В своих поэмах, и прежде всего в «Обероне», Виланд предстает как обновитель немецкого языка, как создатель безупречной и совершенной поэтической формы, выведшей немецкую поэзию на европейский уровень. Впоследствии Ф. Ницше утверждал, что Виланд «писал по-немецки лучше, чем кто-либо другой». Виланд продемонстрировал, что его муза, оставаясь истинно немецкой, может соревноваться с французской в легкости и изяществе речи. Н.М. Карамзин, встретившийся с немецким поэтом в Веймаре, писал в «Письмах русского путешественника»: «…если французы оставили наконец свое старое худое мнение о немецкой литературе… если знающие и справедливейшие из них соглашаются, что немцы не только во многом сравнялись с ними, но во многом и превзошли их, то, конечно, произвели это отчасти Виландовы сочинения, хотя и нехорошо на французский язык переведенные». Последнее замечание вполне можно отнести и к переводам поэм Виланда на русский язык, и прежде всего к переводу «Оберона». Виланд был очень хорошо известен в России еще при жизни, в конце XVIII – начале XIX в., однако после появления перевода В. Левшина в 1787 г. («Оберон, царь волшебников») поэма не переводилась на русский язык – и в силу недостаточного внимания к рококо, к поэтическому творчеству Виланда, и в силу объективной трудности для перевода текста поэмы. Только небольшие фрагменты были переведены В.А. Жуковским (11 строф начала первой песни, 1811) и П.И. Колошиным («Сон Гюона», 1824). Тем большего внимания заслуживает выполненный в начале XXI в. перевод Е.В. Карабеговой[82]:
Не описать восторг влюбленных двух! В волшебный мир они вступают мимо Прекрасных дев, и вот предстал пред ними Подобный солнцу утреннему дух — В наряде брачном, уж не мальчик милый, А юноша во цвете лучших дней, Исполнен вечной красотой и силой, И перстень держит он в руке своей. А рядом с ним сияет лунным светом Титания, венцом из роз одета, И плащ ее из лунных соткан нитей. Она героям говорит: «Примите Сей миртовый венец, его в награду За верность и любовь вручить мы рады. Залог он дружбы нашей – с ним для вас Исполнен счастьем будет каждый час».Виланд во многом способствовал обновлению немецкой поэзии и литературы в целом, однако в 70-е гг. кумиром молодого поколения становится не Виланд, но Клопшток – с его чувствительностью и экзальтированностью, с его любовью к германским древностям, с его неукротимым пафосом свободы. «Кровь тиранов – за святую свободу!» – эту фразу из драмы Клопштока «Битва Германа» повторяют «бурные гении», она отзывается и в предсмертных словах гётевского Гёца фон Берлихингена («Да здравствует свобода!»), и в эпиграфе Шиллера к его первой трагедии «Разбойники»: «Против тиранов!» В «Поэзии и правде» Гёте говорит о круге «молодых и талантливых людей», которые «с верой и воодушевлением группировались вокруг Клопштока, чье влияние распространялось вдаль и вширь»[83]. Речь идет о «Союзе Рощи» – одном из штюрмерских кружков в Германии.
Эстетика Иоганна Готфрида Гердера и штюрмерская поэзия
В 70-е гг. XVIII в. наступает новый этап просветительского движения в Германии, получивший название «Бури и натиска». Само название (по одноименной пьесе М. Клингера, одного из участников движения; по-немецки – «Sturm und Drang» <Штурм унд дранг>, отсюда – именование участника движения: Stürmer – штюрмер) говорит о бунтарском характере нового направления. Резкое недовольство немецкой действительностью, поиски нового героя – «бурного гения», человека неукротимых стремлений, поиски самобытного пути развития немецкой культуры и литературы сочетаются в литературе «Бури и натиска» с культом чувства и природы. Штюрмерская литература представляет собой особый немецкий вариант сентиментализма, отличающийся ярким бунтарским характером, прокламацией сильных, неистовых чувств, культом гения, не скованного никакими канонами. Огромное значение для штюрмерства имело учение и творчество Ж.Ж. Руссо.
Идейным вождем штюрмерского движения и создателем штюрмерской эстетики стал выдающийся немецкий мыслитель, филолог, фольклорист, переводчик, писатель Иоганн Готфрид Гердер (Johann Gottfried Herder, 1744–1803). Еще в годы учебы в Кёнигсбергском университете Гердер получил от самого Канта, чьи лекции он слушал и чьим талантливым учеником был, прозвище «brausender Genie» («бушующий гений») – за неукротимую жажду познания (многие черты характера Гердера отразились в гётевском Фаусте, особенно в начале I части, – Фаусте, глубоко разочарованном в состоянии современной науки, недовольном собой и стремящемся постичь «вселенной внутреннюю связь»). Большое влияние на Гердера (а через него – и на все штюрмерское движение) оказала «философия чувства и веры» Иоганна Георга Гамана (Johann Georg Hamann, 1730–1788), философа и писателя, прозванного «северным магом» (он родился и жил на севере Германии, в Пруссии, в Кёнигсберге). Учение Гамана – один из первых вариантов философии интуитивизма. По его мнению, именно через искусство возможно глубинное постижение действительности, и само художественное творчество – результат интуитивного познания. Художник – «оригинальный гений», чуждающийся всяких канонов, интуитивно, чувственно постигающий мир. Образное мышление стоит у истоков формирования культуры и цивилизации, а язык поэзии – «праязык» человечества. Именно от Гамана, с которым Гердер познакомился в Кёнигсберге, он воспринял эти идеи и развил их дальше. Гаман также впервые привлек его внимание к культуре Востока, к библейской поэзии, к Шекспиру, к народному творчеству.
Уже в первых своих работах – «О новейшей немецкой литературе. Фрагменты» («Über die neuere deutsche Eiteratur. Fragmente», 1767–1768) и «Критические леса» («Kritische Wälder», 1769) – Гердер, с одной стороны, опирается на концепции Винкельмана и Лессинга, а с другой – полемизирует с ними. Выдвигая принцип исторического подхода к искусству, подчеркивая тесную связь литературы с той или иной исторической эпохой, Гердер доказывает бесплодность всякого подражания, даже прекрасным античным образцам (античное искусство – и в этом его величие – отражает свою эпоху). Он выступает за самобытное национальное искусство, несущее в себе общечеловеческие ценности, и образцами такого искусства для него являются Библия, творчество Гомера и Шекспира. Писатель, полагает Гердер, «несет на себе цепи времени, он врастает в свою эпоху, как дерево в землю… из которой оно пьет соки». Художник всегда создает неповторимую картину жизни, преломленную через его взгляд на мир, окрашенную его чувствами. Поэтому огромную роль в процессе творчества Гердер отводит воображению и фантазии, которые, тем не менее, должны быть «сестрами правды», соединяться с «хорошим, здоровым рассудком». Таким образом, он провозглашает необходимость соединения рационального постижения и чувственного восприятия. Однако при этом художник-творец (в терминологии Гердера – «оригинальный ум», «самобытный гений») не подчиняется никаким канонам, никакой строгой регламентации. Наделенный гениальной интуицией, он следует лишь своему закону.
По мысли Гердера, развитие литературы тесно связано с развитием языка, который есть «орудие, хранилище и сущность литературы». В работе «О происхождении языка» («Über den Ursprung der Sprache», 1772) он создает оригинальную концепцию, которую метафорически именует «романом о возрастах языка». В древности, когда люди мыслили образами, поэзия была «природным языком человеческого общества». Это время «языка-песни», выражавшего всю полноту человеческих чувств. Второй «возраст» языка связан с переходом от конкретночувственного восприятия к абстрактно-логическому мышлению. В результате появилась проза с ее грамматической логикой. Третий «возраст» Гердер именует философским, и это в его устах звучит не как похвала, но как подтверждение сухости, обесцвечивания и умирания языка, когда в литературе вместо красоты господствует «правильность». С точки зрения Гердера, именно таковым является современное состояние поэзии, из которой ушли естественность, подлинность чувств, страстность. Задача новейшей литературы – оживить язык, не заимствовать и не подражать, но создать новую образность. Образцы подлинно живого «языка-песни» сохранились в народных песнях, поэтому их нужно собирать и изучать.
Уточняя тезис Лессинга в его «Лаокооне» о том, что поэзия воздействует на человека «посредством членораздельных звуков», Гердер говорит, что она воздействует прежде всего тем смыслом, который стоит за звуком, и это воздействие имеет огромную чувственную силу. «Поэтому можно сказать, что первая существенная сторона поэзии есть действительно живопись своего рода, иначе говоря – чувственное представление». Поэтическая речь «дает душе как бы зрительное представление каждого предмета… представляя его взору нашего воображения и вызывая иллюзию видимого образа». Отсюда проистекает необходимость преодоления излишней рассудочности поэзии и поисков поэтического языка, исполненного необычайной чувственной насыщенности, эмоциональной силы, динамики. По Гердеру, из художников прошлого эту чувственную насыщенность наиболее полно выразили Гомер и Шекспир. Динамику, особую духовную силу, мощную энергию, образцы живого народного языка он находит также в древних библейских текстах («Vom Geist der hebräischen Poesie» – «О духе древнееврейской поэзии», 1782–1783). Из современных авторов Гердер особенно ценит Гёте. После встречи с Гердером в Страсбурге (1771) Гёте получает от него огромный творческий импульс и также становится одним из вождей штюрмерского движения. В программный сборник «О немецком характере и искусстве» («Von Deutscher Art und Kunst», 1773) Гердер включил статьи Гёте «Ко дню Шекспира» и «О немецком зодчестве», а также свои работы «Шекспир» и «Отрывок из переписки об Оссиане и о песнях древних народов».
По мысли Гердера, поэзия не должна быть открыто дидактичной, она не столько прямо воспитывает, сколько развивает творческое восприятие и тем самым прокладывает дорогу обновлению человечества, возвращению его к «естественному состоянию». Именно поэтому, провозглашает Гердер в «Отрывке из переписки…», необходимо изучать поэтическое творчество тех народов, у которых «наши нравы еще не полностью смогли отнять их язык, песни и обычаи». «Естественный», «свободный» образ жизни народов, не испорченных уродливой цивилизацией, нашел выражение в их песнях, обладающих особой «чудодейственной силой», как у Оссиана (Гердер, как и многие другие, находился под обаянием мистификации Дж. Макферсона, стилизовавшего древние кельтские песни). Образцы такой поэзии сохранили песни и современных народов, поэтому нужно их собрать, прежде чем они «совершенно погибнут, вытесняемые так называемой культурой».
Гердер сам начинает осуществлять эту задачу и издает сборник в двух выпусках – «Народные песни» («Volkslieder», 1778–1779), при переиздании названный «Голоса народов в песнях» («Stimmen der Völker in Liedern», 1806). Этот сборник сыграл огромную роль в развитии штюрмерской поэзии, а также поэзии романтизма (от гердеровского сборника тянутся прямые нити к «Волшебному рогу мальчика» Л.А. Арнима и К. Брентано). Гердер включил в свое собрание не только немецкие песни, но и песни других народов (испанцев, англичан, датчан и других северных народов, славян и балтийских народов) в собственных переводах. Показательно, что Гердер стремился в переводах к эквиритмичности, стараясь сохранить их особую «поэтическую модуляцию». Он счел необходимым также представить в сборнике и стихотворения многих немецких поэтов, приближающиеся по духу и форме к народным песням, ставшие народными песнями (духовные гимны и песни М. Лютера, П. Герхардта, песни С. Даха, И. Риста, М. Опица), фрагменты из Шекспира, Гёте и других великих, которые, по мнению Гердера, повлияли на народную поэзию и творчество которых приближается к ней по значению.
Гердер специально расположил песни в сборнике не по национальному, но по тематическому принципу. Это позволило наглядно ироде-монстрировать общность чаяний и устремлений различных народов, типологические схождения – при всех различиях – как на уровне содержания, так и в поэтических приемах. Тем самым было положено начало сравнительно-историческому изучению фольклора и сравнительно-историческому изучению культур вообще. В песнях народов, по мнению Гердера, наиболее ярко отражаются душа и история каждого народа, их одинаковое стремление к свободе и счастью. Он пытался привлечь внимание своих современников к бедственному положению простых людей и в посвящении к сборнику писал: «Вам посвящаю я голоса народов в их песнях, // Тайное горе людей, скрытую горечь обид, // Стоны, которых никто не слышит, и тяжкие вздохи // Тех, которым никто, сжалясь, руки не подаст…» (перевод Е. Эткинда). Гердер отстаивает равенство людей и народов, страстно выступая против любых форм шовинизма, в частности – против определения каких-то народов как «диких». «Что значит “дикий”? – спрашивает Гердер. – Гомер тоже был “дик”». «Дикий» для него значит «живой», «свободно действующий», т. е. близкий к природе, далекий от извращенной цивилизации. Гердер протестует также против употребления немецкими историками словосочетания «малый народ» в шовинистическом смысле. Не существует «малых» народов, но каждый народ велик, каждый вносит свой вклад в мировую культуру. «Каждый народ несет в себе меру своего совершенства, не сравнимую с другими», – эти слова были жизненным и творческим девизом мыслителя. Гердер, как скажет о нем Г. Гейне в «Романтической школе», «рассматривал все человечество как великую арфу в руках Великого Мастера, каждый народ казался ему по-своему настроенной струной этой исполинской арфы, и он понимал универсальную гармонию ее различных звуков».
Всю жизнь Гердер стремился создать единую универсальную концепцию человеческой культуры, что он в значительной степени осуществил в работе «Идеи к философии истории человечества» («Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit», 1784–1791). С точки зрения мыслителя, каждый этап в развитии истории и культуры, каждый народ, создающий неповторимую национальную культуру, необходимы на общем пути человечества к единой цели – торжеству гуманности.
В своем художественном творчестве Гердер воплощает собственные идеи, а также опирается на поэтические завоевания Клопштока. Философские гимны, написанные верлибром (например, «Гимн Гению будущего»), соседствуют у него со стилизациями народной песни, балладами, эпиграммами, написанными элегическим дистихом. Гердер одним из первых наряду с Гёте осваивает немецкий народный дольник – акцентный стих, как, например, в балладе «Дочь лесного царя» (обработка датской легенды):
Олуф по дальним весям скакал — Гостей на свадьбу к себе скликал. И вдруг он увидел под сенью ветвей Лесную царевну средь эльфов и фей. «Любезный всадник, слезай с коня! Спляши со мною, потешь меня!» «Нет, не потешу и не спляшу — Домой на свадьбу к себе спешу!» (Здесь и далее перевод Л. Гинзбурга)Лесная царевна жестоко наказывает строптивого Олуфа, отказывающегося плясать с ней:
«Плясать не хочешь? Тогда изволь: Тебя иссушит, загубит боль». Она его сердца коснулась рукой — Вовек он боли не знал такой…Несчастный жених обречен, и гибель его предчувствует тоскующая мать, хотя ничего не подозревают собравшиеся на свадьбу гости и сама невеста. Все законы жанра баллады выдержаны в неожиданной и мрачной концовке: «Невеста сдернула шелк покрывал – // Под ними мертвый Олуф лежал».
Вершиной поэтического творчества Гердера стала поэма «Сид» (1803). С одной стороны, она представляет собой стилизацию романсеро, с другой – оригинальное произведение, в котором народный герой Сид, «покровитель несчастных и опора беззащитных», выступает как воплощение просветительского идеала Гердера. Гердеровскую поэму рассматривают также как одно из первых романтических произведений в Европе.
Идеи Гердера о создании самобытной немецкой литературы общечеловеческого звучания, литературы, в которой будет преодолен схоластически-мертвый книжный язык и найден язык, исполненный необычайной динамики и чувственной силы, вдохновили молодое штюрмерское поколение, а также получили далее развитие в эстетике А.В. Шлегеля и творчестве немецких романтиков. Штюрмерство, как и европейский сентиментализм в целом, во многом готовило почву для романтизма и вместе с тем оставалось в рамках Просвещения, соединяя рационализм и прокламацию чувств, сохраняя веру в возможность изменения мира через «просвещение умов». В сравнении с вариантами сентиментализма в других европейских странах штюрмеры довели до апогея и гиперболизировали культ природы и культ чувства, воспринятые от Руссо и Гердера, равно как и свое противостояние уродливой цивилизации. Культ чувства привел их к выводу о страсти как главном выражении человеческой сущности. В связи с этим излюбленный герой штюрмерской литературы – яркая, сильная личность (Kraftmensch, Kraftgenie), «бурный гений», исполненный неистовых чувств и стремления к действию. Нередко в герое акцентируются черты исключительности, его сопровождает ореол тайны, даже демонизма, что сближает штюрмерскую литературу с литературой преромантизма. Вместе с тем это чаще всего чувствительный молодой человек, следующий голосу природы и сердца. Огромное внимание уделяется людям самого простого происхождения, трогательному изображению их чувств. Глубокая философичность, тяготение к усложненно-интеллектуальным формам философского гимна в свободных ритмах соединяются в поэзии штюрмеров со стремлением к истинно народной простоте, с вниманием к поэтике народной песни. В целом штюрмеры провозглашают свободу творчества и отрицают необходимость художника подчиняться каким бы то ни было правилам. Культ чувства, страсти и культ гения, протест против рационализма диктовали особенности поэтической манеры штюрмеров, которой свойственны особая экстатичность, экзальтированность, экспрессивность, страстность, призванные отразить строй души «бурного гения», неистовость его чувств. В равной степени для них характерно введение в поэзию (как и в прозу, драматургию) обыденной разговорной речи и даже просторечия, стремление глубоко индивидуализировать речь героев.
В начале 70-х гг. формируется несколько центров «бурных гениев»: во Франкфурте и Страсбурге Гердер и молодой Гёте объединяют вокруг себя «рейнских гениев» (Ф.М. Клингер, Я.М.Р. Ленц, Г.Л. Вагнер, Ф. Мюллер, В. Гейнзе); в Гёттингене образуется «Союз Рощи» – кружок поэтов, объединенных прежде всего восторженным почитанием Клопштока (братья Ф.Л. и К. Штольберги, Л.К. Гёльти, К.Ф. Крамер, И.М. Миллер, И.Г. Фосс, И.А. Лейзевиц, М. Клаудиус). С гёттингенцами поддерживал связи и был близок их установкам Г.А. Бюргер. «Швабских гениев» наиболее ярко представляют – уже на излете штюрмерского движения – молодой Шиллер и (еще позднее) Ф. Гёльдерлин на самом раннем этапе своего творчества. Самые же в художественном отношении сильные образцы штюрмерской поэзии представлены в творчестве Гёте до 1775 г.[84].
Среди «рейнских гениев» незаурядным лирическим дарованием был отмечен Якоб Михаэль Рейнгольд Ленц (Jakob Michael Reinhold Lenz, 1751–1792)[85], который с детства был восторженным поклонником «Мессиады» Клопштока. Переехав в 1769 г. в Кёнигсберг (поэт родился в Лифляндии, в России, жил с родителями в Дерите), юный Ленц издал поэму «Народные бедствия», посвятив ее Екатерине II. В 1771 г., бросив учебу на богословском факультете Кёнигсбергского университета, Ленц приехал в Страсбург, где познакомился с Гёте. Он переводит Поупа и Шекспира, «Песни Оссиана», под влиянием Гердера и Гёте изучает народную поэзию. Под влиянием чувства к Фрид ерике Брион, в которую был влюблен и Гёте, Ленц создает цикл стихотворений о любви. Их отличают особая искренность, безыскусность, лирическая взволнованность. Некоторые из них, записанные в 1835 г. по рукописям, принадлежавшим сестре Фридерики, Софи Брион, были даже приняты за произведения Гёте, как, например, стихотворение «Где ты теперь…» («Wo bist du itzt…»), первоначально включенное в «Зезенгеймские песни» Гёте, не публиковавшиеся при жизни поэта:
Где ты, где ты теперь, о друг мой незабвенный? Где слышен голос твой? С тех пор, как ты ушла, – увы, и солнце летом Уж света не дает, И небо, заключив союз с твоим поэтом, Печально слезы льет… (Перевод П. Вейнберга)Поэт сильных и страстных чувств, Ленц в стихотворении «К сердцу» («An das Herz»), как нельзя лучше выражающем жизненные и творческие установки штюрмеров, провозглашает невозможность бытия человека вне сферы чувств: «…любить, ненавидеть, бояться, дрожать, надеяться, трепетать до мозга костей – все это может испортить жизнь, но без этого жизнь была бы чепухой». В позднем творчестве Ленца в связи с трагическими обстоятельствами его жизни усиливаются ноты тоски и разочарования в жизни («An Henriette» – «К Генриетте»).
Тяготением к идиллическому хронотопу отличается поэзия Фридриха Мюллера (Friedrich Müller, 1749-1825)[86], прозванного Maler («Живописец»), так как он получил художественное образование и был придворным живописцем в Мангейме. Мюллер испытал сильное влияние С. Гесснера и, как и он, писал идиллии ритмизованной прозой. Идиллии Мюллера, в которых обработаны библейские, античные и немецкие народные сюжеты, отличаются живописностью и бытовой конкретикой. Среди наиболее известных – «Стрижка овец» («Die Schafschur», 1775), «Чистка орехов» («Das Nusskemen», завершена в 1811). В первую из них поэт включил спор об ученой и народной поэзии, отдавая безусловное предпочтение последней.
Яркий след в истории немецкой поэзии оставили поэты «Союза Рощи» («Hainbund»), образовавшегося в сентябре 1772 г. и просуществовавшего около двух лет. Как вспоминал неизменный председатель союза Иоганн Генрих Фосс, молодые поэты, студенты Гёттингенского университета, собрались лунной ночью в деревушке под Гёттингеном и под сенью «священных дубов», символа древнегерманской свободы, украсив шляпы дубовыми ветками, «поклялись друг другу в вечной дружбе, призывая месяц и звезды в свидетели своего союза». Гёттингенцы благоговели перед Клопштоком и были страстно увлечены мифологизированной немецкой стариной, «реквизит» которой Клопшток ввел в поэзию. Само название их союза происходило от названия оды Клопштока «Холм и Роща», где Роща символизировала древнегерманскую поэзию. Гёттингенцы именовали себя бардами и присваивали себе имена бардов, заимствованные из поэзии Клопштока. Страстно почитая Германа (Арминия) как национального героя-освободителя, они воспевали свободу и борьбу против тирании, особенно иноземной. Основными жанрами их лирики были застольные песни (Trinklieder), прославляющие легендарную свободу древних германцев, песни, осуждающие тиранию (Tyrannenhasslieder). Иногда черты этих жанров соединялись. Так, своеобразным гимном гёттингенцев стала «Застольная песня свободных людей», написанная Фоссом: воздавая должное рейнвейну, он изображает битву с чужеземными тиранами и воспевает победу над ними. Излюбленными жанрами поэтов «Союза рощи» были также стихотворение, окрашенное в элегические тона, воспевающее природу и тонко передающее чувства человека, идиллии из сельской жизни и баллады на народные сюжеты.
Антиподом Клопштока и национально окрашенной поэзии для членов «Союза рощи» был Виланд, которого они считали излишним рационалистом, «подражателем французам» и «развратителем нравов». В одном из писем Фосс описал, как они 2 июля 1773 г. праздновали день рождения Клопштока и заодно «посрамляли» Виланда: «Наверху стояло пустое кресло для Клопштока, осыпанное розами и левкоями, на нем лежали все сочинения поэта. Под стулом валялся разодранный “Идрис” Виланда. Крамер прочитал вслух отрывок из триумфальных гимнов, а Ган – несколько од Клопштока о Германии. Из сочинений Виланда мы крутили папиросы. Потом мы выпили рейнвейна за здоровье Клопштока, в память Лютера, в память Германа, за процветание Союза, за Эберта, Гёте (может быть, ты еще не знаешь его?), Гердера. Читали оду Клопштока “Рейнвейн”… Говорили о свободе, о Германии, о добродетели и, можешь себе представить, как говорили! Потом мы пили пунш и сожгли портрет Виланда».
Такое поведение, безусловно, можно объяснить только юношеским максимализмом участников Союза (все они были в возрасте от 17 до 23 лет), их крайней экзальтированностью, искренним непониманием творчества Виланда и искренним же стремлением видеть немецкую поэзию самобытной, защитить права немецкой культуры и немецкого языка. Именно поэтому они собирают народные пословицы и поговорки и мечтают об издании словаря пословиц, обращаются к творчеству миннезингеров, Г. Сакса, М. Лютера. В «Немецкой республике ученых» сам Клопшток приветствует этих юношей и отмечает их особое стремление к обновлению немецкой культуры. Однако внимание к национальному не мешало гёттингенцам осваивать сокровища мировой поэзии и стремиться перевести их на немецкий язык, особенно шедевры античной литературы.
В целом поэтам «Союза Рощи», как и «рейнским гениям», свойственны культ природы и чувства, апология гения и его творческой фантазии. Однако они в большей степени тяготели к религиозной экзальтации, к идеализации сельской жизни и крестьянского труда, в большей степени вводили в свои произведения элементы народной поэзии.
Наибольшим тяготением к древнегерманской старине, культом Германии и Арминия, бурными порывами к свободе, соединенными с чувствительностью и мечтательной религиозностью, отличается поэзия графов Штольбергов – Кристиана (Christian Graf zu Stolberg, 1748–1829) и Фридриха Леопольда (Friedrich Leopold Graf zu Stolberg, 1750–1819), которые вошли в историю литературы прежде всего своим совместным штюрмерским сборником «Стихотворения братьев Штольбергов» («Gedichte der Brüder Stolberg», 1779). К. Штольберг писал любовные стихотворения («Взоры», «Незнакомке» и др.) и баллады, в которых очевидно влияние Бюргера. В годы войны с Наполеоном в его творчестве доминирует патриотическая тематика (совместные сборники 1815 г. «Патриотические песни», «Священное знамя»).
В лирике более талантливого, чем старший брат, Ф.Л. Штольберга особенно сказывается влияние Клопштока. Он выступает как его ученик уже в первой своей оде «Песнь свободы из XX в.» (1770), демонстрирующей пылкую восторженность молодого поэта, готовность отдать свою жизнь за дело свободы: двое юношей, братья Штольберги, гибнут в крови за свободу, и эта смерть способствует конечной победе борцов за свободу; из мира грядущего, с облаков смотрят на них, радуясь их подвигу, Герман и Телль, Лютер и Клопшток. Ф.Л. Штольберг воспевает Германию как родину Арминия, как страну доблести, верности и целомудрия («Гарц», 1773; «Моя отчизна», 1774). Его героем становится немецкий юноша, alter ego поэта, стремящийся подражать славным героям прошлого («Песня немецкого мальчика», 1774). Штюрмерский культ природы отразился в одном из самых популярных среди современников стихотворений Ф.Л. Штольберга – «К природе» (1775), где он в духе руссоизма призывает следовать «сладостной святой природе». Это перекликается с основной мыслью его программной статьи «О чистом сердце» (1777), в которой основной задачей поэзии провозглашается воспитание всего возвышенного и благородного, а единственным источником такой поэзии – «переполненное чувствами сердце».
В 70-е гг. братья Штольберги очень дружны с Гёте, сопровождают его в путешествии по Швейцарии в 1775 г. Во время этого путешествия они знакомятся с Клингером, Ленцем, И. Мерком (близким другом Гёте, послужившим благодаря своему ядовито-желчному уму и блестящему остроумию одним из прототипов Мефистофеля), Лафатером, Гесснером, Бодмером, Шубартом. Однако в дальнейшем пути «бурных гениев» расходятся. Ф.Л. Штольберг служит в посольствах в Копенгагене, Берлине, Петербурге и все больше сближается с Церковью, становится ревностным защитником благочестия (известно, что он осудил стихотворение Шиллера «Боги Греции» за «апологию язычества»). В 1800 г. Ф.Л. Штольберг принимает католичество и последние годы жизни отдает созданию 15-томной «Истории религии Иисуса Христа» (1806–1818). Показательно, что, как и веймарские классики, как и его учитель Клопшток, Штольберг осуждает Французскую революцию и якобинский террор в оде с говорящим названием «Западные гунны» (1794). Начиная со штюрмерских лет он много занимался переводами греческой классики, результатом чего стали переводы с оригинала «Илиады» (1778), избранных «Диалогов» Платона (1796–1798), четырех трагедий Эсхила (1802). Однако по своим художественным качествам эти переводы уступают переводам Бюргера и Фосса.
Трагически короткой была судьба самого талантливого лирического поэта «Союза рощи» – Людвига Кристофа Генриха Гёльти (Хёльти; Ludwig Christoph Heinrich Hölty, 1748–1776), прожившего всего 28 лет и умершего от туберкулеза. Еще Гёте отмечал тончайшее чувство ритма и языка, присущее его поэзии. Стихотворения Гёльти были впервые опубликованы лишь после его смерти Фоссом и Штольбергами («Собрание оставленных [после смерти] стихотворений», 1782–1784; «Стихотворения», 1783). На Гёльти также оказала влияние проблематика и поэтика лирики Клопштока: он воспевает дружеский союз, созвучье поэтических сердец (ода «Союз»), борьбу за свободу (ода «Свобода», песня «Освобожденный раб»). Прославляя великих борцов за свободу, поэт причисляет к овеянным легендами именам Брута, Германа, Телля и имя Клопштока. В наследии Гёльти есть также идиллии из крестьянской жизни («Сельская жизнь», «Бедный Вильгельм», «Лесной костер» и др.), баллады, стилизованные под песни уличных певцов («Адельстан и Розочка», «Приключения рыцаря и монахини, которая заставила убить рыцаря и после этого плевалась в церкви» и др.).
Однако ни политические мотивы, ни сюжетные произведения, содержащие элементы эпического описания, нарратива и драматичности, не были органичной стихией для Гёльти (здесь он уступал Фоссу и Бюргеру). Его стихией был утонченный лиризм, соединяющий прихотливость движения мысли и чувства поэта с необычайной безыскусностью и простотой; его стихией была природа в разнообразных ее состояниях и те элегические и одновременно сладостные мечты, которые навевает созерцание простого и чаще всего печального сельского пейзажа. Поэт признавался: «…самую большую склонность я испытываю к сельской поэзии и к сладкой мечтательной меланхолии в стихах». Гёльти привлекала «кладбищенская» поэзия английских поэтов Т. Грея и Э. Юнга, и под их влиянием он написал несколько элегий, насыщенных меланхолическими размышлениями над человеческой жизнью («Элегия на могиле моего отца» и др.). Однако особенно прославился Гёльти своей акварельно-тонкой пейзажной лирикой, в которой в единое целое сливаются природа и поток чувств созерцающего «я», облекаясь при этом в чрезвычайно мелодичные песенные строфы, как, например, в стихотворении «К луне» («An den Mond», 1775):
Geuss, lieber Mond, geuss deine Silberflimmer Durch dieses Buchengrün, Wo Phantasein und Traumgestalten immer Vor mir vorüberfliehn. Enthülle dich, dass ich die Stätte finde, Wo oft mein Mädchen sass Und oft, im Wehn des Buchbaums und der Linde, Der goldnen Stadt vergass. Enthülle dich, dass ich des Strauchs mich freue, Der Kühlung ihr gerauscht, Und einen Kranz auf jeden Anger streue, Wo sich den Bach belauscht. Dann, lieber Mond, dann nimm den Schleier wieder, Und traur‘ um deinen Freund, Und weine durch den Wolkenflor hernieder, Wie dein Verlassner weint. Пролей, луна, поток лучей дрожащих На буков темный свод, — Туда, где тени былых видений в чащах Свой кружат хоровод. Свой лик открой, чтоб край узнал я снова, Где с милой я бродил, Где, мнится мне, еще хранит дуброва Наш юный тайный пыл. Свой лик открой, чтоб вновь я видел сени, Где сердце вверил ей, Чтоб вновь бросал цветы в ручей весенний, В заветный наш ручей. Потом, луна, спусти фату густую, От всех свой лик тая! Тоскуя, плачь, как здесь в слезах тоскую Один, забытый, я! (Перевод А. Кочеткова)Гёльти особенно удавались картины весеннего пробуждения природы. Не случайно позднее австрийский романтик Н. Ленау назовет его «другом весны». Гёльти великолепно передает в простых и одновременно ритмически совершенных стихах прозрачность весеннего воздуха, свежесть и яркость первой листвы, первых цветов, слегка меланхоличное и вместе с тем упоительно-радостное ощущение нового и вечного, несмотря на краткость человеческого существования, пробуждения и цветения жизни. Такова его «Весенняя песня»:
Здесь воздух чист и зелен луг, Цветут подснежники вокруг, И первоцвет желтеет; Родимый дол Уж весь расцвел И с каждым днем милее. …Мой друг, спеши, коль любишь май, И мир прекрасный прославляй И благодать творенья, Где все поет И все цветет В блаженном упоенье. (Перевод А. Гугнина)Простота и задушевность тона, особая мелодичность сделали многие стихотворения Гёльти народными песнями. Эти же качества привлекли к его поэзии внимание Ф. Шуберта и других композиторов.
Творчеству Гёльти близка по своей поэтике лирика Маттиаса Клаудиуса (Matthias Claudius, 1740–1815), издателя журнала «Вандсбекский вестник» (1771–1775) – по названию родного городка поэта под Гамбургом, куда он вернулся после окончания университета в Иене. В журнале Клаудиуса печатались Клопшток, Гердер, Гёте и поэты «Союза Рощи». В лучших своих стихотворениях Клаудиус стилизует народные песни («Песнь, распеваемая за печью», «Кристиана», «Вечерняя песня» и др.). Широкую известность получили его колыбельные песни, а также патриотическая «Застольная». Как отмечает известный российский германист и переводчик Г.И. Ратгауз, «наивная чистота, свежесть восприятия мира, ясность зрения и слова – отличительные черты его лирики»[87]. Ф. Шуберт положил на музыку стихотворение Клаудиуса «Смерть и девушка», а русский композитор А.С. Даргомыжский написал романс на слова песни Клаудиуса «Мне минуло шестнадцать лет…» («Первая встреча») в переводе А.А. Дельвига.
Неизменным председателем «Союза Рощи», самым крупным и многосторонним из входивших в него поэтов был Иоганн Генрих Фосс (Johann Heinrich Voss, 1751–1826), творчество которого отмечено особым стремлением к воспроизведению реалий крестьянской жизни, проникнуто духом возмущения против крепостничества, соединяет идиллические и обличительно-сатирические черты. Фосс в отличие от братьев Штольбергов воспевал не абстрактную свободу и не борьбу против чужеземных тиранов, но пытался самой своей поэзией добиться свободы для самых униженных и несвободных, облегчить бремя внутренней тирании.
Гёте в рецензии на стихотворения Фосса в 1804 г. в иенской «Всеобщей литературной газете» отмечал как особое достоинство его поэзии тесную связь с «низшими народными классами». Жизнь простого народа Фосс знал не понаслышке. Его отец был сельским учителем, а дед – мекленбургским крестьянином-вольноотпущенником, бывшим крепостным. Сам Фосс прожил очень нелегкую жизнь, наполненную непрерывным трудом. Его биография, по словам Гейне, – «общая биография всех немецких писателей старой школы… Он давал уроки, чтобы не умереть с голоду, сделался учителем в Гадельнском округе, переводил древних классиков и, прожив всю жизнь бедным скромным тружеником, умер на семьдесят пятом году жизни» («Романтическая школа»).
В 1775 г. Фосс предложил свои услуги в качестве «сельского поэта» маркграфу Баденскому и приложил все усилия, чтобы побудить его дать свободу крепостным крестьянам. Он послал ему идиллии «Конюх» и «Венок из колосьев», которые позже, в переработанном виде, под названием «Крепостные» (1775) и «Вольноотпущенники» (1775) вошли в трилогию о крепостных – с добавлением идиллии «Облегченная участь» (1800). Жанр идиллии, основной в творчестве Фосса, сформировался у него как под влиянием идиллий Гесснера, так и благодаря непосредственному воздействию античных образцов – идиллий Феокрита и особенно «Буколик» Вергилия (последние Фосс переводил и знал досконально). Идиллия Фосса существенно отличается от того типа идиллии, который культивировал Гесснер: у Фосса идеализация сельской жизни соединяется с трезвым видением всех противоречий и трудностей крестьянского существования; кроме того, у Фосса нет и следа рокайльной декоративности, присущей Гесснеру. В идиллиях Фосса в отличие от Гесснера присутствует обличительный пафос, но, как истинный просветитель, он уповает на «воспитание» самих крепостников, воздействие на их умы и сердца, в том числе и через собственную поэзию. Фосс первым применяет в описании крестьянского быта гекзаметр, что абсолютно противоречило установкам классицизма и не встречалось ранее в европейской литературе. Тем самым утверждалось серьезное, достойное эпического размаха изображение тяжкого крестьянского труда.
Идиллический мир в трилогии Фосса о крепостных живет на пределе напряжения, готовый вот-вот рухнуть, и все же поэт выражает надежду на возможность его гармонизации. Первая идиллия («Крепостные») подобно эклогам Вергилия написана в форме диалога между двумя крестьянами. Михель рассказывает Гансу о своей беде: помещик пообещал ему за 100 талеров свободу и разрешение жениться, но отказался от своих слов, нагло забрав выкуп. Михель исполнен страшной ненависти к помещику и готов запустить под его крышу «красного петуха». Фосс предупреждает об опасности подобного обращения с крепостными и во второй идиллии («Вольноотпущенники») дает прямой совет помещикам: он повествует об одном мекленбургском бароне, который сделал своих крепостных вольными арендаторами. Поэт прямо говорит о своей надежде принести своими стихами конкретную пользу: «Какая это была бы награда – хоть в малой степени способствовать освобождению несчастных крепостных!» В идиллии «Облегченная участь» Фосс изображает процесс «просвещения» юнкера, который был ранее невежественным и черствым. Теперь он внимательно изучил опыт Англии и стал умным хозяином: он хочет, чтобы и у него «все развивалось и процветало, как у деятельных арендаторов в Англии». Фосс утверждает, что процесс освобождения крестьян полезен также и для помещиков и приведет только к расцвету сельского хозяйства. Этот комплекс смелых для того времени идей воплощен в пластически совершенных картинах сельской жизни, острая критика соединяется с элементами идилличности и утопичности, с истинно просветительской надеждой на преобразование жизни на разумных началах.
Из более поздних идиллий Фосса наиболее известны «День семидесятилетия» (1781) и «Луиза» (1795), объединяющая написанные ранее три части: «Визит жениха», «Праздник в лесу», «Девичник» (1783–1784). В этих идиллиях представлены картинки из жизни почтенных семейств сельских пасторов. Умиротворенно-радостное описание гармоничной жизни простых и тонко чувствующих людей, живущих по естественным законам самой природы и на лоне природы, прокладывало дорогу идиллическому бюргерскому эпосу – «Герману и Доротее» Гёте.
Свое отношение к неразумным помещикам, жестоко угнетающим крестьян, Фосс выразил в сатире «Юнкер Корд» (1783), в центре которой – глумливый, ничуть не заботящийся о своих крепостных самодур – юнкер Корд, считающий, что крестьян нужно держать в узде. Точнее, он вовсе не считает их людьми:
Его дворец стоит средь хижин бедняков, Во всей округе Корд лишь счастлив и здоров, Плоды трудов своих все во дворец несут, А сами, словно скот, в грязи едят и пьют. (Перевод А. Гугнина)Корд топчет посевы крестьян во время охоты, губит их скот, мучает барщиной, разоряет. Поэт показывает абсурдность, полное неразумие такого поведения, наносящего вред хозяйству самого помещика, и тем самым преподносит урок крепостникам.
Дух и стиль народной песни доминируют в стихотворениях Фосса «Сенокос», «Пряха», «Маленькая швея», «Уборка картофеля» и др. В них предстают живые картины народного быта и труда, очень часто они имеют ролевой характер, т. е. вложены в уста персонажа из народа.
Много сил Фосс отдал тому, чтобы на немецком языке достойно зазвучала греческая классика, и прежде всего Гомер, которого он считал народным поэтом по определению, а потому и переводил его не засушенно-академическим, а живым и полнокровным языком. Как писал Фосс в одном из писем к своим сыновьям, он пытался преодолеть «холодный книжный язык». Результатом стали лучшие, до сих пор считающиеся непревзойденными переводы «Одиссеи» (1781) и «Илиады» (1793). Кроме того, Фосс, будучи, по сути, самым настоящим филологом-классиком, снабдил свои переводы обширными комментариями и тем самым сделал их доступными широкому читателю. Фосс также перевел и издал «Буколики» Вергилия (1789), лирику Овидия (1793) и Горация (1806). Кроме того, вместе с сыновьями он осуществил перевод всех драм Шекспира (1818–1826).
Последний период творчества Фосса (он живет в Иене и Гейдельберге – к тому времени признанных центрах романтического движения) отмечен его полемикой с романтизмом. Фосс как сын века Просвещения не принимает излишнего мистицизма романтиков, их внимания к «ночным сторонам» души. Усмешки над этими устремлениями романтиков отразились в поэме «Светобоязнь».
Фосс навсегда остался «нижнесаксонским мужиком» в поэзии, тонким знатоком жизни народа и не менее тонким знатоком поэзии и мировой культуры вообще, не только глубоко выразившим чаяния немецких крестьян, но и приобщившим немцев к сокровищницам мировой культуры. Не случайно Гейне писал в «Романтической школе» о Фоссе: «Мало кому немецкий народ больше обязан своим развитием, чем ему. После Лессинга он, быть может, величайший гражданин в немецкой литературе».
Народная душа, народные чаяния, мотивы народной поэзии чрезвычайно талантливо воплотились в творчестве близкого гёттингенцам Готтфрида Августа Бюргера (Gottfried August Buerger, 1747–1794), создателя немецкой и европейской литературной баллады. Бюргером всегда двигала великая любовь к немецкому языку и творчеству родного народа. В одном из своих писем он писал: «Я… люблю все немецкое. Моим самым горячим желанием всегда было принести пользу отечеству. Есть ли в науке отрасль, более заслуживающая того, чтобы ею занимались мужи, чем родной язык?» Бюргер с самой ранней юности разделял идеи Лессинга, Клопштока и особенно Гердера о национальном самобытном искусстве. Имена Лессинга и Клопштока значили для него гораздо больше, чем имена полководцев и князей. В стихотворении «Клопштоку-поэту и Лессингу-критику» (1775) Бюргер говорит: «Когда я думаю о вас, сердце мое гордится моей родиной». Ему были чрезвычайно близки взгляды Гердера на народное творчество. «Гердер, – писал он, – выразил то, что я сам думал и чувствовал». Бюргеру была очень близка эстетика и поэтика гёттингенцев, особенно Фосса, однако он не разделял их излишней религиозной экзальтированности и излишнего неприятия творчества Виланда, который благословил его на путь поэта.
Судьба поэта была нелегкой. Родившийся в семье сельского пастора в Мольмерсвенде (Гарц), Бюргер из-за материальных трудностей только в 12 лет поступил в гимназию в Ашерслебене. За острую эпиграмму, написанную на директора гимназии, он был подвергнут порке. Дед будущего поэта вступился за внука, заставил директора извиниться. Однако пришлось перевести мальчика в педагогическое училище в Галле. Там же Бюргер поступил на богословский факультет университета, но, не чувствуя призвания к теологии, в 1768 г. перевелся в Гёттинген, где до 1772 г. изучал право и философию. В том же году ему принесла первый успех небольшая поэма «Ночное празднество Венеры» (1772), представлявшая вольную обработку анонимной латинской поэмы и написанная в русле рококо. Поэма, утверждавшая свободу и независимость личности, право человека на счастье и радости бытия, удостоилась одобрения самого Виланда. Бюргер много пишет в русле анакреонтики, ему покровительствует И.В.Л. Глейм («наседка талантов», как любя называл его Гёте).
Однако внешнее положение поэта незавидное: он вынужден занять должность деревенского судьи в поместье графов фон Усларов – «в шести прелестных деревнях», как говорил сам Бюргер. И хотя деревни были прелестными и живописными, должность судьи была чрезвычайно тягостной для поэта, который не мог закрывать глаза на несправедливость и злоупотребления, чинимые хозяевами. Он очень остро переживает горести и беды крепостных, стремится их защищать и все больше впадает в немилость к графу. Жалованье его очень скудно, он испытывает все большую нужду. «Я чувствую себя так, как будто меня живым закопали в могилу, мне душно, я задыхаюсь!» Глейм пытается выхлопотать для талантливого поэта стипендию у Фридриха II, знакомит его с ранним стихотворением Бюргера «Деревенька», написанным в любимой королем сентиментально-идиллической и одновременно изящно-рокайльной манере. Однако все оказалось напрасным. Бюргеру так и не удалось освободиться от ненавистной должности деревенского судьи. Это бремя он влачил до 1784 г., пока его отношения с графами не расстроились окончательно. Бюргер оставил службу совершенным бедняком. Поэт мучительно переживал и трагедию своей личной жизни: он полюбил свою свояченицу (сестру жены) Молли. Ей Бюргер посвятил цикл стихотворений 80-х гг. «К Молли». Хотя поэт прославляет любовь как естественное чувство и утверждает, что истинная любовь не может быть грехом, он мучается непониманием окружающих. Такое же непонимание Бюргер встречает и в Гёттингенском университете, где с 1784 г. он читает лекции по эстетике и стилистике. Ему так и суждено до конца жизни остаться внештатным преподавателем, ибо гёттингенская профессура относится к нему с открытой враждебностью. Бюргер умер от туберкулеза в возрасте 47 лет, так и не осуществив многих своих замыслов и начинаний.
Самым ярким и плодотворным периодом творчества Бюргера был собственно штюрмерский период (1773–1776), когда он создал свои лучшие баллады, положив начало жанру литературной баллады не только в немецкой, но и в европейской литературе, – жанру, чрезвычайно популярному как в XIX в. (особенно у романтиков), так и в XX. Между 1773 и 1775 гг. написаны такие знаменитые баллады Бюргера, как «Граф-разбойник», «Сон бедной Зусхен», «Ленора», «Дикий охотник». Поэт опирается на народные сказания и песни, но всегда актуализирует сюжет, часто перенося его в современность, насыщая остросоциальной проблематикой. Баллады Бюргера, достаточно обширные по объему лиро-эпические произведения с сильными элементами драматизма, чрезвычайно динамичные, с неожиданной сюжетной развязкой, обязательно включающие мастерски построенный диалог, пластичные и конкретные по своей образности, написанные живым разговорным языком, часто с элементами просторечия, стали классическими образцами жанра. В 1773 г. поэт шутливо писал друзьям-гёттингенцам: «Вы все должны с дрожащими коленями пасть предо мною ниц и признать меня Чингисханом в балладе».
Баллада «Граф-разбойник» («Der Raubgraf», 1773), вызвавшая восторженный отзыв Гёте, основана на народном предании, бытовавшем в Гарце и связанном с реальными фактами. В XIV в. в окрестностях Кведлинбурга один граф совершал разорительные набеги из своего поместья на горожан. Но сами сверхъестественные силы решили прийти им на помощь: во время одного из набегов ведьма обернулась графской лошадью и примчала разбойника прямо в руки горожан. Они поместили его в клетку, где он с голоду пожрал себя самого. В финале автор говорит, что в ту же клетку неплохо бы отправить современных «маркизов-разбойников», намекая на французских авантюристов, которым Фридрих II активно сдавал в аренду должности сборщиков податей. В балладе «Дикий охотник» («Der wilde Jäger», 1773) еще одного преступного графа, который во время охоты вытаптывает поля, уничтожает крестьянский скот, который не пощадил даже хижину отшельника, постигает кара Божья: до самого Страшного Суда он не будет знать покоя и носиться среди адского пламени, преследуемый дьявольской сворой.
Самая знаменитая баллада Бюргера – «Ленора» («Lenore», 1773), в основе которой – представленный в фольклоре разных народов сюжет о мертвом женихе, явившемся за своей невестой (в свою очередь это вариация еще более древнего архетипа о мертвеце, покидающем могилу, чтобы забрать с собой живого). Бюргер сообщал: «Я заимствовал сюжет этой баллады из песни, которую пели в старину за прялкой». Новаторство поэта заключается в том, что он перенес архетипический сюжет в конкретную историческую ситуацию, в недавнее прошлое: мертвый жених, обманутый во всех своих надеждах и не находящий успокоения, оказывается солдатом прусской армии, погибшим в Пражской битве (6 мая 1757), которую выиграл Фридрих II, воевавший с австрийской императрицей Марией Терезией. Баллада открывается страшным сном Леноры – предвестием несчастья:
Леноре снились смерть и кровь, Проснулась в тяжком страхе. «Где ты, Вильгельм? Забыл любовь Иль спишь в кровавом прахе?» Он с войском Фридриха весной Ушел под Прагу в смертный бой И ни единой вести Не шлет своей невесте. (Здесь и далее перевод В. Левика)Наконец-то наступает момент возвращения солдат домой, и сон Леноры сбывается: ее жениха Вильгельма нет среди уцелевших. Горе девушки беспредельно.
И, разметав волос волну, Она в смятенье диком На землю пала с криком. И к ней бежит в испуге мать, Приникла к ней, рыдая. «Над нами Божья благодать, Не плачь, не плачь, родная!» — «О мать, о мать, Вильгельма нет, Постыл, постыл мне Божий свет, Не внял Господь Леноре. О горе мне, о горе!»Мир рушится для Леноры. Она усомнилась в милости Бога, ее не могут утешить никакие слова. Основному действию баллады предшествует долгий диалог между Ленорой и ее матерью, которая призывает дочь смириться, уповать на встречу с женихом в раю. Но Ленора хочет только одного – смерти. И смерть приходит вместе с мертвым женихом, только героиня не подозревает об этом, ибо наяву видит своего Вильгельма. Стих Бюргера необычайно пластичен и звучен:
И вдруг, и вдруг, тук-тук, тук-тук! Донесся топот гулкий, И будто всадник спрыгнул вдруг В притихшем переулке. И тихо, страшно, дзин-дзин-дзин, У входа звякнул ржавый клин, И хрипло крикнул кто-то В закрытые ворота…Центральная часть баллады, изображающая стремительный галоп Вильгельма верхом на лошади, с прижавшейся к нему Ленорой, исполнена чрезвычайной динамики и построена на приеме трагической иронии: страшная истина скрыта от Леноры, которая думает, что они скачут к месту свадьбы, к уютному дому, в котором их ждет счастье. Но смутная тревога не покидает героиню, ибо ее жених все время вспоминает мертвых, и слишком дико скачет конь, и скачут дали, и толпа полночных духов сопровождает своей пляской неистовый галоп (Бюргер варьирует также распространенный мотив «пляски мертвых»). Усиливая свойственное немецкому фольклору тяготение к мрачной фантастике, поэт мастерски создает ощущение мистического ужаса, когда брачная чета въезжает на кладбище и жених Леноры на ее глазах превращается в отвратительный скелет. Вместо счастья, на которое так надеялась героиня, ее ждет разверстая пасть могилы. В финале духи, кружась в танце над обреченной Ленорой, поют слова слабого утешения: «Терпи, терпи, хоть ноет грудь; // Творцу в бедах покорна будь; // Твой труп сойди в могилу! // А душу Бог помилуй!» (перевод В.А. Жуковского).
Этот финал поражает безысходностью, в чем упрекали Бюргера, ценя художественную силу его баллады, даже близкие друзья по штюрмерскому кругу Поэту же важно было подчеркнуть остроту горя человека из народа, судьбу, которую переехала тяжкая колесница войны, с такой легкостью приведенная в движение сильными мира сего. Образ Леноры соединяет в себе историческую конкретность и обобщение. «Как и Ленора, – замечает Л.Я. Лозинская, – тысячи немецких девушек ждали и не дождались с поля боя женихов. Как и Ленора, народ проклинал войну, чуждую его интересам, источник неисчислимых бед и страданий…Взрыв отчаяния Леноры – выражение стихийного протеста народа против существующего порядка»[88].
«Ленора» Бюргера оказала большое влияние не только на дальнейшее развитие жанра баллады в Германии, но и на становление русской романтической баллады. Именно она привлекла к себе внимание русских поэтов В.А. Жуковского и П.А. Катенина, создавших ее вольные переложения: первый на ее основе написал «Людмилу» (1808) и «Светлану» (1808–1812), второй – «Ольгу». При этом Жуковский смягчил мрачный колорит оригинала. Пушкин называет его переложение «неверным и прелестным подражанием», в то время как Катенин, по словам Пушкина, «вздумал показать нам Ленору в энергической красоте ее первобытного создания». Тем не менее именно баллады Жуковского чрезвычайно полюбились русской читающей публике. Значительно позднее Жуковский выполнил перевод «Леноры» (1831), стремясь передать атмосферу подлинника. Как пишет А.А. Гугнин, «Жуковский до определенного времени… ставил баллады Бюргера выше Шиллера, особенно ценил живописность и простонародность языка Бюргера, хотя самому ему так и не удалось до конца передать эмоциональную силу простонародных выражений Бюргера – даже в позднем переводе»[89].
Огромной популярностью пользовалась также баллада Бюргера «Дочь пастора из Таубенхайна» (1776; вторая редакция – 1781), в основе которой один из самых излюбленных сюжетов штюрмерской литературы – о девушке, соблазненной и брошенной знатным возлюбленным, а затем в отчаянии убившей своего ребенка. Бюргер столкнулся с таким сюжетом в самой жизни: в 1781 г. ему пришлось разбирать подобное дело в усадьбе графов Усларов, и он попытался все сделать для того, чтобы помочь несчастной детоубийце. Ее история так повлияла на поэта, что он даже задумал трагедию на этот сюжет, но затем обработал его в уже апробированном им и внутренне весьма драматичном жанре баллады. Ее главная героиня, Розетта, предстает не как преступница, но как жертва бесчеловечного общества, отравленного ядом сословных предрассудков. Баллада о несчастной пасторской дочери из Таубенхайна вызвала множество анонимных подражаний и переработок в последующей немецкой поэзии, на ее основе возникли кукольный спектакль и лубочный роман, она сохраняла широкую популярность в народе и в XIX в.
Бюргер обращался не только к немецким сюжетам. Так, в балладе «Ленардо и Бландина», посвященной критике сословных предрассудков, обработан сюжет из «Декамерона» Дж. Боккаччо. В наследии Бюргера есть и образцы политической лирики, в которых поэт выступает как защитник человека из низов и обличитель феодального деспотизма. Большую известность получило стихотворение «Крестьянин – своему светлейшему тирану» (1773), в котором отповедь князю вложена в уста крестьянина:
Посевы, что ты топчешь, князь, Что пожираешь ты с конем, Мне, мне принадлежат. Ты не пахал, не боронил, Над урожаем не потел; И труд, и хлеб – мои. Ты – власть от Бога? Вздор! Господь — Податель благ земных, а ты — Грабитель и тиран. (Перевод О. Румера)В 1789 г. выходит второе издание стихотворений Бюргера. Большим ударом для поэта было появление во «Всеобщей литературной газете» за 1791 г. отрицательной рецензии Шиллера на этот сборник. Шиллер обвиняет Бюргера в излишней конкретности, даже натуралистичности, в примитивизме, в отсутствии гармонического идеала, возвышающего над прозой жизни. Критика Шиллера была обусловлена его переходом от штюрмерской эстетики на позиции «веймарского классицизма», в связи с чем он считал слабыми и свои ранние произведения. Не разделял преданности Бюргера штюрмерским принципам и Гёте, хотя продолжал считать его талантливым поэтом и взялся за организацию подписки на задуманный им перевод «Илиады» Гомера.
Болезнь, нищета и смерть помешали осуществлению многих начинаний Бюргера. Тем не менее он навсегда оставил яркий след в истории немецкой и европейской поэзии, оказав значительное влияние на романтиков, особенно на Гейне. Еще ранее под обаянием Бюргера находился его студент А.В. Шлегель, защищавший учителя от травли гёттингенской профессуры, а также поддерживавший его духовно после появления резкой рецензии Шиллера. Позже, однако, уже став признанным теоретиком романтизма, Шлегель также упрекает Бюргера в излишней злободневности, отдавая предпочтение перед его балладами старинным английским балладам. Защищая Бюргера, Гейне писал в «Романтической школе»: «Старые английские баллады, собранные Перси, передают дух своего времени, а стихотворения Бюргера передают дух нашего. Этого духа г. Шлегель не понял. Иначе в безудержности, с которой этот дух иногда прорывается в стихотворениях Бюргера, он ни в коем случае не услышал бы грубого окрика неотесанного школьного учителя, а скорее страдальческий вопль титана, которого ганноверские аристократишки и школьные педанты замучили до смерти…»
Видным представителем штюрмерского движения был поэт, публицист и композитор Кристиан Фридрих Даниэль Шубарт (Christian Friedrich Daniel Schubart, 1739–1791), деятельность которого развернулась в Швабии. Шубарт родился в семье сельского учителя, ставшего затем пастором, окончил богословский факультет Эрлангенского университета и служил сельским учителем и органистом. В 1769 г. он оказался в Людвигсбурге, резиденции герцога Вюртембергского (Карла Евгения), где снискал себе славу поэта, композитора, исполнителя, чрезвычайно остроумного собеседника. Однако в 1773 г. Шубарт был изгнан из высшего света за насмешки над властями и католическим духовенством. Он вынужден покинуть владения герцога Вюртембергского и отправиться в скитания. В это время написаны многие его произведения, в том числе новелла «Из истории человеческого сердца» (1775), подсказавшая Шиллеру сюжет его «Разбойников». С 1774 г. Шубарт начинает издавать в «вольном городе» Аугсбурге газету «Немецкая хроника», редактором и единственным автором которой он был. Острая критика немецкой действительности вызвала преследования газеты. Сначала Шубарт переносит ее издание в протестантский город Ульм, где его навещают Гёте, братья Штольберги, Клингер. Он поддерживает тесные дружеские отношения с И.М. Миллером. Однако в 1777 г. журналист без суда был брошен в тюрьму по приказу герцога Вюртембергского, так как он осмелился назвать его военную академию – Карлсшуле – «питомником рабов».
В крепости Гоенасперг Шубарт томится долгих десять лет, преодолевая отчаяние и ужас одиночного заключения писательством. В заключении написаны «Тюремные стихотворения» (опубликованы в 1785 г.) и автобиографическая книга «История жизни и убеждений Шубарта, составленная им самим в тюрьме» (первый том вышел в год смерти – 1791, второй – посмертно, в 1793 г.). У поэта все время отбирали орудия письма (он пытался писать щипцами для снятия нагара, вилкой и т. и.) и написанное; в результате он продиктовал свою книгу соседу по заключению через щель в стене под печью. Безвозвратно пропали многие стихотворения, написанные в тюрьме. «Среди них, – писал поэт, – я особенно сожалел о “Свободе”, о стихотворениях, посвященных Клопштоку и Миллеру, и о наброске “Блудный сын”».
После освобождения Шубарт продолжил издание своей газеты, выходившей в 1787–1791 гг. под разными названиями: «Отечественная хроника Шубарта», «Отечественная хроника», «Хроника», однако теперь газета носила более умеренный характер. В конце жизни Шубарт был также директором театра в Штутгарте.
Шубарт явился создателем знаменитых образцов политической лирики: «Немецкая свобода» (1786), «Мыс Доброй Надежды» (1787), «Гробница государей» (1779). Особенно широкую известность получило последнее стихотворение, которое можно квалифицировать и как небольшую поэму. В ней поэт, исполненный гражданского гнева, трансформирует традиционные мотивы «кладбищенской элегии», превращая ее в обличительную сатиру. С иронией и сарказмом он размышляет над прахом власть имущих, не избежавших общей участи смертных:
Так вот они, те, перед кем со страхом Все прежде простирались ниц; Они теперь презренным стали прахом На дне своих гробниц. …Вот черепа людей, что устрашали Того, кто был неустрашим. Когда-то жизнь и смерть они решали Одним кивком своим. Вот кость руки, что утверждала казни Бесстрашным росчерком пера Всем доблестным, не ведавшим боязни Перед лицом двора. (Здесь и далее перевод Е. Эткинда)Гнев и горечь нарастают, когда поэт говорит о предельной жестокости и бессовестности «хозяев жизни», которые, ничуть не сомневаясь в собственной непогрешимости, калечили судьбы людей и отнимали их свободу и жизнь:
Для них струились музыкантов трели, Гремел рожок и барабан… Глас совести они убить хотели, Который смертным дан. Они вчера своим расположеньем Дарили псов и потаскух, Калеча мудрость и с ожесточеньем Давя свободный дух. И вот они гниют на дне могилы, Где черви, прах и душный смрад. Какой конец!.. И никакие силы Им жизнь не возвратят.Гнев достигает апогея в финале поэмы, где автор предрекает неумолимое наказание тиранам, когда они предстанут перед Судом Божьим:
Не разбудите деспотов до срока. Века стремительно бегут! Злодеев призовет по воле рока Труба на Страшный Суд! На Страшный Суд, где яростным тиранам, На коих Божий гнев слетел, Придется задохнуться под курганом Своих зловещих дел…В ином, фольклорно-песенном ключе написано стихотворение «Мыс Доброй Надежды», также исполненное горечи и гнева. Оно возникло как отклик на отправку в Африку двух батальонов солдат, проданных Карлом Евгением голландской Ост-Индской компании для службы в колониальных войсках. Юноши, навсегда покидающие свой дом, прощаются с отцами и матерями, невестами и женами, прощаются с родиной. Шубарт сам написал музыку к этому стихотворению, и оно надолго стало одной из самых популярных народных песен.
Многие лирические стихотворения Шубарта в соответствии с установками штюрмерской эстетики были написаны в стилистике народной песни и действительно были восприняты народом как свои. Из них особенную популярность приобрели «Зимняя песня швабского парня», «Свадебная песня Лизхен», «Крестьянин зимой» и некоторые другие.
Фридрих Шиллер
В Швабии, на излете штюрмерского движения, начался творческий путь великого немецкого драматурга Иоганна Кристофа Фридриха Шиллера (Johann Christoph Friedrich Schiller, 1759–1805)[90], оставившего также яркий след в поэзии. Шиллер дебютировал именно как поэт: в 1776 г. в «Швабском журнале» было напечатано его стихотворение «Вечер» («Der Abend»), яркими красками рисующее закат и несущее на себе очевидное влияние Клопштока. Ранние стихотворения Шиллера вошли в сборник «Антология на 1782 год» («Anthologie auf das Jahr 1782»). Христианские образы и мотивы соседствуют здесь с античными («Прощание Гектора», 1780), экзальтация и чувствительность соединяются с пафосом отрицания несправедливого мира, с вызовом сильным мира сего, с протестом против всего, что сковывает человеческий дух. В стихотворении «Руссо» («Rousseau», 1781) молодой Шиллер отдает дань любви и уважения великому французкому мыслителю и писателю, чрезвычайно близкому ему и оказавшему такое большое влияние на все штюрмерское движение:
Монумент, возникший злым укором Нашим дням и Франции позором, Гроб Руссо, склоняюсь пред тобой! Мир тебе, мудрец уже безгласный! Мира в жизни ты искал напрасно — Мир нашел ты, но в земле сырой. Язвы мира ввек не заживали: Встарь был мрак – и мудрых убивали. Нынче свет, а меньше ль палачей? Пал Сократ от рук невежд суровых. Пал Руссо – но от рабов Христовых, За порыв создать из них людей. (Перевод Л. Мея)Молодой поэт продолжает клопштоковскую и шубартовскую тему гневного обличения немецких князей. В большом стихотворении «Дурные монархи» («Die schlimmen Monarchen», 1781), написанном в трагииронической манере, Шиллер, становясь в условную позу придворного поэта, обращается к монархам с гневным вызовом:
Говорите! Взять ли мне цевницу В час, когда, взойдя на колесницу, На толпу взирает властелин? Иль иное должен воспевать я, Как король меняет панцирь на объятья Обнаженных фрин? Может, в раззолоченном чертоге Смелый гимн сложить я должен, боги, Как во мгле мистических теней Скука наряжается в беспечность, Преступленья пожирают человечность До последних дней? (Здесь и далее перевод Л. Гинзбурга)Как и Шубарт в «Гробнице государей», Шиллер провозглашает неизбежность Суда Божьего над тиранами и утверждает гражданскую позицию поэта, не имеющего права молчать перед лицом зла:
Вас не скроют замки и серали, Если небо грянет: «Не пора ли Оплатить проценты? Суд идет!» Разве шутовское благородство От расчета за вчерашнее банкротство Вас тогда спасет? Прячьте же свой срам и злые страсти Под порфирой королевской власти, Но страшитесь голоса певца! Сквозь камзолы, сквозь стальные латы — Все равно! – пробьет, пронзит стрела расплаты Хладные сердца!С самого начала поэзия Шиллера отмечена не только страстной эмоциональностью, но и аналитизмом, тяготением к развернутому философскому размышлению. Одним из лучших ранних стихотворений поэта является «Величие мира» (1781), в котором переданы неукротимый порыв человеческого духа, дерзание мысли, стремящейся объять мироздание:
Над бездной возникших из мрака миров Несется челнок мой на крыльях ветров. Проплывши пучину, Свой якорь закину, Где жизни дыхание спит, Где грань мирозданья стоит. …И вихря и света быстрей мой полет. Отважнее! в область хаоса! Вперед! Но тучей туманной По тверди пространной Ладье дерзновенной вослед Клубятся системы планет. (Здесь и далее перевод М. Михайлова)Истинно штюрмерский дерзновенный порыв, неукротимое стремление, прославление не только величия мира, но и величия человека соединяются в финале с сомнением в возможности изведать мир, достичь «грани мирозданья», а также в самой возможности беспредельной свободы духа: «Напрасны усилья! // Орлиные крылья, // Пытливая мысль, опускай // И якорь, смиряясь, бросай!» В этом финале нельзя не усмотреть намек на начало процесса переоценки штюрмерских ценностей.
После 1781 г., отмеченного интенсивностью поэтического творчества, Шиллер на долгое время отходит от поэзии, а после завершения трагедии «Дон Карлос» (1787) – и от драматургии. Он переживает творческий кризис: мучительно, как и у Гёте, происходит переход на иные философские и эстетические позиции. При этом как клятва неизменным принципам свободы, человечности, дружбы и любви – к Богу, к миру, к человеку и человечеству в целом – прозвучала знаменитая «Ода к Радости» («An die Freude», 1785), соединяющая традицию анакреонтической вакхической песни и высокой поэзии мысли. Стихотворение выражает глубокую веру Шиллера – в духе присущего веку Просвещения деизма и исторического оптимизма – в осмысленность созданного Творцом мира, в поступательное движение человеческой истории, в то, что дружба и любовь преобразят и гармонизируют мир, извращенный уродливой цивилизацией:
Freude, schoener Götterfunken, Tochter aus Elysium, Wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, Was die Mode streng geteilt, Alle Menschen werden Brüder, Wo dein sanfter Flügel weilt. Радость, пламя неземное, Райский дух, слетевший к нам, Опьяненные тобою, Мы вошли в твой светлый храм. Ты сближаешь без усилья Всех разрозненных враждой, Там, где ты раскинешь крылья, Люди – братья меж собой. (Здесь и далее перевод И. Миримского)Финальная строка первой строфы в русском переводе, точнее звучащая в оригинале как «Alle Menschen werden Brüder!» («Все люди станут братьями!»), наиболее полно и одновременно афористично выражает просветительский оптимизм Шиллера. Каждая строфа оды сопровождается хоровой партией, и уже первая хоровая строфа несет в себе страстный призыв к единению человечества в его радостном и неукротимом восхождении к братской любви, к Богу:
Seid umschlungen, Millionen! Diesen Kuss der ganzen Welt! Brüder – überm Sternenzelt Muss ein lieber Vater wohnen. Обнимитесь, миллионы! Слейтесь в радости одной! Там, над звездною страной, — Бог, в Любовь пресуществленный.Точнее, в последней строке первой хоровой строфы поэт говорит о любящем Отце, обитающем над звездным сводом. Именно Он – Вселюбящий Бог – дал миру закон вечной дружбы и любви, и только тот, кто живет согласно этому закону, способен войти в союз истинных сердец:
Was den grossen Ring bewohnet, Huldige der Sympathie! Zu den Sternen leitet sie, Wo der Unbekannte thronet. Все, что в мире обитает, Вечной дружбе присягай! Путь ее в надзвездный край, Где Неведомый витает.Стихотворение отмечено элементами панентеизма, особым ощущением органической взаимосвязи всего сущего, чувством преклонения перед матерью-природой, которая «все живое // Соком радости поит…» Мировидению Шиллера свойственны особые космизм и масштабность, его отличает умение ощутить ход мирового времени. Как и у Клопштока, страстный протест против тирании и угнетения, сочувствие страдающим и униженным соединяются с напряженной религиозной мыслью о загробном воздаянии, о Высшем Суде в конце истории и Спасении человечества (русский перевод в этом смысле неточен: речь идет не об уничтожении долговых книг в огне революции, но об искуплении вины, записанной в некую «Книгу вины» – Schuldbuch):
Duldet mutig, Millionen! Duldet für die bessre Welt! Droben überm Sternenzelt Wird ein grosser Gott belohnen. …Unser Schuldbuch sei vernichtet! Ausgesöhnt die ganze Welt! Brüder – überm Sternenzelt Richtet Gott, wie wir gerichtet. Выше огненных созвездий, Братья, есть блаженный мир, Претерпи, кто слаб и сир, — Там награда и возмездье! …В пламя, книга долговая! Мир и радость – путь из тьмы. Братья, как судили мы, Судит Бог в надзвездном крае.Ода завершается клятвой служить добру и праведности, противостоять насилию и несправедливости, сохранять духовную стойкость и верность «звездному Судии» (*Sternenrichter), то есть Богу:
Festen Mut in schweren Leiden, Hilfe, wo die Unschuld weint, Ewigkeit geschwomen Eiden, Wahrheit gegen Freund und Feind, Männerstolz vor Königsthronen — Brüder, gält es Gut und Blut: Dem Verdienste seine Kronen, Untergang der Lügenbrut! Schliesst den heil’gen Zirkel dichter, Schwört bei diesem goldnen Wein, Dem Gelübde treu zu sein, Schwört es bei dem Sternenrichter! Стойкость в муке нестерпимой, Помощь тем, кто угнетен, Сила клятвы нерушимой — Вот священный наш закон! Гордость пред лицом тирана (Пусть то жизни стоит нам), Смерть служителям обмана, Слава праведным делам! Братья, в тесный круг сомкнитесь И над чашею с вином Слово соблюдать во всем Звездным Судией клянитесь!Удивительная особенность «Оды к Радости» заключается в соединении четкой кристаллической формы, необычайно звучной рифмы, великолепной эвфонии и гибкости, раскованности интонации. Экзальтация духа и напряженное пульсирование мысли привносят в оду яркие гимнические элементы, превращают ее скорее в религиозно-философский гимн в русле немецкой «лирики мысли», созданной Броккесом, Галлером и Клопштоком. Высочайшие поэтические качества «Оды к Радости» привлекли к ней внимание Людвига ван Бетховена: хор, поющий этот шиллеровский текст, венчает «Девятую симфонию», прозванную «Героической», что окончательно превратило его в сознании культуры в апофеоз свободного героического духа.
Во второй половине 80-х гг. Шиллер постепенно расстается со штюрмерскими идеалами. Его поэзия существенно меняется, и особенно в 90-е гг., прежде всего под влиянием философии и эстетики Канта «критического» периода, концепции античности, созданной И.И. Винкельманом, под воздействием творческих установок Гёте и личного общения с ним. Параллельно с Гёте, но начав этот путь самостоятельно, Шиллер создает свой вариант «веймарского классицизма», связанного с преодолением убожества действительности, поисками идеального благородного героя, с убежденностью, что «путь к свободе ведет через красоту» («Письма об эстетическом воспитании человека», 1793–1795), и прежде всего – через восприятие прекрасного искусства. Отныне это творчество в духе античного искусства с его «благородной простотой и спокойным величием» (Винкельман). Увлечение античностью было для поэта способом как самозащиты духа, так и протеста против современного состояния общества. Древняя Греция была для него олицетворением гармоничного единства духа и природы, воплощением счастливой юности человечества. В программном стихотворении «Боги Греции» (1788) Шиллер бесконечно скорбит об утрате этой блаженной юности, резко противопоставляя мир Эллады и современное состояние общества. В блаженном мире Эллады человек ощущал органическое родство с миром природы, воплощенным в образах прекрасных греческих богов, человек жил красотой и ощущал полноту бытия. И главное – в этом прекрасном мире каждый был прирожденным поэтом, ибо одухотворял всю природу:
В дни, когда вы светлый мир учили Безмятежной поступи весны, Над блаженным пламенем царили Властелины сказочной страны, — Ах, счастливой верою владея, Жизнь была совсем, совсем иной В дни, когда цветами, Киферея, Храм увенчивали твой! В дни, когда покров воображенья Вдохновенно правду облекал, Жизнь струилась полнотой творенья, И бездушный камень ощущал. Благородней этот мир казался, И любовь к нему была жива; Вещим взорам всюду открывался След священный божества. Где теперь, как нас мудрец наставил, Мертвый шар в пространстве раскален, Там в тиши величественной правил Колесницей светлой Аполлон. Здесь, на высях, жили ореады, Этот лес был сенью для дриад, Там из урны молодой наяды Бил сребристый водопад. (Здесь и далее перевод М. Лозинского)Поэт отчетливо осознает, что этот мир красоты ушел безвозвратно, в чем и состоит главная трагедия настоящего. Мир стал мертвенно-схоластическим, закованным в догмы (здесь нельзя не ощутить упрека, обращенного к официальному христианству), а в результате – обезбоженным:
Где ты, светлый мир? Вернись, воскресни, Дня земного ласковый расцвет! Только в небывалом царстве песни Жив еще твой баснословный след. Вымерли печальные равнины, Божество не явится очам; Ах, от знойно-жизненной картины Только тень осталась нам. Все цветы исчезли, облетая В жутком вихре северных ветров; Одного из всех обогащая, Должен был погибнуть мир богов. Я ищу печально в тверди звездной: Там тебя, Селена, больше нет; Я зову в лесах, над водной бездной: Пуст и гулок их ответ! Безучастно радость расточая, Не гордясь величием своим, К духу, в ней живущему, глухая, Не счастлива счастием моим, К своему поэту равнодушна, Бег минут, как маятник, деля, Лишь закону тяжести послушна, Обезбожена земля.Уже здесь звучит мысль о том, что залог возрождения земли, обновления человечества – в возрождении духа самой поэзии, того духа, который был так полно воплощен в греческом искусстве. И хотя это только форма, доставшаяся нам в наследство, она спасет мир, ибо сама пребывает в мире вечности. Однако эта надежда высказана глухо, лишь намеком, ибо поэт понимает необратимость земного времени, невозможность в прямом смысле возвращениия античного мира. Он ушел, как ушли навсегда боги Греции:
Да, ушли, и все, что вдохновенно, Что прекрасно, унесли с собой, — Все цветы, всю полноту вселенной, — Нам оставив только звук пустой. Высей Пинда, их блаженных сеней, Не зальет времен водоворот: Что бессмертно в мире песнопений, В смертном мире не живет.«Боги Греции» предваряют размышления Шиллера в его программной статье «О наивной и сентиментальной поэзии» (1795): в обоих случаях речь идет о двух типах искусства – «наивном», в котором художник ощущает гармоническое единство с природой (действительностью) и отражает ее (поэтому он «реалист»), и «сентиментальном», в котором художник ощущает разрыв между действительностью и идеалом и отражает именно последний, созданный в его душе (поэтому он «идеалист»): «Поэт либо сам – природа, либо ищет ее. Первое делает поэта наивным, второе – сентиментальным». По мысли Шиллера, образцом истинно «реалистической» («наивной») поэзии и была поэзия античная, создававшаяся людьми, жившими в одном мире с богами – Божественной сущностью, открывавшейся человеку через природу и создаваемое им прекрасное искусство. Ведь еще в ранней статье «Музей антиков в Мангейме» (1785) поэт писал: «Греки изображали своих богов в виде облагороженных людей и тем приближали своих людей к богам». При этом, безусловно, античность идеализируется Шиллером – именно в духе «сентиментальной» («идеальной») поэзии, в соответствии с его собственными словами: «…поэт ищет природу, но как идею, и столь совершенную, какой она никогда не была, хотя он и оплакивал ее как некогда существовавшее и ныне утраченное». Речь идет об элегическом изображении (точнее, выражении, осмыслении) жизни, связанном с оплакиванием недостижимого идеала (именно эти размышления Шиллера окажут сильное воздействие на Ф. Шлегеля и формирующийся романтизм), задача же изображения идиллического (в понимании Шиллера) – в утверждении надежды на осуществимость идеала.
Современный поэт, по мысли Шиллера, не может не быть идеалистом, ибо он черпает материал своей поэзии из собственного духовного мира, стремясь воплотить идеал, не существующий в действительности. При этом достижение идеала в обществе возможно именно через художника, через воспитание красотой, через преобразующую роль искусства. «Совершенство человека придет лишь тогда, когда научная и нравственная культура снова растворится в красоте», – писал поэт своему другу К.Г. Кернеру, комментируя собственное стихотворение «Художники» («Die Künstler», 1789), также имеющее программный характер. Шиллер подчеркивает, что именно искусство дает смысл миру, поднимает человека на самую высокую ступень человеческого – искусство, которое служит красоте, создает красоту, возвращает человека к изначальной гармоничной красоте, явленной в античном искусстве. Так постепенно кристаллизуется основная философско-эстетическая идея, лежащая в основе «веймарского классицизма»: стремление к «теократии красоты» (выражение Ф. Гёльдерлина), осмысление эстетического воспитания как единственного пути преображения мира. Показательно, что и стихотворение «Художники», написанное в год начала Великой Французской революции, и «Письма об эстетическом воспитании человека», создававшиеся в годы якобинской диктатуры, принципиально отвергают путь политической борьбы, насильственной ломки общества, путь крови и террора.
Примерно на пять лет (1789–1794) Шиллер умолкает как поэт и занимается в основном философскими и эстетическими проблемами. Возвращению его к художественному творчеству, к поэзии во многом способствует личное знакомство с Гёте в 1794 г. и начавшееся интенсивное общение с ним. Задолго до этого Шиллер восхищался невероятной творческой мощью Гёте: «Ему дано гораздо больше творческой мощи, нежели мне, притом он гораздо богаче знаниями, у него верное понимание чувств, а кроме всего этого – художественный вкус, очищенный и утонченный знакомством с самыми разнообразными искусствами» (письмо Кёрнеру 25 февраля 1789 г.). При этом он подчеркивал и существенные отличия между собой и Гёте в философских взглядах, в подходе к искусству: «Его философии я тоже не приемлю целиком: она слишком много черпает из чувственного мира там, где я черпаю из души. Вообще строй его представлений, по-моему, слишком чувственный и слишком эмпиричный» (письмо Кёрнеру 1 ноября 1790). Шиллер полагает, что поэт должен воссоздавать не самоё действительность, но ее идеальный образ, не опускаться до излишней и тем более грубой конкретики. (С этим связаны его резкая критика поэзии Бюргера и утверждение: «Необходимый прием поэзии – идеализация ее предмета, без которой поэт не заслуживает имени поэта»). Однако постепенно оба великих поэта – Гёте и Шиллер – сближались в своих творческих установках, при этом Гёте все более побуждал Шиллера соединять стремление к созданию обобщенно-идеальных образов с пластическим воссозданием жизни, а Шиллер вдохновлял Гёте на работу над глобальными обобщающими темами, в частности – на продолжение и завершение «Фауста».
Стихотворения Шиллера 1795–1796 гг. посвящены в первую очередь проблемам искусства, места и роли поэта в жизни («Власть песнопенья», «Пегас в ярме», «Дева с чужбины», «Раздел земли», «Идеал и жизнь»). Шиллер утверждает, что поэзия не может быть плоским отражением убогой реальности, не может быть приземленной. Символом ее становится Пегас, с которым никак не может справиться крестьянин Ганс, никак не может надеть на него ярмо и запрячь в плуг вместе с быком, зато с Пегасом легко справляется прекрасный юноша-поэт, взвивающийся на крылатом коне в небо («Пегас в ярме»). При разделе земли поэту, который «в думах о великом // Юдоль земную позабыл» (перевод Л. Гинзбурга), по воле Зевса достается небо («Раздел земли»). Поэт данной ему властью песнопения преображает духовный мир человека, возносит его в царство духа, спасая от пошлой и грубой прозы жизни и истинно даруя свободу («Власть песнопения»):
Как в мир ликующих нежданно, Виденьем страшным, на порог Стопою тяжкой великана Необоримый всходит рок, И вмиг смолкают гул и крики Под грозным взором пришлеца, И ниц склоняются владыки, И маски падают с лица, И перед правдой непреложной Бледнеет мир пустой и ложный, — Так человек: едва лишь слуха Коснется песни властный зов, Он воспаряет в царство духа, Вседневных отрешась оков. Там, вечным божествам подобный, Земных не знает он забот. И рок ему не страшен злобный, И власть земная не гнетет, И расправляются морщины — Следы раздумий и кручины. (Перевод И. Миримского)Поясняя в письме Кёрнеру идею этого стихотворения, Шиллер говорил, что она заключается в следующем: поэт, благодаря данной ему власти песнопенья, «восстанавливает в человеке правду природы» и помогает ему постичь неправду жизни.
Известный германист С.В. Тураев отмечал: «Поэзия Шиллера в эти годы носит умозрительный характер. В философских стихотворениях Шиллера нередко отсутствует конкретный человеческий образ. Реальные приметы чувственного мира почти не проникают в поэтическую ткань. Вся система художественных образов служит для выражения определенной концепции»[91]. Действительно, уже некоторые современники (в том числе и великие, как, например, Виланд) упрекали Шиллера в умозрительности и холодной аллегоричности его лирики. Это было не совсем справедливо, ибо стиль Шиллера, пламенный и энтузиастический, отмеченный виртуозным владением словом, кристаллической четкостью мысли, никогда не был «холодным». Стремление же не столько развернуть цепь пластических образов, сколько показать движение самой мысли, нацеленной на выражение идеала, было сознательной установкой поэта. Шиллер, безусловно, продолжает столь свойственную немецкой поэзии эпохи Просвещения традицию «лирики мысли» (Gedankenlyrik), усиливая при этом именно стихию мысли и лишь изредка воплощая ее в аллегорических мифологических образах (как в стихотворении «Идеал и жизнь», вызвавшем восхищение А.В. Шлегеля именно силой и отточенностью мысли).
Однако во второй половине 90-х гг. в поэзии Шиллера акценты существенно меняются в сторону гармоничного единства интеллектуального и пластического начал, и происходит это во многом под влиянием Гёте. Плодом совместного творчества двух поэтов стал знаменитый цикл эпиграмм «Ксении» («Xenien»; букв, с греч. «подарки гостям»), написанных элегическими дистихами. Опубликованные в «Альманахе муз на 1797 год», «Ксении» вызвали ажиотаж в литературных кругах, ибо содержали в себе не только комплиментарные эпиграммы, посвященные великим писателям (в том числе и современникам) – Шекспиру, Лессингу, Виланду, но и резкие выпады против К.Ф. Николаи, К.В. Рамлера, А.В. Иффланда, Ф.Л. Штольберга и др. Теперь уже практически невозможно установить, какие именно «ксении» написаны Гёте, какие – Шиллером, но, по мнению немецких литературоведов, самые ядовитые сатирические эпиграммы принадлежат именно последнему. Важно, что «Ксении» продемонстрировали сближение эстетических позиций великих писателей, их негативное отношение к Французской революции, к насильственным путям изменения мира, их понимание, что мир может преобразиться только через красоту, воплощенную в прекрасном искусстве.
Во многом результатом совместных дискуссий, совместного осмысления проблем жизни и искусства стали баллады Гёте и Шиллера, написанные ими в 1797 г., навсегда вошедшем в историю литературы под названием «балладного года». Особенно много великолепных баллад написал Шиллер («Кубок», «Перчатка», «Рыцарь Тогенбург», «Поликратов перстень», «Ивиковы журавли» и др.), причем именно Гёте подсказал Шиллеру идеи некоторых его знаменитых баллад или даже «подарил» ему сюжеты как более достойные, по его мнению, дарования младшего друга. Так, например, это произошло с балладами «Кубок» (название дано В.А. Жуковским в его переводе; в оригинале у Шиллера – «Der Taucher» – «Ныряльщик», «Искатель жемчуга») и «Ивиковы журавли» («Die Kraniche des Ibykus»).
В жанре баллады, который до сих пор игнорировал Шиллер, по-новому раскрылся его многогранный талант, заставив многих изменить мнение о нем как о поэте сугубо «умозрительном». Шиллер обнаружил здесь вкус к выразительной художественной детали, к пластическим ландшафтным описаниям, умение создать объемный, индивидуализированный и в то же время предельно обобщенный образ. Гёте первым отметил поэтическую живописность стиля Шиллера, восхищаясь описанием водоворота и подводного мира в первой по времени балладе – «Кубок», описанием тем более удивительным, что поэт никогда не видел моря:
И воет, и свищет, и бьет, и шипит, Как влага, мешаясь с огнем, Волна за волною; и к небу летит Дымящимся пена столбом; Пучина бунтует, пучина клокочет… Не море ль из моря извергнуться хочет? И вдруг, успокоясь, волненье легло; И грозно из пены седой Разинулось черною щелью жерло; И воды обратно толпой Помчались во глубь истощенного чрева; И глубь застонала от грома и рева. …И смутно все было внизу подо мной В пурпуровом сумраке там, Все спало для слуха в той бездне глухой; Но виделось страшно очам, Как двигались в ней безобразные груды, Морской глубины несказанные чуды. Я видел, как в черной пучине кипят, В громадный свиваяся клуб, И млат водяной, и уродливый скат, И ужас морей однозуб; И смертью грозил мне, зубами сверкая, Мокой ненасытный, гиена морская.(Перевод В. Жуковского)
Эту знаменитую балладу уже современники уподобляли драме, столь динамично и неожиданно в ней развитие действия, столь тонки психологические мотивировки поведения отважного юноши и царской дочери, во имя любви к которой герой вторично решается нырнуть в морскую пучину. Чрезвычайно сильно воздействует на читателя и неожиданный (как и положено в балладе) финал, тем более трагический, чем более кратко и афористично выраженный: «И с трепетом в бездну царевна глядит… // И бьет за волною волна… // Приходит, уходит волна быстротечно: // А юноши нет и не будет уж вечно».
В целом в балладах благотворно сказался особый талант Шиллера-драматурга, превращающий их в шедевры балладного жанра. В центре же усилий поэта в балладах – поиски «свободной человечности» (Гёте), идеала гармоничной и совершенной личности. Ставя своих героев в экстремальные ситуации, предельно заостряя драматические коллизии, Шиллер демонстрирует максимально обобщенные и в то же время психологически убедительные модели поведения человека, связанные с высочайшими проявлениями благородства, чести, достоинства, самоотверженности, дружбы, веры, любви. Одновременно поэт обличает тиранию, самодурство, жестокость, неискренность чувств, особенно людей, облеченных властью или принадлежащих к высшим слоям общества (в том же «Кубке» или «Перчатке»).
Особое место среди баллад Шиллера занимают «Ивиковы журавли», являющиеся своеобразным манифестом «веймарского классицизма». Баллада связана со знаменитой античной легендой о реально существовавшем древнегреческом поэте Ивике (VI в. до и. э.), который вел жизнь странствующего певца и прославился своими парфениями (песнями для девичьих хоров), песнями о любви и природе. Согласно преданию, во время одного из странствий поэт был ограблен и убит разбойниками, когда он направлялся в Коринф на Истмийские игры. Однако перед смертью Ивик успел спеть одну из своих прекрасных песен, которую подхватили журавли, пролетавшие в этот момент над местом преступления. И затем журавли с той же песней Ивика пронеслись над агорой Коринфа, где как раз разбирали дело об убийстве поэта. Журавли, помня предсмертный наказ Ивика, своей песней помогают изобличить убийц (точнее, убийцы сами выдают себя, слыша песнь Ивика в исполнении журавлей). В переписке Гёте и Шиллера дошли споры двух поэтов, как лучше обработать этот сюжет, известный в передаче Плутарха и еще в нескольких античных версиях. При этом Гёте, высказывая мнение о первом варианте баллады, в котором сохранялась атмосфера сверхъестественности, свойственная античной легенде, настаивает на том, чтобы абсолютно точно психологически мотивировать историю с журавлями и поведение убийц. Шиллер соглашается с его доводами и вносит некоторые изменения в текст. «Мое произведение, – подчеркивает он, – не должно вторгаться в область чудесного. Обыкновенный случай должен объяснить катастрофу: он ведет журавлей через театр и т. д.».
Итак, старое предание предстает у Шиллера в совершенно новом освещении. Как и в легенде, в балладе Ивик призывает журавлей в свидетели своей гибели и просит их указать людям на убийц:
И пал он ниц, и пред кончиной Услышал ропот журавлиный И громкий крик, и трепет крыл В далеком небе различил. «Лишь вы меня, родные птицы, В чужом не бросили краю! Откройте ж людям, кто убийцы, Услышьте жалобу мою!» (Здесь и далее перевод Н. Заболоцкого)Однако убийц, по замыслу Шиллера, изобличают не просто журавли, но великая сила искусства. Убийцы сидят в Коринфском театре, смотрят трагедию и слушают хор ужасных богинь возмездия за пролитую кровь – Эриний:
Их руки тонкие трепещут, Мрачно-багровым жаром плещут Их факелы, и бледен вид Их обескровленных ланит. И, привиденьям безобидны, Вокруг чела их, средь кудрей Клубятся змеи и ехидны В свирепой алчности своей. И гимн торжественно согласный Звучит мелодией ужасной И сети пагубных тенет Вкруг злодеяния плетет. Смущая дух, волнуя разум, Эриний слышится напев, И в страхе зрители, и разом Смолкают лиры, онемев. «Хвала тому, кто чист душою, Вины не знает за собою! Без опасений и забот Дорогой жизни он идет. Но горе тем, кто злое дело Творит украдкой тут и там! Исчадья ночи, мчимся смело Мы вслед за ними по пятам. Куда б ни бросились убийцы, — Быстрокрылатые, как птицы, Мы их, когда настанет срок, Петлей аркана валим с ног. Не слыша горестных молений, Мы гоним грешников в Аид И даже в темном царстве теней Хватаем тех, кто не добит». И так, зловещим хороводом, Они поют перед народом, И, чуя близость божества, Народ вникает в их слова. И тишина вокруг ложится, И в этой мертвой тишине Смолкает теней вереница И исчезает в глубине.Именно в этот момент напряженной тишины, когда под воздействием трагедии, переживая катарсис, сердца людей преисполняются ужаса и трепета, когда наступает момент истины, над театром появляется журавлиный клин. Один из убийц невольным восклицанием, обращенным к другому, выдает их обоих. Ему кажется, что это Ивик «накликал журавлей».
И вдруг, как молния средь гула, В сердцах догадка промелькнула, И в ужасе народ твердит: «Свершилось мщенье Эвменид! Убийца кроткого поэта Себя нам выдал самого! К суду того, что молвил это, И с ним – приспешника его!»Преступники вынуждены сознаться в страшном злодеянии. В интерпретации Шиллера справедливость торжествует благодаря великой силе искусства, его высокому нравственному пафосу Как справедливо замечает С.В. Тураев, «в этом кульминационном моменте баллады запечатлено моральное торжество высокого искусства: разоблачение убийц явилось как бы реальным эпилогом мифологического представления в античном театре»[92]. Возможно, журавли сами по себе не смогли бы выявить истину, но воздействие их появления подготовлено и усилено всем ходом театрального представления. Благодаря этому предсмертная песня Ивика оживает в сознании убийцы, и свершается месть поэта, месть самого песнопенья. Переводчик и ислледователь творчества Шиллера Н.А. Славятинский пишет о балладе «Ивиковы журавли»: «У поэта единственное оружие – песня; она и борется за него, проявляя всю свою невидимую, но тем не менее неотвратимую силу. То, что во “Власти песнопения” Шиллер сказал о поэзии вообще, здесь выражено в других образах: поэзия – карающее божество, мстительница. Искусство, над которым надругались в лице его жреца, жестоко карает убийцу, открывая его и предавая гибели»[93]. Однако важно еще и то, что, по мысли Шиллера, искусство кардинально преобразует мир и человека, что только искусству дано постичь истину.
Жанр баллады, равно как и осмысление античного мира в его соотнесенности с настоящим, продолжается в лирике Шиллера начала XIX в. Теперь все чаще поэт подчеркивает неизбывный трагизм бытия, непостижимое разумом чередование счастья и несчастья. В большой балладе «Геро и Леандр» (1801) он обработал сюжет, известный в древнегреческой поэзии с V в. до и. э., – о двух влюбленных, разделенных проливом Дарданеллы (Геллеспонтом), о великой любви, которую не может одолеть смерть. Каждую ночь Леандр спешит вплавь к другому берегу, к скале, где горит смоляной факел, зажженный Геро:
Там из плена волн студеных В плен восторгов потаенных Он любимой увлечен; И лобзаньям нет преграды, И божественной награды Полноту приемлет он. Но заря счастливца будит, И бежит, как сон, любовь, — Он из пламенных объятий В холод моря кинут вновь. …О, лишь тот изведал счастье, Кто срывал небесный плод В темных безднах преисподней, Над пучиной адских вод. (Здесь и далее перевод В. Левика)«Над пучиной адских вод» – эти слова уже предвещают трагическую развязку После месяца блаженства счастье изменяет влюбленным: сентябрьской ночью на море, прежде спокойном, начинается шторм. И как ни молит Геро морских богов, самое Афродиту о спасении Леандра, верного своей клятве и плывущего к ней через бушующую стихию, юноша погибает. Напряженно-тревожное ожидание Геро завершается страшной развязкой: волны приносят к ее ногам тело Леандра:
Это он! И бездыханный — Верен ей, своей желанной. Видит хладный труп она И стоит, как неживая, Ни слезинки не роняя, Неподвижна и бледна; Смотрит в небо, смотрит в море, На обрывы черных скал — И в лице бескровном пламень Благородный заиграл.Мужественно принимая волю рока и благодаря богов за изведанное счастье, Геро решает навеки соединиться с возлюбленным:
«Я постигла волю рока. Неизбежно и жестоко Равновесье бытия. Рано сниду в мрак могилы, Но хвалю благие силы, Ибо счастье знала я. Юной жрицей, о Венера, Я вошла в твой гордый храм И, как радостную жертву, Ныне жизнь тебе отдам». И она, светла, как прежде, В белой взвившейся одежде С башни кинулась в провал, И в объятия стихии Принял бог тела святые И приют им вечный дал. И, безгневный, примиренный, Вновь во славу бытию Из великой светлой урны Льет он вечную струю.Баллада (точнее, поэма в балладной форме) звучит как апофеоз вечной любви и одновременно как размышление о трагичности удела человеческого. В новом, не идеально-лучезарном, но скорее отрешенно-трагическом, свете предстает античность в еще одной балладе-поэме Шиллера – «Торжество победителей» (1803). Поэт всматривается в тот знаменитый момент гомеровского эпоса, когда корабли ахейцев-победителей отправляются на родину от сожженных стен Трои:
Суд окончен, спор решился, Прекратилася борьба; Все исполнила Судьба: Град великий сокрушился. (Здесь и далее перевод В.А. Жуковского)Поэт подчеркивает (вопреки названию), что торжество победителей неполно, ибо слишком многие навсегда остались под стенами Трои, причем пали лучшие, благороднейшие:
Скольких бодрых жизнь поблёкла! Сколько низких рок щадит! Нет великого Патрокла; Жив презрительный Терсит.С болью и печалью поэт говорит и об участи поверженной Трои, о тех, кто уведен в плен. В уста Диомеда он вкладывает слова высокого уважения к павшему за родину Гектору:
«Смерть велит умолкнуть злобе (Диомед провозгласил): Слава Гектору во гробе! Он краса Пергама был; Он за край, где жили деды, Веледушно пролил кровь; Победившим – честь победы! Охранявшему – любовь! Кто, на суд явясь кровавый, Славно пал за отчий дом, Тот, почтенный и врагом, Будет жить в преданьях славы!»Убеленный сединами Нестор утешает страдалицу Гекубу, поднося ей чашу с вином и напоминая еще об одной великой страдалице, потерявшей своих детей, – Ниобее. Горький и величественный итог всему подводит Кассандра:
Все великое земное Разлетается, как дым: Ныне жребий выпал Трое, Завтра выпадет другим… Смертный, Силе, нас гнетущей, Покоряйся и терпи; Спящий в гробе мирно спи; Жизнью пользуйся живущий!О душевной муке того, кто обречен на горькое знание, о трагической двусмысленности познания, о том, какой страшной ценой приходится платить за постижение истины, размышляет Шиллер в балладе «Кассандра» (1802), которая тесно связана с «Торжеством победителей» и является своеобразной прелюдией к нему (не случайно в финале последней баллады появляется именно Кассандра). Образ мудрой и несчастной вещей дочери Приама, осененный высоким трагизмом, становится для поэта вневременной и одновременно глубоко интимной парадигмой выражения горького опыта поэтического предвидения страшных катастроф в истории человечества, в судьбе родины и собственной судьбе, предчувствия своей преждевременной гибели:
Что Кассандре дар вещанья В сем жилище скромных чад Безмятежного незнанья И блаженных им стократ? Ах! Почто она предвидит То, чего не отвратит?.. Неизбежное приидет, И грозящее сразит. И спасу ль их, открывая Близкий ужас их очам? Лишь незнанье – жизнь прямая; Знанье – смерть прямая нам. Феб, возьми твой дар опасной, Очи мне спеши затмить: Тяжко истины ужасной Смертною скуделью быть. Все предчувствуя и зная, В страшный путь сама иду: Ты падешь, страна родная, — Я в чужбине гроб найду… (Перевод В. Жуковского)Дар поэта – также дар Феба-Аполлона, не менее опасный, чем дар вещей Кассандры. В поздней лирике Шиллера усиливается ощущение болезненного разрыва между мечтой и действительностью, все четче кристаллизуется мысль о принципиальной недостижимости идеала. В стихотворении «Начало нового века» (1801) поэт, озирая пространство и время его родного XVIII века, размышляя о рубеже веков, ознаменованном социальными потрясениями, говорит о крушении старого уклада жизни, прежних ценностей, с тревогой всматривается в иррациональное – взамен чаемого Царства Разума – нарастание агрессии, войн, жестокости, тотального насилия над свободой:
Где приют для мира уготован? Где найдет свободу человек? Старый мир грозой ознаменован, И в крови родился новый век. Сокрушились старых форм основы, Связь племен разорвалась; бог Нил, Старый Рейн и Океан суровый — Кто из них войне преградой был?[94] Два народа[95], молнии бросая И трезубцем двигая, шумят И, дележ всемирный совершая, Над свободой Страшный суд творят. (Здесь и далее перевод В. Курочкина)Предваряя романтическую парадигму, Шиллер с неизбывной грустью констатирует невозможность счастья в пределах земного мира, недостижимость подлинной свободы, обреченность красоты существовать лишь в мире прекрасного искусства, которое осмысливается как последнее убежище человека:
Нет на карте той страны счастливой, Где цветет златой свободы век, Зим не зная, зеленеют нивы, Вечно свеж и молод человек. Пред тобою мир необозримый! Мореходу не объехать свет; Но на всей Земле неизмеримой Десяти счастливцам места нет. Заключись в святом уединенье, В мире сердца, чуждом суеты! Красота цветет лишь в песнопенье, А свобода – в области мечты.Чрезвычайно близко романтическому мироощущению и стихотворение «Путешественник» (1803), варьирующее архетипический мотив странствования. Очарованный своей мечтой странник, казалось, вот-вот достигнет заветной цели:
И в надежде, в уверенье Путь казался недалек. «Странник, – слышалось, – терпенье! Прямо, прямо на восток. Там увидишь храм чудесный; Ты в святилище войдешь; Там в нетленности небесной Все земное обретешь». (Здесь и далее перевод В. Жуковского)Однако все усилия странника, взбирающегося на горные стремнины, пересаживающегося в зыбкий челнок и плывущего по бурным морям, оказываются тщетными, цель – все более недостижимой:
Ах! В безвестном океане Очутился мой челнок; Даль по-прежнему в тумане, Брег невидим и далек. И вовеки надо мною Не сольется, как поднесь, Небо светлое с землею… Там не будет вечно здесь.Подобные настроения свидетельствовали о кризисе просветительского сознания, о том, что Шиллер не только теоретическими работами, но и поэтическими текстами предваряет поиски романтиков, оказывает на них влияние, охотно подтверждаемое ими (особенно Ф. Шеллингом, братьями Шлегелями). Очень сильное воздействие на формирование русского романтизма оказали в мастерских переводах В.А. Жуковского такие стихотворения Шиллера, как «Жалоба» (1802), «Путешественник», а также баллады (особенно «Рыцарь Тогенбург»). Однако, несмотря на очевидное сближение с настроениями романтиков, несмотря на болезненные разочарования, Шиллер все же остается верен просветительской мечте о Царстве Разума, о торжестве духовности, которого можно достичь благодаря упорной духовной работе, благодаря искусству, благодаря поэзии. Это подтверждают его размышления в последних написанных им стихотворениях о путях развития немецкой поэзии и культуры в целом. Вслед за Клопштоком Шиллер в стихотворении «Немецкая муза» (1802) с гордостью говорит о том, что подлинная немецкая поэзия выросла в противостоянии тирании, что она никогда не питалась подачками князей:
Ей из отческого лона, Ей от Фридрихова трона Не курился фимиам. Может сердце гордо биться, Может немец возгордиться: Он искусство создал сам. (Перевод А. Кочеткова)В черновиках осталось последнее шиллеровское стихотворение – «Немецкое величие», в котором великий поэт, отвергавший любые формы шовинизма, национальной ненависти, насилия человека над человеком, словно бы предвидя тяжкие события XX в., предупреждает своих соотечественников, что подлинное величие Германии – не в мощной империи, не в завоеваниях территорий и покорении других народов, но в завоеваниях разума и духа, в покорении вершин искусства:
Доблесть немца и величье — Не в неправде ратных дел. Битвы против заблуждений, Чванных, злобных обольщений, Мир духовных достижений — Вот достойный нас удел! …Нет на свете выше славы: Меч подняв, – но не кровавый! — Правды молнией разить! Разуму снискать свободу — Значит каждому народу И Грядущему служить! …Не в империи германской, Не в князьях народа честь. Рухни древняя держава — Он величье, гордость, славу Сможет сам в века пронесть! (Здесь и далее перевод Н. Славятинского)Последние лирические строки, написанные рукой Шиллера, еще раз подтверждают его верность идеалам Просвещения, провозглашенным им в «Оде к радости», его веру в торжество универсальных, общечеловеческих ценностей, в грядущее братство народов, в котором найдет место и его Германия:
И позор всем детям века, Для кого сан Человека Не превыше всех корон… …Все народы на земле Озарит сиянье славы, Путь в бессмертье величавый Светит каждому во мгле. Нашей славы час пробьет — Немца день еще придет!Лирика Шиллера навсегда осталась одним из самых великих явлений не только немецкого, но и мирового духа и искусства. Шиллер – и не только как драматург, но и как поэт – всегда был чрезвычайно популярен в России. Явлениями русской культуры навсегда стали блистательные переводы из Шиллера, выполненные В.А. Жуковским и во многом определившие парадигму русского романтизма. Шиллера переводили такие замечательные русские поэты и переводчики, как Г.Р. Державин, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, М.Л. Михайлов, Л.А. Мей, В.С. Курочкин, К.М. Фофанов, Н.А. Заболоцкий, А.С. Кочетков, В.В. Левик, Л.В. Гинзбург и др. Не случайно Ф.М. Достоевский, напоминая, что Французская Республика удостоила Шиллера звания почетного гражданина Франции, подчеркивал, что поэт оказался «гораздо роднее и гораздо национальнее» в России, что он «в душу русскую всосался, клеймо в ней оставил, почти период в истории нашего развития обозначил». Безусловно, речь идет и о драматургии Шиллера, в которой он все равно оставался великим поэтом. Насколько Шиллер, особенно в начале XIX в., был близок русским мыслителям и поэтам, вольнолюбивой молодежи, прекрасно свидетельствуют знаменитые строки Пушкина: «…Поговорим о бурных днях Кавказа, // О Шиллере, о славе, о любви…»
Фридрих Гёльдерлин
Как восторженный ученик и почитатель Шиллера и Клопштока вступил в литературу Иоганн Кристоф Фридрих Гёльдерлин (Johann Christoph Friedrich Hölderlin, 1770–1843), которому суждено было стать не просто завершителем выдающихся поэтических начинаний XVIII в. (прежде всего в жанре оды и философского гимна в свободных ритмах), но и гениальным новатором, намного опередившим свое время и вошедшим на равных в круг поэтов XX в.
Гёльдерлин – один из самых гениальных немецких лириков, чье имя стало символом мощи и красоты немецкого языка. «Чудо, кристалл германской речи», – так отзывался о языке Гёльдерлина немецкий поэт XX в. И.Р. Бехер. В сонете «Слезы Отечества. Anno 1937» поэт, покинувший родину с приходом к власти нацистов, перечисляет сокровища немецкого духа, называя как вершину немецкого поэтического слова (помимо А. Грифиуса, незримо присутствующего в самой форме, названии и теме сонета) гимн Гёльдерлина:
Германский мощный хор: кантаты, фуги Баха; Небес Грюнвальдовых златая синева… О, властный Гёльдерлин в сиянье торжества! О, слово, краска, звук – добыча зла и страха! (Перевод Г. Ратгауза)Точнее, в оригинале сказано: «Du, Hymne Hölderlins, die feierlich uns strahlt…» («Ты, гимн Гёльдерлина, который празднично нам сияет…»). Выдающийся немецкий философ XX в. М. Хайдеггер в работе «Гёльдерлин и сущность поэзии» писал: «…поэзия Гёльдерлина несет поэтическое назначение – собственно сочинять сущность поэзии. Для нас Гёльдерлин – поэт поэта (курсив автора. – Г. С.) в некотором совершенном смысле. Вот почему он избран»[96]. Пройдет почти полвека, и в интервью журналу «Экспресс» в 1969 г. Хайдеггер в ответ на вопрос корреспондента: «Почему среди поэтов вас особенно интересует Гёльдерлин?» – повторит: «Гёльдерлин – это не только один из великих поэтов. Он в каком-то смысле поэт самой сущности поэзии»[97]. «Что же и ты, о Вечный, не исцелил нас // от недоверья к земному?» (перевод Г. Ратгауза) – обращался мысленно к Гёльдерлину, считая его своим учителем, великий австрийский поэт XX в. Р.М. Рильке. «Орфическим певцом», певцом вне времени, воплощением духа Орфея провозглашал Гёльдерлина глава немецких символистов Ст. Георге.
Так полагали и полагают отдаленные потомки Гёльдерлина, люди XX–XXI вв. Однако так не считали современники и ближайшие потомки, люди XVIII–XIX вв., совершенно не заметившие и не оценившие своеобразного гения поэта. «Поэт, которого просмотрел не только век, но и Гёте», – так в присущей ей манере ответила М. Цветаева на запрос М. Горького о Гёльдерлине (ему нужна была информация о поэте для предполагавшегося словаря писателей). Цветаева была едва ли ни единственной в Росии, кто с детства знал и любил поэзию Гёльдерлина. Для нее век в сравнении с Гёте – ничто. И тем горше, что даже великий Гёте не оценил по достоинству талант Гёльдерлина, хотя и отзывался о нем с большой симпатией, отмечая в его стихах «нежность, задушевность и чувство меры». Гораздо более прохладным было отношение к Гёльдерлину Шиллера, хотя последний и опубликовал (скорее всего, из жалости к земляку) около десяти его стихотворений в своих журналах, а также рекомендовал издательству Котта его роман «Гиперион». Однако и Гёте, и Шиллер советуют молодому поэту не уноситься в эмпиреи, описывать «простые идиллические случаи», избегать «философских тем». Г.И. Ратгауз, известный германист и переводчик, подготовивший первое на русском языке репрезентативное собрание сочинений Гёльдерлина, пишет: «Несомненно, что если бы Гёльдерлин последовал этим советам до конца и оставил бы свое “философское глубокомыслие”, о котором с неудовольствием говорит Шиллер в одном из писем к Гёте, его поэзия потеряла бы свое лицо. Гёте и Шиллер и не подозревали, что перед ними открываются первые контуры нового поэтического явления»[98]. Гёльдерлина с восторгом приветствовали первые немецкие романтики – Август Шлегель, Ахим фон Арним, Клеменс Брентано, Беттина Брентано, но и для них он остался не совсем понятым, порой пугающим необычностью своего поэтического мышления, провозвестником нового мира.
Необычна творческая судьба Гёльдерлина, необычна его судьба человеческая – одна из самых поразительных и трагических в мировой литературе. «Судьба» (das Schicksal) – одно из самых частотных слов в поэтическом словаре Гёльдерлина. Оно звучит в заглавиях некоторых его программных стихотворений: «Судьба», «Песнь судьбы Гипериона» и др. Судьба же самого поэта стала своего рода символом трагизма поэтической судьбы вообще. «Но нам не дано найти приюта нигде…» – написал он в «Песне судьбы Гипериона». Это сказано и о нем самом. Бесприютность, скитания, неосуществленность надежд, любви – и только Поэзия, ставшая приютом и убежищем, только истовое служение поэтическому слову, без всякой надежды на скорое понимание или понимание вообще. И болезнь, страдания, ранний уход в таинственный мрак безумия, и продолжение творчества в этом состоянии – как, быть может, попытка защититься от распада сознания. Гёльдерлин с полным правом мог жаловаться на судьбу, обвинять жизнь, но искренне полагал, что последняя всегда права, утверждая: «Да не оправдывает себя никто тем, что мир погубил его. Каждый губит себя сам». Такая позиция – сродни библейской, она еще раз свидетельствует о мощи его удивительного духа.
Фридрих Гёльдерлин родился в городке Лауфен, стоящем на реке Неккар, в Швабии, в бюргерской семье, принадлежавшей к старинному роду. Его отец был управляющим монастырскими угодьями, а среди предков было много лютеранских священников (эту судьбу прочили и будущему поэту). В возрасте двух лет Гёльдерлин потерял отца. Мать вскоре вторично вышла замуж за бургомистра города Нюртинген, и вся семья переселилась в этот утопающий в зелени, как и Лауфен, и также стоящий на берегу Неккара небольшой городок. Неккар станет первой рекой, воспетой Гёльдерлином и страстно любимой им до конца дней:
В твоих долинах, Неккар, под плеск волны Проснулось к жизни сердце в груди моей, И все холмы, которым ведом, Странник, твой путь, мне не чужды с детства. …Быть может, суждено когда-нибудь Тебя узреть, Эллада. Но даже там Я сердцем верным не забуду Неккара милых долин и пастбищ. (Перевод П. Гурова)Для формирования дарования Гёльдерлина огромное значение имела его погруженность с детства в прекрасные швабские ландшафты, которые ассоциировались в его воображении с ландшафтами Эллады, где гармоничный, прекрасный человек жил в полном слиянии с живой, одушевленной и обоготворенной природой – природой, населенной богами. Позднее в стихотворении «Детство» поэт напишет:
Когда я был дитя, Бог меня часто спасал От суда и крика людского, Я безмятежно играл С цветами зеленых рощ, И ветерки небес Играли со мной. Как же, сердце, ты Радовалось траве, Как та навстречу тебе Тянула руки свои, Так же радовал сердце ты, Отец Гелиос! И, словно Эндимион, Твоим я был милым, Луна святая! О вы, мне верные Благие боги! Вы бы знали, Как душа моя вас любила! Пусть еще тогда я не звал По именам вас и вы Так меня не звали, как люди Называют друг друга. Но знал я вас лучше, Чем когда-либо знал людей, Я внимал тишине эфира, Слов людских я не понимал. Я взращен глаголом Благозвучных рощ, Я любить учился Среди цветов. На ладони богов я рос. (Перевод В. Куприянова)Гёльдерлин учится в монастырских школах в Денкендорфе и Маульбронне, а затем – в закрытом университете при Тюбингенском монастыре, где успешно штудирует древние языки – древнееврейский, древнегреческий, латинский (он знал их в совершенстве), а также теологию, что будет удостоверено особой записью в его дипломе: «Studia theologica magno cum successo tractavit. Orationem sacram recte elaboratam decenter recitavit» («С большим успехом занимался теологией. Достойно произнес тщательно приготовленную проповедь»). Однако деятельность священника, которой Гёльдерлин должен был посвятить себя после окончания университета, совершенно не привлекала его. Зато все более увлеченно он изучает античные искусство и литературу, философию, эстетику (закончит университет защитой магистерской диссертации «История изящных искусств у греков»). Своими мыслями и открытиями Гёльдерлин делится с друзьями-однокашника-ми, живущими с ним в одной келье, – будущими знаменитыми философами Ф. Шеллингом и Г.В.Ф. Гегелем. Несомненно влияние на них Гёльдерлина, гораздо раньше созревшего духовно и интеллектуально. В речи, посвященной 200-летию со дня рождения Гёльдерлина, В. Дитце говорил: «…поразительно не только полное совпадение политических максим Гёльдерлина и конституционно-правовых суждений раннего Гегеля, но прежде всего появление триадического способа мышления как в “Феноменологии духа”, так и – заметим, гораздо раньше! – в поэтической схеме “крайностей” (Extremen – термин Гёльдерлина. -Г. С.) и их единства, их “гармонии”»[99]. Несомненно также влияние Гёльдерлина на концепцию греческого искусства в «Эстетике» Гегеля, который посвятил своему рано погрузившемуся во тьму безумия и забвения другу элегию «Элевсин». Совпадения обнаруживаются и в мыслях, высказанных Гёльдерлином в его философском романе «Гиперион», в его письмах, с «Системой трансцендентального идеализма» Шеллинга.
В Тюбингенском университете Гёльдерлин нашел еще двух друзей, с которыми его объединило страстное увлечение поэзией, – поэтов К.Л. Нойфера и Р. Магенау. Они создали поэтический кружок – «Союз трех» – по образцу гёттингенского «Союза Рощи»; их кумиром, как и у гёттингенцев, был Клопшток. Кроме того, они благоговели перед своим земляком – Шиллером. Встречаясь в окрестностях Тюбингена у колодца, вода которого символизировала для них воды Кастальского источника, они омывали руки этой водой и читали друг другу оды Клопштока, «Оду к Радости» Шиллера и свои собственные стихи. Дружба – одно из священных понятий в поэзии Гёльдерлина, и не случайно им так любимы Диоскуры, ставшие вечным символом нерушимой дружбы:
Но где бы мы, расставшись, ни скитались По прихоти разлучницы-судьбы, Ни пропасти, что пролегла меж нами, Ни времени, которое нас точит, Не сокрушить утеса нашей дружбы. (Перевод В. Шора)Молодых поэтов окрыляло сознание глубинного взаимопонимания, готовности их духа к неясным еще, но великим свершениям:
Братья! Жертвенное пламя Вами в душах возжено; Благодарными делами И святой любви слезами Пусть питается оно! (Перевод В. Шора)Пройдут годы, и Гёльдерлин все так же восторженно будет обращаться к своим друзьям – например, к Нойферу в одноименном стихотворении:
Братское сердце! К тебе я пришел, как росистое утро, Ты, словно чашу цветка, радости душу открой, Небо в себе заключи, облака золотые восторга. Светлым и быстрым дождем звуков прольются они. (Перевод Г. Ратгауза)Радостно воспринимает Гёльдерлин известие о революции, начавшейся во Франции. Вместе с Гегелем и Шеллингом он сажает в 1789 г. во дворе Тюбингенского монастыря «дерево свободы», приветствуя штурм Бастилии и воспринимая его как надежду на освобождение всего человечества. Выдающийся австрийский писатель XX в. С. Цвейг писал о Гёльдерлине и его друзьях: «Фанфары революции пробудили это юношество, блаженная весна духа, новая вера пламенит их души»[100](здесь и далее перевод П. Бернштейн). Однако восторженное отношение Гёльдерлина к Французской революции вовсе не означает, что его нужно воспринимать как революционера в прямом смысле слова и тем более как сторонника режима Робеспьера, как это неоднократно пытались сделать литературоведы бывшей ГДР. Дальнейшее творческое развитие Гёльдерлина, и особенно его роман «Гиперион»[101], свидетельствует, что он, как и веймарские классики, отрицательно относился к насильственным методам изменения действительности и полагал, что мир и человека нужно менять через воспитание, и именно воспитание красотой, под знаком «теократии красоты» («Гиперион»). Пока же юный поэт пишет исполненные духа опьяняющей свободы, проникнутые идеями Руссо и Гердера «Гимны к Идеалам Человечества» (они же – «Тюбингенские гимны»).
После окончания университета, в 1793 г., Гёльдерлин оказался на распутье: он никак не мог найти место службы и по рекомендации Шиллера, который болел за незадачливого земляка и из жалости опубликовал несколько его стихотворений в своем альманахе «Талия», молодой человек оказался домашним учителем в доме Шарлотты фон Кальб, давней приятельницы Шиллера. С этого момента и, в сущности, до конца своей короткой жизни Гёльдерлин будет служить гувернером в различных богатых семьях и с горечью осознавать свою бесприютность, нереализованность талантов и способностей…
Лишь два года жизни Гёльдерлина во Франкфурте-на-Майне (1796–1798) можно назвать подлинно счастливыми, ибо они озарили его жизнь немеркнущим светом любви к Сюзетте Гонтар, которую он воспел под именем Диотима (греч. «богобоязненная»), позаимствованном из трактата Платона «Пир». В Сюзетте Гонтар поэт нашел воплощение своего идеала гармоничной духовной и телесной красоты. Она была женой богатого банкира, и Гёльдерлин был приглашен в его дом в качестве домашнего учителя для их детей. Он внес в жизнь Сюзетты, натуры тонкой, мечтательной, темпераментной, дух музыки и поэзии, несовместимый с делами ее мужа. Это было удивительное, редко встречающееся родство душ, глубинное понимание с полуслова или даже без слов. Биографы утверждают, что внутренняя близость Гёльдерлина и Сюзетты Гонтар подчеркивалась и внешним сходством, так что их можно было принять за брата и сестру. У Диотимы был облик гречанки, она казалась поэту афинянкой века Перикла, заблудившейся в нынешнем бездушном столетии. Обращаясь к ее Гению в одноименном стихотворении, Гёльдерлин писал:
Шли изобильно ей в дар плоды и цветы полевые, Вечную молодость ей, благостный дух ниспошли! Облаком счастья укрой, – да не знает афинянки сердце, Как одиноко оно в этом столетье чужом. Только в краю блаженных очнется она и обнимет Светлых своих сестер, видевших Фидиев век. (К ее Гению. Перевод Г. Ратгауза)Трагедия домашнего учителя, влюбившегося в хозяйку дома, – тривиальная тема литературы XVIII в. Однако, как отмечает А.И. Дейч, «во франкфуртской истории Сюзетты Гонтар и Фридриха Гёльдерлина нет и оттенка подобной тривиальности. Обыденная жизнь, хоть и неизвестная нам в деталях, намечается как бы пунктиром, а на первый план выступает могучая и радостная симфония духовного общения двух пылких, восторженных и необычайно чувствительных к красоте и поэзии существ»[102]. Чем была для Гёльдерлина эта любовь, он сам объяснил в письме к Нойферу от 16 февраля 1797 г.: «Это вечная, радостная, святая дружба с существом, которое, право же, заблудилось в нашем бедном, бездушном и беспорядочном столетье! Отныне мое чувство прекрасного не подлежит разрушению. Оно будет вечно ориентироваться на эту головку мадонны. Общение с ней – школа для моего ума, а моя мятущаяся душа с каждым днем становится мягче, светлее от ее немудрствующего спокойствия…Я пишу мало и почти не философствую. Но в том, что я пишу, больше жизни и больше чувствуется форма, моя фантазия свободнее принимает в себя образы внешнего мира, сердце мое полно радости…» [103]
Франкфуртский период стал самым плодотворным в творчестве Гёльдерлина. Именно здесь, в беседах с Диотимой, окончательно определились очертания задуманного ранее философского романа «Гиперион». Впоследствии Гёльдерлин будет корить себя за то, что заставил героиню романа, также названную им Диотимой, умереть и тем самым «напророчил» раннюю смерть реальной Диотимы. Именно ей он пришлет рукопись завершенного романа в 1799 г., когда они уже будут в разлуке: «Вот наш “Гиперион”, дорогая! Хоть какую-то радость он все же тебе доставит, этот итог наших одухотворенных дней. Прости, что Диотима умирает. Помнишь, мы с тобой и раньше не совсем были в этом согласны. Я полагал, что это необходимо вытекает из всего замысла. Возлюбленная, прими все, что кое-где сказано о ней и о нас, о жизни нашей жизни, как благодарность, которая часто тем искренней, чем она косноязычней» (перевод Н. Гнединой)[104]. Во Франкфурте Гёльдерлин работает также над трагедией «Смерть Эмпедокла». И здесь же, испытывая необычайный душевный подъем, приливы вдохновения, он создает большое количество любовных и философских стихотворений, обращенных к Диотиме:
Молодость невозвратима, Но поэзии цветы Вновь раскрылись, Диотима, В час, когда явилась ты. Я молчал в немой печали, Но сверкнул мне образ твой, И, как прежде, зазвучали Гимны радости живой. …Как твой лик высок и светел! Как я долго ждал, скорбя! Прежде, чем тебя я встретил, Я предчувствовал тебя. (Диотима. Третья редакция. Перевод Е. Эткинда)Однако счастье общения с Диотимой длилось недолго. Словно предчувствуя, что это удивительное блаженство, абсолютное состояние творческого вдохновения скоро закончится, поэт молит грозных богинь судьбы дать ему хотя бы еще одно лето, хотя бы еще одну осень, чтобы пожать плоды творчества:
Одно мне лето дайте, могучие, Одну лишь осень, чтобы дозрела песнь, И, сладкою игрой насытясь, Смерти безропотно покорюсь я. Не знав при жизни доли божественной, Душа покоя в Орке не ведает, Но если я святыне сердца — Песне – придам совершенство, будешь Ты мне желанно, царство безмолвия! Пускай умолкнут струны мои во тьме, Чего еще искать мне в мире, Если, как боги, я жил однажды! (К Паркам. Перевод В. Микушевича)Но судьба не дала поэту еще одной счастливой осени. В сентябре 1798 г. последовало объяснение Гёльдерлина с банкиром Гонтаром, наконец-то «прозревшим», и поэт вынужден был покинуть его дом. Он уехал в Гомбург, где нашел приют в доме своего преданного друга Исаака Синклера, дипломата, философа, поэта, страстного республиканца, мечтавшего о преображении жизни в Германии. Гёльдерлин тоскует вдали от своей Диотимы, но она поддерживает его своими письмами, дышащими невероятной любовью и нежностью (все эти письма, до единого, бережно сохранил поэт[105]). Гёльдерлин продолжает работать над трагедией «Смерть Эмпедокла» (над различными ее редакциями), пишет новые лирические стихотворения, в которых все чаще воображаемые им эллинские ландшафты сливаются с родными немецкими, в которых он размышляет о судьбах Германии и немцев («Рейн», «Гейдельберг», «Песня немца», «К немцам», «Германия» и др.).
Гомбургский период завершается весной 1800 г., когда Гёльдерлин отправляется сначала в Штутгарт, где работает домашним учителем в одном из купеческих домов. Однако постоянная душевная тревога («Но нам не дано найти покоя нигде…») вновь вынуждает его двинуться в путь. Он странствует по Швейцарии, и новые открытые им ландшафты – альпийские – переполняют его душу вдохновением, изливающимся в гениальном «Паломничестве»:
О благодатная Свевия, матерь моя, Ты, сходная ликом с твоей лучезарной Сестрой Ломбардой, Как и она, ты пропитана влагою ста Бурливых потоков! Деревья твои закипают Белой и розовой пеной, Темной, глубоко-зеленой листвой, И тебя осеняют альпийские горы Швейцарии, рядом с тобою Нашего дома священный очаг, и ты внемлешь тому, Как из серебряной жертвенной чаши, Наклоненной рукой непорочной, Льется и льется струя – это солнце коснулось Льдистых кристаллов, и, тронутый легким Утренним светом, на землю Рейн ниспадает со снежных вершин Чистейшей водой. (Здесь и далее перевод Е. Эткинда)Альпийский ландшафт, открытый в немецкоязычной поэзии швейцарцем А. Халлером, обретает новое, глубинно-метафорическое, свойство у Гёльдерлина, органично вписывается в гигантский ландшафт культуры, скрепляемый ассоциативным полетом мысли, которой не поставлены пределы, которая свободно устремляется с альпийских вершин к долинам Неккара и Рейна, затем – к вершинам Кавказа, оттуда – к берегам Черного моря – Эвксинского (Гостеприимного) моря, как называли его греки:
А я – я стремлюсь на Кавказ! Ибо даже сегодня слышал Голоса, оглашавшие небо: Как ласточка, волен поэт. К тому же я слышал недавно, Будто в далекие годы Наши древние предки германцы Спустились по волнам Дуная И с Сынами Солнца, Искавшими тени, Сошлись у Черного моря; Так что море это по праву Именуют – Странноприимцем.Во время пребывания в Швейцарии Гёльдерлин узнает о заключении Люневильского мира (9 февраля 1801 г.) между Германией и Францией. Как предполагают исследователи, именно это событие стало импульсом к созданию большого стихотворения (или небольшой поэмы) Гёльдерлина «Праздник мира», рукопись которого была обнаружена в Лондоне в 1954 г. и опубликована известным немецким исследователем Ф. Байсснером. В «Празднике мира» разворачиваются грандиозные видения будущего, предстает озаренная солнцем утопия счастливого бытия человечества, преломленная через призму библейских мессианских видений и насыщенная евангельскими аллюзиями:
На пир бы многих я позвал… Но Ты, Людей любивший ласково и строго, Ты, восседавший под сирийской пальмой Там, у колодезя Иакова, что по дороге в город, Когда колосья гнулись на ветру, прохлада Струилась от священных гор; когда Друзья Твои, подобно облакам, Стояли тенью вкруг Тебя, чтоб луч, святой и грозный, Не ослепив людей, пробился к ним, О Юноша, как сквозь лесную чащу… Но Ты… Пока Ты говорил, сгущалась Тень беспощадного предначертанья. Так проходит И все небесное. Но не бесследно. <…> …У Вседержителя, который Земную радость дал нам, песни дал, Есть Сын, чья сила – в тишине. Мы узнаём Его, Ведь нам знаком Отец, — В день празднества, Он, Всемогущий Дух Вселенной, наклоняется над нами. Владыка времени! Он был велик, – далеко Раскинулись Его поля… Но Он устал. Ведь может же и Бог избрать, как смертный, Поденный труд, деля судьбу людей. Закон судьбы: людей узнают люди И в тишине родится Слово. Где Дух царит – мы с Ним. И спорим, Что лучшее на свете. Ныне высшим Мне кажется: завершена картина, И, просветлен Своим созданьем, Мастер Из мастерской выходит, – Бог времен, Безмолвный, тихий Бог, и лишь закон любви, Всеобщей красоты – владеет миром. (Перевод Е. Эткинда)Вернувшись на родину в 1801 г., Гёльдерлин через очень короткое время, в декабре этого же года, уезжает во Францию, чтобы стать домашним учителем в доме немецкого консула в Бордо. Перед отъездом он посещает родных в Нюртингене и еще раз запечатлевает в своем сердце родной швабский ландшафт:
Мой тихий край! Вдали ты являлся мне, Меня тревожил в дни безнадежности. Ты здесь, мой дом, – вы здесь, деревья! Помните ль детство и наши игры? Давно то было, – о, как давно! Покой Тех детских дней, и юность, и радости — Их нет… Но ты, мой край священный, Край мой страдальческий, вновь со мною. (Вновь на родину. Перевод Г. Ратгауза)В одном из последних сохранившихся писем Гёльдерлина, датированном 4 декабря 1801 г. и отправленном из Нюртингена близкому другу поэта, также поэту и драматургу, К.У. Бёлендорфу, говорится: «Сейчас я полон разлукой. Я давно не плакал. Но мне стоило горьких слез мое решение покинуть родину – навсегда, быть может. Разве не она дороже мне всего на свете? Но я им не нужен. И все-таки я хочу и должен остаться немцем, хоть на Таити, если меня туда загонят сердечное горе и нужда в куске хлеба» (перевод Н. Гнединой)[106]. Эти слова поэта как нельзя лучше объясняют глубинную причину жизненной трагедии Гёльдерлина и его душевной болезни: бесприютность, одиночество, сердечное горе, ощущение нереализованности дарований и надежд, ненужности Родине… Все, что у него оставалось, – творчество. Все острее поэт осознает, что единственная его подлинная отчизна и единственное достояние – Поэзия, уподобленная им священному посмертному приюту – сакральному Саду:
Чтоб сердце мне спасти, чтоб надежное Сыскалось в мире место и для меня И чтоб тоска души бездомной Не увлекла за пределы жизни, О песня, стань приютом приветливым. Тебя, как сад, с любовью заботливой Взращу я, чтобы вечно юной Сенью цветущей меня укрыл он, Чтоб жизнью в нем неспешной я жил, пока Вдали вздымает время валы свои, Чтоб солнце ясными очами Мирно на труд мой с небес взирало. Благословив людей достояние, Благословите, силы небесные, И мой удел, и пусть нескоро Мойры мечты моей нить обрежут. (Мое достояние. Перевод П. Гурова)До мая 1802 г. Гёльдерлин служит домашним учителем и проповедником в семье Мейера, немецкого консула в Бордо. Овладевшая поэтом странная тревога гонит его в путь: он отправляется пешком на Родину. Здесь он узнает от Синклера о смерти Сюзетты Гонтар: она умерла от банальной кори (заразилась ею, самоотверженно ухаживая за детьми) 22 июня 1802 г., совсем молодой. Смерть Сюзетты Гонтар усилила первые признаки душевной болезни, ставшей с этого времени необратимой. Гёльдерлин скитается пешком, и в этом ужасно исхудавшем, заросшем, с длинными грязными ногтями и диким блуждающим взглядом человеке знакомые с трудом узнают некогда прекрасного, стройного и подтянутого, сосредоточенного молодого человека, который, согласно воспоминаниям одного из его соучеников, входил в зал для занятий подобно Аполлону, спускающемуся на землю. Безусловно,
Гёльдерлин умер дважды – сначала духовно, потом физически. Ужас, холод, отчаяние, одиночество своего существования он выразил в одном из самых прекрасных своих стихотворений, написанном на пороге окончательного безумия, примерно в 1804 г.:
Mit gelben Birnen hänget Und voll mit wilden Rosen Das Land in den See, Ihr holden Schwäne, Und trunken von Küssen Tunkt ihr das Haupt Ins heilignüchteme Wasser. В диких розах, С желтыми грушами никнет Земля в зеркало зыби, О лебеди, стройно: И вы, устав от лобзаний, В священную трезвость вод Клоните главы. Weh mir, wo nehm ich, wenn Es Winter ist, die Blumen, und wo Den Sonnenswchein, Und Schatten der Erde? Die Mauern stehn Sprachlos und kalt, im Winde Klirren die Fahnen. А ныне: где я найду В зимней юдоли цветы – о, где Свет, и тепло, И тени земли? Стынет в молчанье Крепость. В ветре Скрежещет флюгер. (Середина жизни. Перевод С. Аверинцева)Название этого стихотворения, чаще всего передаваемое по-русски как «Середина жизни», в оригинале звучит как «Половина жизни» («Hälfte des Lebens»), что придает ему особый, пронзительно-трагический смысл. Здесь, безусловно, звучит дантовская аллюзия («Земную жизнь пройдя до половины…»), но она преломлена через призму трагической судьбы немецкого поэта. Когда Гёльдерлин писал свою «Половину жизни», ему было 34 года или неполных 35 лет (35 лет – середина жизненной дуги в соответствии с библейскими и, соответственно, дантовскими представлениями), но он уже предчувствовал, что для него это не будет серединой жизненного пути, что вся сознательная жизнь ограничится для него половиной жизни.
Действительно, Гёльдерлин все больше и больше погружается во мрак безумия. С 1804 по 1806 г. он формально занимает место библиотекаря в Гомбурге, подысканное для него верным Синклером, стремившимся помочь другу. Но с 1806 г. поэт уже не может, даже фиктивно, числиться ни на какой службе. Родственники отдают его на попечение тюбингенского столяра Циммера. Здесь, в небольшой мансарде в виде башенки с узкими окнами, выходящими на Неккар, безумный поэт живет, практически в абсолютной изоляции, тридцать семь лет – до смерти, последовавшей 7 июня 1843 г.
В безумии Гёльдерлина до сих пор есть нечто загадочное. В XX в. некоторые будут трактовать его как «безумие» Гамлета, как попытку укрыться от безумной действительности и прозреть истину Судя по отдельным строкам писем Гёльдерлина, написанных уже в состоянии болезни, он сам сознавал свое безумие и даже полагал его закономерным. Так, в письме к Бёлендорфу, в котором нет даты и которое написано, как полагают исследователи, уже после 1806 г., есть строки: «Могучая стихия, небесный огонь и спокойствие людей, их жизнь на лоне природы, их невзыскательность и довольство пленяли меня непрестанно, но, подобно тому, как говорят о древних героях, я и о себе могу сказать, что меня сразил Аполлон» (перевод Н. Гнединой)[107]. Невольно вспоминается пушкинское: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон…» Возможно, Гёльдерлин переживал надвигающееся безумие как необходимую жертву Аполлону, как кару за поэтическое прозрение или, наоборот, как условие абсолютного прозрения: увиденный поэтом чрезмерный свет толкает его в темноту. И еще в «Эмпедокле» им было сказано: «Тот, через кого говорил дух, должен вовремя уйти».
Безусловно, болезнь Гёльдерлина была подлинной: впечатлительная, чувствительная душа была сражена ударами судьбы, невозможностью совмещения со страшным временем. Однако и в безумии в нем не угасла гармония: он играл на клавикордах, пел, он продолжал писать стихи, в которых, при всей темности, эзотеричности содержания, нет ни одной даже орфографически неточной рифмы. О поэзии периода безумия существует огромная исследовательская литература как литературоведческого, так и медицинского характера, ибо случай этот воистину беспрецедентен. В этих стихах порой прорывается особая логика, словно поэт из таинственной тьмы пытается высказать нечто чрезвычайно важное о сути жизни земной и той, что наступает за ее пределами:
Die Linien des Lebens sind verschieden, Wie Wege sind, und wie der Berge Grenzen. Was hier wir sind, kann dort ein Gott ergänzen Mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden. Различны линии бегущей жизни, Как бы границы гор или дороги. Что здесь неполно, там восполнят боги, Мир даровав и водворив в отчизне. (Перевод С. Аверинцева)Неизвестно, осознавал ли Гёльдерлин свое время, помнил ли свое собственное имя, ибо под стихотворениями, созданными в период безумия, могла стоять любая дата далекого прошлого и подпись: «Mit Untertänigkeit Scardanelli» («С почтением – Скарданелли»); «Mit Untertänigkeit Buonarotti» («С почтением – Буонаротти»). Для современников и ближайших потомков, людей XIX в., Гёльдерлин словно бы умер еще при жизни: его не публиковали, о нем не вспоминали. О том, что он все еще жив, все еще влачит свое жалкое и в то же время исполненное мистической тайны состояние, знали немногочисленные родственники и друзья. С. Цвейг писал: «…робкая, призрачная тень былой красоты, бродит он по улицам Тюбингена, забава детей, посмешище студентов, не знающих, какой высокий дух сокрыт, умерщвленный, под трагической маской: все живущие давно уже позабыли о нем. Как-то около середины нового столетия Беттина[108], услыхав, что он (некогда встреченный ею как божество) еще влачит свою “змеиную жизнь” в доме скромного столяра, испугалась, словно увидев выходца из царства Аида, – так чужд его образ эпохе, так отзвучало его имя, так забыто его величие. И когда однажды он лег и тихо умер, эта неслышная кончина не вызвала отзвука в немецком мире, словно бесшумное падение осеннего листка» [109].
Накануне кончины, как вспоминают очевидцы, Гёльдерлин долго смотрел через окно своей башни над Неккаром на волны любимой реки, не раз воспетой в его стихах. Скончался он тихо, без каких-либо болезненных приступов. Его хоронили немногие близкие и друзья, оставшиеся в живых, а также студенты и профессора Тюбингенского университета. И хотя на голову поэта был возложен лавровый венок, вряд ли провожавшие его в последний путь понимали, кого хоронят.
Деревья, и корни, и свет, под солнцем – послушная лодка причалена к берегу, возле красивых холмов. Перед этою дверью тень поэта прошла, ее река отразила, — Неккар, зеленый мой Неккар, который гуляет беспечно в лугах и в густом ивняке. О башне, о том, как трудно в ней жить, о том, как башенный свод закрыл небосвод от поэта, о тяжести каменных стен, что тяжко давит собой луга, и деревья, и реку, рыдает звон колокольный над кровлями. Стрелка часов дрожит, и с железным скрипом вращается флюгер. (Перевод Г. Ратгауза)Так написал о Гёльдерлине выдающийся немецкий поэт XX в. Иоганнес Бобровский, видевший в нем – наряду с Клопштоком – одного из главных своих поэтических учителей. Миновав дистанцию в более чем столетие, Гёльдерлин легко и органично вошел в круг поэтов XX в., причем самых разных эстетических устремлений. Он – «свой» для неоромантика и символиста Ст. Георге и его круга, к нему обращается как к великому учителю жизни и поэзии Р.М. Рильке, его приветствуют как своего собрата по судьбе и по титаническим усилиям пересоздания языка и мира экспрессионисты – и те, которые объединяются вокруг журнала «Штурм», и «активисты». Гёльдерлина провозглашают «орфическим певцом», Орфеем, вновь явившимся в мир, воплощением самой трансцендентной сущности поэзии. Разумеется, это связано с новаторскими открытиями Гёльдерлина и с особым его положением в литературном процессе конца XVIII в. – тем положением, которое немецкое литературоведение в основном определяет как положение «между классикой и романтизмом» («zwischen Klassik und Romantik») – между «веймарским классицизмом» и становящимся романтизмом. Как уже отмечалось, сами романтики с почтительным и немым удивлением относились к Гёльдерлину как к не совсем понятному им гению. Беттина фон Арним, сестра К. Брентано, посетившая забытого всеми и словно выпавшего из современности в свое загадочное внутреннее время поэта в его башенном заточении в Неккаре, оставила потомкам свидетельство этого изумления: «Слушая его, невольно вспоминаешь шум ветра: он бушует в гимнах, которые внезапно обрываются, и все это – будто кружится вихрь; и потом им как будто овладевает глубокая мудрость, – и тогда совершенно забываешь, что он сумасшедший; и, когда он говорит о языке и о стихе, кажется, будто он близок к тому, чтобы раскрыть божественную тайну языка»[110].
С одной стороны, как неоднократно справедливо замечал А.В. Карельский, Гёльдерлин исчерпал всю романтическую парадигму еще тогда, когда она только складывалась, и шагнул дальше. С другой стороны, многими чертами своего миросозерцания он не укладывается в романтическую эстетику. В свое время Гегель, говоря о романтизме, отмечал, что «мир души торжествует победу над внешним миром и являет эту победу в пределах самого этого внешнего мира и на самом этом мире, и вследствие этого чувственное явление обесценивается», и что именно «этот внутренний мир составляет предмет романтизма». Но в том-то и дело, что у Гёльдерлина нет этой обесцененности земного, конкретно-чувственного мира. Не случайно Рильке напишет, обращаясь к нему в гимне «Гёльдерлину» («An Hölderlin»): «Was, da ein solcher, Ewiger, war, misstraun wir // immer dem Irdischen noch?»[111] («Что же и ты, о Вечный, не исцелил нас // от недоверья к земному?»; перевод Г. Ратгауза). Одним из первых заметивший трагический процесс отчуждения человеческой личности, состояние расколотости мира, Гёльдерлин не абсолютизировал их, а стремился преодолеть в своей поэзии, храня верность универсуму и универсальности, единству идеального и земного миров. В гимне «Der Einzige»: («Единственный») сказано: «Die Dichter müssen auch // Die geistigen weltlich sein» («Подобает поэтам, даже духовным, // Быть мирскими»; перевод В. Микушевича). Ему совершенно не была близка романтическая ирония вознесения над обыденным, переросшая в отвращение к обыденным измерениям, в расколотость мира и души, в романтическое «двоемирие». Воссоздание целостного образа жизни – вот задача Гёльдерлина, что очень тонко отметил Рильке в своем гимне «Гёльдерлину»: «Только тебе, о Державный, тебе, Заклинатель, являлась // жизнь как целостный образ» (перевод Г. Ратгауза).
Гёльдерлин во многом близок титанизму и универсализму веймарских классиков. Он, в сущности, создает свою собственную, неповторимую и также связанную с новым прочтением античности вариацию «веймарского классицизма» – столь неповторимую, что она не была оценена по достоинству ни Гёте, ни Шиллером. Трудно, пожалуй, привести более яркий и законченный пример величайшей преданности античной культуре, глубочайшего усвоения ее традиций и вместе с тем совершенно новаторского ее осмысления, нежели творчество Гёльдерлина. Античность занимает концептуально важное место в его поэтическом мире. Более того, она сыграла ключевую роль в его духовном развитии. Предисловие к одной из редакций романа «Гиперион» начинается знаменательным признанием: «С ранней юности жил я охотнее, чем где-либо, на берегах Ионии и Аттики и на прекрасных островах Архипелага, и моей величайшей мечтой была возможность действительно попасть туда, к священной гробнице юного человечества. Греция была моей первой любовью, и я не знаю, смею ли я сказать, что она будет и последней»[112]. Он имел право повторить эти слова и в конце отпущенной ему сознательной жизни. В одном из поздних гимнов, посвященном Христу, – «Единственный», где ландшафт Эллады неуловимо сливается с ландшафтом Палестины, где оба они вписаны в единый общемировой ландшафт, Гёльдерлин напишет:
Какою силой Прикован к древним, блаженным Берегам я, так что Я больше люблю их, чем родину? Словно в небесное Рабство продан я Туда, где Аполлон шествовал В обличье царственном… <…> …я стоял На вершинах Парнаса, На высотах Истмийских, Плавал К Смирне и посетил Эфес. (Перевод В. Микушевича)Никогда не ступавший на землю Греции, Гёльдерлин с поразительной географической точностью описал ее в романе «Гиперион», воссоздал ее облик в лирике. Он был также выдающимся исследователем и теоретиком античности, гениальным переводчиком эпиникиев Пиндара и великих трагедий Софокла «Эдип» и «Антигона» (именно гёльдерлиновские переводы вдохновили великого немецкого композитора XX в. К. Орфа на создание опер «Эдип» и «Антигона»). Ст. Цвейг не случайно назвал Гёльдерлина «последним эфебом немецкого эллинства». Действительно, именно Гёльдерлин наиболее полно воплотил неустанное стремление немецкой философско-эстетической и художественной мысли, начиная с Винкельмана и Лессинга, к античности. Однако его восприятие античности существенно отличалось от винкельмановской формулы, принятой затем и веймарскими классиками, – «благородная простота и спокойное величие». Эллада Гёльдерлина, особенно в его поздних гимнах, – не традиционная классицистическая родина благородных скульптурных форм и абсолютной гармонии, но восточная, азиатская Греция, только рождающаяся из первобытного хаоса, полная стихийных могучих сил. В интерпретации Гёльдерлина античная Греция и – шире – Средиземноморье – исток и синтез различных эпох и культур: варварства, цивилизованного язычества, древнейшего монотеизма (иудаизма), христианства, «ибо оттуда грядет и назад указует грядущий Бог» («Dorther kommt und zurück deutet der kommende Gott» – элегия «Хлеб и вино»; в переводе С.С. Аверинцева: «…Ибо оттуда пришел Бог и туда нас зовет»).
Гёльдерлиновская Эллада («О святая Эллада! О дом небожителей вечный…»; «Хлеб и вино»; перевод С. Аверинцева) воплощает и прошлое человечества, и его настоящее, искаженное убогой реальностью, и, главным образом, его лучезарное будущее. С особенной ясностью и широтой концепция диалектического движения истории – возвращение на новом витке развития к достойному человека свободному бытию через преодоление рабского, скованного, бесчеловечного настоящего (концепция, несущая в себе явственные отсветы библейской философии истории) – развернута в «Архипелаге» («Der Archipelagus», 1800), большом стихотворении (или небольшой поэме), написанном гекзаметром. Поэт рисует мрачную картину бесцельного существования человека, отчужденного от себя самого и плодов своего труда, обреченного на одиночество, блуждающего, как в сумрачном Орке, без Божества в душе: «Aber weh! Es wandelt in Nacht, es wohnt, wie im Orkus, // Ohne Göttliches unser Geschlecht» («Горе, блуждает в ночи, живет, словно в сумрачном Орке, // Без Божества поколение наше» (здесь и далее перевод В. Микушевича). Это продлится, по мысли поэта, пока не преобразится кардинально человек, пока не явятся ему, как свободным детям Эллады в эпоху ее взлета (эпоху победы над персами), любовь и согласие, пока не вернется из далеких скитаний Дух природы, с которым вновь сольется человечество, заново откроет для себя Бога:
Это продлится, пока человек душой не воспрянет, Страшные сны победив, чтоб дыханьем благословенным Нашему времени так же, как детям цветущим Эллады, Веяла снова любовь, чтоб над нами, свободными, снова Дух природы возник, из далеких скитаний вернувшись, Тихим присутствием Бога согрев облака золотые.В «Архипелаге», как и в «Празднике мира», Гёльдерлин рисует величественную утопию обновленного человечества, для которого единственным подлинным законом существования станут гармония, красота, подлинная духовность, и в этой утопии, античной по форме, явственно различимы библейские ноты:
Близится радостный час. Уже в отдалении слышен Праздничный хор на горах. Разносится эхо по рощам. Бога восславив, народ обретает единство былое. …Там, где плоды наливаются, праведных радует праздник; И, как жилище людей, пламенеет, сверкает и блещет Град на вершине холма, обитель небесного счастья. Смыслом Божественным вновь преисполнено существованье…Залогом преображения человечества является, по Гёльдерлину, неискаженная прекрасная природа, и прежде всего – цветущая, несмотря ни на что, земля Эллады: «Aber blühet indes, bis unsre Früchte beginnen, // Blüht, ihr Gärten Ioniens!» («Сад ионийский, цвети, чтоб и наши плоды созревали!»).
Неисчерпаемым источником вдохновения, подлинным поэтическим арсеналом был для Гёльдерлина греческий миф, с помощью которого он осмысливал пути развития цивилизации, сложнейшие проблемы современной действительности и рисовал грандиозные видения будущего. Как пишет Г.И. Ратгауз, «греческий миф с его наивным обожествлением природы, с его понятиями о необычайной близости богов и людей, с его идеями текучей смены времен, – миф этот, в сущности, в новое время был впервые открыт для поэзии Гёльдерлином. Он не искал в нем “сюжетов”, он уловил его суть. В одной только оде Гёльдерлина “Человек” содержится и необычайно глубокое истолкование греческой мифологии, и опыт объяснения всей мировой истории в форме поэтической притчи»[113]. Исследователь справедливо отмечает, что параллельно к подобному осмыслению мифа приходит Гёте, и одновременно подчеркивает отличия в рецепции античности у Гёльдерлина и, с другой стороны, у Гёте и Шиллера: «Нельзя сказать, что подобное понимание мифа было чуждо Гёте. В таких юношеских стихотворениях и драмах, как “Ганимед” и “Прометей”, в смелых античных аллегориях второй части “Фауста”, он, в сущности говоря, вступает в ту же область. И все же Гёте, в особенности в годы содружества с Шиллером, – более всего ценил в античности сознание меры, высокую простоту, умиротворение страстей; на эту тему написана его “Ифигения”. “Резкая субъективность” Гёльдерлина (выражение Шиллера) не могла ему импонировать. Само направление поэтической работы Гёльдерлина было ему очень мало известно»[114]. Тем не менее следует подчеркнуть, что объективно и независимо друг от друга Гёльдерлин и Гёте (особенно во второй части «Фауста») открывают новую эпоху в осмыслении мифа – эпоху его пересоздания, мифотворчества, важного не только для романтизма, но и для символизма, а также для эпох модернизма и постмодернизма.
Переосмысливая античную мифологию, поэт творит свой собственный миф, создает свой пантеон, в котором особо почитаемы титаны, где правит миром светоносный Эфир, где особо чтимы божества, связанные с плодоношением, светом, творчеством: Гея-Земля, Гелиос, Аполлон, Дионис. Боги Гёльдерлина – не «умершие боги», о которых скорбит Шиллер в «Богах Греции», но живая часть природы, ее душа, скрытая, затемненная рабским настоящим:
Благие боги! Жалок не знавший вас, В груди его суровой живет раздор, Весь мир ему как ночь; вовеки Песни и счастья ему не ведать. (Боги. Перевод П. Гурова)Счастливы были люди, обитавшие рядом с богами, по сути, равные им. «Мы же, друг, опоздали прийти. По-прежнему длится, // Но в пространствах иных вечное время богов» (перевод С. Аверинцева), – говорится в знаменитой элегии «Хлеб и вино», посвященной главному христианскому таинству – евхаристии и одновременно осмыслению целостности бытия, единства истоков культуры. Наивно полагать, что Гёльдерлин творит некую неоязыческую религию. Его боги – это Откровение Единого Бога в природе, «ибо вначале человек и его боги были одно целое, когда существовала еще не познавшая себя вечная красота» («Гиперион»; здесь и далее перевод Е. Садовского). Кроме того, по Гёльдерлину, античные боги – создание человека, воплощение искусства: «Первое детище человеческой, божественной красоты есть искусство. В нем обновляет и воссоздает себя божественный человек. Он хочет постигнуть себя, поэтому он воплощает в искусстве свою красоту. Так создал человек своих богов». Кроме того, боги Гёльдерлина – воплощение творческих живительных сил, метафора единства духа и природы, метафора грядущей гармонии, к которой должен прийти человек, ведь «человек есть бог, коль скоро он человек. А если он бог, то он прекрасен» («Гиперион»). Боги Гёльдерлина сливаются в едином всеобъемлющем Духе, единосущном Богу-Отцу, Владыке времени и пространства, поэтому закономерно, особенно в поздних гимнах, Христос оказывается братом Диониса, Ахилла и Геракла.
По Гёльдерлину, все конкретно-чувственное является проявлением Единого Духа. Вся человеческая история и культура воспринимается им как «образ времени, который разворачивает великий Дух»:
Свиток времен, развертываемый Духом, — Вот знаменье, что связь нерасторжима Меж ним и силами природы. Да, виден здесь не только Он, – все силы, Все нерожденные и вечные – в единстве. В растенье так сливаются земля, И свет, и воздух… (Праздник мира. Перевод Е. Эткинда)Все сущее для поэта – знак Единой Духовной Сущности. Во второй редакции гимна «Мнемозина» («Mnemosyne») говорится: ««Ein Zeichen sind wir, deutungslos, // Schmerzlos sind wir und haben fast // Die Sprache in der Fremde verloren. //…Zweifellos // Ist aber Einer» («Мы только знак, но невнятен смысл… //…Вне сомненья // Только Единый»; перевод С. Аверинцева). К Сущности нелегко пробиться, ведь, как сказано в гимне «Патмос» («Patmos»)[115], «близок Бог // И непостижим» (здесь и далее перевод В. Микушевича\ в оригинале: «Nah ist // Und schwer zu fassen der Gott»). И все же есть надежда постижения: ««Wo aber Gefahr ist, wächst // Das Rettende auch» («Где опасность, однако, // Там и спасенье»). Мир един и насквозь духовен, поэтому возможно постижение усилием поэтического духа, через интуитивное вчувствование, ибо «помыслы Всемирного Духа // Тихо завершаются в душе поэта…» («Как в праздник…»; перевод В. Микушевича). Движение Духа пронизывает все, вплоть до мельчайших мелочей, поэтому, следя за этими мелочами, можно взойти к самым высоким духовным смыслам. Субъект не противостоит объекту, а сливается с ним в единстве вселенской жизни, через поэта познающей самое себя. Основа этого единства – всепроникающий мировой ритм. Все та же Беттина фон Арним сохранила для нас загадочное речение Гёльдерлина: «…все есть ритм: судьба человека – это небесный ритм, и всякое произведение искусства – только ритм». Беттина писала о том, как поразили ее язык и ритмы этого поэта. Само движение стиха у Гёльдерлина, по ее мысли, есть уже некое бытие, некий смысл, особая жизнь, ибо «законы духа метричны».
Совершенно понятно, что ритм – структурообразующий элемент стиха и что он сам по себе смыслоносен. Семантизация ритма и связанная с ней поэтическая суггестия всегда присущи настоящей поэзии и, быть может, достигая апогея в творчестве того или иного автора, служат показателями гениальности. Интересно проследить, как в процессе творческой эволюции Гёльдерлина, обретения им своей индивидуальности, в связи с изменением образа античности в его сознании, менялись стиховые формы его поэзии, ее ритмико-синтаксические особенности и связанная с ними жанровая специфика его лирики.
Самые первые стихотворные опыты Гёльдерлина возникли как благоговейное подражание Клопштоку, боготворимому не только гёттингенским «Союзом рощи», но и союзом трех поэтических сердец, заключенным в Тюбингенском университете Гёльдерлином и его друзья – ми-поэтами. Однако пока это не более чем подражание Клопштоку с типичным для него расшатыванием строгой строфики сольной мелики и созданием собственных строф, пока не более чем форма, еще не наполненная собственным содержанием. Еще одним кумиром начинающего поэта был Шиллер, и первым примечательным циклом Гёльдерлина, в котором определились магистральные темы его творчества, стали «Гимны к Идеалам Человечества», или «Тюбингенские гимны» («Tübinger Hymnen»), написанные под воздействием Шиллера и Руссо. Руссоистские и шиллеровские идеи соединяются здесь с шиллеровской же чеканной силлаботоникой, звучным рифмованным стихом. Уже здесь – восприятие человечества как единого целого, единого потока, восходящего к совершенству (гимн «An die Menschheit» – «К Человечеству»), уже здесь – клятва в верности Элладе, образ которой, видоизменяясь и в то же время в чем-то оставаясь постоянным, пройдет через все творчество Гёльдерлина:
Mich verlangt ins feme Land hinüber Nach Alcäus und Anakreon, Und ich schlief’ im engen Hause lieber, Bei den Heiligen in Marathon; Ach! Es sei die letze meiner Tränen, Die dem lieben Greichenlande rann, Lasst, о Parzen, lasst die Schere tönen, Denn mein Herz gehört den Toten an! Дай, судьба, в земле Анакреона Горестному сердцу моему Меж святых героев Марафона В тесном успокоиться дому! Будь, мой стих, последнею слезою На пути к святому рубежу! Присылайте, Парки, смерть за мною, — Царству мертвых я принадлежу. (Греция. Перевод В. Левика)Уже здесь найдены многие излюбленные образы-лейтмотивы – как, например, Геркулес: «Как руда в земле таится, //Я таился в детском сне. // Геркулес мой! Превратиться // Ты помог в мужчину мне» («Геркулесу»; перевод С. Апта). И уже здесь, в знаменитом стихотворении «Судьба» – «Das Schicksal», – предчувствие собственной судьбы – судьбы Фаэтона (этим именем назовет роман о Гёльдерлине тюбингенский писатель В. Вайблингер), предощущение стремительного головокружительного взлета на пределе сил, поисков неизведанного:
Когда под бурею священной, Мой дух, тюрьма твоя падет — В безвестный мир, в простор вселенной Направь свободный свой полет. Орлы здесь часто ранят крылья, Но пусть борьба и в том пути — Сквозь боль, сквозь крайние усилья К последним Солнцам возлети! (Перевод В. Левика)В «Тюбингенских гимнах» перед нами предстает соединение традиционной классицистической стиховой культуры и штюрмерского энтузиазма, сентименталистской сверхчувствительности. Конструкции в целом просты и логичны, каждая строфа представляет собой законченное смысловое целое.
Подлинный, зрелый Гёльдерлин начинается с нового открытия античных метров – гекзаметра, элегического дистиха, эолийских строфических размеров. Они постепенно вытесняют в его поэзии рифмованный силлабо-тонический стих, начиная с середины 90-х гг., и особенно во франкфуртский период его творчества, когда он получил особый духовный импульс благодаря любви к Сюзетте Гонтар – Диотиме его поэзии. Не случайно именно к Диотиме, чей облик напоминал ему гречанку и навевал мысли об Элладе, обращено одно из первых стихотворений, написанных на новом витке алкеевой строфой, одним из излюбленнейших его строфических размеров, где строки, подобно морским валам, стремительно набегают друг на друга, где одна строфа переливается в другую:
Du schweigst und duldest, und sie verstehn dich nicht, Du heilig Leben! Welkest hinweg und schweigst, Denn ach, vergebens bei Barbaren Suchst du die Deinen im Sonnenlichte, Die zärtlichgrossen Seelen, die nimmer sind! Doch eilt die Zeit. Noch siehet mein sterblich Lied Den Tag, der, Diotima! Nächst den Göttern mit Helden dich nennt, und dir gleicht. Молчишь и страждешь, всеми не понята, Душа благая! Клонишь свой взор к земле, Бежишь дневных лучей… О, тщетно Ищешь ты близких под этим солнцем, Как ты, рожденных царственным племенем, Где люди-братья вольную жизнь вели, Как леса дружные вершины Под всеобъемлющим ясным небом… (Диотима. Перевод Г. Ратгауза)В отличие от Клопштока, не всегда придерживавшегося определенного размера, изобретавшего собственные строфы в стремлении к наиболее полному и бурному выражению чувств, Гёльдерлин в своих одах строго ограничивает себя двумя строфическими формами – алкеевой и третьей асклепиадовой строфами; единственное исключение из этого правила – стихотворение «Unter den Alpen gesungen» («Под Альпами пелось…»), написанное сапфической строфой. Как уже давно отметил Ф. Байсснер, один из известнейших исследователей и издателей произведений поэта, подготовивший Большое штутгартское собрание его сочинений в шести томах, подобное ограничение позволило Гёльдерлину достичь того, что, по мнению ученого, не удалось сделать Клопштоку, – «чтобы самим размером стиха создавалось определенное настроение, впечатление»[116]. Речь, конечно же, идет о семантизации ритма. Однако, вероятно, дело не в том, что Клопштоку не удалось ее достичь: подобная семантизация, как уже отмечалось, признак любой настоящей поэзии, если не сказать – поэзии вообще. Просто читатель (слушатель), да и сам поэт вряд ли четко осознает смысловое наполнение ритма, вряд ли может сформулировать это на рациональном уровне понимания. В случае с Гёльдерлином дело, по-видимому, в том, что эта семантизация особенно рельефна, создается ощущение, что поэт играет ею совершенно сознательно – именно благодаря концентрации поэтических усилий на двух строфических размерах. Поэтому сразу же возникает музыкальная аналогия (а ведь мелика, как, впрочем, и лирика во всех древних культурах, требовала музыкального сопровождения). Как в музыке различаются мажор и минор, так и в одической поэзии Гёльдерлина отчетливо выделяются две определяющие «тональности» – алкеева и асклепиадова строфы. Первая, с ее бурно-стремительным, восходящим ритмом (два алкеевых одиннадцатисложника с женской цезурой, алкеев девятисложник и алкеев десятисложник), избирается поэтом именно для выражения энтузиастического порыва, стремления к героическому действию, для экстатического прорицания грядущего торжества, для зримого воплощения восхождения человеческого духа, как, например, в оде «К Эдуарду» («An Eduard»):
К тебе взывает вихрь и влечет тебя Отец героев ввысь. О, возьми с собой Меня. Смеющемуся богу Легкую ты принеси добычу. (Перевод В. Шора)Заметим, что переводчику в данном случае не вполне удалось передать экстатические, прерывающие текст восклицания, а также мастерское использование анжанбеманов (enjambements) – резких разрывов на границах строк, переносов мысли в следующую строку в самом неожиданном месте. Так, например, совершенно необычно (и, естественно, практически непередаваемо на других языках) то, что артикль остается в предыдущей строке, а существительное выносится в следующий стих: «…und bringe sei dem // Lächelnden Gotte, die leichte Beute!» («…и принеси // Смеющемуся богу легкую жертву [добычу]»).
Практически всегда алкеева строфа служит у Гёльдерлина для выражения неуспокоенного и в то же время гармонично-приподнятого состояния духа, как, например, в стихотворении «Утром» («Des Morgens»), мастерски переведенном Г.И. Ратгаузом:
Роса блестит на лозах; бессонные Ручьи журчат живее, и радостно Дрожит береза; шумом, светом Полнятся листья, и в серых тучах Пожар бесшумный; красные отблески Все выше всходят, солнца предвестники (Так волны бьют о берег моря, Выше и выше вздымая гребни). Взойди, взойди, о день золотой! Сдержи Ты бег коней к вершине полуденной. Я радостным, открытым взором, Юноша-бог, твой восход встречаю.Третья асклепиадова строфа (два малых асклепиадовых стиха, один ферекратей и один гликоней), с ее задумчиво-прерывистым, благодаря изобилию спондеев, течением, с ее особенно прихотливым ритмом, в котором восхождение уравновешивается мягким и мерным нисхождением, служит для выражения не столько стремительно-бурной, сколько гармонично-печальной, просветленно-меланхоличной красоты – как, например, в знаменитой оде «Гейдельберг» («Heidelberg»):
Ты мне издавна мил, я бы хотел всегда Сыном зваться твоим, песню тебе сложить, Ты, возлюбленный город, Самый лучший в стране моей. Словно птица лесов, вровень с вершинами Над рекою твоей, струями блещущей, Мост надежный взмывает, От колес и шагов звеня. Как посланец богов, часто на том мосту Дух вселялся в меня, чарами сковывал, Мне сияли и склоны И вершины влекущих гор. В даль широких равнин юный бежал поток Грустно-радостный, как сердце, когда любви Сладкий гнет его нудит В струи времени броситься. Ты даришь родники, тени даришь ему, Смотрят вслед беглецу горы окрестные, Им поток возвращает Отражений дрожащих цепь. Но сурово навис там над долиною Всей громадой своей замок, судьбы оплот, Ветхий от непогоды; Тихо вечное солнце льет На дряхлеющий кров свой молодящий свет, Всюду стены увил зеленью свежей плющ, И леса дружелюбно Вкруг гиганта шумят листвой. Весь в цветущих кустах склон до подножия, Где, к холмам прислонясь или у берега, Все твои переулки Дышат цветом садов твоих. (Перевод В. Куприянова)В оригинале последняя строфа звучит следующим образом:
Sträuche blühten herab, bis wo im heitern Tal, An den Hügel gelehnt, oder dem Ufer hold, Deine fröhlichen Gassen Unter duftenden Gärten ruhn.Именно Гёльдерлин создает непревзойденные образцы оды в античных метрах и канонизирует этот жанр в немецкой поэзии. Твердая, кристаллическая и в то же время прихотливая форма античных строф позволяет поэту не только выразить в своих творениях преклонение перед духом Эллады и формами созданной ею красоты, но и вписать в эти формы современный ландшафт Германии, с необычайной мощью передать красоту ее городов, рек, долин, холмов. Тем самым ода Гёльдерлина, по-новому преломляющая традицию Naturlyrik («лирики природы») и одновременно Gedankenlyrik («лирики мысли»), заложенных Броккесом, Галлером и Клопштоком, получает дополнительные коннотации: утопия, опрокинутая в прошлое и одновременно спроецированная в будущее, стремление видеть родную Германию живущей по законам красоты.
Показательно, что ода как жанр преобладает в лирике Гёльдерлина до 1800 г. Кроме того, еще одним излюбленным жанром Гёльдерлина в этот период является элегия, которая, как и античная, пишется только элегическими дистихами («Ахилл», «Плач Менона о Диотиме», «Скиталец», «Штутгарт», «Хлеб и вино», «Возвращение»). Однако далее происходит поворот его творчества к особой жанровой форме философского гимна в свободных ритмах (in freien Rhythmen), т. е. написанного верлибром. Во многом этот поворот был подготовлен предшествующим опытом немецкой поэзии – прежде всего Клопштока, экспериментировавшего с формой и создавшего первые образцы немецких свободных ритмов (знаменитое стихотворение 1759 г. «Не в океан…», названное в издании 1771 г. «Весеннее празднество», или «Праздник весны»). Кроме того, для Гёльдерлина не могли не иметь значения опыты в этом жанре молодого Гёте, а также эксперименты Гердера в попытке эквиритмической передачи древнееврейского тонического стиха – библейских Псалмов, которые, благодаря порой резкой неравноударности строк, создают акустически ощущение верлибра. Таким образом, немецкие свободные ритмы вырастают на перекрестке двух равномощных влияний – античного (эллинского) и древнееврейского (библейского). Эти два истока своеобразно переплетаются – и на уровне формы, и на уровне семантики – в философском гимне как Клопштока, так и Гёльдерлина.
Несомненно, непосредственным импульсом для обращения к этому жанру стала для Гёльдерлина его упорная работа в 1800 г. над переводами эпиникиев Пиндара (всего в этом году немецким поэтом были переведены семнадцать из сохранившихся сорока пяти гимнов величайшего представителя эллинской хоровой мелики). Вместе с тем, очевидно, были причины и более глубокого свойства: переход поэта в его поэтическом развитии на несколько иной уровень, стремление синтезировать свои размышления над путями и судьбами не только навсегда ушедшей цивилизации Эллады, оставившей миру великое культурное наследие, не только над судьбами родной Германии, но и над путями и судьбами всей человеческой цивилизации и культуры. Это побудило поэта обратиться к синтетическому жанру, сочетающему лирический субъективизм, эпическое дыхание и элементы драмы (не случайно хоровой мелос стал одним из истоков аттической трагедии и закрепился в ней). В античном гимне Гёльдерлина привлекает его триадическое строение, введенное некогда Стесихором: строфа – антистрофа – эпод; строфа 1 – антистрофа 1 – эпод; строфа 2 – антистрофа 2 – эпод и т. д. И хотя у Гёльдерлина нет ни нумерации, ни четкого ритмического рисунка строф (как известно, в хоровом мелосе этот ритм постоянно менялся, заново создавался поэтом), в его поэзии неизменно присутствует драматическое развертывание аналитической мысли, движущейся по знаменитой «гегелевской триаде» – тезис, антитезис, синтез.
Так рождаются поздние гимны Гёльдерлина, объединенные исследователями под условным названием «Vaterländische Gesänge» («Отечественные песнопения»), которое опирается на строки из письма поэта к К.У. Бёлендорфу, датируемого предположительно ноябрем 1802 г. и написанного уже на пороге безумия: «Я думаю, мы не будем больше пересказывать поэтов, живших до нашего времени; песенный лад вообще примет другой характер, и мы потому еще не стали на ноги, что сызнова начинаем – впервые после греков – петь по-другому, естественно, в соответствии с нашим национальным духом, по-настоящему самобытно» (перевод Н. Гнединой[117]; в оригинале последняя фраза звучит как «vaterländisch und natürlich, eigentlich originell zu singen»[118] – «отечественно и естественно, собственно оригинально петь»). Уже из этого ясно, что сам Гёльдерлин осознавал форму, которую нашел в своих поздних гимнах, как наиболее органичную и для него, и для немецкой поэзии вообще.
В «Отечественные песнопения» входят не только завершенные философские гимны, иногда очень обширные, объемные и уже одним этим не похожие на сугубо лирические произведения, но и многочисленные фрагменты, наброски, пробы, напоминающие обрывающуюся органную пробу перед началом фуги. Несмотря на эту фрагментарность и самодостаточность текстов, все поздние гимны и наброски создают действительно ощущение взаимосвязанности, единого цикла. Хронотоп этого гигантского лирического целого предельно разомкнут: место действия – вся земля, по крайней мере – Евразия, Средиземноморье и Ближний Восток, где берут начало древнейшие цивилизации и культуры, куда корнями уходит культура европейская; время – вся протяженность человеческой цивилизации в сложнейших переплетениях и взаимодействиях культур, в их диалоге. При этом поэтическое пространство Гёльдерлина не только предельно разрежено, так что взор поэта озирает целые материки и континенты, но и предельно пластично, внимательно к простым, малым, незаметным вещам. Это в свое время очень тонко отметил Рильке: «Как реки и горы, // зноем стиха согреты, в нем уместились. Просторно // даже в сжатом сравненья им, соучастникам» (гимн «Гёльдерлину»; перевод Г. Ратгауза). Перед нами разворачивается символический и в то же время удивительно конкретный гигантский ландшафт человеческой культуры, истории, памяти, в который вписаны судьбы родной Германии и не менее родной Эллады, в котором ведут диалог начало собственно немецкое, эллинское и библейское (особенно показательны в этом смысле гимны «Единственный», «Мнемозина», «Патмос», «Германия», «Рейн», «Титаны», «Праздник мира»).
Таким образом, гимны воспроизводят сложную парадигму формирования общечеловеческой и европейской культуры, и сама по себе эта сверхзадача не могла не вызвать к жизни новый поэтический язык, новую стиховую форму. Именно ритмы поздних гимнов так поразили в свое время Беттину фон Арним, что, как ей показалось, поэт близок к тому, чтобы раскрыть божественную тайну языка и сокровенную суть человеческой мысли. Действительно, перед нами наглядное стремление стиха передать всю многоассоциативность, многосложность, необычайную динамичность и в то же время затрудненность, подчас парадоксальную алогичность работы человеческой мысли, упорядочивающей хаос, осваивающей действительность и проникающей в трансцендентное. При всей кажущейся излишней громоздкости, хаотичности, отсутствии внешней логической связи гимны поражают глубокой внутренней продуманностью, скорее ощущаемой интуитивно, нежели осознаваемой рационально. Не случайно Рильке говорит, обращаясь к Гёльдерлину: «В речи твоей // замыкалась строка, как судьба…» (перевод Г. Ратгауза).
Стремясь создать целостный образ мира, Гёльдерлин закономерно обращается к верлибру. Как известно, свободный стих свободен не только от рифмы, но и от четко определимого ритма: последний меняется от стиха к стиху. Верлибр строится на ритмических контрастах, на максимальной выделенности и обособленности – при единстве целого – каждого слова. Показательно, что в отличие от Клопштока Гёльдерлин предпочитает не синтаксический, но антисинтаксический вариант верлибра, когда законченная мысль или фраза не укладывается в рамки стиха и резко выносится в следующую строку. Эта форма верлибра, ставшая такой органичной для немецкоязычной традиции, и прежде всего благодаря Гёльдерлину, даже в XX в. осознается некоторыми литературами как особо авангардная, экспериментальная (так, она практически не прижилась в русской поэзии). У Клопштока есть отдельные примеры антисинтаксического верлибра, но они достаточно редки. Гёльдерлин же пользуется им мастерски, заставляя играть и резко пульсировать мысль на резких, неузаконенных обрывах мысли и стиха – особенно в тех случаях, когда разрываются сказуемое и подлежащее, когда в предыдущей строке остается союз.
Сознавая новизну своего стиля, поэт определяет его как гигантскую «инверсию», подчеркивая, что это не идентично лингвистической инверсии: «Существуют инверсии слов внутри периода. Более сильна инверсия, когда сами периоды становятся материалом для нее. Логический распорядок, когда за основанием следует развитие, за развитием цель, когда придаточные предложения сзади привешиваются к главным, к которым они относятся, – этот распорядок лишь в редчайших случаях может оказаться пригодным для поэта»[119]. Стих должен передавать не логическую последовательность и завершенность мысли, но трудный процесс ее рождения и работы. В сущности, перед нами первая попытка воспроизведения «потока сознания» в поэзии – потока рафинированного поэтического сознания, познающего мир. Именно отсюда проистекает чрезвычайная сложность синтаксиса позднего Гёльдерлина, которую отмечал еще первый его исследователь, Н. фон Хеллинграт, подчеркивая, что это не бессилие больного поэта, не способного справиться с языковой стихией, как считали некоторые, но совершенно особый стиль, находящий себе внутреннее оправдание[120].
Поэтический синтаксис поздних гимнов Гёльдерлина опирается на две, казалось бы, противоречащие друг другу тенденции. Первая из них – стремление к краткости, к использованию (вслед за Клопштоком) «крамольных» грамматических и синтаксических конструкций, что выражается в пропуске несущественных логических связок, предлогов и артиклей. Цель, которая достигается при этом, – максимальная динамичность поэтического высказывания, позволяющая языку следовать за стремительной мыслью. Тенденция к краткости выражается также в обособлении практически каждого слова – благодаря постпозитивным определениям, анжанбеманам и инверсиям. Тенденция противоположная – все более возрастающая длина предложения, стремление поэтической мысли выразиться в обширном смысловом целом (длина предложения достигает 140–156 слов). Таким образом, «жесткий стиль» (harte Fügung – термин Хеллинграта; точнее – «жесткая связь»), создающий перерывы в течении стихотворной речи, раздробляющий ее на отдельные компоненты, сочетается с амплификацией – с разрастанием предложения изнутри за счет факультативных конструкций, за счет развертывания мысли и образа по ассоциации. Целое как бы дробится на части, а затем воссоединяется в грандиозном синтаксическом целом, образуя лавинообразные предложения, гигантские строфоиды, переливающиеся друг в друга, как, например, в гимне «Am Quell der Donau» («У истоков Дуная»):
Denn, wie wenn hoch von der herrlichgestimmten, der Orgel Im heiligen Saal, Reinquillend aus den unerschoepflichen Roehren, Das Vorspiel, weckend, des Morgens beginnt Und weitumher, von Halle zu Halle, Der erfrischende nun, der melodische Strom rinnt, Bis in der kalten Schatten das Haus Von Begeisterungen erfuellt, Nun aber erwacht ist, nun; aufsteigend ihr, Der Sonne des Fests, antwortet Der Chor der Gemeind: so kam Das Wort aus Osten zu uns, Und an Parnassos Felsen und am Kithaeron hoer ich, О Asia, das Echo von dir und es bricht sich Am Kapitol und jaehlings herab von den Alpen Kommt eine Fremdlingin sie Zu uns, die Erweckerin, Die menschenbildende Stimme. Как будто настроенный свыше, Орган в святом зале, Из неисчерпаемых труб изливая Пролог пробужденный, утром звучит, И вдаль из чертога в чертог Поток мелодий свежий течет, Пока не наполнит в холодной тени Дом вдохновеньем, И, разбуженный, вставая навстречу Солнцу праздника, отвечает Хор общины; так С Востока Слово пришло к нам, И на высотах Парнаса, и на Кифероне я слышу, Азия, эхо твое, и оно отдается На Капитолии, и стремглав с Альп, Как странник, нисходит, Нас пробуждая, Животворящий голос. (Перевод В. Микушевича)Показательно, что такие сложнейшие многослойные конструкции часто прерываются очень краткими предложениями или даже обособленными незавершенными фразами, как, например, в «Мнемозине»: «Вне сомненья // Только Единый. И Он всегда // Возможет путь обратить. Едва ль // Ему нужен закон» (перевод С. Аверинцева). Или в «Титанах»: «И все же час // Не пробил. Они покуда // Не скованы. Чуждого Бог не коснется. // Иначе спор возгорелся б //С Дельфами» (перевод С. Аверинцева). Это ощущение предельной, кажущейся алогичной краткости, которая отмечает одновременно и остановку, и непрерывное течение мысли, усиливает внешне нелогичное употребление в начале стихотворения или новой конструкции, вне видимой связи с предшествующим текстом, союзов und («и»), как в последнем примере, и denn («потому что», «ибо»): «Ибо не все // Небесные могут» («Мнемозина»); «Ибо немало осталось в хартиях верных…» («Титаны»; перевод С. Аверинцева).
Эти новаторские поиски, равно как и новаторское содержание, сделали верлибр Гёльдерлина органичным для XX в. Огромно его влияние на всю немецкоязычную поэзию XX в.: на Ст. Георге, позднего Рильке, экспрессионистов (особенно Г. Тракля, но и И.Р. Бехера, Г. Бенна и др.), на Й. Вайнхебера, Н. Закс, П. Целана, Р. Ауслендер, Г. Маурера, Э. Арендта, И. Бобровского. Не случайно последний советовал молодым авторам, подобно Гёльдерлину, «через античные метры прийти к свободному обращению со словом»[121].
В сознании потомков оды и гимны Гёльдерлина остались как вершинные достижения не только немецкой, но и мировой поэзии. Вполне обоснованно утверждать, что они обязаны своим появлением не только прозрениям гениального поэта на переломе эпох, не только внутренней полемике с традиционной поэтикой, но и развитию новаторских форм, порожденных самим XVIII веком.
* * *
Итак, немецкая поэзия XVIII в. создала значительные художественные ценности, демонстрирующие и сегодня напряженность и новаторство эстетических исканий той эпохи. Она не только подготовила (особенно усилиями штюрмерского поколения) становление романтизма раньше всего именно в Германии, но и оказала большое влияние на развитие немецкой и мировой поэзии конца XIX–XX вв. Плодотворное воздействие таких гениев, как Клопшток, Шиллер, Гёте, Гёльдерлин, и доныне ощутимо в мировом литературном процессе.
Немецкая проза XVIII века
В своем развитии немецкая проза (точнее – прозаические эпические жанры) прошла несколько этапов в связи с общими закономерностями литературного процесса в Германии. Лидирующим из этих жанров оказался, как и в других западноевропейских литературах, роман – этот воистину эпос Нового времени. Опираясь на собственный опыт, накопленный в XVII в., и прежде всего на традиции Г.Я.К. Гриммельсгаузена, созданного им социально-дидактического и сатирического романа «низового» барокко, на традиции немецкого галантно-героического романа, а также на опыт западноевропейского романа XVII–XVIII вв. в целом, немецкая литература предприняла собственные новаторские поиски и достигла значительных успехов в жанре романа, особенно во второй половине XVIII в.
1. Публицистика, философская и художественная проза первого этапа Раннего Просвещения (1680–1720)
Поиски немецкой художественной прозы на рубеже XVII–XVIII вв. подготавливают грядущие просветительские тенденции – и прежде всего развитие бюргерского моралистического и сатирического романов. Однако собственно просветительские идеи на рубеже веков проявляются в философской прозе и публицистике. В этой связи особенно важны философские и публицистические труды Г.В. Лейбница, К. Томазиуса, К. Вольфа, осуществивших своеобразную «философскую подготовку» немецкого Просвещения и способствовавших распространению просветительских идей среди широких слоев немецкого бюргерства.
Философская проза и публицистика: Готфрид Вильгельм Лейбниц, Кристиан Томазиус, Кристиан Вольф
Тем, кто заложил в Германии фундамент Просвещения, был Готфрид Вильгельм Лейбниц (Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646–1716) – выдающийся мыслитель и ученый, чрезвычайно одаренная личность, проявившая себя в самых разнообразных сферах: философ, математик, физик, теолог, юрист, историк, языковед, дипломат, поэт. Лейбниц был человеком истинно планетарного (и в этом смысле истинно просветительского) масштаба мышления, ратовавшим за единство мировой или по крайней мере европейской науки и культуры. Не случайно именно он явился генератором идеи академий наук в современном смысле этого слова: с его точки зрения, эти академии, вбирающие в себя всю полноту человеческих знаний, человеческой деятельности (в том числе и изучение культуры, литературы, искусства), будут служить «просвещению умов», консолидации лучших созидательных сил человечества, его преображению и расцвету. Именно Лейбниц не только подготовил, но и осуществил первый проект создания подобной академии – Берлинской академии наук, точнее – Академии наук и свободных искусств (1700), стал первым ее президентом. Лейбниц участвовал также в подготовке создания Российской академии наук в Санкт-Петербурге. Особое внимание ученый уделял гармонии и взаимодействию религиозно-философского и научного познания мира, гуманитарных и естественных наук. Среди наиболее выдающихся открытий Лейбница – разработка им, параллельно с И. Ньютоном и независимо от него, дифференциального и интегрального исчислений. Вместе с тем стремление к рациональному познанию мира уживалось в нем, как и в Ньютоне, со страстной жаждой постижения тайн мироздания, лежащих вне сферы разума, с жаждой постижения Тайны тайн – Творца и Его творения. В силу широчайшей образованности и разносторонней одаренности Лейбницу удалось стать своего рода символом синтетичной и универсальной культуры Просвещения.
Будущий великий мыслитель родился в Лейпциге, в профессорской семье. После окончания университета он сознательно отказался от университетской карьеры, чтобы не быть скованным и привязанным к какому-либо определенному месту. Много лет он жил в Западной Европе, особенно длительным было его пребывание в Париже в качестве дипломата. Затем большую часть своей жизни Лейбниц провел в Майнце и Ганновере, при дворах местных герцогов, работал библиотекарем и историографом. Ученый с мировым именем, он завязывал отношения и вел переписку с европейскими монархами, возлагая надежды на типичную для просветителей идею просвещенной монархии.
По своим религиозным взглядам и философским убеждениям Лейбниц был деистом и пытался органично соединить философию и религию, науку и идею Бога. Однако его деизм несколько иного качества, нежели деизм Локка. Если Локк выступил с критикой любых врожденных идей, то Лейбниц исходит из наличия некоторых изначальных идей, заложенных Богом в природу, в том числе и человеческую. Огромное значение для формирования взглядов Лейбница имела философия Баруха (Бенедикта[122]) Спинозы (1632–1677), чьи идеи в целом оказали большое влияние на немецкое Просвещение, особенно на философские концепции Лессинга, Гердера, Гёте. Согласно Спинозе, Бог – неисчерпаемая Первопричина всего сущего, всех явлений мира в их бесконечной взаимосвязи и движении. Все насквозь пронизано Божественным началом, все пребывает в Боге, равно как и Бог пребывает во всем (в связи с этим концепция Спинозы, кардинально отличающаяся от языческого пантеизма, может быть названа панентеизмом). По Спинозе, истинная любовь к Богу и истинное познание Его предполагают непредвзятое изучение природы и деятельную любовь к ближнему. Особенно сильное впечатление произвела на Лейбница, как и на последующую немецкую философию, спинозистская идея единства универсума, созданного Богом, – идея единой, вечной и бесконечной мировой взаимосвязи.
Свою концепцию мира и понимание Бога Лейбниц изложил в работе, написанной на французском языке, – «Монадология» («La Monadologie», 1714). Согласно этой концепции, все сущее состоит из духовно-материальных замкнутых субстанций, наделенных независимой индивидуальной сущностью, обладающих активностью и способностью к саморазвитию, «деятельной силой». Это некие первоэлементы мироздания – монады (от греч. monos – «один»). Каждая монада несет в себе строй мирового целого, является зеркалом универсума (так реализуется спинозистский – панентеистический – принцип, который блестяще выражен поэтически в гётевском «что вовне – внутри отыщешь», а также в тютчевском «все во мне, и я во всем»). В монадах осуществляется гармония духовного и телесного, однако именно духовное начало наделяет монады «деятельной активностью». При этом Лейбниц исходит из представления о полной непрерывности процессов, происходящих в природе, что соответствовало современному ему уровню естествознания, базировавшегося на законах классической механики, сформулированных Ньютоном. Однако мысль о способности монад к самодвижению и саморазвитию вносила сильнейшие элементы диалектики в механистическую картину мира.
В «Монадологии» Лейбниц формулирует также закон достаточного основания: «…ни одно явление не может оказаться истинным и действительным, ни одно утверждение – справедливым без достаточного обоснования, почему дело обстоит так, а не иначе». Это также связано с механистическим пониманием природы. В материальном мире природы, по мысли Лейбница, всякое явление может быть объяснено механически, с точки зрения причинности, ибо у всякого видимого, механического, движения есть очевидный источник, есть причина. Но мир как целое не может быть объяснен механически, с точки зрения причинности. Для своего объяснения он требует высшей целесообразности, за которой стоит Бог. Только Творец может быть «достаточным основанием» для всего сущего, поэтому движение монад, их «деятельная активность» устремляет их к высшей цели, к воссоединению с Высшей Монадой – Богом.
Таким образом, Лейбниц сочетает рационалистический принцип механической причинности и религиозный принцип высшей целесообразности мира. Если Спиноза объяснял мир каузально (лат. causa – «причина»), то Лейбниц объясняет мир не только каузально, но и телеологически (греч. telos – «цель»). Каузальность действует в мире физическом, в мире тел, телеология – в мире метафизическом, в мире душ. При этом между причиной и целью, телом и душой существует изначально установленная Богом гармония – harmonia praestabilitata («предустановленная гармония»), что и придает высшую целостность и высшую целесообразность миру, сотворенному Богом.
Это учение оказало очень сильное воздействие на немецких просветителей. Оно позволяло органично сочетать веру и научное познание мира. При этом и в вопросах веры, и в вопросах познания Лейбниц решающее значение придает интеллекту. Ощущения и чувства для него – лишь низшая ступень мышления (чувственные восприятия Лейбниц определяет как «смутные мысли»). Излюбленный метод ученого – дедукция, а самые весомые и надежные истины – выводимые дедуктивно (хотя при этом он не отвергает и «истин факта», устанавливаемых опытным путем, т. е. индуктивно).
Оправданию высших целей Творца и размышлению о причинах и смысле существования в мире зла посвящена знаменитая работа Лейбница «Теодицея», точнее – «Опыты теодицеи о благости Бога, свободе человека и первопричине зла» (1710), также написанная по-французски. Именно в этом трактате Лейбниц впервые употребил изобретенный им же термин для обозначения одной из самых роковых и неразрешимых проблем бытия и сознания, особенно сознания монотеистического, – проблемы справедливости Бога, осмысленности и оправданности сотворенного Им мира перед лицом самого страшного, необъяснимого зла – страданий праведных и невинных. Весьма часто слово «теодицея» (от греч. theos – «Бог» и dike – «справедливость») условно переводят как «Богооправдание», а после появления трактата Лейбница оно стало восприниматься и как жанровое обозначение произведения, в той или иной форме ставящего и пытающегося решить проблему теодицеи.
Признавая существование Бога, Лейбниц вынужден признать и то, что Творец допустил существование в мире зла. Он дает классификацию зла, опираясь на Спинозу, чья классификация, в свою очередь, восходит к выдающемуся еврейскому мыслителю XII в. Маймониду: 1) зло метафизическое (конечность всех вещей); 2) зло физическое (стихийные бедствия, болезни и связанные с ними страдания и гибель людей); 3) зло моральное (продукт человеческой воли). С первым видом зла нужно смириться, оно – естественный закон нашей жизни; второе случается не столь часто. Третий же вид зла для того и существует, чтобы человек воспитал в себе свободу воли и умение осознанно выбирать добро. По Лейбницу, существует «предустановленная гармония» добра и зла: все дурное – необходимое условие функционирования мира, который дает человеку высшую из возможных мер счастья. Лейбниц заявляет, что, сотворяя мир, Бог «избрал наилучший из всех возможных вариантов». Тем самым он указывает на пути общественного прогресса, объявляет мир достойным полем человеческой активности: нужно изменять и переустраивать этот мир, не считая его всего лишь земной юдолью, а единственно достойным человека – мир загробный.
Оптимистическая концепция Лейбница, свойственная Раннему Просвещению (сходные позиции высказал английский мыслитель А.Э.К. Шефтсбери), вызвала критику со стороны Вольтера в «Поэме о гибели Лиссабона, или Проверке аксиомы: все хорошо», а также в философской повести «Кандид, или Оптимизм» со знаменитой фразой Панглоса: «Все к лучшему в этом лучшем из миров». Вольтера беспокоило, что подобный оптимизм может стать оправданием любого зла. Лейбниц вовсе не стремился оправдать любое зло, но объяснял его происхождение высшими целями Творца, не только не снимающими ответственности с человека, но, наоборот, усиливающими ее.
Идеи Лейбница (особенно идея взаимосвязи всех явлений, единства индивидуального и универсального, бытия и становления) намного опередили его время. Впервые они были по-настоящему восприняты в философии истории Гердера, натурфилософии и философской поэзии Гёте – в связи с осмыслением значения Спинозы, в 70-е гг., в штюрмерский период, а затем получили широкое распространение в 80-е гг., когда в Германии развернулась дискуссия о Спинозе. До этого времени идеи Лейбница были в основном известны в адаптации К. Вольфа, чему немало способствовало то обстоятельство, что Лейбниц писал на французском и латинском языках (хотя он протестовал против галломании и защищал права немецкого языка, писал на немецком стихотворные произведения).
Одним из тех, кто способствовал выходу немецкого Просвещения из «кабинетной» стадии, кто впервые во всеуслышание заявил о своих просветительских взглядах и провозгласил необходимость преобразования жизни Германии по законам Разума и Природы, необходимость воспитания бюргерства в духе естественного права и идеала «естественного человека», был Кристиан Томазиус (Christian Thomasius; настоящая фамилия – Thomas (Томас); 1655–1728). Он родился в профессорской семье в Лейпциге, там же получил университетское образование (юридическое), но деятельность свою начал во Франкфурте-на-Одере в качестве адвоката и доцента местного университета. Уже тогда, во второй половине 70-х гг. XVII в., Томазиус, которому было чуть более двадцати лет, предстал перед трудным выбором: пойти на поводу консервативных взглядов и представлений, стать конформистом – или быть нонконформистом, заявить о своей точке зрения, отличной от мнения большинства, поддержать гонимых. Молодой Томазиус должен был публично выступить против учения знаменитого нидерландского мыслителя и юриста Гуго Гроция и его немецкого последователя Самуэля Пуфендорфа (1632–1694) о естественном праве, но вместо этого горячо поддержал новую теорию.
В своих более поздних работах, написанных на латыни, – «Три книги Божественной науки о праве» (1685), «Принципы естественного права и права народов, основанные на здравом рассудке» (1705) – Томазиус защищает естественное право. По его мнению, право и мораль возникли естественно, в процессе общения людей, и опираются на их разум, здравый смысл. Он разграничивает сферы философии и теологии: «Цель философии – земное благополучие людей, цель теологии – их Божественное благо». Поэтому теологи не должны претендовать на полное подчинение им философии и науки. Кроме того, Томазиус ратует за связь науки с жизнью, за реформу образования и разумное переустройство бюргерского быта. Ему близки положения философии Эпикура о разумном наслаждении как основе счастья; на этой основе он строит свою концепцию этики, противополагая ее жесткому ригоризму и ханжеству официальной морали, пропагандируемой Церковью.
В 1679 г. Томазиус совершил путешествие в Голландию с образовательной целью. Увиденное в этой стране произвело на него сильнейшее впечатление, усилило критическое отношение к немецкой действительности. Безусловно, Томазиус идеализирует Голландию, видит в ней абсолютный идеал. Расцвет наук в этой стране он связывает с веротерпимостью, ничем не ограниченной свободой мысли, с процветанием не только бюргеров, но и крестьян.
С 1681 по 1690 г. Томазиус преподает в Лейпцигском университете, и эти годы называют порой годами «бури и натиска». Он страстно полемизирует со схоластами, ортодоксами, ханжами и педантами, выступает против фанатизма, суеверий и предрассудков, за отмену варварских методов судопроизводства, в особенности процессов против ведьм (тем не менее последнее сожжение «ведьмы» в Германии состоялось только в 1749 г. в Вюрцбурге).
Именно в этот период, в октябре 1687 г., в Лейпцигском университете произошло чрезвычайное событие: доцент Томазиус вывесил написанную по-немецки, а не на латыни, программу лекционного курса, который он также собирался прочитать на немецком языке. Это вызвало волнение среди студентов и возмущение профессуры, которая восприняла шаг Томазиуса как подрыв университетских устоев. Томазиус же стремился доказать, что немецкий язык вполне пригоден для выражения философских и научных мыслей, и вдобавок стремился нанести удар схоластике, сословной замкнутости ученых. Пройдет еще несколько десятилетий, и немецкий язык прочно войдет в обиход университетов Германии. Первый шаг к этому сделал Томазиус.
Первой лекцией на немецком языке, прочитанной с университетской кафедры, была «Речь о том, как и что следует перенять у французов для нашей повседневной жизни» («Discours, welcher Gestalt man denen Franzosen im gemeinen Leben und Wandel nachahmen solle?», 1687). Само название подчеркивало, что для лектора важнее всего связь с самыми широкими вопросами бюргерской жизни. Речь идет о привитии разумных нравов и вкусов, просвещении умов немецкого бюргерства. Томазиус осуждает слепое подражание иностранной моде, но спорит с крайними сторонниками национальной самобытности. Он не боится сказать, что французы превосходят немцев образованностью, вкусом, хорошими манерами. Этому нужно у них поучиться, как и уважению к родному языку, которым они давно пользуются в университетском образовании. Томазиус призывает к европеизации нравов немецкого бюргерства, к цивилизованности. С проблемами речи перекликается «Введение в придворную философию, или Первые строки книги о разумном размышлении» (1688). Это руководство по логике для студентов, но логике не абстрактной, а практической. Томазиус пишет о том, как важно уметь распознавать предрассудки и суеверия, освобождаться от ложных авторитетов, разумно вести себя в обществе, как важны цивилизованные нравы. От этого зависит жизненный успех. Речь идет об освоении бюргерством европейских культурных навыков, о необходимости роста его самосознания. Бюргерству, заявляет Томазиус, есть чему поучиться у высшего общества.
В 1688 г. Томазиус начал издавать первый научно-критический журнал на немецком языке, рассчитанный на широкий круг образованных людей: «Откровенные, забавные и серьезные, разумные ежемесячные беседы обо всем, преимущественно о новых книгах» («Freimütige, lustige und ernsthafte, jedoch vernünftige und gesetzmässige Gedanken oder Monatsgespräche über Alles, fümehmlich aber über neue Bücher»). Журнал издавался от имени мнимого кружка любителей чтения, различных по характеру и положению в обществе. Все они «праздные люди», т. е. не состоящие на княжеской службе, что и позволяет им высказываться откровенно. В ходе их бесед затрагиваются всевозможные вопросы. На самом деле это было остроумным художественным приемом Томазиуса, который являлся единственным издателем и сотрудником журнала. В журнале особенно ярко раскрылся талант Томазиуса-полемиста, писателя-сатирика. В самом первом номере (январь 1688) он объявил, что его цель – обличение «тартюфов и барбонов» (ханжей и педантов). Переизданный в 1690 г. в Галле, журнал был украшен гравюрой, изображающей сцену разоблачения Тартюфа в комедии Мольера. Очень смелым было выступление Томазиуса против Мазиуса, копенгагенского придворного пастора, фанатика лютеранства. Встревоженный усилением деятельности Реформатской (Кальвинистской) Церкви в связи с изгнанием из Франции в 1685 г. гугенотов и переселением их в Германию, Мазиус приписал ей отказ признать княжескую власть Божественным установлением, тем самым объявив кальвинистов политически неблагонадежными. Томазиус опроверг это обвинение, чем нажил себе могущественных врагов среди лейпцигского лютеранского духовенства. Самого Томазиуса обвинили в нелояльности к властям, в умалении Божественной основы монархии. Конечно же, Томазиус не выступал против монархии как таковой. Он выступал против абсолютизма и произвола, за просвещенную монархию. Он объявляет истинным только того монарха, который пользуется доверием народа, осуждает княжеский произвол.
Журнал просуществовал всего два года: он закончил свою краткую жизнь из-за многочисленных нападок и обвинений. В последнем, декабрьском, номере 1689 г. Томазиус имел смелость объявить: «Республика ученых не признает над собой иной власти, кроме здравого разума. Граждане этой республики, независимо от национальности и сословия, – равны, их голоса в равной мере заслуживают доверия… Пусть повсюду засияет разум человека и да не захиреет он от покорности какому-либо властелину». Разразился скандал. Дрезденская консистория вынесла решение о запрещении Томазиусу чтения лекций и публикации каких-либо сочинений. Оставаться в Саксонии было невозможно.
В 1690 г. Томазиус переезжает в Галле, где участвует в основании университета, становится одним из первых его профессоров и деканом юридического факультета. Бранденбургский монарх, будущий император Пруссии Фридрих I благосклонно отнесся к знаменитому изгнаннику из Саксонии. Это объясняется соперничеством между Пруссией и Саксонией, а также тем, что защита Томазиусом приверженцев Реформатской Церкви была выгодна Бранденбург-Пруссии, нуждавшейся в притоке населения. В Галле Томазиус живет до самой смерти, остро переживая свою лейпцигскую неудачу. Здесь он сближается с пиетистами и погружается в изучение мистических сочинений, о чем свидетельствует его «Опыт о сущности Духа» (1699). Однако чуть позже огромное впечатление на Томазиуса производит «Опыт о человеческом разуме» Дж. Локка, в результате чего он расходится с пиетистами. Главные сочинения, написанные Томазиусом в 90-е гг., – «Введение в этику» (1692) и «Этика» (1696). В них Томазиус провозглашает основным назначением человека деятельную, активную жизнь, связанную с жизнью других людей; при этом, чтобы быть подлинно нравственным, человек нуждается в помощи свыше, в Промысле Божьем.
В последние годы жизни Томазиус вновь ведет борьбу с суевериями, выступает против процессов ведьм. Он доказывает, что дьявол, не имея телесного облика, не может заключать телесных сделок, привлекает в качестве аргументов изречения самого Христа, евангельские тексты. Книги Томазиуса «О преступлениях волшебства» (1701) и «О возникновении и распространении инквизиционных судов над ведьмами» (1712) сыграли большую роль в упразднении позорных процессов против «ведьм».
Широкому распространению идей Просвещения в Германии содействовал также Кристиан Вольф (Christian Wolff, 1673–1754), который был самым влиятельным философом раннего немецкого Просвещения и первым, кто прочитал курс по философии в университете на немецком языке. Он сыграл огромную роль в популяризации просветительских идей, впервые ввел в оборот основополагающие философские понятия на немецком языке (сознание, представление, отношение, понятие и др.). В своей деятельности Вольф уже опирался на идеи Лейбница и Томазиуса, был популяризатором философии Лейбница.
Вольф родился в Силезии, в Бреслау, в семье кожевника. Он учился в Иенском и Лейпцигском университетах. В Лейпциге началась его преподавательская деятельность. С 1706 г. Вольф является профессором математики и философии в Галле. Между 1712 и 1723 гг. он пишет серию работ, названия каждой из которых начинаются словами «Разумные мысли…» («Vernünftige Gedanken…»): «…о силе человеческого разума и правильном его употреблении при познании истины» (1712); «…о Боге, мире и душе человека, и вообще о всех других предметах» (1719); «…о деяниях людей, направленных на поощрение их благополучия» (1720); «…об общественной жизни человека» (1721); «…о воздействиях природы» (1723); «…о целях естественных вещей» (1723). Сами эти названия свидетельствуют о сугубо рационалистическом характере философии Вольфа.
Определяя понятие «разумное», которое он положил в основу объяснения всего мира, Вольф исходит из единственного критерия: разумно то, что не содержит в себе противоречия и обладает «достаточным основанием». Вольф демонстрирует на примере «чистых» понятий, что ни в чем нет противоречий. Диалектические мысли Лейбница при этом исчезли, мир застыл, закостенел. Но для современников решающим оказалось то, что Вольф писал понятным немецким языком и способствовал пробуждению их собственных мыслительных способностей. Он впервые в Германии разработал философскую концепцию как стройную систему взглядов и изложил ее с университетской кафедры на немецком языке.
Вольф учил, что изначальная гармония, установленная Богом, гарантирует самостоятельное развитие мира, поэтому люди могут опираться на свой разум и не всегда нуждаются в наставлениях священнослужителей. Более того, так как в основу мироздания положены разум и естественные законы, безбожие не всегда означает безнравственность, а нравственность не является прерогативой только христианства. Так, в июле 1721 г. Вольф, проректор университета в Галле, произнес в торжественной обстановке речь «О нравственной философии китайцев». Ссылаясь на древнюю китайскую философию, Вольф доказывал, что китайцы, не зная христианского Бога, были людьми нравственными, счастливыми и смогли правильно устроить свое государство.
Речь о китайцах вызвала возмущение церковников и послужила поводом для начала травли Вольфа, которая длилась несколько десятилетий. Все его сочинения подвергаются цензуре, в них постоянно выискивается «крамола». В конце концов король Пруссии Фридрих Вильгельм I, которому популярно разъяснили, что в силу «предустановленной гармонии» и «закона достаточного основания», провозглашаемых Вольфом, нельзя преследовать дезертиров, предписал философу покинуть пределы Пруссии под угрозой виселицы.
Вольф перебирается в Марбург, где находит горячую поддержку и проводит в общей сложности 18 лет. С большим вниманием относятся к Вольфу иностранные академии наук, в том числе и Российская. С 1736 по 1739 г. его руководству была поручена группа студентов из России, среди которых находился М.В. Ломоносов. Слава Вольфа так велика, что в 1740 г. Фридрих II, только что вступивший на престол Пруссии, пригласил его вернуться в Галле. Там ему была устроена триумфальная встреча жителями города и студентами.
Основным итогом деятельности Вольфа и борьбы вокруг него было то, что немецкое Просвещение распространилось по всей Германии, стало широким общественным движением.
У Вольфа было много учеников. Одним из самых выдающихся был Александр Готлиб Баумгартен (Alexander Gottlieb Baumgarten, 1714–1762), профессор философии во Франкфурте-на-Одере. Он впервые написал труд о теории чувственного познания, о тех «смутных мыслях», которые Лейбниц и Вольф считали низшими в сравнении с рассудочным познанием. Эта работа называлась «Эстетика» («Aesthetica», 2 тома, 1750–1758). Впервые в науку был введен термин «эстетика», и именно у Баумгартена он получил значение «наука о прекрасном». Впервые в Германии Баумгартен научно обосновал мысль о познавательной роли искусства.
Деятельность Томазиуса и Вольфа подготовила появление целой плеяды философов-популяризаторов, или «популярных философов» (Popularphilosophen): Кристиан Гарве, Иоганн Якоб Энгель, Кристоф Фридрих Николаи, Мозес Мендельсон. Философы-популяризаторы органично соединяют рационализм Вольфа с сенсуализмом Локка, обращаются прежде всего к проблемам морального бытия человека, борются с предрассудками за торжество «здравого смысла», активно воспитывают немецкое бюргерство.
Значительным фактором развития Просвещения в Германии был также пиетизм (от лат. pietas – «благочестие», «набожность») – особое религиозное течение внутри протестантизма. Пиетизм возник в конце XVII в. в протестантских областях Германии, в Нидерландах и Швейцарии как протест против догматизма и фанатизма Лютеранской и Протестантской Церквей. Самые радикально настроенные пиетисты порвали с Церковью и основали собственные общины, чтобы жить в братстве. Они призывали верующих к самоуглублению и самосовершенствованию. Для них важна была не внешняя сторона религии, не соблюдение предписаний пастора, но воспитание человеком в себе самом интенсивного религиозного чувства, способности ощущать близость Творца. Таким образом, пиетизм являлся мистическим движением. Пиетисты культивировали общение верующих вне стен церкви, без участия священника. В центре их религиозной жизни находились молитвенные собрания и совместное чтение Библии.
Пиетисты, как и английские пуритане, были ревнителями «чистой жизни», противниками шумных празднеств, театра, танцев, азартных игр. Все их усилия устремлены на преодоление греховных начал человеческой природы. Для раннего немецкого пиетизма была характерна религиозно окрашенная внесословность, признание равенства всех людей перед Богом, внимание к обездоленным. Именно поэтому их усилия объединились с усилиями просветителей.
В числе первых крупных пиетистов были пастор из Эльзаса Филипп Якоб Шпейер (Philipp Jacob Spener, 1635–1705), основавший в 1675 г. во Франкфурте-на-Майне первые «школы набожности» (<collegia pietatis), а также его ученик, профессор теологии в Галле Август Герман Франке (1663–1727), учредивший во имя «практического христианства» сиротский дом и несколько школ в Галле. Дружеские отношения со Шпейером поддерживал выдающийся пиетист Готфрид Арнольд (Gottfried Arnold, 1666–1714), сын бедняка-учителя из Саксонских Рудных гор, теолог, профессор истории в Гиссене, под конец жизни – выборный пастор пиетистской общины в Перлеберге (Альтмарк). Арнольд написал двухтомный труд «Беспристрастная история Церкви и ересей» («Unparteiische Kircher und Ketzer-Historie», 1699–1701), в которой смело защищал еретиков от ортодоксальной Церкви и обвинял последнюю в отступлении от моральных принципов раннего христианства. Эта книга привела в восхищение Томазиуса, объявившего ее лучшей книгой после Библии. У Арнольда нашел созвучные своим мысли молодой Гёте, искавший пути к внецерковной религиозности. Пиетизм оказал влияние на молодого Виланда, во многом определил духовные поиски Клопштока. В целом пиетизм, породивший яркие формы религиозного энтузиазма (особенно в братстве гернгутеров), способствовал оживлению духовной жизни в Германии, хотя на более поздних этапах Просвещения немецкие просветители критиковали и самих пиетистов за фанатизм и нетерпимость (например, К.Ф. Николаи в романе «Жизнь и мнения господина магистра Зебальдуса Нотанкера», 1773–1776).
Немецкий роман на рубеже XVII–XVIII веков: Кристиан Рейтер, Кристиан Вейзе
Параллельно со становлением просветительской идеологии на самом раннем этапе развития немецкого Просвещения в художественной прозе происходит осмысление сложных, переходных явлений действительности, старые жанры и стили наполняются новым смыслом, втягиваются в орбиту Просвещения, а также рождаются новые, несущие собственно просветительские идеи. Так, на рубеже веков продолжается развитие в прозе традиций гротескно-сатирического нравоописательного романа в русле «низового» барокко, а также складывается под влиянием последнего сатирический нравоучительный и бытописательный роман в стиле рококо.
Продолжателем традиций И.М. Мошероша и Г.Я.К. Гриммельсгаузена выступил талантливый прозаик Кристиан Рейтер (Christian Reuter, 1665 – после 1712), который является также автором известных комедий. Сведения о жизни Рейтера чрезвычайно скудны. Известно, что он учился в Лейпцигском университете и был изгнан из города по жалобе почтенной семьи, обидевшейся на Рейтера из-за одной из его сатирических комедий. Известно также, что в начале XVIII в. в Берлине писатель сочиняет ради куска хлеба пьесы для придворных спектаклей. После 1712 г. о нем нет никаких сведений. И только в 1884 г. было точно доказано, что именно Рейтер – автор очень широко известного романа «Шельмуфский».
Имя «Шельмуфски» (или «Шельмуфский») появляется уже в комедиях Рейтера, где этот герой предстает как сын госпожи Шлампампе, зазнавшейся трактирщицы, бездельник и вертопрах, кичащийся своими галантными манерами и выдающий себя за утонченного аристократа. Этот образ стал центральным в романе «Шельмуфский. Описание любопытных и преопасных путешествий по воде и по суше» («Schelmufsky. Kuriose und sehr gefährliche Reisebeschreibung zu Wasser und Land», 1696), где полнее всего раскрылся сатирический талант Рейтера. По жанру «Шельмуфский» – классический плутовской роман в духе «низового» барокко. Герой странствует по миру, наблюдая жизнь различных слоев общества. При этом его приключения смешны до невероятного, нелепы до абсурда. Объектом насмешки и обличения оказывается и общество, и сам Шельмуфский, отчаянный враль и фантазер, предваряющий появление в немецкой литературе барона Мюнхгаузена. Однако Шельмуфский – только пародия на галантного кавалера, за утонченной оболочкой которого скрывается наглый враль, глупый и невежественный выскочка.
В романе очень важны черты пародии на галантно-героический роман немецкого барокко (и прециозный роман в целом). Не случайно автор иронически посвящает свое произведение «Азиатской Банизе» Г. Циглера. Когда вышел «Шельмуфский», продолжали появляться бесконечные тома огромного романа Антона Ульриха Брауншвейгского «Римская Октавия». Рейтер доводит до апогея, до логического абсурда невероятность приключений, свойственную галантно-героическому роману. В его романе они нелепы до смешного и смешны до нелепости, ибо основаны на вранье. Так, Шельмуфский побывал не только у Великого Могола в Индии, но и в Риме, где видел местный промысел – ловлю сельдей, а также в Венеции, где город стоит на высокой скале и страшно страдает от отсутствия воды. Каждый поворот действия блестяще пародирует либо типичный эпизод, либо типичный прием галантно-героического романа. Глубина пародии усиливается основной мыслью романа: как буйная фантазия и невероятные приключения галантно-героического романа восполняли нехватку поэзии и глубины чувств в убожестве обыденности, так в романе Рейтера за невероятной, буйной фантастической иллюзией скрывается убожество немецкой жизни.
Рейтер связывает лучшие традиции романа «низового» барокко XVII в. и традицию просветительского гротескно-сатирического романа. От «Шельмуфского» тянется прямая линия к различным мюнхгаузиадам XVIII в. – обработкам «Приключений барона Мюнхгаузена».
Одновременно складывается роман рококо, вбирающий в себя и некоторые тенденции барокко. Создателем его стал Кристиан Вейзе (Вайзе; Christian Weise, 1642–1708), в творчестве которого переплелись различные тенденции – и рококо, и классицизма, и барокко. Вейзе стоит на стыке эпох и направлений и подготавливает бюргерски-моралистическую линию в немецком Просвещении.
Вейзе родился в Саксонии, в Циттау. Блестяще окончив Лейпцигский университет, он в 1678 г. стал ректором классической гимназии в родном городе. Эта гимназия славилась как одна из лучших в Германии, но Вейзе благодаря своему педагогическому таланту и реформам сделал ее просто образцовой. Он одним из первых ввел преподавание в гимназии на немецком языке вместо латыни. Вся жизнь Вейзе прошла в том же Циттау и была поделена между неутомимой педагогической и столь же неутомимой писательской деятельностью. Наследие Вейзе велико и весьма разнообразно: учебники по самым разным дисциплинам, трактаты, речи, десятки пьес, сборники стихотворений, романы. До сих пор несколько десятков произведений так и остаются в рукописях, многое затерялось, поэтому не существует полного собрания сочинений Вейзе на немецком языке и более или менее полного исследования его творчества. Определенная трудность заключается и в соотнесении творчества писателя с каким-либо литературным направлением.
Именно Вейзе впервые выражает психологию бюргерства, стремящегося найти пути к самостоятельной культуре, заявляет о правах автономной личности, исследует жизнь частного человека в обстановке сложного, переломного времени, изучает искусство достижения жизненного успеха и счастья в соответствии с естественным стремлением человека к успеху и счастью. Все это дает основания считать его одним из первых писателей-просветителей в Германии, одним из основоположников (наряду с И.К. Гюнтером в поэзии) литературного рококо. Именно Вейзе впервые употребил в Германии слово «политик» в значении «человек, овладевший наукой жизни», «цивилизованный человек» (показательно, что именно в таком значении слово «политик» войдет и в русскую речь, ибо в эпоху Петра I, приучавшего своих бояр к «политесам», Россия усиленно контактировала с Германией). Трактат Вейзе «Политический краснобай» («Der politische Näscher», 1677) представляет собой учебник риторики, понятой как искусство пользоваться красноречием и знанием литературы для достижения жизненного успеха.
Особенно значимы для немецкой литературы достижения Вейзе в романе и драматургии. Он стал основоположником жанра просветительского сатирического нравоучительного и бытописательного романа, развивая тенденции, заложенные в прозе Мошероша и Гриммельсгаузена. В 1671 г. появился роман Вейзе «Три главных развратителя в Германии» («Die drey Hauptverderber in Deutschland»). Это роман-трактат, развернутое размышление автора о причинах морального и духовного кризиса в Германии до и после Тридцатилетней войны. Три главных развратителя, по мысли писателя, – упадок веры, распространение лжеучености и слепое подражание всему иноземному. С гораздо большим основанием романом можно назвать произведение «Три величайших дурня [глупца] в целом свете» («Die drey ärgsten Ertz-Närren in der gantzen Welt», 1673). Здесь развернута широкая картина немецкого быта, нравоописательность сочетается с моральным размышлением над судьбами страны, разоренной длительными бедствиями. Имена главных героев романа – принципиально не немецкие, а условные, почерпнутые из галантно-героических романов: Флориндо, Геланор, Эврилас. Однако за условными героями стоят совершенно реальные немецкие типы. Герои пускаются в путь, чтобы установить, кто же является тремя самыми большими глупцами на свете. Это дает писателю возможность, нанизывая эпизод за эпизодом, создать широкую панораму немецкой жизни. При этом активно и плодотворно используются канва плутовского романа и традиции шванка – в сочных и живых народных сценах.
Романы Вейзе, сочетающие в своей стилистике черты «низового» барокко и рококо, развлекательность и назидательность, аллегоричность и конкретность изображения, слог морального трактата и исследование психологии бюргерства, являются важным звеном в развитии немецкой прозы, связующим традицию барочного сатирического и нравоописательного романа с традицией просветительского романа (особенно сильное воздействие тип романа, созданный Вейзе, окажет на Геллерта).
2. Публицистика, литературная критика и художественная проза второго («готшедовского») этапа Раннего Просвещения (1720–1750)
Второй этап Раннего немецкого Просвещения справедливо называют «эпохой Готшеда», ибо именно И.К. Готшед является крупнейшим теоретиком искусства и литературы этого периода, законодателем мод и вкусов. Именно Готшед первым выдвигает идею формирования целостной немецкой литературы (а не только поэзии, как это было в XVII в.), он же создает эстетику просветительского классицизма в Германии, что в целом способствует выработке единой нормы литературного языка. Однако уже в это время кристаллизуется четкая оппозиция излишне рассудочной эстетике Готшеда. Таким образом, и следование Готшеду, и полемика с ним определяют основные тенденции развития немецкой литературы 20—40-х гг. XVIII в. Крайне важными факторами роста ее самосознания были развитие журналистики, а также литературные и эстетические споры.
Иоганн Кристоф Готшед и полемика с ним «швейцарцев»
Иоганн Кристоф Готшед (Johann Christoph Gottsched, 1700–1766) был разносторонне образованным человеком, соединявшим теоретические занятия с практической деятельностью. Он выступил как философ-популяризатор и теоретик литературы, педагог, читавший лекции по светской и духовной риторике, издатель журналов и журналист, драматург, переводчик, реформатор театра, пропагандист немецкого литературного языка, основатель языковых и литературных обществ. Его жизненный путь был непростым, даже бурным и беспокойным, особенно в молодости.
Готшед был сыном пастора из Восточной Пруссии, из села Юдиттен недалеко от Кёнигсберга. Ему не было еще и пятнадцати, когда он поступил на богословский факультет Кёнигсбергского университета. Однако вскоре богословские интересы вытеснило увлечение физикой и математикой, древней и новой философией – Аристотелем, Декартом, Локком, Лейбницем и особенно Вольфом. В студенческие годы Готшед также увлекся литературой, прежде всего творчеством поэтов «школы разума». Таким образом, уже в Кёнигсберге он стал приверженцем классицизма.
В 1724 г. Готшеду, молодому магистру философии и изящных искусств, пришлось бежать из Пруссии, спасаясь от вербовщиков прусского короля. Вербовщики отлавливали для прусской армии «длинных парней», а Готшед был весьма внушительного роста. Так в 1724 г. он оказался в Лейпциге.
В Лейпциге Готшед сблизился с кружком И.Б. Менке, вступил в члены кружка ревнителей немецкого языка и литературы, затем был избран его председателем и преобразовал его в общество. С 1725 г. он читает курс ораторского искусства в университете, в 1730 г. назначен экстраординарным профессором поэзии. В 1734 г. опубликован его обширный труд «Первоосновы всей философии», который стал самым распространенным учебником по философии Вольфа и способствовал широкой популяризации его учения. После этого Готшед становится ординарным профессором логики и метафизики (т. е. философии). Вся его дальнейшая деятельность связана с Лейпцигом, его несколько раз избирают ректором университета.
В поисках новых путей для популяризации вольфовской философии и собственных этических и эстетических взглядов Готшед начинает издавать нравоучительные журналы по образцу английских и гамбургского «Разумника» – «Разумные порицательницы» («Die vernünftige Tadlerinnen», 1725–1726) и «Честный человек» («Der Bidermann», 1728–1729). В них он выступает как просветитель-моралист, который стремится к внедрению, по его собственным словам, «хороших нравов… среди необученных и недостаточно образованных лиц». Готшед ратует за разумный образ жизни, за укрепление бюргерской семьи, выступает против светских пороков и излишеств, доказывает, что распространение образования и совершенствование интеллекта будут способствовать укреплению морали и счастью людей. Одновременно он проводит и главную идею своего учения о поэзии (литературе): последняя должна выполнять прежде всего воспитательную функцию. Поэтому Готшед облекает свои умозаключения в форму наглядных историй, своего рода простейших притч, которые он именует «баснями». «Басни» должны иллюстрировать просто и доходчиво новые идеи, воспитывать и образовывать публику.
Мысль о том, что именно несовершенство человеческого интеллекта и невежество порождают зло, лежит в основе диссертации Готшеда «Происхождение ошибки, то есть решение вопроса философии об источнике пороков» (1724), написанной на латинском языке. Вопрос теодицеи решается Готшедом гораздо более упрощенно, чем у Лейбница, в полном согласии с Вольфом. Зло – всего лишь ошибка, его источник – несовершенство разума, а это значит, что через совершенствование разума зло может быть устранено. Диссертация Готшеда вызвала резкие нападки как ортодоксальных лютеранских пасторов, так и пиетистов, ибо она, в сущности, сводила на нет доктрину первородного греха, жесткий детерминизм в объяснении существования зла, свойственный лютеровской доктрине. И позднее Готшед неоднократно сталкивается с клерикалами, выступает в защиту веротерпимости. Так, в 1725 г., произнося в университете торжественную речь о веротерпимости, он не побоялся заявить: «…больше всего крови пролито на земле во славу религии, она пожрала больше человеческих жизней, чем когда-либо загубила война, проглотила морская пучина, истребил огонь». Тема осуждения религиозного фанатизма ярко прозвучит в трагедии Готшеда «Парижская кровавая свадьба»[123]. Смелым шагом со стороны Готшеда был перевод на немецкий язык изобиловавшего антиклерикальными выпадами «Словаря исторического и критического» французского мыслителя-скептика П. Бейля.
Уже в конце 20-х гг. Готшед подходит к мысли о необходимости кардинальной реформы литературы, языка, театра. В литературе и театре он видит не забаву, а мощное средство нравственного и интеллектуального воспитания. Поэтому он настаивает на профессионализме и ставит целью создание в Германии высокой литературы и театра общенационального воспитательного значения, основанных на разуме и «хорошем вкусе». С этим тесно связана выработка единой нормы литературного языка. Такой нормой, по мнению Готшеда, должен стать язык образованных людей Верхней Саксонии (точнее, Майсена, или Мейсена). Готшед упорно стремился преодолеть языковой сепаратизм, который закреплялся государственной раздробленностью Германии и противостоянием католиков и протестантов (лютеран и кальвинистов).
Свои взгляды на литературу Готшед системно изложил в «Опыте критической поэтики для немцев…» («Versuch einer kritischen Dichtkunst vor die Deutschen…», 1730), в которой, как поясняется далее в названии, «показывается, что внутренняя сущность поэзии состоит в подражании природе». «Подражание природе» означало, по Готшеду, что «басни», в которые облекаются поучения, должны быть логически правдоподобными, чтобы достигнуть желаемого эффекта. Все правила выводятся им из содержания просветительской дидактической литературы, и это принципиально отличает их от канонов классицизма XVII в., в том числе и от установлений М. Опица. Показательно, что Готшед не ставит знака равенства между действительностью и искусством, не призывает к пассивному копированию: творчество писателя или художника – это «искание», и нужно искать «совершенную природу». Речь идет о правдоподобии, типичности (как ее понимали классицисты), ясности, логичности, о выражении логических закономерностей вещей и явлений.
Готшед ставит на первое место для писателя интеллект, знания, которые нужно непрестанно расширять. «Нет такой науки, которую мог бы игнорировать писатель», – заявляет он. Прежде всего настоящий писатель не может обойтись без основательного знания человека, ибо он изображает главным образом поступки человека, проистекающие из его воли и склонностей души, а также из сильных аффектов. При этом Готшед недооценивает эмоциональный элемент в стилистике произведения, исключает всякие элементы условности, фантастики, импровизации (в связи с этим он недооценивает народное искусство, считает невозможным подражание ему).
Готшед резко выступает против барокко, особенно его прециозного крыла, осуждает гиперболизм в изображении страстей и чувств, усложненность языка, метафоричность (вплоть до полного изгнания метафор). Точкой отсчета для него являются французские классицисты XVII в., и прежде всего Буало. «Подражание природе» у Готшеда – это, в сущности, уже «подражание подражанию». Субъективно будучи горячим немецким патриотом, ревнителем немецкого языка, Готшед тем не менее далек от понимания национального своеобразия литературы, от того, что ее развитие определяется конкретным обликом времени, конкретными социально-историческими условиями. Именно за это его впоследствии будет резко критиковать Лессинг. Гёте же иронически напишет в «Поэзии и правде»: «Готшеду удалось сколотить в своей “Критической поэтике” целую систему полок и полочек, по существу уничтожившую самое понятие поэзии, и заодно доказать, что и немцы уже успели заполнить эти полки образцовыми произведениями»[124].
Однако уже в 20-30-е гг. кристаллизуется оппозиция излишне рассудочной поэтике Готшеда в лице «швейцарцев» – швейцарских критиков Иоганна Якоба Бодмера (Johann Jacob Bodmer, 1698–1783) и Иоганна Якоба Брейтингера (Johann Jacob Breitinger, 1701–1776), отстаивавших свой вариант просветительского классицизма, опиравшийся на концепцию «воображения», допускавший в художественном произведении не только возможное, но и «чудесное», если оно логически убедительно и наполнено конкретно-чувственной силой. С наибольшей полнотой взгляды «швейцарцев» были изложены в их «Критической поэтике…» («Kritische Dichtkunst…», 1741), полемически заостренной против «Опыта критической поэтики…» Готшеда[125]. Особое значение для развития немецкого Просвещения имел моральный и художественный еженедельник «Беседы живописцев» («Discourse der Malern»), издававшийся Бодмером и Брейтингером с 1721 по 1723 г. Само его название подчеркивает, что литературу «швейцарцы» сближали с живописью, понимали ее буквально как «живописание словами», как «поэтическую живопись» («die poetische Malerei», как сказано и в подзаголовке их «Критической поэтики»). Они подчеркивали значимость для художественного творчества не только рационалистического, но и сенсуалистического начала, необходимость соединения в литературном произведении разума и чувства, «подражания природе» и воображения. На них значительное влияние оказали Дж. Локк и Дж. Аддисон, а также французский теоретик Ж.Б. Дюбо с его «Критическими размышлениями о поэзии и живописи» (1719). Материалы, публиковавшиеся Бодмером и Брейтингером в «Беседах живописцев», внесли существенный вклад в развитие немецкой эссеистики и публицистики, а также прозы вообще. За образец они взяли английские журналы, издававшиеся Р. Стилем и Дж. Аддисоном («Зритель», «Болтун»), заимствовали оттуда темы, а также печатали статьи из этих журналов в собственном переводе. Все это способствовало развитию в немецкой прозе тенденций не только «чувствительного» классицизма, но и рококо.
Развитие жанра памфлета. Становление сатирического, утопического и морально-дидактического романа: Кристиан Людвиг Дисков, Готлиб Вильгельм Рабенер, Иоганн Готфрид Шнабель, Кристиан Фюрхтеготт Геллерт
В начале XVIII в. в Германии особую популярность приобретает жанр памфлета, что в целом характерно для Раннего Просвещения (достаточно вспомнить, какую роль сыграли памфлеты Д. Дефо и Дж. Свифта в развитии Просвещения в Англии и в Европе в целом). В Германии жанр памфлета весьма часто имел характер утилитарный, сниженный до роли пасквиля: пасквилями осыпали друг друга философы, ученые, богословы. Тем не менее на фоне этой обширной «продукции» рождались и шедевры памфлетного искусства, которым суждено было преодолеть рамки узкой утилитарности и злободневности, достигнуть высокой степени обобщенности. Именно такими являются памфлеты К.Л. Лискова.
Кристиан Людвиг Лисков (Christian Ludwig Liskow, 1701–1760) родился в Виттбурге (Мекленбург-Шверин), в семье пастора. Он изучал богословие и юриспруденцию в Галле, слушал там лекции К. Томазиуса. С начала 30-х гг. Лисков состоял на службе у герцога Карла Леопольда Мекленбургского, изгнанного из своей страны, выполнял его поручения в Париже, но не сумел добиться поддержки французского двора для своего герцога. Затем он служил секретарем прусского посланника во Франкфурте-на-Майне, а в 1741 г. стал личным секретарем саксонского министра Брюля. В конце 1749 г. Лисков оказался замешанным во дворцовых интригах, связанных с финансовыми злоупотреблениями графа Брюля, и попал в тюрьму. Через несколько месяцев заключения он был освобожден, но с условием: немедленно покинуть Саксонию. Последние десять лет своей жизни опальный Лисков провел в уединении в своем поместье.
Пройдет время, и Гёте напишет о Лискове: «Лисков, отважный молодой человек, первым осмелился атаковать одного малоодаренного, неумного писателя. В ответ тот повел себя так нелепо, что это дало Лискову повод подвергнуть его еще более жестокому разносу. Молодой критик вошел во вкус; его разящая насмешка была направлена против определенных явлений и определенных лиц, которых он презирал и стремился сделать презренными, преследуя их со страстной ненавистью. Но его жизненный путь был недолог; он умер рано, и память об этом беспокойном, горячем юноше почти изгладилась. Многого написать он не успел, но это не помешало его соотечественникам усматривать в его писаниях недюжинный талант и характер; впрочем, немцы всегда с особым благоговением чтут многообещающие дарования, безвременно покинувшие этот мир. Как бы то ни было, но все вокруг указывали нам на Лискова, отзываясь о нем как о замечательном сатирике…»[126]
На Лискова оказала несомненное влияние сатирическая традиция немецких и нидерландских гуманистов XVI в. – Ульриха фон Гуттена, Эразма Роттердамского (особенно «Похвала Глупости» последнего). Также очевидно влияние на него памфлетов Дж. Свифта (особенно «Предсказаний Исаака Бикерстафа») и «Басни о пчелах» Б. Мандевиля. В философском плане Лискову особенно близки философы-скептики М. Монтень и П. Бейль.
Памфлеты Лискова выходили в основном анонимно, ибо были нацелены на совершенно конкретных людей, но при этом воплощавших определенные типы реакционеров, мракобесов, фанатиков, псевдоученых. Как отмечает Б.Я. Гейман, «значительность и острота его сатиры в большой степени обусловлены тем, что по роду своей служебной деятельности он имел возможность глубоко заглянуть в механизм княжеской администрации»[127].
Чаще всего памфлеты Лискова представляют собой псевдонаучный трактат, написанный в ироническом ключе. «Автор то заставляет своих героев раскрывать перед читателем свое невежество и мракобесные воззрения, то, принимая на себя роль защитника глупцов, обиженных поклонниками разума, он нагромождает гору аргументов, абсурдность которых очевидна. Чем логичнее цепь иронических доказательств, тем полнее раскрывается сатирический замысел автора»[128]. В своем первом памфлете с показательным ироническим названием – «О бесполезности добрых дел для спасения души» («Über die Unnötigkeit der guten Werke zur Seligkeit», 1732) Дисков от имени фанатика-ортодокса разоблачает и обличает ханжество церковной проповеди. В памфлете «Брионтес Младший, или Похвальное слово высокородному и высокоученому господину д-ру Иоганну Эрнсту Филиппи, профессору университета в Галле» («Briontes der Jüngere, oder Lobrede…», 1732) он высмеивает «самого набожного из юристов», выступая вслед за Томазиусом за размежевание религии и науки.
Особенно показателен памфлет «Разбитые стекла, или Письма кавалера Роберта Клифтона к одному ученому самоеду» («Vitrea fracta, oder des Ritters Robert Clifton Schreiben an einen gelehrten Samojeden», 1732). Это сатира на псевдонауку. Непосредственный импульс к написанию памфлета дало пресловутое «открытие» совершенно реального пастора Сиверса: гуляя на морском берегу, он нашел камень, разводы на котором счел таинственными нотными знаками, и отправил сообщение об этом в Берлинскую академию наук. Кавалер Клифтон также сообщает о своем «выдающемся открытии»: среди морозных узоров на оконном стекле он обнаружил магические знаки, химические формулы и т. д. Оказывается, по этим узорам можно даже читать мысли людей в комнате, ибо дыхание в процессе речи определяет характер узоров. Клифтон рекомендует свое «открытие» властям для искоренения «крамолы». Попутно производится сатирический смотр «ученым», которые, изучая эти узоры, легко и просто найдут в них указания на все тайны мироздания: на близкое светопреставление, на способ получить философский камень, решить задачу квадратуры круга и т. п.
Благодаря подобному приему дается язвительная характеристика тому «ученому кругу», к которому принадлежал пастор Сивере.
Одним из самых знаменитых памфлетов Лискова является «Основательное доказательство превосходства и необходимости жалких писак» («Die Vortrefflichkeit und Notwendigkeit der elenden Schribenten, gründlich erwiesen von***», 1734). Он написан от имени плохого писателя. «Автор» призывает плохих писателей, обиженных «разумниками», преодолеть ложную скромность и предстать перед миром во всей красе, в «естественности», присущей плохим писателям. Чем они, собственно, хуже хороших? Плохими считаются те авторы, в произведениях которых отсутствуют «разум, порядок и изящество». За что же их осуждать? Ведь весь род человеческий неразумен, особенно те, кто находится у власти. Недаром еще мудрый царь Соломон сказал: «Поставлена глупость на высокие посты, а достойные внизу пребывают» (Еккл 10:6; перевод И.М. Дьяконова). Если правители-глупцы, иронически рассуждает Дисков от имени ревнителя чести плохих писателей, легко справляются со своими делами, если еще лучше справляются богословы, ведущие проповедь, в которой разум должен вообще умолкнуть, если таковы же юристы и врачи, то чем же писатели хуже? И почему запрещено писать книги, лишенные разумности? Неразумность – вообще единственная гарантия счастья. Разум же – прямая опасность для государства и Церкви. Кто следует голосу своего разума, тот не может быть ни верноподданным, ни добрым христианином. Разум – прямая дорога к бунту, ведь тот, кто размышляет о приказах начальства, никогда не будет их исполнять. Поэтому лучше держать разум связанным по рукам и ногам, а еще лучше – свернуть ему шею. Мы, плохие писатели, иронизирует Дисков, самые ревностные защитники правды, гроза еретиков, хотя совсем не понимаем, кто такие еретики и что такое ересь.
В памфлетах Лискова доминирует рационалистическое начало, по своему стилю они примыкают к традиции просветительского классицизма. Несмотря на наличие конкретных адресатов (и Дисков совершенно сознательно, в силу понятных обстоятельств, избегает затрагивать сильных мира сего), сатира Лискова носит весьма обобщенный характер. Тем не менее это не лишает ее смелости, особенно для того времени. Б.Я. Гейман справедливо отмечает: «Резкостью суждений, смелостью обличения Л исков значительно возвышается над кругом немецких просветителей 30-х годов. Тем не менее именно для раннего немецкого Просвещения его творчество особенно показательно своим пафосом утверждения наиболее общих просветительских постулатов: разума, цивилизации, науки в их наиболее всеобщей, универсальной форме. Показательно четкое разделение тьмы невежества и света разума. Характерно, что проблема “добродетели” является для Лискова еще второстепенной»[129].
Традиции памфлета, заложенные Дисковом, в 40-е – начале 50-х гг. продолжил Готлиб Вильгельм Рабенер (Gorttlieb Wilhelm Rabener, 1714–1771), близкий кругу «бременцев»[130]. Рабенер родился в селении Вахау под Лейпцигом, учился в Лейпцигском университете и там же сблизился с молодыми писателями-готшедианцами, из среды которых позднее выйдут «бременцы». Показательно, что сатиры Рабенера печатаются сначала (с 1741 г.) в «Увеселениях ума и остроумия» И.И. Швабе, а затем именно отсюда, вместе с другими отошедшими от позиций Готшеда литераторами, он переходит в «Бременские материалы». Окончив юридический факультет, Рабенер служил в налоговом ведомстве, сначала в Лейпциге, а с 1753 г. – в Дрездене, где и завершилась его жизнь.
Умеренное мировоззрение «бременцев» оказало прямое воздействие на характер сатиры Рабенера, гораздо более мирный, нежели у Лискова. Не случайно первому отдельному изданию своих памфлетов (1751) Рабенер предпослал статью «О злоупотреблении сатирой» («Vom Missbrauche der Satire»), в которой доказывал, что истинный сатирик руководствуется только любовью к людям и стремлением помочь им избавиться от своих пороков. Он полагал, что сатира не должна быть персональной, чтобы не обижать конкретных людей, и заявлял, что сам он «не создал ни единого сатирического образа, на который не могли бы претендовать по меньшей мере десять дураков». Рабенер считал также недопустимым осмеяние монархов, представителей власти, Церкви и даже школьных учителей. У него нет резкого столкновения мира разума и невежества, света Просвещения и мракобесия, как у Лискова. Он действительно обличает весьма обобщенные и частные пороки, но это не значит, что в его творчестве нет острых социальных нот. Более того, именно Рабенер вводит конкретные бытовые сцены и ситуации в свои памфлеты. Он отказывается от жанра памфлета-рассуждения, как у Лискова, и создает нравоописательный памфлет, опирающийся на типичные «случаи из жизни», несущий в себе моральное поучение и приближающийся по своим задачам и стилю к прозе английских и немецких моральных еженедельников. Обобщенность сатирических образов Рабенера свидетельствует о классицистических установках его творчества, но в то же время ориентированность на конкретные бытовые сценки, на живой разговорный язык и одновременно изящество стиля говорят о наличии в памфлетах Рабенера рокайльных тенденций. Для него характерен также прием объединения общей условной «рамой» отдельных мелких случаев, зарисовок, портретов (подобное тяготение к миниатюрности также можно отнести на счет рококо).
Наследие Рабенера довольно велико. Однако на этом фоне особо выделяется своей социальной остротой памфлет «Тайное известие о завещании д-ра Джонатана Свифта» («Geheime Nachricht von Dr. Jonathan Swifts letzem Willen», 1746). Согласно остроумному замыслу автора, Свифт завещал значительную сумму денег на строительство больницы для умалишенных и сам составил список первых ее пациентов. При этом речь идет об особых случаях не столько умственной, сколько моральной недостаточности, о «нравственном безумии», которому, по мнению завещателя, «как подагре, подвержены главным образом знатные люди, редко – представители низших сословий». В соответствии с этой генеральной идеей весь памфлет состоит из серии сатирических портретов порочных дворян и церковников. Так, лорд Лават груб, как кучер, и кучером ему следовало бы и родиться; он уважает только немецкое имперское дворянство, настроенное невероятно снобистски и презирающее «чернь». Снобом «наизнанку» является лорд Полброу, гордящийся своим невежеством и без конца обличающий ученых. Невероятно высокомерен церковный попечитель Иринг, а епископ О’Керри оказывается не знающим сострадания ростовщиком. Давая короткие зарисовки подобных характеров, автор в финале, словно бы мимоходом, оговаривается, что английские имена в его сочинении вполне могут быть заменены немецкими.
Конкретный нравоописательный материал, широко охватывающий немецкую действительность, представлен в «Сатирических письмах» («Satirische Briefe», 1752) Рабенера. Они состоят из нескольких циклов писем, посвященных той или иной проблеме. Все же письма объединяет общая тема – лицемерие. Не случайно автор в предисловии обещает «научить читателя понимать письма, авторы которых думают не то, что пишут». Обличение лицемерия, общераспространенного порока, становится для Рабенера поводом для сатирического смотра различных конкретных общественных неустройств и моральных отклонений немецкого общества. Прежде всего достается ханжам-церковникам (при этом автор настоятельно подчеркивает, что обличает не религию, а лишь недостойных служителей Церкви). Особой социальной остротой выделяется серия писем, в которых излагается «теория взяточничества», подкрепляемая практическими примерами – разнообразными письмами к судьям, написанными «умными» людьми, ведь взятка – вернейший способ разъяснить служителям закона суть последнего. Рабенер иронически советует платить блюстителям справедливости самой звонкой монетой за эту самую «справедливость». При этом часто важно подкупить не самого судью, а его жену, руководящую своим мужем. Очень искусной формой взятки является проигрыш в карты. Судьи, в свою очередь, все должны сделать, чтобы облегчить предложение им взятки. Среди «Сатирических писем» наиболее выделяется письмо к помещику некоей личности «с большим прошлым», т. е. попросту нечистоплотной. «Личность» напрашивается в судьи к помещику и прославляет его «здравые взгляды». Последние заключаются в том, что помещик абсолютно свободно может распоряжаться жизнью и смертью своих крестьян, созданных, как дичь, для его пропитания и развлечения. «Личность» и видит свою задачу в качестве судьи как «ограбление крестьян в пользу помещика не иначе как на основе строжайшей законности». Эта письмо, как и некоторые другие, свидетельствует, что Рабенер порой поднимается до самой острой и всеобъемлющей сатиры – сатиры на всю действительность и крепостническую «законность».
В свое время известная советская исследовательница М.Л. Тройская подчеркивала, что главное своеобразие сатиры Рабенера состоит в воссоздании им узнаваемой немецкой действительности того времени, в создании «конкретно-очерченного образа человека»[131]. Заслуга Рабенера заключается в преодолении излишне обобщенного и абстрактного, во внесении в сатирическую литературу конкретной нравоописательно сти. Это выявляет общую закономерность в развитии немецкой литературы Раннего Просвещения: усиление и переплетение сатирических, морально-дидактических и нравоописательных тенденций.
В наибольшей степени подобный синтез осуществил в жанре романа Иоганн Готфрид Шнабель (Johann Gottfried Schnabel, 1699–1750?), соединивший также сатиру на современное общество и мечту о прекрасном гармоничном мире, создавший первый на немецком языке утопический роман с элементами сатирического и морально-дидактического романа.
И.Г. Шнабель родился в Саксонии, в деревушке Зандерсдорф близ города Биттерфельд, в семье пастора. Он очень рано осиротел, много бедствовал, так и не получил никакого системного образования, с большими трудностями приобрел профессию фельдшера-цирюльника. Во время войны за испанское наследство Шнабель служил фельдшером в армии принца Евгения Савойского, героизированную биографию которого опубликовал позднее, после смерти знаменитого полководца (1736), под псевдонимом «Гизандер» («Крестьянин»). С 1724 г.
Шнабель живет в городке Штольберг (Гарц) и служит придворным цирюльником графа Штольберга, а заодно и городским фельдшером. Граф Штольберг был весьма расположен к своему цирюльнику, талантливому в литературном отношении. Пользуясь этим, Шнабель на протяжении многих лет издает местную газету. Однако в 1741 г., после смерти своего покровителя, он вынужден покинуть Штольберг и отправиться в скитания. До сих пор место и год смерти писателя не установлены.
Перу Шнабеля принадлежат два романа – «Судьба нескольких мореплавателей…» («Fata einiger Seefahrer…», 4 тома, 1731–1743) и «Кавалер, блуждающий в любовном лабиринте» («De rim Irrgarten der Liebe herumtaumelnde Cavalier», 1738). При этом авторство Шнабеля, тождество его с Гизандером было установлено только в 1880 г. известным германистом А. Штерном. Особенно популярным у современников был первый роман, выдержавший множество изданий, не обойденный также и вниманием потомков: в 1828 г. его переиздал романтик Л. Тик под названием «Остров Фельзенбург» («Die Insel Felsenburg»).
«Остров Фельзенбург» открывается предисловием, свидетельствующим, что автор хорошо знаком с многочисленными и очень популярными в его время робинзонадами. Однако главным прототипом для Шнабеля становится «Робинзон Крузо» Д. Дефо, вышедший в свет в 1719 г. Немецкий литературовед X. Хеттнер отмечает, что роман Шнабеля – наиболее значительный из ранних немецких откликов на роман Дефо[132]. В обоих романах присутствует необитаемый остров, который герои превращают из «острова отчаяния» в «остров надежды». Однако замысел немецкого писателя все же существенно отличается от замысла его английского предшественника: если Дефо стремится проиллюстрировать оптимистическую концепцию Локка и Шефтсбери, представить две вариации «естественного человека» (Робинзон и Пятница), создать модель государства, построенного на основе «общественного договора» и являющегося слегка идеализированной проекцией современной ему Англии, то Шнабель видит свою задачу в создании утопии, картины счастливого бытия общества «естественных людей», резко противопоставленной жизни современной Германии. В немецком романе очень сильны обличительный и морально-дидактический элементы.
Согласно замыслу Шнабеля, четыре мореплавателя выброшены кораблекрушением на необитаемый скалистый остров (отсюда и Фельзенбург, что буквально означает «скалистая крепость», или «крепость-скала»). На нем необычайно трудно выжить, и волею Божьей в живых остаются двое особенно добрых и благочестивых (так изначально религиозно-этическая составляющая выявляется как важнейшая в авторском замысле). Уцелевшие праведники – саксонец Альберт Юлиус и англичанка Конкордия – становятся супругами, а тем самым и патриархами-родоначальниками нового народа добродетельных и счастливых тружеников – прообраза идеального человечества. В романе очевидны библейские аллюзии: Альберт Юлиус и Конкордия выступают как новые Адам и Ева, но в равной степени и как новые Авраам и Сарра – родоначальники избранного народа Божьего.
Именно нравственные аспекты бытия «новых робинзонов» больше всего волнуют автора, а их хозяйственные заботы – во вторую очередь. К тому же эти заботы не очень беспокоят островитян, ибо время от времени близ острова происходят кораблекрушения, так что «робинзоны» снабжаются копченой свининой, порохом и даже дорогими тканями, золотом, драгоценностями (всем последним – только для того, чтобы познать тщету подобных благ). У них есть и слуги, но это не туземцы, а добрые обезьяны, которые из благодарности приносят им дары и даже выполняют всякую черную работу.
В самом начале жизни семейства новых патриархов возникают проблемы с продолжением рода и соблюдением нравственных норм, ведь сыновьям и дочерям Альберта Юлиуса и Конкордии нужны жены и мужья, а кровосмешение – тяжкий грех. Но все устраивается сначала самим Провидением благодаря все тем же кораблекрушениям, а затем, когда община окрепла и создала свою флотилию, на родину стали отправляться агенты, для того чтобы найти добродетельных и несчастных людей и уговорить их отправиться на блаженный остров. Именно таким образом попадает на него и рассказчик, фиксирующий историю островитян, – Эберхарт Юлиус, дальний родственник Альберта Юлиуса.
Эберхарт и рассказывает о том, как волею небес возник супружеский союз Альберта Юлиуса и Конкордии, как устроена жизнь островитян. Писатель использует типичный – после появления «Утопии» Т. Мора – прием организации утопии: случайно оказавшийся на острове гость или мореход описывает жизнь острова. Отличие этого приема в романе Шнабеля заключается в том, что свидетелем жизни образцово устроенного общества становится не посторонний, но горячий адепт жизни «новых робинзонов». Разгадка гармоничной и счастливой жизни кроется прежде всего в благочестии островитян, в их глубоком уважении друг к другу, во взаимной поддержке. Все они ведут самостоятельное хозяйство, но общие дела решают вместе, собираясь в доме престарелого патриарха, обладающего харизматическим авторитетом.
По сути, Альберт Юлиус является королем острова, но он воистину просвещенный монарх, любящий отец и мудрый воспитатель своих подданных, считающийся с их мнением; они же платят своему государю подлинной любовью. Так возникает «царство разума» – мечта просветителей, общество, основанное, согласно Шнабелю, на всеобщем труде и равенстве перед законом, соединяющее черты просвещенной монархии и парламентской республики.
Описание блаженной, богатой и подлинно нравственной жизни островитян чередуется с историями тех, кто прибыл на остров Фель-зенбург из внешнего мира. И эти истории построены по принципу контраста: там, в старом мире, – мерзость, злоба, пороки, коварство, здесь – счастливая жизнь «новых робинзонов», торжество нравственности и справедливости. Таким образом, остров Фельзенбург оказывается своего рода «земным раем», в котором возможно спасение людей от зла этого мира. При этом показательно, что «царство разума» в романе Шнабеля создают в основном люди третьего сословия.
В рассказах новых поселенцев дается острая критика современной Германии и ее нравов (например, история механика Плагера, мельника Кретцера, столяра Ладемана и др.). Как полагают исследователи, одна из таких историй – история фельдшера Крамера – запечатлела, возможно, злоключения самого Шнабеля.
«Остров Фельзенбург» соединяет в себе черты просветительского классицизма, барокко (особенно во вставных плутовских новеллах), рококо (в воспроизведении конкретных типов немецкой действительности, их частной психологии), а также, благодаря пиетистски окрашенной чувствительности и трогательному изображению переживаний героя, ростки сентиментализма.
Роман «Кавалер, блуждающий в любовном лабиринте» имеет более ярко выраженные авантюрные и соответственно барочные черты, что выражается в обилии побочных мотивов, вставных новелл, в тяготении ко всякого рода сенсациям и ужасам. Развлекательная цель соединяется с целью моралистической – рассказать историю раскаявшегося развратника. В основу романа положена подлинная автобиография некоего барона фон Штейна. В романе Шнабеля он стал дворянином фон Эльбенштейном. Подлинная история расцвечена многочисленными мотивами, заимствованными из испанских, французских и итальянских новелл, а также из плутовских романов. Рыхлая композиция, преобладание развлекательных элементов делают этот роман более слабым по своим художественным достоинствам, нежели «Остров Фельзенбург». Как замечает Б.Я. Гейман, «сопоставление двух главных романов Шнабеля позволяет заметить, что Шнабелю нелегко давалось преодоление достаточно низкопробной традиции немецкого авантюрного романа начала XVIII в.»[133].
Однако в целом значение Шнабеля в развитии немецкого романа велико: его «Остров Фельзенбург», помимо того, что является одним из немногих переиздаваемых и читаемых немецких романов первой половины XVIII в., наряду с романами К. Рейтера и К. Вейзе выступает как важное связующее звено между сатирическим нравоописательным романом эпохи барокко и сатирическим и одновременно морально-дидактическим романом эпохи Просвещения. Более того, он синтезирует обозначенные тенденции и представляет собой целостный художественный феномен, органично соединяющий исследование реальной жизни и условность, даже фантастику, критику современного общества и утопию. Помимо этого, он предваряет появление, с одной стороны, моралистического рокайльного и сентименталистского романа, а с другой – остросатирического и юмористического рокайльно-сентименталистского романа с элементами просветительского классицизма.
Первую линию представляет Кристиан Фюрхтеготт Геллерт (Christian Fürchtegott Geliert, 1715–1769), являющийся в целом ключевой фигурой литературного процесса 40-50-х гг., подготавливающий приход Зрелого Просвещения в Германии и уже во многом его представляющий[134]. Расшатывая рационалистическую «диктатуру» Готшеда, Геллерт сочетает в своем творчестве апелляцию к разуму с тонкой чувствительностью, впервые трогательно изображает жизнь бюргеров, высоко поднимая их в собственных глазах. Во всех жанрах – в баснях, духовных одах, комедиях, проповедях, романе – он выступает прежде всего как религиозный моралист, но абсолютно чуждый ханжеству и фанатизму.
Большое значение для развития прозаических жанров на немецком языке, как и самого немецкого литературного языка, имела реформа Геллерта в области эпистолярного жанра. И к этой реформе его подвела собственная жизнь, собственные занятия. С 1744 г. Геллерт преподает в Лейпцигском университете, и огромную популярность имеют его «Моральные лекции», или «Лекции о морали» («Moralische Vorlesungen»), опубликованные лишь в 1770 г. Его и воспринимают прежде всего как моралиста, советника в вопросах практической жизни и обращаются к нему за советами, причем люди самого разного происхождения: и представители «среднего класса», и крестьяне, и аристократы (особенно те, кто получил печальный опыт в «большом свете»). К нему не только приходили лично, но и писали письма. Ежедневно Геллерт получал огромное количество писем и отвечал абсолютно на все. Поэтому совершенно не случайно он стал теоретиком и преобразователем эпистолярного жанра, автором обширного труда «Письма с приложением подробного рассуждения о хорошем вкусе в письмах» («Briefe, nebst einer ausführlichen Abhandlung über den guten Geschmack in Briefen», 1751). Здесь Геллерт дает образец переписки, соответствующий нормам чувствительности: письма не должны быть стереотипным заполнением известного образца, определенного общественными нормами (тогда в моде были «письмовники», дающие образцы писем на различные темы); они должны нести в себе отражение личности писавшего их, сообщение о том, что его волнует, о личных проблемах и чувствах; письма должны побуждать к живому общению, к обмену повседневным опытом. «Письма» Геллерта очень содействовали преодолению канцелярского стиля, закреплению более свободной и живой речевой нормы – и не только в частной переписке, но и в прозаических жанрах в целом. Эпистолярная реформа Геллерта наряду с успехами английских и французских эпистолярных романов и романов в форме записок (мемуаров) способствовала обновлению немецкого романа.
Для Геллерта рука об руку шли разум и чувства, диктуемое первым чувство долга и определяемое вторым право сердца. Более того, как и у просветителей в целом, разум и чувство у него не разделены жестко, но дополняют и предполагают друг друга. Не случайно в одной из своих «Лекций о морали» он сказал: «Восприимчивость сердца помогает разуму в оценке долга и нередко даже опережает его». Подобный подход был свойствен Геллерту и в жанрах комедии и романа, реформатором которых он выступил в Германии.
Одной из вершин творчества Геллерта справедливо считается роман «История шведской графини фон Г.» («Geschichte der schwedischen Gräfin von G.», 1747–1748) – первый немецкий семейно-бытовой, социально-психологический и морально-дидактический роман, заключенный в общую «раму» приключенческого произведения. Подобного жанра – особенно в семейно-бытовом и психологическом его аспектах – еще не было в немецкой литературе (лишь зачатки его можно усмотреть в трогательном описании быта счастливых семейств на острове Фельзенбург и злоключениях несчастных в «старом свете» в романе Шнабеля). Решающее значение для Геллерта имел опыт английского писателя С. Ричардсона, совершившего своеобразную «революцию» в романе и впервые сделавшего объектом детального исследования чувства человека из низов общества, его быт и каждодневные переживания. Роман Геллерта и явился «ответом» на появившийся в 1740 г. и ставший необычайно популярным эпистолярный роман Ричардсона «Памела, или Вознагражденная добродетель», соединивший в себе черты семейно-бытового, социально-психологического и морально-дидактического романа.
Однако в отличие от романа Ричардсона, действие которого происходит в одном доме, в пределах одной семьи, в романе Геллерта гораздо больше элементов авантюрности и гораздо более широкий географический фон: его действие разворачивается в Саксонии, шведской Померании, Голландии, Англии, России (в Москве и Сибири, где томится пленный шведский граф, муж главной героини). Здесь очень много всякой этнографической экзотики: благородная сибирская «казачка» (Коsackenmädcheri), помогающая несчастному графу, томящемуся в Сибири, выполнить ежедневную норму добычи соболей, на которых его заставляют охотиться; добрый еврей в Тобольске, спасающий графа из плена, тобольский поп, пьяница и вымогатель, и т. п. Таким образом, Геллерт опирается не только на опыт Ричардсона, но и на весь опыт галантно-героического и плутовского романа XVII в., а также на опыт романов Шнабеля.
Тем не менее в романе Геллерта акцентируется моральная тема, ибо весь он представляет собой череду испытаний добродетели, в нем так же, как и в романе Ричардсона, добродетель в конечном итоге вознаграждается. Воплощением добродетели у Геллерта, как и у Ричардсона, является главная героиня, необычайно самоотверженная, благородная, и это душевное благородство, по мысли писателя, совсем не связано с происхождением человека. Все главные герои романа, дворяне и недворяне, чрезвычайно благородны и словно бы соревнуются в благородстве и самоотверженности (коллизия, типичная и для «трогательной комедии» Геллерта). Автор намеренно ставит своих героев в исключительные и часто весьма двусмысленные в моральном отношении обстоятельства (как, например, это будет происходить позднее во второй половине романа Ж.Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза»), но они с честью побеждают эти обстоятельства, сохраняя свою безупречность. Как подчеркивает Б.Я. Гейман, основной пафос романа – «пафос нравственной стойкости в смирении и покорности, безгрешного нравственного инстинкта, который позволяет героям оставаться внутренне безупречными в самых сомнительных положениях»[135].
Одной из важнейших сюжетообразующих и социально острых тем в романе является неоднократно варьирующаяся тема неравного брака, представляющая параллель к той же теме в ричардсоновской «Памеле» (брак служанки Памелы и дворянина сквайра Б.). Согласно замыслу Геллерта, богатый шведский граф полюбил простую девушку Каролину, недворянку, на которой захотел жениться, ибо искренние чувства для него более важны, нежели материальные соображения и доводы дворянской чести. Однако двор не дал согласия на этот брак. Да и сама Каролина, несмотря на то, что она любит графа и что у нее есть дети от него, самоотверженно отказывается от этого брака, не желая портить возлюбленному придворную карьеру. Каролина покидает графа и все делает для того, чтобы он ничего не узнал о ее местонахождении. Время залечивает любовные раны, к тому же граф встречается с главной героиней, своей будущей женой, дворянкой из очень обедневшего рода (вновь вариация темы неравного брака, на этот раз – в материальном отношении). Он женится на ней, но и здесь героев подкарауливает жестокий удар судьбы. Графиня – женщина необычайной красоты, и ею увлекается сам принц, большой развратник. Однако графиня являет собой идеал добродетели и не поддается низким желаниям принца. В результате ее супруг попадает в опалу и вынужден покинуть двор. Но граф счастлив своей опалой, ведь ей он обязан добродетелью своей жены. К тому же ему нравится жизнь в уединенном поместье, вдали от шумной и лицемерной жизни двора. Кроме того, жена графа случайно встретила его бывшую возлюбленную – Каролину, с которой, оценив ее благородство и добродетельность, решила не расставаться. Каролину с детьми уговорили жить в загородном имении графа. Так Геллерт, задолго до «утопии возрожденного человечества», нарисованной Руссо во второй половине его романа на примере взаимоотношений Юлии, ее супруга Вольмара и ее бывшего возлюбленного Сен-Прё, создает свою утопию: имение графа – счастливый островок, на котором живут добродетельные и счастливые люди, потому что живут они по естественным законам совести и сердца.
Однако окружающий мир властно вторгается в этот счастливый уголок: начинается русско-шведская война, и граф призван на театр военных действий. Он проигрывает сражение с русскими войсками, и за это его приговаривают к смерти. Накануне казни герой отправляет жене письмо, исполненное мужества и смирения. Считая мужа погибшим, через какое-то время графиня выходит замуж за господина R, человека недворянского происхождения (вновь варьируется мотив неравного брака). На самом же деле граф не был казнен, а попал накануне казни в плен к русским и был отправлен в ссылку в Сибирь. Через много лет все трое случайно встречаются в Амстердаме. Оба любящих мужа соревнуются в благородной самоотверженности, наперебой убеждая друг друга в том, что именно другой, а не он сам, имеет право на счастье с графиней. В результате героиня возвращается к первому мужу, но вновь обретшие друг друга счастливые супруги не хотят отпускать от себя г-на R, несмотря на все его настоятельные просьбы. Он остается в качестве друга, и все трое живут очень счастливо. Каролина также обретает свое счастье. В финале получает прощение и злой принц, который раскаивается во всем содеянном. Итак, торжествует абсолютная добродетель, возникает утопическая община праведников, живущая не на острове Фельзенбург, а в центре Европы.
Художественные качества романа несколько снижаются обилием непредсказуемых и немотивированных поворотов судьбы, так что автору недостает времени для более углубленной психологической разработки образов главных героев. Хотя в романе есть дискуссии о нравственности и воспитании, хотя автор показывает трогательные переживания и чувства героев, на первом плане часто оказываются внешние события, приключения, а герои порой с излишней легкостью принимают решения в невероятно сложных и необычных жизненных ситуациях. Б.Я. Гейман справедливо отмечает: «Легкость и простота, с которой решаются все казуистические вопросы семейной этики в столь необычных обстоятельствах, приверженность к строгим канонам добродетели, устраняющая все сомнения, по существу, делает чрезвычайно примитивным психологический рисунок романа. Даже Памела Ричардсона, этот схематический образ добродетельной женщины, все же стоит гораздо ближе к реальной жизни, чем герои романа Геллерта, проявляющие свою добродетель в столь необычных испытаниях. Роман настолько богат поворотами судьбы, что автору не остается времени и места для сколько-нибудь внимательной разработки характеров. Таким образом, несмотря на подчеркнутое автором значение душевного мира своих героев, “История шведской графини” все же остается романом авантюрным, романом моральных авантюр. Задумав семейно-психологический роман ричардсо-новского типа, Геллерт остановился на полдороге»[136].
Тем не менее роман Геллерта стал значительной вехой в развитии немецкого просветительского романа, свидетельствующей о зрелости последнего. Роман Геллерта был новаторским для своего времени, и не случайно его традиции будут продолжены на зрелом и позднем этапе немецкого Просвещения. Так, одним из талантливых последователей Геллерта был пастор Иоганн Тимотеус Гермес (Johann Thimotheus Hermes, 1738–1821). Большим успехом пользовался его роман «Путешествие Софьи из Мемеля в Саксонию» (1769–1773). Историческим фоном действия в нем является Семилетняя война. Как и Геллерт, Гермес соединяет приключенческие мотивы с размышлениями и проповедями на моральные темы, дает картину жизни бюргерского семейства на широком социальном фоне.
Другую линию в развитии немецкого просветительского романа, связанную с острой критикой современной действительности, но также и с поисками идеального человека, романа, соединяющего рокайльный интерес к частной жизни и психологии конкретного человека с классицистической обобщенностью образов, представляет творчество К.М. Виланда, развивающееся уже на этапах Зрелого и Позднего Просвещения.
3. Философско-эстетическая проза Зрелого Просвещения (1750–1770)
Уже во второй половине 40-х гг. XVIII в. немецкое Просвещение вступает в полосу своей зрелости, во многом подготовленную полемикой «швейцарцев» с И.К. Готшедом, деятельностью «бременцев»[137], К.Ф. Геллерта, ранним творчеством Ф.Г. Клопштока. Однако в полной мере зрелость просветительских идей и новаторство эстетических поисков немецкой литературы выявились в 50-60-е гг. Именно в это время немецкое Просвещение совершает открытия мирового уровня, достигает присущего именно ему синтеза философии и художественного слова, вырабатывает основополагающие эстетические концепции. Последнее связано прежде всего с именами И.И. Винкельмана и Г.Э. Лессинга. В отрыве от их концепций невозможно понять завоевания немецкой прозы Зрелого Просвещения, и прежде всего романа, высшие достижения которого на данном этапе связаны с именем К.М. Виланда.
Именно на зрелом этапе развития немецкого Просвещения создается уникальное единство философско-эстетических и художественных исканий, свойственное в дальнейшем всей немецкой литературе. Более того, сами эстетические труды становятся яркими явлениями немецкой прозы, воздействуют на художественные произведения не только своими концепциями, но и своим языком, выразительным, красочным, темпераментным. Последнее особенно касается теоретических работ И.И. Винкельмана.
Иоганн Иоахим Винкельман
Иоганн Иоахим Винкельман (Johann Joachim Winckelmann, 1717–1768) – крупнейший теоретик искусства, самый выдающийся знаток античности своего времени. И хотя его работы были посвящены в первую очередь изобразительным искусствам, и прежде всего скульптуре и архитектуре, его идеи оказали воздействие на всю культурную атмосферу Германии второй половины XVIII и начала XIX в., особенно на зрелых Гёте и Шиллера, на молодых Гёльдерлина, Гегеля, Шеллинга, раннего Фр. Шлегеля.
В значительной степени благодаря Винкельману произошел коренной пересмотр взглядов на античность не только в Германии, но и в Европе в целом. Этот пересмотр состоял главным образом в признании первенства эллинского искусства над римским, в акцентировании простоты нравов, глубины и искренности чувств, выраженных греческим искусством и литературой. Но, пожалуй, главное, что дал немецкой и европейской культуре Винкельман, – целостная концепция эллинской «свободной человечности» (Гёте) как основы прекрасного и совершенного искусства, возвышающего душу человека и воспитывающего эту свободную человечность в современности. В очерке о Винкельмане Б .Я. Гейман пишет: «В искусстве древней Эллады он открыл отражение давно утерянной “прекрасной человечности” и противопоставил ее как норму и идеал униженному, ущемленному человеку феодального (и буржуазного) общества. Придавая, вместе с другими просветителями, огромное значение воспитательной роли искусства, его заражающей функции, он призывал современных художников “подражать грекам”, т. е. возродить в искусстве образ полноценного человека»[138].
Создавая свою концепцию, Винкельман приглашал немцев – и европейцев в целом – к размышлению над неблагополучием современной действительности, над ее несоответствием условиям свободной человечности. И даже те немецкие просветители, которые не во всем были согласны с Винкельманом в его взглядах на античность, осознавали значимость сделанного им. Так, высоко ценивший античное наследие, но полемизировавший с Винкельманом Лессинг писал вскоре после его преждевременной и насильственной смерти: «Никто не может ценить этого писателя более высоко, чем я» (письмо И.А. Эберту от 18 октября 1768 г.)[139]. И в письме к К.Ф. Николаи: «Я охотно подарил бы этому писателю несколько лет своей жизни» (5 июля 1768 г.)[140]. Гердер, открыватель исторического подхода к искусству и понимания его национального своеобразия, не принимавший идеи эллинского искусства как обязательного эталона для всех времен и народов, тем не менее в статье «Памятник Иоганну Винкельману» (1778) писал о главной работе Винкельмана – «История искусства Древности»: «Я читал ее, по-юношески ощущая радость утра, как письмо невесты издалека, из угасшей счастливой эпохи, из страны благодатного климата»[141].
Особенное впечатление на современников произвели также язык и стиль Винкельмана. Несомненно, он был выдающимся мастером слова. Гердер не раз отмечал «пиндарическую» возвышенность его стиля при отсутствии выспренности и утверждал: «Стиль его сочинений останется в почете, пока будет жив немецкий язык»[142]. В работе «Винкельман и его время» (1805), одном из важнейших манифестов «веймарского классицизма», Гёте писал о Винкельмане: «…он сам выступает в качестве поэта, притом превосходного и неоспоримого, в своих описаниях статуй и почти во всех своих произведениях поздней поры. Глаза его видят, чувства схватывают непередаваемые творения, и все же он ощущает настойчивое стремление в словах и буквах приблизиться к ним. Законченная красота, идея, из которой возник ее образ, чувство, возбужденное в нем созерцанием, должно быть сообщено читателю, слушателю. И, пересматривая весь арсенал своих способностей, он убеждается, что вынужден прибегнуть к сильнейшему и достойнейшему из всего, чем располагает. Он должен стать поэтом, помышляет ли он об этом или нет, хочет этого или не хочет» (здесь и далее перевод Н. Мал)[143].
Винкельман действительно был человеком, необычайно одаренным от природы. Именно это, а также несгибаемые воля и упорство, необычайная страсть к знаниям и любовь к искусству позволили ему стать тем, кем он стал. Он добился высот знания и славы ценой неимоверных усилий, наперекор трудностям и жестокостям судьбы. «Нищенское детство, недостаточное образование в отрочестве, отрывочные, разбросанные занятия в юношеском возрасте, тяготы учительского звания и все, что на подобном поприще узнаешь унизительного и тяжелого, он претерпел вместе со многими другими. Винкельман достиг тридцати лет, не порадовавшись ни единой милости судьбы; но в нем самом были заложены ростки желанного и возможного счастья»[144].
Винкельман был сыном бедного сапожника из прусского городка Стендаль (местность Альтмарк). С раннего детства он узнал жестокую нужду, которая долго преследовала его и в зрелом возрасте. Учась в латинской школе, он ведет полунищенский образ жизни: вместе с другими неимущими учениками собирает милостыню, бродя по улицам и распевая духовные песни. Затем Винкельман учится в «Кельнской гимназии» в Берлине (1735–1736), но учебу приходится совмещать с воспитанием детей директора и репетиторством, иначе просто трудно выжить. Однако дух знаний в нем необычайно силен, и особенно – восторг перед Древним миром, который он шаг за шагом открывает для себя.
Еще в латинской школе Винкельман увлекся античной поэзией, поначалу – римской. Затем, уже в берлинской гимназии, он открывает для себя греческую литературу. Античная поэзия – своего рода тайное убежище его сердца, в этом мире он чувствует себя свободным. Будучи еще школьником-подростком, он необычайно остро ощущает живописную, пластическую силу гомеровского слова, образов, созданных Эсхилом, Софоклом, Еврипидом. Он горит желанием увидеть прекрасные античные статуи богов и героев, но исполнение этого желания кажется абсолютно немыслимым для школьника из нищей семьи. Показательно, что именно от поэзии Винкельман придет к пластике, от Гомера и Софокла – к Фидию.
Он желает одного – изучать античное искусство, но приходится из-за стипендии поступить на теологический факультет университета в Галле (1738–1740). Однако Винкельман больше времени проводит не в учебных аудиториях, а в библиотеке, где штудирует своих любимых греков. Он изучает также сочинения английских деистов, читает А. Поупа. В это время разгорелась полемика между богословами-пиетистами и деистами, что очень живо интересует Винкельмана. Он часто посещает лекции Зигмунда Якоба Баумгартена, одного из основоположников рационалистического направления в лютеранском богословии, близкого по своим взглядам деизму. Сохранились студенческие тетради Винкельмана, содержащие многочисленные выписки из Дж. Толанда, П. Бейля, М. Монтеня. Он самостоятельно научился читать по-французски и по-английски, а позже, в Дрездене, и по-итальянски. В Галле Винкельман слушает также лекции Александра Готлиба Баумгартена по логике, метафизике и древней философии (знаменитая «Эстетика» Баумгартена еще не написана).
Так Винкельман, несмотря на кажущуюся внешнюю бессистемность его занятий, накапливает в себе универсальные гуманитарные знания (как аккумулирует в себе все знания, накопленные его веком, Дидро). Показательно, что после завершения теологического факультета Винкельман стремится еще более расширить свой кругозор и отправляется в Иенский университет, чтобы изучать там медицину и естественные науки. Однако через полгода он вынужден покинуть Иену из-за недостатка средств.
С 1743 по 1748 г. Винкельман преподает классические языки в гимназии в Зеенхаузене, недалеко от родного Стендаля. Этот опыт был чрезвычайно тягостным для него, ибо его попытки привить своим ученикам любовь к древним языкам и литературе натолкнулись на абсолютное равнодушие. К тому же местные священники ополчились на преподавателя-вольнодумца. В результате Винкельмана перевели на преподавание в младший класс, где он еще в меньшей степени мог рассчитывать на понимание. Он получает буквально гроши и вынужден давать много частных уроков. И все же, урезая себя во сне, заменяя его несколькими часами дремоты в кресле, он по ночам продолжает заниматься своими любимыми греками и римлянами. За годы самостоятельных занятий Винкельман накопил исключительные знания в области античной филологии и поражал своих знакомых умением даже здесь, в прусском захолустье, находить нужные книги на разных языках. Для этого он иногда отправляется в далекие пешие походы, когда узнает, что в каком-либо соседнем имении появилась редкая книга.
Все больше задыхаясь в Пруссии, которую он называет страной «самого жестокого деспотизма и рабства, какие только можно себе представить», Винкельман мечтает о переезде в Саксонию, поближе к ее столице – Дрездену, где к этому времени скопилась большая коллекция шедевров искусства, в том числе и античного. В конце 1748 г. он принимает приглашение графа Генриха фон Бюнау занять место библиотекаря в его имении в Нётнице близ Дрездена. Бюнау задумал писать «Историю империи», и в обязанности библиотекаря входила подготовка предварительных материалов, выписок из старинных рукописей, сверка документов. Здесь Винкельман также бедствует, получая ничтожное жалованье. Он по-прежнему вынужден заниматься в свободное от работы время репетиторством и все равно нуждается в благотворительных обедах для малоимущих. Но зато он вознагражден тем, что может штудировать книги из богатой библиотеки графа Бюнау. Его особенно заинтересовали труды Вольтера и Монтескьё, особенно трактат последнего «О духе законов» (1748). Вдохновленный французскими просветителями, Винкельман пишет статью «Мысли об устном изложении новой истории» (1755; опубликована посмертно). В ней он предлагает перейти от привычного для историков описания правления монархов, войн и интриг к поискам закономерностей, движущих историей, обусловливающих расцвет и упадок государств и народов, взлет и упадок культур. Тем самым он уже нащупывает собственный подход к истории культуры и искусства.
Однако главной отрадой Винкельмана за шесть лет его пребывания в Нётнице становится возможность приезжать в Дрезден, где хранятся крупнейшие в Германии коллекции произведений искусства – итальянской ренессансной живописи, картин французских и голландских художников, архитектурных и скульптурных памятников в стиле барокко и рококо. Сюда же в большом количестве привозят из Италии, с мест раскопок, античные статуи, но большинство из них еще не доступны обозрению.
Встреча с искусством в Дрездене оказывается решающей в судьбе Винкельмана. Он отдает предпочтение античному искусству и ориентирующемуся на него искусству итальянского Ренессанса. Здесь у него рождается страстное желание посетить Италию, в которой в то время почти повсюду шли раскопки и наряду с римскими древностями извлекались из земли греческие антики (особенно на юге, в Сицилии, где были греческие колонии, и прежде всего в Неаполе). Безусловно, еще больше Винкельмана привлекала Греция, но она в это время находилась под властью турецкой Османской империи, посещение ее европейцами было практически невозможно и сопряжено с опасностью для жизни.
Однако для бедняка Винкельмана и поездка в Италию была несбыточной мечтой. Тем не менее самые несбыточные, но страстные мечты иногда осуществляются. На помощь Винкельману пришел случай, за которым стояла определенная закономерность. Богатую библиотеку в Нётнице посещал в числе прочих папский нунций при Дрезденском дворе – кардинал и граф Альбериго Аркинто (с 1697 г. правители преимущественно лютеранской Саксонии считались польскими королями и исповедовали католицизм). Аркинто обратил внимание на обширнейшие познания Винкельмана в области античности и решил сделать двойной подарок Риму: во-первых, прислать наилучшего консультанта по античному искусству аристократическим кружкам любителей древностей, многие из которых были его друзьями и знакомыми; во-вторых, угодить самому Папе Римскому, обратив в католичество одного из «упрямых» саксонцев.
Аркинто и духовник курфюрста, иезуит патер Раух, пообещали Винкельману выхлопотать для него курфюршескую стипендию на два года для поездки в Рим и изучения там древностей, поставив условием переход в католичество. Решение далось Винкельману нелегко. Тем не менее он счел, что осуществление его мечты стоит перемены вероисповедания. Гёте пишет: «…Винкельман, совершив свой вполне обдуманный шаг, кажется озабоченным, испуганным, огорченным, полным смятения при мысли о том, какое впечатление произведет его поступок, в частности, на графа, его первого благодетеля. Как глубоки, прекрасны и правдивы его искренние высказывания по этому поводу! Ибо, конечно, каждый переменивший свою веру остается как бы забрызганным какой-то грязью, очиститься от коей кажется невозможным. <…>.. для самого Винкельмана в католической религии не было ничего привлекательного. Он видел в ней лишь маскарадный наряд, который накинул на себя, и достаточно прямо высказывал это. Позднее он, видимо, недостаточно придерживался ее обрядов, пожалуй, даже навлекал на себя вольнодумными речами подозрение некоторых ретивых ее приверженцев; так или иначе, но кое-где у него проглядывает страх перед инквизицией»[145].
В 1754 г. Винкельман принимает католичество, а в 1755 уезжает в Италию, снабженный стипендией и рекомендательными письмами. В том же 1755 г., еще до отъезда Винкельмана, выходит из печати его первая важная работа, уже содержащая основные положения его концепции, – «Мысли по поводу подражания греческим произведениям в живописи и скульптуре» («Gedanken über die Nachahmung der Griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst»).
Винкельман был очень хорошо принят в Риме. Увлечение искусством, и особенно древностями, считалось хорошим тоном в аристократических кругах. Обширные познания Винкельмана пришлись здесь по вкусу. К тому же ему как новообращенному и крестнику влиятельного Аркинто покровительствовал сам Папа. В Италии Винкельман нашел множество единомышленников, в том числе и своего соотечественника – известного саксонского художника Антона Рафаэля Менгса (1728–1779). Менгс стал близким другом Винкельмана, а европейская слава Менгса содействовала распространению идей Винкельмана в художественных кругах Германии, Франции и Англии.
Винкельман остался в Риме и после того, как закончилась стипендия. Его наперебой приглашают к себе различные аристократы и прелаты, любители искусств. В 1759 г. он поселился у кардинала Альбани, на его только что отстроенной вилле, которую украшало богатейшее собрание античных статуй. Винкельман очень часто посещает Неаполь, чтобы непосредственно наблюдать за раскопками. Он необычайно радуется, когда обнаруживаются новые, еще не известные миру, античные статуи, пусть и поврежденные, иногда просто торсы, но несущие в себе невероятную красоту и энергию. Винкельман тут же стремится их описать и классифицировать. Так, в 1759 г. появляется его знаменитое описание Бельведерского торса, представляющее собой новое слово в искусствознании, но одновременно и самую настоящую поэму в прозе, воспевающую одухотворенную красоту человека и его величайшее мастерство. Бельведерский торс лишен головы, обеих рук и ног, однако и в этом, казалось бы, «обрубке» тела, изваянном неизвестным великим мастером, Винкельман видит, как «творческая рука мастера способна одухотворять материю», как «сила мысли может быть выражена еще и в другой части тела, кроме головы» (здесь и далее перевод А. Алявдиной) [146]. Искусствоведы до сих пор спорят, кого изображает Бельведерский торс, но, согласно версии Винкельмана, это Геркулес в момент превращения его в божество. В отдельные детали изваянного в мраморе тела Винкельман как бы «впитывает» известные ему эпизоды героической биографии Геркулеса. Так, плечи (точнее, их остатки), напоминают, что именно на их «просторной мощи» покоился небесный свод, великолепная выпуклая грудь – о том, что на ней «были раздавлены гигант Антей и трехтелый Герион…»[147] Главное же, что акцентирует Винкельман в искусстве древнего мастера и его творении, – единство совершенной плоти и совершенного духа, стремление к созданию образа идеального человека: «Неведомая сила искусства приводит мысль через все подвиги его силы к совершенству его души… Созданный им образ героя не дает места никаким мыслям о насилии и распущенной любви. В тихом покое тела проявляется серьезный, великий муж, который из любви к справедливости, подвергая себя величайшим невзгодам, даровал странам безопасность и обитателям мир»[148]. Б.Я. Гейман справедливо отмечает: «…у Винкельмана сочетается редкостная способность зрительного восприятия и передачи средствами языка всех деталей физического облика… со своеобразной реконструкцией духовного облика запечатленного человека. <…>…в толковании Бельведерского торса к голосу исследователя присоединяется голос поэта»[149].
В 1764 г. выходит в свет главный труд Винкельмана – «История искусства Древности» («Geschichte der Kunst des Altertums»), над которым он трудился восемь лет. Слава Винкельмана столь велика, что Папа Римский присваивает ему титул «президент древностей», закрепляющий его авторитет величайшего знатока античного искусства. Это еще больше упрочивает статус Винкельмана как ученого, но приходится платить за столь необычный титул несколько тягостными для него обязанностями: он должен быть своего рода экскурсоводом по римским и греческим древностям для сиятельных туристов, посещающих Папу Римского и просто путешествующих по Италии. Тем не менее ему трудно поверить, что он, бывший сын сапожника, бедствующий провинциальный учитель, теперь так обласкан всеми и знаменит. Его слава гремит по всей Европе, его наперебой приглашают в Вену и в Берлин.
Однако многим планам Винкельмана не суждено было осуществиться. Весной 1768 г. чудовищная нелепость обрывает его жизнь. Винкельман выехал из Италии на родину, рассчитывая провести там год, увидеться с родными. В Триесте он был зверски убит на постоялом дворе своим попутчиком, позарившимся на его имущество. Так преждевременно ушел из жизни один из наиболее талантливых сынов Германии, который мог бы еще многое сделать для немецкой и мировой культуры. Но и то, что он успел сделать, трудно переоценить.
Уже в первой работе Винкельмана – «Мысли по поводу подражания греческим произведениям в живописи и скульптуре» – сформулировано одно из главных положений его теории: «Общей и самой главной отличительной чертой греческих шедевров является благородная простота и спокойное величие как в позе, так и в выражении. Подобно тому как морская глубина вечно спокойна, как бы ни бушевала поверхность, так и выражение в греческих фигурах обнаруживает, несмотря на все страсти, великую и уравновешенную душу»[150].
Такое определение сути греческого искусства (и центральная формула здесь – именно та, что особенно придется по душе Гёте на этапе «веймарского классицизма»: «благородная простота и спокойное величие») было, во-первых, полемически направлено против позднего барокко (прежде всего против школы знаменитого итальянского скульптора Дж. Л. Бернини). Во-вторых, и это самое важное, винкельмановское определение несет в себе великую мечту просветителей о свободном, не искаженном уродливой современной цивилизацией, исполненном красоты, гордого достоинства и величия человеке. Не случайно Гёте напишет о Винкельмане: «Природа вложила в него все, что создает мужа и украшает его. Он же, со своей стороны, посвятил всю свою жизнь отысканию достойного, прекрасного и замечательного в человеке и в искусстве, которое преимущественно занимается человеком»[151].
Важно также то, что в античном (и прежде всего греческом) искусстве Винкельман видит тот путь, идя по которому можно создать великое современное искусство: «Единственный путь для нас сделаться великими и, если возможно, даже неподражаемыми – это подражать древним»[152]. Этот знаменитый призыв не следует понимать буквально. Так, Винкельман очень высоко ценит Рафаэля, и в частности его «Сикстинскую Мадонну». В произведениях этого художника он тоже находит «благородную простоту и спокойное величие», то «отменное величие», которого Рафаэль достиг путем «подражания древним»[153]. Таким образом, подражание понимается Винкельманом достаточно широко, как верность эллинскому принципу изображения возвышенной и спокойной человеческой натуры (очевидно, что как абсолютный эталон им воспринимается искусство греческой классики, эпохи возвышения Афин, «века» Перикла). Подражание не означает отрыва художника от своей эпохи и отказа от оригинального творчества. В работе «Напоминание о том, как созерцать произведение искусства» («Erinnerung über Betrachtung der Werke der Kunst», 1759) Винкельман отличает подражание, в котором участвует разум художника, от слепого копирования и утверждает: «В итоге подражания, если оно проводится разумно, может получиться нечто другое и оригинальное»[154].
Для Винкельмана «подражать древним» – значит стремиться к гармоничной красоте, выражать высокие и непреходящие ценности, и это прямо связано с совершенствованием самого человека. Мыслитель полагает, что любой человек может развить в себе «великую и твердую душу» независимо от происхождения, что любой народ способен создать великое и благородное искусство. При этом Винкельман оговаривается, что сейчас нет «счастливых обстоятельств», которые объясняют расцвет жизни и искусства в древних Афинах или во Флоренции. Тем самым он намекает на гражданские свободы как на важнейшее условие формирования прекрасного человека и творческой свободы художника и одновременно – на отсутствие таковых в современном обществе, на его глубокое неблагополучие.
Все эти идеи получают развитие в главном труде Винкельмана – «История искусства Древности». Это первая и очень смелая попытка систематизировать на уровне тогдашних исторических и этнографических данных все известные материалы о памятниках древнего искусства, более того – дать целостную концепцию развития искусства Древности, связать ее с общими закономерностями развития истории, цивилизации, культуры. Хотя античностью научно занимались со времен Петрарки, только в середине XVIII в. стал возможен первый целостный и обстоятельный анализ произведений античного изобразительного искусства. Винкельман получил возможность наблюдать, сравнивать, группировать, обобщать только в Риме, насыщенном античными памятниками благодаря усиленным археологическим раскопкам (Гердер, говоря о Винкельмане, называет «лес статуй и бюстов» -70 000!). «История искусства Древности» содержит последовательный рассказ обо всех наиболее значительных памятниках античного искусства. И в каждом описании Винкельман следует своему новаторскому подходу, пытаясь проникнуть в авторский замысел, через внешнее постичь внутреннее, соединяя слово исследователя и поэта. Так, описывая знаменитую статую Аполлона Бельведерского, он отмечает соединение нежности форм юности и силы, свойственной зрелости, благородство внешнего облика, через который выражается благородство души; в результате перед зрителем предстает прекрасный юноша, рожденный для великих дел[155]. Б.Я. Гейман подчеркивает: «Не следует забывать… что Винкельман писал в младенческую пору науки об искусстве. И все же смелая попытка целостного истолкования произведения, попытка через внешние черты раскрыть внутренний облик героя и идею скульптора, несомненно заслуживает признания и является шагом вперед в науке»[156].
Винкельман прослеживает, как античное искусство шло к своему высочайшему совершенству в поисках идеального образа прекрасного человека и как оно претерпело упадок. И все же «главной и конечной целью» своего труда он считает постижение «искусства в его сущности», т. е. рассматривает себя не только как историка, но и как теоретика искусства. В основу работы положен новый принцип: Винкельман пишет не историю отдельных художников или художественных школ, а пытается представить в развитии «внутреннее существо искусства». Главное его внимание привлекают не индивидуальные стили, а общие черты, характерные для развития искусства на различных этапах. Он прослеживает рост, расцвет и упадок искусства не только в Элладе, но и в других странах Древнего мира, что было также новаторским для того времени. Винкельман говорит об искусстве египтян, этрусков, финикийцев, но при этом подчеркивает, что «истинное искусство» смогли создать только греки. «Истинное искусство» – выражение одухотворенной красоты в ее телесном облике. Это прежде всего целостность образа, идеи и ее зримого воплощения, это благородная и уравновешенная форма, несущая в себе великий духовный смысл. Показательно, что Винкельман отдает абсолютное предпочтение обобщающему методу перед субъективным, изображению общепринятой, соответствующей классической норме, красоты – перед индивидуальной, спокойному величию – перед страстями. В этом четко проявляется классицистическая позиция Винкельмана. Собственно, в своих работах он создает свой индивидуальный вариант просветительского классицизма. Как и для Готшеда, для Винкельмана «подражание подражанию» (в данном случае – грекам) важнее «подражания природе»; но в отличие от излишне рационалистического идеала Готшеда идеал человека у Винкельмана отличается полнокровностью, соединением силы разума и неменьшей силы чувств, находящихся в гармонии с разумом.
Винкельман впервые рассматривает историю искусства в связи с развитием общества. Он говорит о влиянии климата и природного ландшафта на искусство, но прежде всего о влиянии уровня гражданских свобод, участия народа в обсуждении и решении общественных дел. На современников произвела особое впечатление следующая мысль Винкельмана: «Свобода, царствовавшая в управлении и государственном устройстве страны, была одной из главных причин расцвета искусства в Греции». И эта внутренняя свобода неотделима от свободы внешней. Со ссылкой на Геродота Винкельман говорит о том, что «свобода была единственным основанием могущества и величия Афин; пока Афинам приходилось признавать над собой властителей, они не могли стать во главе соседей»[157]. Мыслитель подчеркивает, что возвышенный строй греческого искусства прямо связан с чувством внутренней независимости греков, с образом мыслей свободного человека: «Из свободы вырос, подобно благородной ветви из здорового ствола, образ мыслей греков. Подобно тому, как мысль привыкшего думать человека возвышается больше в чистом поле, или в открытой галерее, или на вершине здания, чем в низкой комнате или узком месте, так и образ мыслей свободных греков должен был отличаться от понятий подчиненных народов»[158].
Так красота, благодаря Винкельману, все более связывается в сознании немцев со свободой, но, с другой стороны, для него свобода недостижима без красоты, и в первую очередь – без прекрасного искусства. Винкельман говорит о том, что важным условием расцвета искусства в Афинах были общественное признание роли художника и отсутствие ограничений его творчества. «Произведения искусства оценивались и награждались мудрейшими из народа в общих собраниях всех греков»[159]. Важно также то, что сам художник осознавал общественную значимость своего творчества: «Так как произведения искусства были посвящены только богам или предназначались для самого святого или полезного отечеству… то художнику не приходилось разменивать свой талант на мелочи или безделушки и спускаться до местной ограниченности или вкуса какого-нибудь собственника»[160]. Здесь – весьма прозрачный и грустный намек на несвободу современного художника, вынужденного угождать тому или иному властителю, особенно в Германии, разделенной на мелкие княжества. Одновременно понятно, что характеристика, данная Винкельманом, касается не всего греческого искусства, но лишь искусства эпохи «аттического просвещения», времени блистательного взлета республиканских Афин.
Показательно, что упадок греческого искусства Винкельман ставит в прямую связь с упадком полиса, с упадком гражданской жизни. Особенно пострадало искусство, когда художники были призваны Селевкидами в Азию, Птолемеями – в Египет (и те и другие – наследники развалившейся империи Александра Македонского). Придворную жизнь греческих художников и поэтов у Селевкидов и Птолемеев Винкельман признает одной из главных причин упадка греческого искусства. Следует подчеркнуть, что речь идет именно об искусстве, нацеленном на воплощение образа идеального человека, каким оно было в век Фидия и Софокла. Все остальные (и тоже яркие) достижения греческого искусства, например искусство эпохи «эллинистического маньеризма», воспринимаются Винкельманом как упадок, ибо не соответствуют идеалу «благородной простоты и спокойного величия».
Итак, в центре классицистической эстетики Винкельмана – идеал прекрасного гармоничного искусства, опирающийся на идеал гражданской свободы. Этот идеал в свою очередь предполагает высшее развитие всех задатков, заложенных в человеке, единение духовной и физической красоты с возвышенным гражданским образом мыслей. Концепцию Винкельмана можно рассматривать как своеобразую утопию, «опрокинутую» в прошлое. При этом реальные черты Эллады в чем-то изменены, подчинены идеальной сверхзадаче (так, ни слова не говорится о рабовладении как основе существования афинского общества, о том, что афинская демократия – демократия для абсолютного меньшинства: свободнорожденных мужчин старше 21 года). Эллада Винкельмана предстает как воплощение общественных чаяний просветителей, как общество разума и гармонии. И это общество явно противопоставлено современной цивилизации (здесь обнаруживается сходство с идеями Руссо, но без присущей последнему идеализации примитивного общества).
Винкельман дал немецкому обществу то, чего ему так остро тогда недоставало, – высокую, прекрасную, гуманистическую героику, поднимающую человека над приземленным бытовизмом, узким и педантичным бюргерским морализаторством. Он указал путь преодоления убожества обыденной жизни, мещанской ограниченности через прекрасное искусство, через воспитание в себе идеала прекрасного, через внутреннюю свободу. Винкельман во многом определил атмосферу немецкого Просвещения с его поисками идеала совершенного человека во всей полноте его развития, с его поисками «свободы через красоту» (Шиллер), с его превалированием эстетического и этического начал над сугубо политическим, глубинного философского обобщения – над эмпирической конкретикой.
Винкельман одним из первых высказал идею совершенствования человека через восприятие искусства, что будет чрезвычайно важно для формирования «веймарского классицизма» Гёте и Шиллера. И если Гёте, начиная с «Ифигении в Тавриде» и «Эгмонта», а Шиллер – с «Дона Карлоса» стремятся создавать образы «свободной человечности», творить прекрасное и возвышенное искусство, в центре которого – «доброе, благородное, прекрасное» (девиз Гёте: «Das Gute, das Edle, das Schöne»), то в этом – немалая заслуга Винкельмана. И если Лессинг в образе Натана Мудрого в одноименной драме дает воплощение «благородной простоты и спокойного величия», то в этом он выступает как соратник Винкельмана, несмотря на все споры с ним.
Однако споры с концепцией Винкельмана были неизбежны, ибо предложенный им путь «подражания древним» все-таки не позволял немецкой литературе и культуре в целом найти свой собственный, неповторимый путь, обратить свой взор к национальному наследию. Необходимо было соединить классический идеал с современностью, «благородную простоту и спокойное величие» – с действенным, активным идеалом личности. Нужно было также понять, что и в античности можно увидеть не только идеал абсолютной уравновешенности и гармонии. Всеми этими насущными задачами, необходимостью поисков самостоятельного пути немецкой культуры, полемикой как с классицизмом Готшеда, так и с классицизмом Винкельмана, были вызваны к жизни публицистические и эстетические труды Лессинга, в которых, как и в его художественном творчестве[161], представлен его собственный вариант просветительского классицизма, обогащенный элементами рококо и сентиментализма, дано несколько иное прочтение античности, нежели у Винкельмана.
Готхольд Эфраим Лессинг
Готхольд Эфраим Лессинг (1729–1781) сыграл выдающуюся роль в развитии не только немецкого, но и европейского Просвещения. Для Германии же фигура Лессинга является ключевой в достижении немецким Просвещением подлинной зрелости, в резко возросшем уровне самосознания немецкой культуры и литературы. Особый резонанс вызвали его публицистические, эстетические и литературоведческие работы, в которых, как и у Винкельмана, талант исследователя соединяется с темпераментом подлинного художника слова.
Лессинг-критик и публицист начинает с рецензий в «Фоссовой газете» (1751–1755) и «Писем» («Briefe», 1753), созданных в берлинский период творчества. Особенно же важны написанные также в Берлине «Письма о новейшей немецкой литературе» («Briefe, die neueste Literatur betreffend», 1759). Уже здесь Лессинг намечает новые пути развития немецкой литературы. Свою главную задачу он видит в том, чтобы вывести ее из узкого придворно-лакейского мирка, избавить от рабской подражательности всему иностранному (и прежде всего французскому). Лессинг выступает за национальную самобытность родной литературы. Об этом говорит он и в одной из своих «Басен в прозе» (1759) – «Обезьяна и лиса»: «– Назови-ка мне такого мудрого зверя, которому я не сумела бы подражать! – хвасталась обезьяна лисе. Но лиса ей ответила: – А ты назови-ка мне такого ничтожного зверя, которому пришло бы в голову подражать тебе. – Писатели моей нации!.. Нужно ли мне выражаться еще яснее?» (перевод А. Исаевой)[162].
Лессинг ратует за национальный дух, но в его взглядах нет и следа националистической ограниченности. Самобытность в его понимании не исключает, а предполагает широкое усвоение опыта, накопленного европейским искусством, в том числе и европейской античностью. Свой первый удар Лессинг направляет против Готшеда, культивировавшего на немецкой почве французский классицизм. Знаменитое 17-е письмо из «Писем о новейшей немецкой литературе» открывается отповедью Готшеду, создавшему «офранцуженный театр», а завершается апологией Шекспира. С точки зрения Лессинга, Шекспир по своему духу ближе к прекрасному искусству греков, нежели французские классицисты, ибо, демонстрируя всю грязь и весь ужас жизни, он умеет найти в ней смысл, разум и великий нравственный идеал.
В результате глубокого изучения античного искусства и Шекспира появляются знаменитые трактаты Лессинга «Лаокоон» и «Гамбургская драматургия»[163], в которых формулируется особая концепция просветительского классицизма, полемически направленная и против французского классицизма, и против Готшеда, и против Винкельмана, хотя с последним Лессинг во многом солидарен. В центре размышлений Лессинга – тот же идеал совершенного человека, «человека-героя», образцом которого для него является свободный эллин, обладающий «благородным и возвышенным чувством общежительности», но вместе с тем умеющий разумно наслаждаться жизнью, открыто следующий голосу природы и открыто говорящий о своих страданиях. В отличие от винкельмановского, в высшей степени уравновешенного и созерцательного, идеала красоты идеал Лессинга предполагает действенность, живые и сильные страсти, соединение характерного с индивидуальным.
Знаменитый трактат «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии» («Laokoon, oder über die Grenzen der Malerei und Poesie», 1766) создавался в бреславльские годы жизни Лессинга, в бытность его секретарем военного губернатора Силезии. Как свидетельствует само название, в основе трактата лежит выяснение различий между пластическими искусствами (живописью и скульптурой) и поэзией, между изобразительным образом и литературным. Безусловно, наряду с А.Г. Баумгартеном и Д. Дидро, на идеи которых Лессинг во многом опирается, он сам является одним из основоположников эстетики как науки. «Пластическому» пониманию красоты в поэзии, отождествляющему поэзию с живописью, Лессинг противополагает их различение, основанное на понимании красоты обобщенной, характерной, и индивидуальной. Впоследствии Гёте в «Поэзии и правде» скажет об ошеломляющем воздействии на их поколение трактата Лессинга: «…так радостен был луч света сквозь сумрачные облака, брошенный на нас несравненным мыслителем. Надо быть юношей, чтобы представить себе, какое действие произвел на нас Лессингов «Лаокоон». Это творение из сферы жалкого созерцательства вознесло нас в вольные просторы мысли. Упорное наше непонимание тезиса “Ut pictura poesis”[164]вдруг было устранено, различие между пластическим и словесным искусством стало нам ясным; оказалось, что вершины этих искусств раздельны, основания же их друг с другом соприкасаются. Художник, занимающийся пластическим искусством, должен держаться в границах прекрасного, тогда как художник слова не может обойтись без всего разнообразия явлений, и ему вполне дозволено преступать эти границы. Первый работает в расчете на внешние чувства, удовлетворить которые может лишь прекрасное, второй в расчете на воображение, а оно не брезгует и уродством» (перевод Н. Маи)[165].
Помимо прочих задач, «Лаокоон» был также полемически направлен против концепции Винкельмана, изложенной в его «Мыслях по поводу подражания греческим произведениям в живописи и скульптуре». Оба мыслителя по-разному отвечали на вопрос: почему Лаокоон в знаменитой древнегреческой скульптурной группе работы Агесандра, Полидора и Афинодора (I в. до н. э.), погибая в страшных муках, издает не крик, а лишь сдержанный стон, о чем свидетельствует его лишь слегка приоткрытый рот? Винкельман увидел в этом выражение духа, присущего эллинскому искусству, воплощение «благородной простоты и спокойного величия». Лессинг же полагает, что все дело в специфике скульптуры как искусства. То, что может выразить пластическое искусство, не всегда доступно поэзии (литературе), и наоборот. В качестве примера того, что и благородный эллин может кричать от страшных мук, весьма экспрессивно выражать свои страдания, Лессинг приводит трагедию Софокла «Филоктет»: там страдающий герой (Филоктет, укушенный змеей и брошенный погибать ахейскими мужами на острове Лемнос) кричит во весь голос. Точно так же ужасно кричит другой Лаокоон – созданный гением римлянина Вергилия в его «Энеиде», где он ориентровался на Гомера. И крик не мешает быть Лаокоону величественным и благородным. Лессинг делает следующее предположение: «…если справедливо, что крик при ощущении физической боли, в особенности по древнегреческим воззрениям, совместим с величием духа, то очевидно, что проявление его не могло не помешать художнику отобразить в мраморе этот крик. Должна существовать какая-то другая причина, почему художник отступил здесь от своего соперника-поэта, который умышленно ввел в свое описание этот крик» (здесь и далее перевод Е. Эдельсона)[166]. Дело в том, настаивает Лессинг, что подход к действительности, способ ее видения различны в живописи (или скульптуре) и поэзии.
Отождествлению поэзии с живописью, свойственному концепциям «швейцарцев» и Винкельмана, Лессинг противопоставляет разграничение живописи (пластических искусств) и поэзии, проявляющееся в различной природе визуального и литературного образов. «Где причина того, что некоторые поэтические образы… не годятся для живописца и, наоборот, многие настоящие картины при обработке их поэтом теряют в значительной степени свою действенность?»[167] Эту причину Лессинг видит в различии средств, которыми пользуются живопись и поэзия: «…живопись в своих подражаниях действительности употребляет средства и знаки, совершенно отличные от средств и знаков поэзии, а именно: живопись – тела и краски, взятые в пространстве, поэзия – членораздельные звуки, воспринимаемые во времени»[168]. От этого зависит и зрительское или читательское восприятие, ибо «краски – не звуки, а уши – не глаза»[169].
Итак, живопись действует в пространстве, поэзия – во времени. Живопись отражает какой-то один момент бытия, поэзия – его временную последовательность. Живописец, ограниченный одним моментом времени, выбирает особенно плодотворную точку зрения на этот момент. «Но плодотворно только то, что оставляет свободное поле воображению. Чем более мы глядим, тем более мысль наша добавляет к видимому, и чем сильнее работает мысль, тем больше возбуждается наше воображение. Но изображение какой-либо страсти в момент наивысшего напряжения всего менее обладает этим свойством. За таким изображением не остается уже больше ничего: показать глазу эту предельную точку аффекта – значит связать крылья фантазии и принудить ее (так как она не может выйти за пределы данного чувственного впечатления) довольствоваться слабейшими образами, над которыми господствует, стесняя свободу воображения своей полнотой, данное изображение момента»[170]. Именно поэтому, подчеркивает Лессинг, «когда Лаокоон только стонет, воображению легко представить его кричащим; если бы он кричал, фантазия не могла бы подняться ни на одну ступень выше, ни спуститься одним шагом ниже показанного образа, и Лаокоон предстал бы перед зрителем жалким, а следовательно, неинтересным. Зрителю оставались бы две крайности: вообразить Лаокоона или при его первом стоне, или уже мертвым»[171].
Говоря о свободном воображении, о недосказанности образов, Лессинг отмечает одну из важнейших особенностей искусства вообще. Он подчеркивает действенный характер поэзии, ее способность более глубоко и всесторонне охватить жизнь, выразить внутренний мир человека, ибо «ничто… не принуждает поэта ограничивать изображаемое на картине одним лишь моментом. Он берет, если хочет, каждое действие в самом его начале и доводит его, всячески видоизменяя, до конца»[172]. Кроме того, живописец или скульптор не может выразить красоту иначе, чем через совершенство телесной формы. Поэт также может дать описание телесной красоты, но в целом он действует иначе. «Так как поэту открыта для подражания вся безграничная область совершенства, то внешняя, наружная оболочка, при наличии которой совершенство становится в ваянии красотой, может быть для него лишь одним из ничтожнейших средств пробуждения в нас интереса к его образам. Часто поэт совсем не дает изображения внешнего облика героя, будучи уверен, что, когда его герой успевает привлечь наше расположение, благородные черты его характера настолько занимают нас, что мы даже и не думаем о его внешнем виде…»[173] Лессинг утверждает, что поэт шире может оперировать безобразным, и оно не повредит красоте образа в целом. «Когда Лаокоон у Вергилия кричит, то кому придет в голову, что для крика нужно широко раскрывать рот и что это некрасиво? Достаточно, что выражение “к светилам возносит ужасные крики” создает должное впечатление для слуха, и нам безразлично, чем оно может быть для зрения»[174].
Лессинг подчеркивает, что задача поэзии – изобразить героя в движении и развитии и вызвать горячее сочувствие к нему читателя. Именно поэтому Лаокоон кричит в изображении Вергилия, а Филоктет – в изображении Софокла. «Вергилиев Лаокоон кричит, но этот кричащий Лаокоон – тот самый, которого мы уже знаем и любим как предусмотрительного патриота и как нежного отца. Крик Лаокоона мы объясняем не характером его, а невыносимыми страданиями. Только это и слышим мы в его крике, и только этим криком мог поэт наглядно изобразить нам его страдания. Кто же станет осуждать за то поэта? Кто не признает скорее, что если художник сделал хорошо, не позволив своему Лаокоону кричать, то так же хорошо поступил и поэт, заставив его кричать?»[175]
По мысли Лессинга, пластическое искусство не может выражать ничего, что можно назвать переходным. Художник всегда избирает момент завершения, предельно типический (при этом оставляя свободное поле воображению). Вот почему пластическая красота, которая есть «совершенство наружной оболочки», всегда несет в себе величайшее обобщение, пластический образ всегда «сверхличен». Образ же, созданный поэтом, всегда текуч и многосложен. Поэзия может обобщать, используя индивидуальное, единичное, даже случайное. Человек предстает в поэзии не как собирательное существо, но как живая личность, в которой свойственное человеку вообще проявляется своеобразно.
Уже Гердер отметил, что в споре Лессинга с Винкельманом не было победителя, ибо одна позиция не исключает другую. В «Критических лесах» (1769) он разовьет мысли как Винкельмана, так и Лессинга и покажет, что Лессинг не заметил еще одного существеннейшего отличия между живописью и поэзией, вообще препятствующего их прямому сопоставлению. Однако спор Лессинга с Винкельманом имел и более широкий смысл, нежели понимание природы античного искусства или специфической природы живописи и поэзии. Известный советский (российский) литературовед В.Р. Гриб в свое время отметил, что этот спор «был в основе своей спором о задачах национального развития Германии, о том, по какому пути должно двигаться политическое и социальное освобождение Германии. Освобождать немцам лишь дух свой, или также и грешное тело? Быть ли Германии “страной поэтов и мыслителей”, или, кроме того, и страной реальных гражданских свобод? Республиканский дух классицизма Винкельмана, его учение о чувственном характере красоты были близки Лессингу Но созерцательный характер винкельмановского понимания свободы не удовлетворял его. Источник всякого рабства в самом человеке, учит Винкельман, это грубая, животная чувственность; лишь бескорыстное отношение к миру, чистая радость при виде его зримого совершенства дают внутреннюю свободу. Против стоического равнодушия “мудреца” к бедам и несчастьям “мира страстей и суеты” Лессинг защищает страсти, живую плоть, ибо страдания и боль заставляют человека восстать против своих мучителей, ответить ударом на удар. Винкельман считает крики Филоктета недостойными истинного героя, который должен презирать свои страдания. Нет, возражает Лессинг, оттого, что Филоктет мучается, он и не простит своим врагам. Боль взывает к мести»[176].
Несмотря на некоторую излишнюю политизированность этого заявления (точнее, политизированное истолкование позиции Лессинга), в нем есть глубокий смысл: Лессинг действительно выступил с программой формирования национального искусства высокого общечеловеческого звучания, дающего подлинно возвышенный и благородный идеал человека, но и не уходящего только в сферу чистой красоты, искусства действенного, обращенного лицом к немецкой действительности, указывающего на ее достоинства и ее непотребства, соединяющего античную гармонию и живые страсти и чувства современного человека.
Кристоф Мартин Виланд
Одним из тех, кто плодотворно соединил и по-своему переосмыслил в своем творчестве идеи Винкельмана и Лессинга, был выдающийся немецкий просветитель Кристоф Мартин Виланд (Christof Martin Wieland, 1733–1813)[177]. Его романы стали самыми яркими событиями в развитии немецкой прозы Зрелого и Позднего Просвещения. По словам Б.И. Пуришева, «среди древних эллинов, окруженных совершенными созданиями искусства и культуры, искал он своих героев и единомышленников»[178]. Однако при этом обращение к античности служит у Виланда цели не только обретения полнокровного гармоничного идеала человека, но и острейшей критики современной немецкой действительности и общечеловеческих благоглупостей, филистерства как немецкого, так и присущего человеку вообще. Сквозящая в глубине рационалистическая классицистическая основа соединяется в его романах с игривостью и раскрепощенностью, снисходительной гуманностью, присущей рококо, а также с сентименталистской чувствительностью (при этом рокайльная составляющая доминирует, как и в его поэзии). Показательно, что кумирами Виланда были такие различные по манере писатели, как Лукиан, Рабле, Шекспир, Свифт, Дж. Томсон. Большое влияние на него оказал английский мыслитель Шефтсбери с его учением о калокагатии – единстве добра и красоты, этического и эстетического начал. Подобно Шефтсбери, Виланд ратовал за гармоничное сочетание разума и страсти, притязаний нравственности и требований плоти.
Однако самым любимым писателем Виланда был Л. Стерн. Виланда поразила в нем смелость мысли и чувства, взламывание канонов рационалистического просветительского романа и моралистической литературы. В палитре Стерна органично соединились черты сентиментализма и рококо. Виланда необычайно привлекал особый стернианский юмор, внешне легкомысленный, иногда довольно фривольный, но внутренне весьма ядовитый, иронический, даже саркастический, привлекало соединение в жизненной позиции и манере Стерна снисходительной благодушности по отношению к человеку и острого критицизма, глубокого вживания в противоречивую душу человека и легкого и изящного искусства намека. Р.Ю. Данилевский отмечает: «Произведения Стерна подсказали Виланду не только стилистические приемы, но и жизненную позицию: внешнее благодушие, но в сущности крайне критическое и насмешливое отношение к окружающему. При этом немецкий писатель не просто подражал Стерну. Насмешка зрелого Виланда была еще беспощаднее, – возможно, потому, что общественный строй на его родине превосходил в своей косности пороки английской действительности»[179]. Сам же Виланд писал в 1767 г.: «Голова моя работает совсем в тристрамшендиевском направлении»[180]. После смерти Стерна Виланд в одном из писем с особой силой выразил значение для него английского писателя: «Среди рожденных женщиной не было автора, чувства которого, юмор и образ мысли полнее совпадали бы с моими; который так наставлял бы меня; который так прекрасно выражал бы то, что чувствовал я тысячу раз, не умея или не желая выразить этого»[181].
Виланд выступил в начале 60-х гг. как зрелый мастер рококо – одновременно в изящно-фривольных стихотворных «Комических (греческих) рассказах» (1762) и в романе «Победа природы над мечтательностью, или Приключения дона Сильвио де Розальвы» («Der Sieg der Natur über die Schwärmerei, oder die Abenteuer des Don Sylvio von Rosalva», 1764). Роман несет в себе не только стернианские ноты, но и сервантесовские аллюзии. Он был задуман как немецкая аналогия «Дон Кихота» (не случайно в русском переводе, выполненном Ф. Сапожниковым, роман вышел в 1782 г. под названием «Новый Дон-Кишот, или Чудесные похождения дон Силвио де Розалвы»). Герой романа живет в придуманном им мире нимф, фей, заколдованных принцесс, в качестве каковых выступают лягушки, бабочки и крестьянские девушки. С одной стороны, писатель высмеивал прекраснодушную мечтательность, совершенно оторванную от жизни, развенчивал претензии немецкого бюргерства на особые «метафизические», «серафические» порывы. С другой стороны, Виланд, в присущей ему иронической манере, защищает права воображения перед судом слишком холодного разума, рассудочной готшедовской поэтики. В самой структуре романа писатель выступает как антиготшедианец: произведение состоит из ряда причудливых новелл о забавных приключениях и превращениях, соединяющих реальность и фантастику. Стиль Виланда отличается небычайным изяществом, тщательной отделкой формы, вниманием к мелким деталям, как в живописи и скульптуре рококо.
В несколько иной, «классической», манере написан второй роман Виланда. Взяв на вооружение идею калокагатии Шефтсбери и его понятие «прекрасной души», а также свое прекрасное знание античности, Виланд задумал большой роман о формировании человеческого характера, о пути человека через мир, через борьбу заложенных в нем прекрасных задатков и вредоносных влияний внешнего мира. Так появилась «История Агатона», или «История Агафона» («Geschichte des Agathon», 1766–1767), ставшая знаменательной вехой в истории не только немецкого, но и европейского романа. Это был первый в европейской литературе «воспитательный роман», или «роман воспитания», «роман становления» (Erziehungsroman, Bildungsroman), показывающий становление личности от самых первых ее шагов до духовной зрелости на широком социально-историческом фоне. Безусловно, у Виланда были предшественники: черты «воспитательного романа» вызревали и в «Симплициссимусе» Г.Я.К. Гриммельсгаузена, и в «Телемаке» Ф. Фенелона. Однако впервые в центр романа было поставлено именно духовное развитие личности, история очарований и разочарований, поиски собственного предназначения, гармонии с самим собой и с миром. «Агатой» проторил дорогу «Вильгельму Мейстеру» И.В. Гёте, «Гипериону» Ф. Гёльдерлина, а затем романам немецких романтиков («Генрих фон Офтердинген» Новалиса, «Франц Штернбальд» Л. Тика и др.). Очень высокую оценку «Агатону» дал Лессинг в «Гамбургской драматургии». Он отнес роман к числу «первоклассных сочинений» своего века и высказал сожаление, что немецкая публика не смогла оценить его по достоинству, предпочитая ему поверхностные французские и немецкие романы. По мнению Лессинга, «История Агатона» – «это первый и единственный роман для мыслящего человека с классическим вкусом».
В романе изображен эллинский мир IV в. до н. э., довольно точно передан греческий колорит. Виланд взял реально существовавшего афинского трагедиографа, о котором практически ничего не известно, и написал его вымышленную биографию. В «Истории Агатона» есть черты исторического романа, но целиком его нельзя считать таковым. Автор вольно обращается с историческими фактами, с хронологией и в образе Агатона показывает не столько грека, сколько своего современника. История духовных поисков Агатона – это и отражение поисков самого писателя, и история исканий молодого человека XVIII в.
В столкновении с жизненными препятствиями складывается характер героя, вырабатываются его взгляды. В концепции героя своего романа Виланд обнаруживает близость к Филдингу, полемизировавшему с Ричардсоном, с надуманностью и ходульностью его героев, представавших как высшее воплощение добродетели. По признанию Виланда, «в намерение автора “Истории Агатона” отнюдь не входило воплощение в герое романа образа нравственного совершенства; автор хотел изобразить своего героя таким, каким он был, в соответствии с законами человеческой природы, если бы жил при данных условиях» («Об историческом в “Агатоне”»). Ничто человеческое не чуждо Агатону, он переживает взлеты и падения, радости и разочарования. Заключенная в нем изначально «прекрасная душа» претерпевает некоторые деформации и искажения под влиянием дурных сторон действительности и все же неизменно остается самой собой.
Согласно верному наблюдению Б.И. Пуришева, «как впоследствии Фауст и Вильгельм Мейстер Гёте, Агатой проходит на своем жизненном пути ряд “образовательных” ступеней»[182]. Во многом путь героя отражает поиски самого писателя. Подобно молодому Виланду, Агатой вначале живет в некоем воображаемом, идеальном, «серафическом» мире. Он воспитан в Дельфийском храме в духе религиозно-философской секты орфиков. Восторженный мечтатель, он грезит о чистой платонической любви. Однако уже в Дельфах его ждут первые разочарования в жизни и в людях: оказывается, что жрецы – наглые обманщики и лицемеры, а «непорочная» Пифия преследует Агатона своими любовными домогательствами.
Затем герой попадает в Афины, где судьба поначалу высоко возносит его. Граждане Афинской республики оценили благородство и ум Агатона, искренность его заботы об общем благе. Он стремится усовершенствовать политическую жизнь, внедрить в нее высокие этические идеалы. Однако толпа платит ему неблагодарностью, подвергая остракизму. Герой вынужден покинуть Афины. Он разочарован в разумности республиканского устройства, но в целом идеал дробродетели в нем не пошатнулся.
На новом повороте своей судьбы Агатой попадает в Смирну (Малая Азия) и становится рабом богатого софиста Гиппия, который проповедует философию крайнего эгоизма и жаждет только наслаждений. Видя абсолютную душевную и телесную чистоту Агатона, Гиппий решает развратить его и знакомит с обольстительной гетерой Данаей. Но Даная не только влюбляет в себя Агатона, но и сама влюбляется в него. Агатон узнает настоящую любовь, в стихии которой растворяется его «серафический» платонизм. Однако коварный Гиппий, видя подлинную силу чувства Агатона, рассказывает юноше о неблаговидном прошлом Данаи. С болью в сердце Агатон расстается с возлюбленной.
На следующем витке своих исканий Агатон оказывается в Сиракузах (Сицилия), при дворе тирана Дионисия. Незадолго до этого здесь побывал великий философ Платон и потратил много сил, чтобы превратить ничтожного, бездарного и деспотичного Дионисия в разумного правителя, а Сиракузы – в идеальное государство. Но все оказалось напрасным, и Платон покинул Сицилию совершенно разочарованным. Изображение сицилийских порядков дает возможность в полную мощь развернуться сатирическому таланту Виланда: он обрушивается на самодержавный деспотизм, до боли знакомый ему по произволу многочисленных немецких князей и императора Пруссии, по деспотизму, царящему во многих странах Европы. Намекая на современность и в особенности на немецкую действительность, Виланд саркастически пишет: «Пусть никто из читателей этой книги не узнает на собственном опыте, что должен переживать народ, который имеет несчастье стать жертвой произвола какого-нибудь Дионисия».
Исполненный энтузиазма Агатон мечтает вслед за Платоном установить в Сиракузах разумные порядки, добиться мирного объединения Сицилии. Для этого он становится приближенным и наперсником Дионисия. Но все усилия Агатона по воспитанию «просвещенного» монарха тщетны (хотя сам Виланд был сторонником «просвещенной монархии», здесь нельзя не увидеть его горькой и иронической усмешки над собственными иллюзиями и иллюзиями своего века). Дионисий основывает академии и окружает себя философами только для того, чтобы прослыть просвещенным монархом. На самом деле он презирает философов и считает их шутами (современники улавливали здесь прозрачные намеки на императора Пруссии Фридриха II). Агатон на собственном печальном опыте убеждается, как опасно быть при дворе честным и благородным человеком, болеющим за интересы государства и народа. Здесь подлинную власть имеют только низкие льстецы и блудницы, фавориты и фаворитки. В результате дворцовых интриг Агатон оказывается в тюрьме, где вновь встречается с Гиппием. Тот по-прежнему проповедует свою циническую и человеконенавистническую философию. И хотя Агатон тяжко переживает произошедшее, хотя он горько разочарован и ощущает почти полное бессилие и сомнение в собственных идеалах, он по-прежнему не может и не хочет принять позицию Гиппия.
Итак, писатель прослеживает, как, проходя через различные испытания и «образовательные» ступени, меняется герой. Согласно замыслу писателя, его Агатон был попеременно «платоническим и патриотическим мечтателем, героем, стоиком, сластолюбцем и в то же время никем из них в отдельности, поскольку он шаг за шагом проходил все эти состояния, и каждое оставляло на нем следы своего цвета». Путь Агатона – это путь разочарований, и одно из самых горьких – разочарование в народе, который водят за нос демагоги (в Афинах) и который привык нести ярмо рабства (в Сиракузах). Тем не менее есть смысл и в этих разочарованиях: Агатон приобрел жизненную стойкость и душевную мудрость. В финале герой принимает философию пифагорейца Архития, согласно которой главное для человека – нравственное самосовершенствование. Только таким путем, полагает Виланд, можно со временем прийти к более разумному обществу. Этот вывод отражает общие установки века Просвещения, но в особенности – позицию немецких просветителей, предваряет мысли зрелых Гёте и Шиллера об изменении мира через духовное преображение человека, в том числе – через прекрасное искусство.
В «Истории Агатона» Виланд плодотворно использовал все, что наработал до него немецкий и европейский роман: опыт авантюрного плутовского и галантно-героического романов, уже у Филдинга переработанный в тип романа «большой дороги»; опыт «Симплициссимуса» Гриммельсгаузена, в котором герой отстаивает собственное «я», проходя страшную школу испытаний; опыт романов Шнабеля и Геллерта, где герои проходят череду нравственных испытаний, где критика общества соединяется с утопией. При этом Виланд выступил безусловным новатором, создав первый «роман воспитания», являющийся также романом морально-дидактическим, психологическим, социально-философским и политическим.
Политические и социально-философские проблемы находятся в центре социально-политического и морально-дидактического романа Виланда «Золотое зеркало, или Властители Шешиана» («Der goldene Spiegel, oder die Könige von Scheschian», 1772). В нем писатель учел собственное прекрасное знание поэтики сказки, которое со всей силой проявится позднее в его стихотворных и прозаических обработках многочисленных сказочных сюжетов народов мира[183]. Роман выдан за индийское произведение, попавшее в руки автора в переводе на латинский язык, в свою очередь сделанный с китайского; автор же только «перевел» его на немецкий. Уже это вводит особую ироническую интонацию, которая доминирует в романе. В одеждах Востока (Индостан) предстает современная Европа, и прежде всего Германия. Восточный колорит в романе условен, условны и персонажи. По словам Гёте, в романе все является «прописью, тезисом, поучением, моралью, золотыми буквами начертанной на стене, а фигуры нарисованы вокруг» (из рецензии Гёте на роман Виланда)[184]. Условная притчевая модель нужна Виланду для создания в равной степени обобщающей и в то же время конкретной сатиры и социальной утопии.
Роман иронически стилизован под сказочные новеллы арабского сборника «Сказки 1000 и одной ночи», который в свою очередь во многом является переложением знаменитого индийского сборника «Панчатантра». Правитель вымышленного индийского государства Шешиан, шах Гебель, которого мучает бессонница, и философ Данишменд ведут беседы о государственном и общественном устройстве. Гёте в своей рецензии, следуя иронической манере самого Виланда, излагает это новеллистическое обрамление следующим образом: «Шах Гебель, повелитель Шешиана, управлял своей страной так плохо, а порой так хорошо, что ни хорошие, ни дурные не были им довольны. Для здорового усыпления его величества в государстве разыскивают кого-нибудь, кто мог бы рассказать шаху историю страны, и такой человек находится в лице Данишменда. Сцена разыгрывается у постели царя, в присутствии султанши Нурмахаль, и как только философ воодушевляется и начинает с убеждением излагать самые благородные и великие истины, царь, как и следовало ожидать, погружается в сон»[185].
Несмотря на то что шах Гебель погружается в сон как раз в самые неподходящие моменты, неутомимый философ не оставляет надежды воздействовать на пребывающего в дреме шаха. Он обличает деспотизм, крепостное право, рисует портрет разумного монарха. Только радостный труд свободных людей может явиться залогом всеобщего расцвета страны. Именно тогда пустыни превратятся в роскошные сады и люди почувствуют себя наконец-то людьми. По мнению Виланда, вложенному в уста Данишменда, благодетельным для общества является некое «среднее состояние», которое сглаживает имущественные и сословные различия и, таким образом, объединяет, а не разъединяет граждан. В романе резко критикуется клерикализм и религиозный фанатизм. Виланд отстаивает веротерпимость и свободу совести, противопоставляя церковному догматизму «естественную» религию. Все необходимые реформы должен провести просвещенный монарх. Таким в романе является Тифан, выросший среди народа, знающий его нужды и чаяния. «Горе народу, повелитель которого предпочитает стать могущественнейшим из царей, чем лучшим из людей», – говорит Тифан. Рисуя картину правления мудрого Тифана, при котором прекращаются кровопролитные войны, свято соблюдаются законы, ограничивается роскошь двора, изживается позорный фаворитизм, Виланд представляет свой идеал государственного устройства. Тифан поощряет развитие искусств и образования, ведь в разумном государстве и граждане должны быть разумными, образованными, должны ценить свой родной язык и научиться пользоваться им во всех сферах жизни. Так, рисуя свою утопию, Виланд от противного критикует порядки в родной Германии, где все было как раз наоборот.
…Но пока мудрый Данишменд рассыпал перед шахом Гебелем жемчуга своих слов и мудрых мыслей, тот продолжал спать, а в Шешиане все продолжало идти тем же заведенным порядком, ведь мудрый Тифан оставался всего лишь придуманной сказкой. Так Виланд высказывает не только надежды на преображение мира и родной Германии, но и горький скепсис по поводу возможности этого преображения. Р.Ю. Данилевский пишет: «Виланд назвал свой роман “книгой для королей” и прилагал старания, чтобы книга попала в руки молодого императора Иосифа II, с которым просветители связывали надежды на прогрессивные перемены в германских государствах. Надежды эти не осуществились, как не сбылось и желание Виланда оказаться в роли “мудрого Данишменда”, советчика при императоре “германской нации”. В 1794 г. Виланд дописал в книге главу о вырождении потомков просвещенного монарха Тифана, выразив этим скептическое отношение к своей прежней мечте об идеальном государе»[186]. В «Золотом зеркале» отразились как очарования века Просвещения, так и его разочарования, не только вера в приход «царства разума», но и критика собственных иллюзий.
Однако с великой мечтой расставаться трудно. Виланд и позднее продолжал надеяться на то, что его книга привлечет внимание государей и повлияет на них. Его роман, безусловно, имеет прежде всего дидактический смысл. Но поучение изложено здесь в легкой, непринужденной, иронической рокайльной манере, приближающейся к стернианской и предвещающей манеру «Истории абдеритов». Не случайно в «Золотом зеркале» писатель утверждал: «Важнейшая цель шутки состоит в том, чтобы все, что во мнениях, страстях и поступках людей не согласуется со здравым смыслом и всеобщим чувством истины и красоты, т. е. все, что нелепо, изобразить достойным осмеяния».
Именно такую задачу – «все, что нелепо, изобразить достойным осмеяния» – Виланд поставил в одном из самых знаменитых своих романов – «История абдеритов» («Die Geschichte der Abderiten», 1774). Это философско-сатирический роман, размышляющий о путях развития человеческой цивилизации и направленный прежде всего против мещанского убожества и ограниченности духа, против филистерства – как немецкого, так и всеобщего. «История абдеритов» – роман о благоглупостях человеческой цивилизации. Виланд, по словам Гёте, «восставал против всего, что принято понимать под словом “филистерство”, – против мертвящего педантизма, захолустного провинциализма городской жизни, крохоборческой критики, показного целомудрия, тупого довольства существующим, надменного чинопочитания и прочих пороков, как бы они ни назывались, имя которым – легион»[187].
В дополнительной главе «Ключ к “Истории абдеритов”» (1781) Виланд шутливо-иронически рассказал, как «внезапно», «неожиданно» для самого автора, по наитию, родился замысел романа: «В один прекрасный осенний вечер 177* года… я находился один на верхнем этаже своего жилища и глядел (почему я должен стыдиться признаваться в чем-то человеческом?) от скуки в окно, ибо уже несколько недель, как меня совершенно покинуло вдохновение. Я не мог ни думать, ни читать. Весь пыл моего духа, казалось, погас, вся моя веселость испарилась, подобно летучей соли. <…> Вдруг мне показалось, – правда это была или иллюзия, не могу сказать точно, – что я слышу какой-то голос, который кричал мне: “Садись и пиши историю абдеритов!” И внезапно в голове моей прояснилось. “Да, да, – думал я, – абдериты… Что же может быть естественней? Примусь за историю абдеритов. Удивительно, почему такая простая идея давно не пришла мне в голову!” И я тотчас же уселся, начал писать, перечитывал, сокращал, приводил в порядок и переписывал. И было радостно видеть, как спорилась работа!» (здесь и далее перевод Г.С. Слободкина). Это удивительно напоминает один из фрагментов романа Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», где автор обращается к вымышленному автору «научного» трактата «О носах»: «О, Слокенбергий!…скажи мне, Слокенбергий, какой тайный голос и каким тоном (откуда он явился? как прозвучал в твоих ушах? – уверен ли ты, что его слышал?) – впервые тебе крикнул: – Ну же – ну, Слокенбергий! посвяти твою жизнь – пренебреги твоими развлечениями – собери свои силы и способности существа твоего – не жалея трудов, сослужи службу человечеству, напиши объемистый фолиант на тему о человеческих носах» (перевод А.А. Франко веко го). Здесь не случайно так много общего и в стилистике, и в смысле, ведь Стерн был любимым автором Виланда. Но если английский писатель высмеивает псевдоученость, то Виланд иронизирует над «бурными гениями» с их культом вдохновения и творчества по наитию. (Штюрмеры не принимали Виланда, считая его слишком фривольным, слишком галломаном, слишком циником, слишком рационалистом; к сожалению, они не понимали, что в главном – в страстном протесте против немецкого и всеобщего убожества и мещанства – он был их старшим собратом по духу.)
Однако замысел «Истории абдеритов» возник не так просто, как шутливо представляет это Виланд. При этом главным стилистическим «пособием» для создания романа послужили произведения Лукиана, Рабле, Свифта и Стерна, которых Виланд относил к своему «настольному чтению». Очень близка Виланду также гротескно-ироническая манера Вольтера, ведь не случайно он получил прозвище «немецкий Вольтер».
В качестве сатирического зеркала для изображения немецкой действительности и общечеловеческих пороков, и прежде всего самого неизлечимого – глупости, Виланд избрал Абдеру (или Абдеры) – город во Фракии, родину Демокрита и Протагора. Тем не менее эти великие философы покинули город и, как полагали уже древние, именно по причине глупости своих сограждан. Уже в античности об абдеритянах ходила слава как о глупцах и чудаках, конечно же, имевшая мало общего с подлинной историей греческого города-государства. Так, рассказывали будто в Абдере каждый житель может иметь собственного глашатая и провозглашать публично любую глупость. Возможно, это была насмешка над уходящим в прошлое народным собранием. От античности дошел также анекдот о том, как абдеритяне поместили статую богини на такой высокой колонне, что покровительницу города невозможно было рассмотреть (Виланд включил эту историю в свой роман). Абдеру и «абдеритство» упоминал Цицерон, критикуя порядки, принятые в сенате Рима. О глупости абдеритян писали Овидий и Марциал. Виланд цитирует также строки из Лукиана и Ювенала, посвященные Абдере.
Образ Абдеры и ее странных жителей, хотя и не очень развернутый, присутствует и в более поздней литературе довиландовских времен. Так, Лафонтен в басне «Демокрит и абдеритяне» (1678) обработал анекдот, восходящий к одному из писем, приписываемых Гиппократу. В письме рассказывалось, как жители Абдеры объявили безумным своего великого земляка Демокрита, ибо он утверждал, что вселенная бесконечна и состоит из атомов. Абдериты пригласили в город знаменитого врача Гиппократа, чтобы он вылечил несчастного безумца. Однако в результате проведенного «обследования» Гиппократ поставил диагноз самим абдеритам: признал их безумными. Эта история станет стержнем двух первых книг романа Виланда. Кроме того, в «Сентиментальном путешествии» Стерн передает рассказ Лукиана о том, как абдеритов охватило трагикомическое безумие после постановки в их городе трагедий Еврипида «Андромеда» и «Андромаха», и это стало основой третьей книги романа. Вероятно, Апулеем и Лукианом подсказан сюжет о тяжбе из-за ослиной тени, ибо осел играет у этих античных авторов особую трагикомическую роль. В лягушачьей «эпопее» пятой книги просвечивают черты античной «Батрахомиомахии» («Войны мышей и лягушек»), упоминающейся также в 10-й главе первой книги романа.
Виланд опирался также на немецкие (и шире – европейские) фольклорные и литературные традиции, и прежде всего на традицию «литературы о дураках», в частности – на народную немецкую книгу XVI в. «Жители Шильды». Уже в первой главе романа писатель сравнивает абдеритов с шильдбюргерами – обитателями вымышленного немецкого «города дураков» – Шильды. Он вспоминает также сходных персонажей швейцарского фольклора – жителей анекдотического города Лаленбурга (шванки о лаленбуржцах, как и о шильдбюргерах, появились в виде народных книг в конце XVI в.; к ним обращались Мошерош, Гриммельсгаузен, Рабенер).
Однако, помимо всех литературных источников, сама жизнь, по признанию Виланда, стала главным источником его романа. В «Ключе» к роману писатель иронически поясняет, что он вовсе не имел в виду действительность, а только лишь не существующих уже абдеритов, но, помимо его воли, его фантазия оказалась зеркалом его современности: «Итак, я открыто сознаюсь, – и если это неправда, то пусть простит меня небо! – я натянул постромки своей фантазии до предела, дабы изобразить абдеритов в их мыслях, речах и поведении как можно более глупыми. Вот уже две тысячи лет, как все они умерли и похоронены, говорил я себе. Это не повредит ни им, ни их потомству, от которого тоже уже и следа не осталось. К этому присоединилось еще одно соображение, показавшееся мне гуманным. “Чем глупей я их изображу, тем меньше могу опасаться, что абдеритов примут за сатиру и будут использовать против людей, которых я вовсе не имел в виду, ибо жизнь их мне не знакома…” Но, заключая так, я заблуждался. Успех произведения доказал, что я невольно копировал портреты, когда полагал, что только фантазирую».
Сила романа Виланда заключается как раз и в предельной обобщенности, и в конкретности его сатиры. Композиция «Истории абдеритов» представляет собой, согласно наблюдению Р.Ю. Данилевского, «систему концентрических кругов: от главы к главе примеры абдеритской глупости становятся все более грандиозными и зловещими»[188]. Каждая глава в романе становится ступенью, которая ведет абдеритов вниз, к краху Абдерской республики. Сначала они потешаются над самым мудрым из них – Демокритом, признают его безумным (1-я книга). Затем степень их невежества расширяется и углубляется: они отвергают подлинную науку в лице Гиппократа (2-я книга). Абдериты проявляют свою крайнюю ограниченность и неспособность понимать искусство в эпизодах, связанных с постановкой трагедий Еврипида (3-я книга). Глупость абдеритов приобретает все более грандиозные размеры, становится опасной и самоубийственной, что подтверждается судебным процессом из-за тени осла (книга 4-я) и историей с лягушками Латоны, заполонившими город и изгнавшими самих абдеритов (книга 5-я).
В романе царят фарс, буффонада, гротеск, ирония, и именно с их помощью создается невероятно веселая и одновременно горькая картина человеческого ничтожества, интеллектуальной и духовной ограниченности. Абдеритяне абсолютно все делают невовремя и невпопад. Они не думают, что говорят, точнее – сначала говорят, затем думают. Они всегда принимают наихудшее из всех возможных решений. Все, что они делают, неизменно кончается ничем. Однако при этом абдериты преисполнены невероятной гордости за себя и именуют свой город «фракийскими Афинами». Они кичатся невероятно тонким художественным вкусом, ничего на самом деле не понимая в искусстве; носятся с прожектами, которые так и остаются прожектами; они ведут бессмысленные «мышиные» войны, а военачальника выбирают не за ум и военный талант, а за статную фигуру Городом правят хитрые жрецы и советники с большой головой, но с умом колибри. В судах заседают кляузники, готовые всегда черное выдать за белое. Главная забота абдеритов – их собственный желудок, о воспитании благородных сердца и ума они вовсе не думают. Главный их азарт – охота за «теплыми» местечками, а главный инструмент их достижения – взяточничество.
В Абдере, почитающей себя верхом интеллектуализма, царит повальное невежество. Единственный луч света, озаряющий эту тьму, – Демокрит, «друг человечества», вернувшийся из долгих странствий в родной город. Он пытается просветить своих сограждан, но те, по ядовитому замечанию писателя, «не желали умнеть». Демокрит приходит к горестному выводу, что «весьма опасно иметь ума больше, чем у остальных сограждан».
Еще одно событие, потрясшее Абдеру до основания, – появление в городе выдающегося драматурга Еврипида с его труппой. Восторг абдеритян был неимоверен и вскоре перешел в манию, однако поняли они великого драматурга весьма странно и избирательно. Так, из трагедии «Андромеда» они запомнили только одну арию о власти Амура. И весь город словно помешался: «Казалось, что какая-то фея взмахнула своей волшебной палочкой над Абдерой и превратила всех ее жителей в комедиантов и певцов. Все живое в городе говорило, пело, наигрывало и насвистывало в бодрствующем и сонном состоянии многие дни подряд одни только места из “Андромеды” Еврипида. Повсюду раздавалась знаменитая ария “О ты, Амур, владыка смертных и богов!”, и ее распевали так долго, что от первоначальной мелодии почти ничего не осталось, а молодые ремесленники, подхватившие ее в конце концов, ревели арию по ночам на свой собственный манер». Болезнь, охватившую абдеритов, Виланд иронически именует «странным родом френезии, называвшимся у древних абдеритской болезнью», а также «театральной горячкой», подчеркивая, что таковая часто охватывает и его соотечественников: «И если припадок, охвативший абдеритов после “Андромеды”, угодно называть лихорадкой, то это было не что иное, как театральная горячка, поражающая и до сего дня многие города нашей дражайшей немецкой отчизны. Болезнь заключалась не столько в крови, сколько в абдеритстве этих добрых людей». Абдеритов же излечил все еще находившийся неподалеку от Абдеры Гиппократ: «И так как натура абдеритов была ему хорошо известна, то несколько центнеров чемерицы привели все вскоре в прежнее состояние, то есть абдериты перестали петь: “О ты, Амур, владыка смертных и богов!” и стали все вместе и каждый в отдельности вновь такими же мудрыми… как и раньше».
Осмеивая слепое увлечение абдеритов всем афинским, Виланд намекает на преклонение Готшеда и его школы перед французским театром и в то же время на провинциализм и мелкотравчатость немецкого театра и литературы вообще. Абдериты гордятся своими ничтожными писателями, которых называют абдерскими Эсхилами, Аристофанами, Пиндарами и Анакреонтами. Собирательным образом является также «великий поэт» и «корифей» абдерского театра Гегесий, прозванный Гипербол ом за свою невероятную напыщенность и высокопарность (в переводе с греческого «Гипербол» означает «преувеличенный», «преизбыточный»). Виланд иронически пишет: «Среди всех поэтов именно в нем наиболее живо проявлялся дух Абдеры с ее глупостями и отклонениями от прекрасных форм… <…> Человек, являвшийся столь совершенным воплощением абдеритского гения, мог, естественно, стать в Абдере всем, чем угодно. Он был также ее Анакреонтом и ее Алкеем, ее Пиндаром, ее Эсхилом, ее Аристофаном, а с недавнего времени он трудился над национальной героической эпопеей в сорока восьми песнях, названной “Абдериада ”, к великой радости всех абдеритов. “Ибо, – говорили они, – единственное, чего нам не хватает, так это только собственного Гомера. И если Гипербол напишет свою “Абдериаду”, то мы будем иметь сразу в одном произведении и “Илиаду” и “Одиссею”. И пусть тогда прочие греки осмелятся смотреть на нас с презрением, если только у них есть чувства! Какой из наших поэтов не смог бы сравниться с греками?”» Однако подлинным призванием Гипербола была трагедия. «Он изготовил их сто двадцать штук, больших и малых – достоинство уже само по себе выдающееся в глазах народа, который ценил во всем лишь количество и объем». При этом главное качество трагедий Гипербола заключалось в том, что «ни один реальный человек не выглядел, не думал, не чувствовал и не поступал так, как действующие лица Гипербола. Но именно это и нравилось абдеритам, и поэтому из иностранных поэтов они меньше всего любили Софокла».
В Гиперболе можно усмотреть намеки как на Готшеда, так и на других немецких драматургов, в том числе и штюрмеров. Сам Виланд настаивал, что в этом образе, как и в других, не нужно искать никого конкретного: «Вопрос о том, какой немецкий драматический писатель скрывается под именем Гипербола, Флапса и других – это абдеритский вопрос, не достойный ответа». Тем самым Виланд утверждал, что при всей узнаваемости его сатиры в ней нужно видеть нечто большее, чем немецкие типы, точно так же, как Свифт в свое время раздраженно заметил, что, если бы Гулливер имел в виду какую-то одну страну или даже один век, его стоило бы считать презренным писакой. Однако внутренне Виланд весьма радовался, что сатира задевает немецких филистеров. Так, в ответ на письмо некоего швабского бургомистра, напечатанное в журнале «Немецкий музей» и проникнутое откровенной неприязнью к Виланду, «оскорбляющему» почтенных бюргеров, Виланд заявил: «Нельзя сказать “тут Абдера, там Абдера”. Абдера везде… и все мы в какой-то степени дома в Абдере»[189].
В заключительных книгах «Истории абдеритов», где автор от проблем науки и искусства переходит к проблемам социальным и политическим, еще больше возрастает как степень обобщенности сатиры Виланда, так и ее конкретность. Нелепый судебный процесс из-за тени осла разделил всех жителей Абдеры на два враждующих лагеря – «теней» и «ослов» – и чуть было не привел к страшным потрясениям, а происки жрецов двух главных храмов стали причиной того, что жители едва не погибли. В изображении жрецов современники живо ощущали намеки на католический и протестантский клир. С одной стороны – жрец храма Ясона Агатирс (Агафирс), любящий все жизненные наслаждения, любимец аристократии и женского пола, напоминающий католического аббата; с другой – жрец храма Латоны Стробил, угрюмый и нетерпимый, хулитель мирской мудрости и ненавистник искусств (намек на протестантское духовенство). В их вражде Виланд изобразил бесконечную грызню католического и протестантского духовенства, свойственную всей Германии того времени; в таких же маленьких городках, как родной для писателя Биберах, она становилась особенно мелкой и подлой. Однако обоих жрецов объединяет одно: они обманывают народ, религия в их руках – только орудие политических интриг и достижения собственных карьеристских целей. В результате интриг жрецов жители Абдеры едва не погибли от страшно размножившихся лягушек Латоны, заполонивших город. Абдериты решили покинуть город, заброшенный богами, и искать себе нового пристанища.
По иронической мысли Виланда, абдериты весьма распространились по миру и, хотя не существует Абдеры, спокойно живут и сегодня: «…мне стало совершенно ясно, что древний абдеритский народец еще не настолько вымер, как я себе это представлял» («Ключ к “Истории абдеритов”»). Включая свой дар мистификации, свойственный ему не меньше, нежели Свифту и Стерну, Виланд от имени никогда не существовавшего Слокенбергия (Славкенбергия) пишет: «Добрый город Абдера во Фракии, некогда большой, многолюдный, цветущий торговый город, фракийские Афины, родина Протагора и Демокрита, рай для глупцов и лягушек, этот добрый прекрасный город Абдера уже более не существует…Но не такова участь абдеритов! Они все еще живут и действуют… Это неистребимый, бессмертный народец! Не имея постоянного пристанища, они встречаются повсюду. И хотя абдериты рассеяны среди всех народов, они тем не менее сохранились до нынешнего дня во всей чистоте и безо всякой примеси… Но самое странное, что существенно отличает их от израильтян, бедуинов, армян и всех других несмешанных народов, заключается в следующем. Нисколько не опасаясь своего абдеритства, они смешиваются со всеми прочими обитателями земли и, хотя говорят на языке той страны, где живут, имеют общие законы, религию и обычаи с неабдеритами, едят и пьют, действуют и поступают, одеваются и наряжаются, причесываются и душатся, очищают желудок и ставят клистиры, одним словом, в отношении жизненных потребностей делают все примерно так же, как и прочие люди, тем не менее, говорю я, во всем, что отличает их как абдеритов, они остаются верными самим себе и настолько неизменными, словно какая-то алмазная стена, втрое выше и толще стен вавилонских, отделила их от остальных разумных существ нашей планеты. Все человеческие расы изменяются от переселения, и две различные расы, смешиваясь, создают третью. Но в абдеритах, куда бы их ни переселяли и как бы они ни смешивались с другими народами, не заметно было ни малейшей существенной перемены. Они повсюду все те же самые дураки, какими были и две тысячи лет тому назад в Абдере. И хотя уже давно не представляется возможности воскликнуть – “Взгляни, ведь это же Абдера! И тут Абдера!” – однако в Европе, Азии, Африке и Америке, в этих больших и в общем цивилизованных частях света нет ни одного города, ни одного местечка, деревни и поселения, где нельзя было бы встретить членов этого невидимого сообщества».
Именно под пером Виланда Абдера превратилась в исчерпывающий символ человеческих благоглупостей и духовной ограниченности, с его легкой руки слово «абдериты» стало синонимом слов «филистеры», «обыватели», «мещане», «глупцы».
Романы Виланда создавались также и на позднем этапе развития немецкого Просвещения. Все они отмечены острым критицизмом по отношению к современности и постоянным обращением к античности. Виланд был большим знатоком античности – греческой философии и религии, греческой литературы. Он переводил Горация и Аристофана, издал в 1788–1789 гг. полное собрание сочинений Лукиана в собственных переводах. Как отмечал Гёте, в переводах Виланда из Лукиана «автора и переводчика можно счесть настоящими братьями по духу». Под непосредственным влиянием Лукиана были написаны виландовские «Новые разговоры богов» («Neue Göttergespräche», 1789–1793) и «Разговоры с глазу на глаз» («Gespräche unter vier Augen», 1798–1799), в которых писатель поднимает животрепещущие религиозные и политические темы, в том числе связанные с Французской революцией. Признавая, что революционный взрыв во Франции был закономерным, Виланд, как Клопшток, Гёте и Шиллер, осуждает якобинский террор, завоевательную политику Французской республики. В «Разговорах с глазу на глаз» Виланд первым высказал предположение, что революция во Франции закончится установлением монархии и даже назвал имя Наполеона Бонапарта. Известно, что Наполеон знал о «пророчестве» Виланда и дважды встречался с ним в 1806 г., когда французские войска заняли Веймар. Отзыв же Виланда о Наполеоне, хотя и исполненный уважения, был все равно насыщен характерной для него тонкой иронией.
В своем отношении к античности Виланд и солидаризовался, и спорил с Винкельманом. Он был согласен с Винкельманом в том, что расцвету творчества греческих художников способствовал республиканский строй, что они «располагали большей свободой наблюдать прекрасные предметы, предоставлявшиеся им природой и их временем, чем это когда-либо могли делать художники новейшие»[190]. Так писал Виланд в статье «Об идеалах греческих художников». Но здесь же, в противоположность Винкельману, он отмечает и другое: греки не были идеальным народом, и достижения греческой культуры нужно рассматривать как результат конкретной социокультурной ситуации, уникальных исторических и национальных обстоятельств, которые в прямом смысле не могут быть повторены. В этом смысле позиция Виланда была ближе взглядам на античность, высказанным Лессингом и Гердером. Сама античность для Виланда не во всем идеальна. Кроме того, через призму античности писатель стремится постичь современный ему европейский мир. Р.Ю. Данилевский пишет: «Подобно другим современным ему деятелям немецкой культуры, от Винкельмана до романтиков, подобно великим веймарцам – Гёте и Шиллеру, Виланд смотрел на античный мир, сопоставляя его с европейской жизнью последней трети XVIII и начала XIX столетия. Связь древности с текущим днем наполняла виландовскую Элладу движением и красками. Особенность же воспроизведения древнегреческого мира у Виланда заключалась в постоянном лукавом подтексте, когда читателю время от времени намекали на присутствие в повествовании элемента мистификации, на возможность понять текст иносказательно»[191].
Последнее замечание особенно относится к поздним романам Виланда «Тайная история философа Перегрина Протея» (1791), «Агато-демон» (1796–1797), «Аристипп и некоторые из его современников» (1800–1802). Роман «Агатодемон» («Агафодемон» – «Agathodämon»), главным героем которого является знаменитый древнегреческий философ Аполлоний Тианский, посвящен полемике между язычеством и христианством. Устами Аполлония Виланд обличает религиозные суеверия и фанатизм, в том числе и нетерпимость Христианской Церкви к инакомыслящим. Его герой провидит в грядущем страшные реки крови, которые прольются в религиозных войнах «во славу Христа», когда власть духовенства породит «неописуемое и многообразное зло». В «Новых разговорах богов» писатель также касается темы религиозного фанатизма, который принес миру многочисленные беды. Фанатизму, излишней аскезе и самоограничению писатель предпочитает «разумный гедонизм», который он проповедует в образе Аристиппа в романе «Аристипп и некоторые из его современников». Именно в античном мире он находит истинные любовь и красоту, что выразилось не только в его поэме «Музарион», но и в эпистолярном романе «Менандр и Гликерия» (1803), рассказывающем о любви древнегреческого комедиографа Менандра к юной цветочнице. В «античных» романах Виланда очень много общего с «веймарским классицизмом» Гёте и Шиллера. Как и они, он убежден, что подлинные мудрость, нравственность, духовное совершенство достигаются через воспитание прекрасным искусством.
Виланд был также очень талантливым журналистом. Журнал «Немецкий Меркурий» («Der deutsche Merkur»), издававшийся им в Веймаре с 1777 по 1793 г., был одним из самых влиятельных журналов Германии. Виланд написал для своего журнала множество статей по литературным, эстетическим, философским, политическим вопросам.
Виланд поднял немецкую литературу (и в области поэзии, и в области прозы) на большую высоту, стал первым немецким писателем, авторитет которого признала вся Европа. Этот авторитет был признан в том числе во Франции, где на немецкую литературу смотрели свысока или даже с презрением. Это мнение изменилось после того, как на французский язык были переведены сочинения Виланда. Известно, что, когда французы вошли в Веймар, солдаты Наполеона не разграбили дом писателя именно потому, что знали его как «немецкого Вольтера». Еще при жизни Виланд был очень популярен в России, на русский язык были переведены все его основные произведения.
4. Проза позднего этапа немецкого Просвещения (1770–1800)
На позднем этапе своего развития, начиная с 70-х гг. XVIII в., немецкое Просвещение дает мировой культуре наиболее значительные духовные ценности, рождает большое количество литературных шедевров, в том числе и прозаических. Это связано в первую очередь со штюрмерской литературой – особым немецким вариантом сентиментализма, с «веймарским классицизмом» Гёте и Шиллера, а также с провидческими философскими концепциями и новаторскими эстетическими поисками Гёльдерлина.
Штюрмерская проза
В начале 70-х гг. XVIII в. в Германии развивается штюрмерское движение, или движение «Бури и натиска». Его предтечами явились писатели, представляющие особое ответвление немецкого сентиментализма – философию «чувства и веры». Крупнейшим из выразителей философии «чувства и веры» был «северный маг» Иоганн Георг Гаман (Johann Georg Hamann, 1730–1788), старший друг и учитель И.Г. Гердера, родившийся и живший в Пруссии, в Кёнигсберге. Уже Гаман, опираясь на Э. Юнга, развивал теорию «оригинального гения». Перу Гамана принадлежат философско-публицистические произведения «Достопримечательные мысли Сократа» (1759), «Облака» (1761), «Карманная эстетика» (1761), в которых он выдвигает принципы веры, интуиции, религиозно окрашенного чувства как важнейшие в познании мира и художественном творчестве. Именно под его пером оформляется жанровая форма «фрагмента», который будет столь важен и для штюрмеров, и для немецких романтиков.
Подлинным вдохновителем и духовным лидером штюрмерства выступил Иоганн Готфрид Гердер (Johann Gottfried Herder, 1744–1803)[192]. Собственно, ранние теоретические сочинения Гердера одновременно явились прекрасными образцами штюрмерской прозы, в которой выразились неистовая сила мысли и столь же неистовая сила чувств «бурного гения». В работах «О новейшей немецкой литературе. Фрагменты» (1767–1768) и «Критические леса, или Размышления, касающиеся науки о прекрасном» (1769) Гердер развивает идеи Винкельмана и Лессинга и одновременно полемизирует с ними.
Принимая винкельмановский тезис о преображающей роли искусства, о том, что Эллада дала миру прекрасное гармоничное искусство, Гердер тем не менее выдвигает исторический подход к искусству, в том числе и к эллинскому, и настаивает на том, что подражание древним бесплодно, что каждая литература дает нечто свое, самобытное, рождающееся в конкретных социально-исторических условиях. Поэтому всякое подражание мертвенно, даже подражание превосходным образцам античной и восточной литературы: «Заимствуйте от них не то, что они выдумали, а умение выдумывать, поэтизировать и выражать» («Фрагменты»). В третьем сборнике «Фрагментов» Гердер говорит о необходимости поисков в немецкой литературе нового героя – современного человека, многогранной, активной, действенной, свободомыслящей личности. В целом же в подходе к исследованию литературы он утверждает необходимость перехода от рассмотрения отдельных явлений к анализу причин и следствий их возникновения в конкретном историко-литературном процессе, необходимость создания собственно истории литературы, исследования философии литературы.
В «Критических лесах» Гердер спорит с лессинговским «Лаокооном», с теми принципами, по которым следует разграничивать живопись и поэзию. С точки зрения Гердера Лессинг не обратил внимание на важнейшее различие между этими искусствами. Дело в том, что знаки, которыми пользуется живопись, прямо связаны с изображаемыми предметами, являются их наглядной проекцией. Поэтому действие живописи наглядно, основано на непосредственном восприятии. Средства воздействия живописи на зрителя естественны и сосуществуют в пространстве. Иное дело – литература, которая использует условные знаки, ибо звуки языка являются символами и не имеют ничего общего с обозначаемым предметом (не изображают его в прямом смысле слова). Действие литературы опосредовано существованием языка. Живопись, по мысли Гердера, можно сравнить только с музыкой, которая также воздействует естественными средствами, но они следуют друг за другом в пространстве. Литература же воздействует средствами условными – силой семантики слова.
В связи с этим Гердер в ином, нежели Лессинг, видит причину более широкой возможности литературы изображать безобразное. Это различие между двумя мыслителями А.В. Гулыга поясняет следующим образом: «Лессинг видел причину в том, что поэтическое произведение, развертываясь во времени, знакомит нас с безобразным “по частям”, и вследствие этого неприятное впечатление ослабляется, а в живописи “безобразное дается во всей полноте и действует на нас почти так, как в природе”. Дело, однако, в другом, и это показал Гердер: в искусстве безобразное само по себе существовать не может; если возникает чувство отвращения, то пропадает эстетическое переживание; задача искусства – преобразить безобразное, найти тот особый угол рассмотрения, который превратит уродство в красоту Литература в силу своего опосредованного характера обладает более широкими возможностями абстрагирования, всесторонней оценки предмета, глубинного рассмотрения его. Живопись же не может отвлечься от внешнего облика»[193].
Гердер и требовал от литературы такого всестороннего рассмотрения предмета, глубинного проникновения в душу человека, а в связи с этим – особой динамики и экспрессии, особого языка, максимально точно и сильно передающего как мысли человека, так и страстные порывы его души, неукротимость его духа. Первым по-настоящему штюрмерским произведением, в котором выразилась душа «бурного гения», можно считать написанный Гердером в 1769 г., во время его путешествия во Францию, «Дневник моего путешествия в 1769 году». Здесь соединились элементы философские, публицистические и художественные. «Дневник» представляет собой страстный монолог «бурного гения», недовольного ограниченностью окружающей жизни и собственного существования, исполненного неукротимого стремления. Гердер подвергает переоценке и свою собственную жизнь, и весь комплекс современных наук, страстно отрицает схоластику, превращающую человека в «чернильницу для ученой писанины». Мысли и интонации Гердера обнаруживают разительные параллели с первыми монологами Фауста у Гёте, и это не случайно. Не случайно то, что подобно гётевскому Фаусту Гердер провозглашает действенность важнейшим признаком подлинно человеческой жизни. Каждый день должен стать действием во имя людей: «Не существует иной добродетели, кроме человеческой жизни и счастья: но каждый день есть действие. Все остальное – лишь призрак, одни лишь пустые рассуждения». В «Дневнике» сформулирована столь важная для штюрмерства концепция «самобытного гения»: «…многие сильные, живые, верные собственные ощущения самым своеобычным образом составляют основу многих сильных, живых, верных, собственных мыслей, и это есть самобытный гений».
Такого героя штюрмеры и открывают в своей прозе – исполненного смелой мысли, неукротимого стремления к творческому преображению жизни «сильного человека» (Kraftmensch), при этом необычайно чувствительного, в чувстве выражающего всю полноту и цельность своей натуры. На штюрмерскую прозу чрезвычайно воздействовали жанровые и стилевые поиски Ж.Ж. Руссо. Именно поэтому (и в силу общих установок творчества) они предпочитали форму повествования от первого лица (так называемая Ich-Form) – форму лирического дневника, исповеди, автобиографии, эпистолярного романа. В жанровом отношении они предпочитали философско-психологические фрагменты или социально-психологический роман, который при минимуме персонажей и внешней интриги дает возможность глубоко раскрыть человеческую душу, сконцентрировать внимание на «болевых» точках как социума, так и души. Кроме того, штюрмеры тяготели к жанровой форме «романа воспитания» (Bildungsroman, Erziehungsroman), представляя обычно историю духовных поисков молодого человека, своего современника, «бурного гения», следующего велениям своего сердца. В этом смысле непревзойденной вершиной штюрмерской прозы, как и прозы европейского сентиментализма в целом, стал социально-психологический роман в эпистолярной форме (точнее, в форме дневника) Иоганна Вольфганга Гёте «Страдания юного Вертера» (1774)[194].
«Вертер» вызвал множество подражаний. Так, Якоб Михаэль Рейнгольд Ленц (Jakob Michael Reinhold Lenz, 1751–1792)[195], защищавший роман Гёте от филистерских обвинений в безнравственности в «Письмах о моральном смысле “Страданий молодого Вертера”» (1776), оставил неоконченный роман «Отшельник», в котором, помимо влияния «Вертера», очевидно прямое воздействие «Новой Элоизы» Руссо. Роман интересен как документ эпохи, раскрывающий внутренний мир «бурного гения». Среди подражаний «Вертеру» были и чрезвычайно популярные, но, безусловно, гораздо более слабые в художественном отношении романы. Тем не менее массовый читатель ценил в них выспреннюю чувствительность, отражение мельчайших движений души, перемежаемые самыми невероятными приключениями. Так, по популярности у современников с «Вертером» соревновался роман члена «Гёттингенского Союза Рощи» Иоганна Мартина Миллера (Johann Martin Miller, 1750–1814) «Зигварт. Монастырская история» («Siegwart. Eine Klostergeschichte», 1776). В нем повествуется о любви юного Зигварта к дочери гофрата Марианне. Отец заточает Марианну в монастырь, откуда ее безуспешно пытается вызволить возлюбленный. Штюрмерская неистовость чувств парадоксально уживается здесь со слишком слезливой сентиментальностью, стремление передать движения души – с невероятными и неправдоподобными поворотами сюжета. Известная исследовательница М.Л. Тройская так характеризует содержание этого нашумевшего романа: «Серафическая любовь, музыка, Клопшток, тяга к монашеству, потоки слез, “анатомия души”, препятствия к соединению влюбленных, антифеодальные мотивы, смягченные проповедью мягкосердечия и смирения, заточение героини в монастырь, подвижничество героя, который становится садовником при монастыре, ложное сообщение о смерти Зигварта, неожиданное свидание у постели умирающей, смерть на ее могиле – таково содержание чувствительнейшего из чувствительных романов объемом около тысячи страниц, написанного бледной и невыразительной прозой со множеством стихотворных вставок. Современники восторженно благодарили Миллера за то, что он “подарил” им этот роман. По его образцу в разных уголках Германии появляются “монастырские истории”, полностью сохраняющие как всю схему, так и отдельные детали “Зигварта”»[196]. Миллеру принадлежат еще два романа – «Добавление к истории нежности» (1776) и «Карл и Каролина» (1783), но ни один из них не был столь популярным, как «Зигварт».
Ошеломляющий успех «Зигварта» свидетельствовал об очень невзыскательных вкусах немецкой читающей публики. Подлинные же ценители искусства подвергли роман острой критике. Возникло множество пародий на него. Одной из самых остроумных является поэма Ф. Бернриттера «Зигварт, или Капуцин, жалким образом замерзший на могиле своей возлюбленной, приключенческая, но правдивая история об убийствах и монастырях, которая несколько лет тому назад приключилась в княжестве Оттинген с сыном амтмана и дочерью тайного советника из Ингольштадта. Ради поучения и увещания христианской молодежи написана в стихах и поется на мотив песни “Слушайте, холостяки”» (1776). Уже в названии поэмы иронически обыгрываются сюжетные штампы «Зигварта» и подобных ему романов.
Показательной для штюрмерства является проза Фридриха Генриха Якоби (Friedrich Heinrich Jacobi, 1743–1819), друга Виланда и Гёте, оппонента Лессинга по некоторым философским вопросам. Усадьба Якоби под Дюссельдорфом стала одним из важнейших центров, где собирались «бурные гении». Якоби был сторонником философии «чувства и веры» и утверждал, что только мистическое откровение, достигаемое через чувство и веру, способно дать непосредственное знание о мире. Перу Якоби принадлежат философские романы «Письма Эдуарда Альвилля» (1776) и «Вольдемар» (1779). В них он создал образ своего современника, молодого штюрмера, чуждающегося всяких стереотипов и мещанских «правил», подчиняющегося велениям сердца. Предполагают, что прототипом героя первого романа послужил молодой Гёте.
К философии «чувства и веры» и одновременно к штюрмерству (идиллическому его варианту) имеют отношение автобиографические произведения Иоганна Генриха Юнг-Штиллинга (Johann Heinrich Jung-Stilling, 1740–1817) – Юнга, прозванного Штиллингом, друга Гёте, познакомившегося с ним во время учебы в Страсбургском университете. Именно Гёте посоветовал Юнг-Штиллингу написать автобиографическую повесть «Юность Генриха Штиллинга» (1777). Реальная биография Юнг-Штиллинга не нуждалась в особом домысливании, чтобы стать историей типичного штюрмерского героя – человека из низов, пробивающего себе дорогу в жизни силой своего таланта и молодого энтузиазма. Юнг-Штиллинг родился в крестьянской семье, добывал поначалу хлеб тяжким трудом угольщика, затем стал подмастерьем портного, после – деревенским учителем. Невероятно трудным был путь этого человека в Страсбургский университет, где он изучал медицину. При этом у него открылся незаурядный литературный талант. Собственную биографию Юнг-Штиллинг преобразовал в настоящий «роман воспитания», представляющий собой трилогию: «Юношеские годы Генриха Штиллинга», «Странствия Генриха Штиллинга» (оба – 1778), «Старость Штиллинга» (опубл. в 1817). Каждая часть трилогии – определенная «образовательная» ступень в становлении и развитии личности героя. Манера Юнг-Штиллинга отличается безыскусностью и простотой, вниманием к национальной самобытности, к описанию патриархальных нравов. Писатель тяготеет к идиллическому варианту сентиментализма. Далее Юнг-Штиллинг приобрел большую известность как пиетист-мистик, автор комментариев к Священному Писанию, особенно к Апокалипсису (Откровению) Иоанна Богослова.
Еще одной автобиографией, отразившей процесс становления личности, путь формирования «бурного гения», резко критически настроенного против существующих порядков, стало произведение Кристиана Фридриха Даниэля Шубарта (Christian Friedrich Daniel Schubart, 1739–1791) «История жизни и убеждений Шубарта, составленная им самим в тюрьме», написанная во время заключения в крепости Гоенасперг (1777–1787) и опубликованная лишь в 1791–1793 гг.[197] Перед нами история духовных поисков многосторонне одаренного выходца из третьего сословия – поэта, прозаика, журналиста, музыканта-исполнителя, остроумного собеседника, которого поначалу охотно принимают в аристократических салонах, но вскоре начинают преследовать за смелость мысли, острые и независимые суждения, обвиняют в безбожии и безнравственности. Бесконечные скитания, неутомимая борьба, приведшая сначала к изгнанию, а затем к тюрьме, не сломившей дух Шубарта, стали главным содержанием его «Истории». Большой общественный резонанс имела публицистика Шубарта, давшая материал для издававшейся им политической газеты «Немецкая хроника» («Deutsche Chronik», 1774–1778), редактором и единственным автором которой был он сам.
Еще до ареста Шубарт написал повесть «Из истории человеческого сердца» (1775), в которой ощутимо влияние «Истории Тома Джонса, найденыша» Г. Филдинга. Шубарт непосредственно ссылается на роман Филдинга, поясняя в финале произведения свой замысел: «Эта повесть… показывает, что бывают немецкие Блайфилы и немецкие Джонсы». Как и в романе Филдинга, в повести Шубарта разыгрывается духовный и моральный поединок двух абсолютно несхожих братьев – внешне легкомысленного, но внутренне благородного Карла и коварного Вильгельма, корыстного интригана, скрывающегося за фальшивой личиной благочестия. Шубарт призывает стереть «фальшивую краску с лица притворщика», «изучить все изгибы души», отстоять «права открытого сердца». Писатель предоставляет право любому «гению» взять за основу его произведение и превратить его в пьесу или роман, «если только он из робости не перенесет место действия в Испанию или Грецию, вместо родной немецкой почвы». Таким гением оказался молодой Фридрих Шиллер, для которого повесть Шубарта послужила одним из источников его первой драмы – «Разбойники». Юный драматург, также родом из Швабии, оказался не из робких: действие его пьесы происходит на «родной немецкой почве».
В наследии самого Иоганна Кристофа Фридриха Шиллера (Johann Christoph Friedrich Schiller, 1759–1805), великого драматурга и поэта[198], проза также занимала немаловажное место начиная с раннего, штюрмерского, периода его творчества, выпавшего уже на конец движения «Бури и натиска». Шиллер выступил в жанре новеллы, находившемся до того на периферии немецкой прозы. При этом писатель настаивает, что именно новелла, в основе которой должен лежать случай из жизни, но совершенно необычайный, способна взволновать читателя больше, чем драмы и романы, где предстает более искусственный мир. Таким образом, Шиллер как бы возвращает новеллу к ее истокам – новелле итальянского Ренессанса, которая всегда несла в себе «новость», «сенсацию», часто оказывалась анекдотом. Показательно, что и свою первую новеллу – «Великодушный поступок из новейшей истории» («Eine grossmütige Handlung aus der neuesten Geschichte», 1782) – Шиллер называет «современным анекдотом». Однако этот «анекдот» насыщен глубоким психологизмом и поднимает сложные нравственные проблемы. В самом начале писатель заявляет, что «драмы и романы раскрывают перед нами прекраснейшие черты человеческого сердца; наша фантазия воспламеняется, но сердце остается холодным». О своей же новелле Шиллер говорит: «Я надеюсь, что она взволнует моих читателей больше, чем все тома Грандисона и Памелы». Ироническое упоминание героев Ричардсона указывает не только на «ричардсоновскую лихорадку», характерную для Германии того времени, но и на то, что, согласно замыслу Шиллера, в его новелле читатель встретится с глубочайшими чувствами, сильными страстями, трагическими перипетиями, но в ней не будет тривиальной чувствительности, не будет ни грана ханжества.
Сюжет новеллы является своеобразной антитезой к «Разбойникам»: там два брата оказывались врагами, здесь они соревнуются в благородной самоотверженности и готовности к самопожертвованию (в этом можно усмотреть усвоение Шиллером уроков Геллерта, но одновременно и полемику с его излишним бытовизмом и некоторой, как и у Ричардсона, ходульностью его характеров). Два брата – бароны фон Вомб – любят одну и ту же девушку, и каждый из них готов отказаться от своего счастья во имя счастья другого. Шиллер прославляет сильное, всепоглощающее чувство, благородный альтруизм. Однако неожиданный трагический финал новеллы заставляет увидеть всю историю в новом свете. Героиня, прожив год в браке со старшим братом, вдруг умирает. Шиллер никак не мотивирует эту смерть, заставляя читателя, по словам Вольтера, «догадываться и предполагать». По-видимому, героиня также пожертвовала своими чувствами: любя младшего брата, она вышла замуж за старшего, ибо соревнование братьев в благородстве и решение младшего подтолкнули ее к этому. Таким образом, благородный альтруизм оборачивается эгоизмом и пренебрежением братьев к чувствам молодой девушки, которой они так и не дали свободы выбора.
Нравственная проблематика соединяется с социальной в новелле Шиллера «Преступник из-за потерянной чести» («Der Verbrecher aus verlorener Ehre», 1785). В ней автор ставит вопрос о том, что в большей степени определяет характер и судьбу человека – воздействие на него моральных принципов или общественной среды? По мысли Шиллера, на человека воздействует и то и другое, при этом внешнее воздействует на внутренне неизменную прекрасную душу человека. Поэтому, ища причину, определяющую судьбу человека, «друг истины… станет искать ее и в неизменной структуре человеческой души, и в изменчивых обстоятельствах, действующих на нее извне, – и в сочетании этих явлений, несомненно, ее найдет». Автор иллюстрирует этот тезис историей Кристиана Вольфа, сына трактирщика, потенциально хорошего человека, закончившего жизнь на эшафоте. Сама жизнь вынудила героя заниматься браконьерством во владениях князя. В результате Вольф был осужден по ничтожной причине, и никто из судей не попытался понять его или просто увидеть в нем человека: «Судьи взглянули в книгу законов, но ни один не взглянул в душу обвиняемого». Обида и чувство мести толкнули героя на убийство, после которого он уже не может вернуться к нормальной жизни. И происходит это не потому, что он закоренелый преступник, а потому, что таковым видит его общество. Именно последнее обличает Шиллер устами одного из героев, хотя и не снимает с Вольфа ответственности за его трагические ошибки: «За то, что ты подстрелил несколько кабанов, которым князь дает жиреть на наших полях и лугах, они затаскали тебя по тюрьмам и крепостям, отняли дом и трактир, сделали тебя нищим. Неужели дошло уже до того, брат, что человек стоит не больше зайца?»
Социально-политический характер имеет новелла «Игра судьбы» («Spiel des Schicksals», 1789), повествующая о перипетиях судьбы Алоизия фон Г***. Герой был любимцем князя, достиг вершины славы и власти, но неожиданно был арестован и брошен в тюрьму без всякого суда и следствия из-за происков ловкого интригана, занявшего его место. «Игра судьбы» оказывается мелкой игрой гнусных карьеристов-фаворитов. Эта тема не раз варьируется и в ранней драматургии Шиллера – в «Разбойниках» и «Коварстве и любви».
Переходным характером от штюрмерского периода к этапу «веймарского классицизма» отличается незавершенный роман Шиллера «Духовидец» («Geisterseher», 1789), по своей тематике примыкающий к трагедии «Дон Карлос». В основе романа – авантюрный сюжет об интригах иезуитов, пытающихся обратить в католичество одного из немецких принцев.
Основные тенденции развития художественной, исторической и философской прозы 1780-90-х годов
Картина развития немецкой прозы последних десятилетий XVIII в. достаточно пестра, причудлива и сложна. В 80-е гг. продолжается развитие штюрмерских тенденций и в то же время очевиден отход от них, переход к иным позициям (в особенности в зрелом творчестве Гёте и Шиллера). Параллельно развивается сентиментализм в несколько ином, более традиционном варианте, представленном семейно-психологическим и семейно-бытовым романом в духе Ричардсона. Одновременно возникает оппозиция сентиментализму и сатирическая литература, пародирующая излишнюю немецкую чувствительность и мечтательность. В этот период сложно переплетаются и взаимодействуют дискурсы просветительского классицизма, сентиментализма, рококо, «веймарского классицизма», преромантизма и собственно романтизма, доминирует «смешанная поэтика» (особенно в романах Виланда, «Вильгельме Мейстере» Гёте, «Гиперионе» Гёльдерлина).
Уже в 70-е гг. штюрмерство нашло себе оппонентов и критиков в лице Виланда и Лихтенберга. Всеобъемлющая сатира Лихтенберга – одно из ярких явлений немецкой культуры последней трети XVIII в. Георг Кристоф Лихтенберг (Georg Christoph Lichtenberg, 1742–1799), сын провинциального пастора, был не только крупным писателем-сатириком, но и известным ученым. Он получил образование в Гёттингенском университете, занимался математикой, физикой, астрономией. С 1769 г. он является профессором математики в Гёттингене. Как прославленный физик Лихтенберг в 1794 г. избирается почетным членом Петербургской Академии наук. Большую роль в формировании взглядов Лихтенберга сыграли два путешествия в Англию – в 1770и 1775 гг. Результатом их стали два выпуска «Писем из Англии» (1776, 1778), в которых наиболее примечательны описания шекспировских постановок. В Гёттингене Лихтенберг вместе с Георгом Форстером издает «Гёттингенский журнал науки и литературы» (1780–1785). Главную часть наследия Лихтенберга составляют афоризмы, изданные лишь посмертно. Всю жизнь он делал остроумные заметки, облекая свои мысли и наблюдения над жизнью в блистательную и остроумную афористичную форму. Кроме того, он писал в жанре псевдонаучного трактата, заставляющего вспомнить памфлеты Дж. Свифта и К.Л. Лискова.
Одно из первых сатирических выступлений Лихтенберга связано с деятельностью швейцарского пастора и литератора Иоганна Каспара Лафатера (1741–1801), бросившего вызов известному философу-моралисту, другу Лессинга Мозесу Мендельсону, иудею по вероисповеданию. Лафатер с нетерпимостью, не свойственной истинным просветителям, но объясняемой культивируемым веками антисемитизмом, предъявил Мендельсону требование: доказать превосходство иудаизма над христианством или обратиться в христианство. В защиту Мендельсона выступили Лессинг и другие просветители, а возмущенный Лихтенберг написал сатиру «Тимор, или Защита двух евреев, которых сила лафатеровских доводов и гёттингенских колбас побудила принять истинную веру» (1773). Пользуясь методом мнимой защиты оспариваемых и осмеиваемых положений, автор язвительно и остроумно обличает религиозную нетерпимость и ксенофобию. Под давлением общественного мнения Лафатер был вынужден публично извиниться перед Мендельсоном.
Лихтенберг выступил также против известной «физиогномической» концепции Лафатера, изложенной им в «Физиогномических фрагментах для поощрения человекопознания и человеколюбия» (1775–1778). В этом сочинении Лафатер обосновывал связь между внешним обликом человека и его психическим складом, его характером. Каждый человек неповторим, индивидуален, и это отражается в своеобразии его внешности. Поиски соответствий между внешним, телесным, и внутренним, душевным, попытка «прочитать» по внешности духовный склад человека (это и стало называться физиогномикой) увлекли многих штюрмеров, в том числе и Гёте, которого Лафатер привлек к созданию своего сочинения. Штюрмерам импонировали экспрессивная манера Лафатера, культ «оригинальной личности». Однако в целом его концепция была антинаучной, более того – рискованной, ибо оценка интеллектуальных и духовно-моральных качеств человека только по его внешности может быть не только ошибочной, чрезвычайно упрощенной, но и опасной. Одним из первых это разглядел Лафатер, написавший трактат «О физиогномике против физиогномистов» (1778), где он остроумно издевается над «прозрениями» «физиогномического мессии». Эта тема была продолжена во «Фрагменте о хвостах» (1783), который представляет написанное в строго научном стиле «исследование» о хвостах. Автор сопоставляет хвосты свиньи, поросенка и дога, устанавливая «соответствия» между хвостами и характерами. Он приходит к выводу, что свинье присуща «прирожденная гениальность», именуемая также «свинячеством», поросенку – «молочная изнеженность», а догу – «граничащая с человеческим идиотизмом собачность». Недоброжелатели Лихтенберга пытались объяснить его выступления против Лафатера тем, что Лихтенберг был горбат. На самом деле это был низкий, недостойный аргумент, ибо сатирик протестовал не только против примитивного психологизма, но предвидел и более грозные явления: он прозревает, что циркуль и линейка, которыми измеряют внешние параметры человека, вполне могут быть перенесены с отдельных людей на целые нации. В сущности, Лихтенберг предвидит человеконенавистнические антропометрические (те же физиогномические) «теории» нацистов, измерявших и определявших «правильные» и «неправильные» черепа, носы, уши и т. д.
Одной из главных своих задач Лихтенберг считал также обличение такой болезни немцев, как «воспарение в облака», как ложная сентиментальность и лжечувствительность, оборачивающиеся обывательскими стереотипами. Он боится за участь разума, который может раствориться в прожектерстве и фантазерстве («Бойся трансцендентного чревовещания фантазеров», – говорит он в одном из афоризмов), поэтому обрушивается на сентименталистов всех толков, включая и штюрмеров. При этом Лихтенберг уточняет: «Я не смеюсь над выражением чувства, Всевышний да убережет меня от этого, я смеюсь над болтовней о чувстве». Обличая беспочвенную мечтательность и «воспарение в облака», Лихтенберг пишет сохранившуюся в отрывках сатиру «Параклетор, или Утешение тем несчастным, кто не является самобытными гениями» (1776). Само ее название свидетельствует о том, что автор иронизирует над штюрмерами, над их культом «самобытного гения». Излишняя мечтательность и сентиментальные штампы становятся предметом осмеяния в сатире «Милостивое послание Земли Луне» (1780). В нем нарочито сухим научным и канцелярским языком Земля обвиняет Луну в пагубном влиянии, которое она оказывает на немецкую поэзию: так, поэты «Союза Рощи» совсем обожествили Луну, стали лунопоклонниками, лунатиками и создали «стиль лунатиков».
С 1785 г. в «Гёттингенском карманном календаре» публикуется одно из важнейших сатирических произведений Лихтенберга – «Подробные объяснения к гравюрам по меди Хогарта» (отдельной книгой опубликованы в 1794–1799 гг.), в которых, по словам немецкого литературоведа П. Вебера, «Лихтенберг показал себя конгениальным, но именно немецким истолкователем Хогарта»[199]. Еще в конце 70-х гг. Лихтенберг сопровождал своими комментариями гравюры немецкого художника Д. Ходовецкого, в палитре которого соединились черты сентиментализма и рококо (Ходовецкий иллюстрировал многие произведения немецких просветителей, в том числе пьесы Лессинга и Шиллера, гётевского «Вертера»). Теперь же Лихтенберг обратился к творчеству великого английского живописца У. Хогарта, крупнейшего представителя рококо, в сериях гравюр которого («Жизнь распутницы», «Жизнь распутника», «Жизнь кутилы» и др.) в трагифарсовом освещении предстает современная ему действительность, жизнь большого города. Согласно наблюдению М.Л. Тройской, «серия гравюр Хогарта, представляющих собой своеобразный “роман нравов” английского общества, который исследователи справедливо сравнивают с романами Филдинга и Смолетта, становится как бы исходным пунктом для новой сатиры Лихтенберга. Он хотел бы “писать так, как писал бы Хогарт, если бы работал не резцом, а пером”, но он не повторяет и не истолковывает Хогарта, а творчески воссоздавая его рисунки, расширяет и обогащает его замысел» [200]. Отталкиваясь от хогартовских сцен, исполненных динамики, предстающих как «немые спектакли», Лихтенберг домысливает свои предыстории этих «спектаклей», их дальнейшее развитие, вводит неожиданные повороты сюжета. Создавая словесные портреты хогартовских героев, немецкий писатель дает глубокую психологическую разработку образа, тонкую мотивировку поведения и судьбы человека.
Лихтенберг претерпел довольно сложную эволюцию как писатель и мыслитель, двигаясь от рационализма Лейбница к сенсуализму Локка, затем к кантианству и панентеизму Спинозы. Это отразилось в его «черновых тетрадях» – восьми клеенчатых тетрадях, в которых он начиная со студенческих лет записывал в афористической, часто парадоксальной форме свои наблюдения, впечатления, мысли. В позднем афористическом творчестве Лихтенберга парадоксально соединяются пиетет перед разумом и мистицизм, скепсис и фатализм. Современные исследователи видят в нем одного из предтеч романтизма и экзистенциализма.
Одним из крупнейших явлений немецкой прозы 80-90-х гг. является романное творчество одного из самых «бурных гениев» – Фридриха Максимилиана Клингера (Friedrich Maximilian Klinger, 1752–1831)[201]. Романы Клингера начали создаваться тогда, когда их автор постепенно отходил от идей движения «Бури и натиска», получившего название по его же драме. Первый роман, большой по объему и представляющий собой сказку, – «Новый Орфей» («Der neue Orpheus») написан в 1778–1780 гг. Он связан со стилистикой рококо, насыщен эротической фантастикой, используемой в сатирических целях, и обнаруживает близость с ироикомическими поэмами (романами в стихах) Виланда[202] и романами Кребийона-сына. В 1780 г. Клингер создает еще два сатирических романа – «Принц Формозо» («Prinz Formoso») и «Плимплямпляско» («Plimplamplasko»; последний написан в соавторстве с Лафатером и Саразино). Однако наиболее весомый вклад в развитие немецкого романа из сделанного Клингером представляет цикл из девяти социально-философских романов, создававшийся во время службы Клингера в России. В него входят следующие романы: «Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад» («Faust’s Leben, Thaten und Höllenfahrt», 1790), «История Рафаэля д’Акильяса» («Geschichte Raphaels d’Akiljas», 1793), «История Джафара Бармекида» («Geschichte Giafar des Barmeciden», 1792–1794), «Путешествие перед потопом» («Reise vor der Sündflut», 1796), «Фауст восточных стран» («Der Faust der Morgenländer», 1796), «История немца – нашего современника» («Geschichte eines Teutschen der neusten Zeit», 1796–1797), «Захир, первенец Евы в Раю» («Sahir, Evas Erstgeborener im Paradiese», 1797), «Светский человек и поэт» («Der Weltmann und der Dichter», 1798) и «Слишком раннее пробуждение гения человечества» («Das zu frühe Erwachen des Genius der Menschheit», 1798). Последний роман сохранился только во фрагментах.
Наибольший интерес из этого цикла представляет первый роман, написанный в Петербурге. Образ Фауста, открытый заново для немецкой литературы Лессингом, привлекал внимание многих штюрмеров. Но если все в основном, начиная с Гёте (первая редакция «Фауста»), писали о Фаусте пьесы, то Клингер был первым, кто создал роман о знаменитом герое, непосредственно продолжив традиции народной книги о Фаусте, несущей в себе черты плутовского и назидательного романов. Безусловно, Клингер, как и другие штюрмеры, близкие Гёте, был знаком с текстом «Прафауста» (его читал сам Гёте в кругу друзей в Веймаре, где некоторое время находился и Клингер). Однако полностью гётевской интерпретации Клингер не мог знать, ибо первая часть окончательной редакции «Фауста» вышла только в начале XIX в.
В своем романе Клингер опирается, помимо народной книги, на версию, изложенную в одном из ученых трактатов конца XVII в. и пытающуюся объяснить, почему в различных источниках Фауст носит имя то Георг, то Иоганнес. Согласно этой версии, чернокнижник, алхимик и астролог Георг Фауст был одновременно первопечатником Иоганнесом Фаустом из Майнца (последний был компаньоном, а затем кредитором Иоганна Гутенберга и жил практически на столетие раньше Фауста народной легенды, ок. 1400–1466 гг.). Подобное отождествление дает Клингеру возможность с особой силой акцентировать в своем Фаусте огромную жажду познания, соединенную с жаждой просвещения людей и борьбы за справедливость. Действие романа разворачивается в XV–XVI вв., но через призму эпохи Позднего Средневековья и Реформации писатель критикует свою эпоху и современные нравы, а также пороки, присущие человеческому обществу вообще.
Фауст выступает как искатель истины и просветитель, а также как страстный борец против социальной несправеливости. Его выдающееся изобретение, которое могло бы стать источником распространения знаний и добра, мир встречает полным непониманием и равнодушием. Как и гётевский Фауст, герой Клингера ощущает бессилие разума в постижении законов Вселенной. Фауст жаждал свободы, радости, счастья, но вместо этого талантливый изобретатель влачит нищенское существование вместе со своей семьей. В отчаянии он призывает дьявола и заключает договор с ним: герой получает в обмен на душу чудодейственную силу и возможность исполнять различные желания.
Во второй и третьей книгах романа повествуется о путешествии Фауста и Сатаны по Германии, в четвертой – за пределами родины. Фауст попадает во Францию, наблюдает деспотизм и произвол королевского двора. Он оказывается также в Ватикане, где в полной мере видит лицемерие, продажность, алчность тех, кому предназначено быть духовными пастырями. Сатана говорит папе Александру VI из рода Борджиа: «Ради золота твои земляки будут убивать миллионы людей». Папа охотно соглашается: «Чего не сделаешь ради золота!» В пятой книге рассказывается о возвращении Фауста и Сатаны в Германию и подводятся неутешительные итоги романа. Перед читателем раскрывается чудовищная картина социального и морального зла, царящего на земле. Фауст пытается использовать свою чудодейственную силу для восстановления справедливости. По его приказу Сатана мстит обидчикам оскорбленных и униженных, жестоким князьям, развратным епископам, спасает несправедливо осужденных. Однако мир все равно остается прежним, более того – добрые дела, творимые Фаустом, оборачиваются новым злом. Видя замкнутый круг зла, Фауст с болью обращает упреки к самому Богу – роковые вопросы теодицеи: почему в мире страдают невинные, почему Бог допускает существование страшного зла? В финале Фауст оказывается в аду, но даже там, подвергаясь ужасным мукам, остается самим собой.
В жанровом отношении роман Клингера о Фаусте, являясь романом социально-философским, соединяет в себе черты авантюрного и воспитательного, сатирического и морально-дидактического романов. В плане стилистики штюрмерские (сентименталистские) черты переплетаются с тенденциями рококо и просветительского классицизма.
Два последующих романа Клингера – «История Рафаэля д’Акильяса» и «История Джафара Бармекида» – представляют, по словам самого автора, «параллели» к «Фаусту». В них главные герои также предстают как искатели истины, подвергаются множеству испытаний, пытаются преодолеть зло. Действие первого романа происходит в эпоху изгнания мавров из Испании. Дворянин Родерико д’Акильяс был ослеплен по приговору суда инквизиции за то, что отказался уступить свою жену притязаниям короля Филиппа II. Рафаэль воспитывается среди мавров и с детства впитывает в себя неприятие насилия, находится в оппозиции королевской и церковной властям. При этом он необычайно добрый человек и пытается добротой своего сердца воздействовать на виновников социальной несправедливости. Точно так же Джафар Бармекид, мудрый визирь столь же мудрого калифа Гаруна ар-Рашида, считая зло лишь следствием заблуждения, стремится своей мудростью восстанавливать справедливость и утверждать добро. Однако у него, как и у Рафаэля, не получается исправить мир таким путем.
Сатирическая картина мира, его моральной деградации предстает в романе «Путешествие перед потопом». Обратившись к библейскому материалу, Клингер вводит новых персонажей и проецирует указание Книги Бытия на предельную развращенность мира перед потопом на современность. Главный герой романа – пастух Махаль, муж одной из дочерей Ноя (подобного героя нет в библейском сказании о потопе). После простой и естественной жизни в горах Махаль попадает в так называемый цивилизованный мир, ему приходится побывать в различных странах, и везде царят пороки. По замыслу писателя, каждая из стран воплощает один из пороков современного общества. Так, в стране Ирад (в Библии – внук Каина, герой-эпоним) все превратились в идолопоклонников, поклоняющихся золоту как высшему божеству. Никто не хочет дать приют голодному и усталому Махалю, ибо у него нет золота. Мальчишки преследуют его криками: «У него нет золота! Он ничего не стоит!»
Завершением серии социально-философских романов Клингера стали «Наблюдения и размышления над различными явлениями жизни и литературы» (3 тома, 1801–1805). В этой книге в форме лаконичных изречений, фрагментов, остроумных диалогов писатель резюмирует свои наблюдения над жизнью, в том числе и России. Через все произведение проходит мысль о ценности свободы, о недопустимости рабства во всех его видах. Клингер напоминает, что рабство в открытой форме существует в Америке, и осуждает крепостничество в России. В то же время он выражает надежду, что русский народ, «этот смелый народ, замечательный столькими достижениями», будет жить в «условиях, достойных человека».
В 80-90-е гг. в Германии достигает своего пика массовое увлечение семейно-психологическим романом в духе Ричардсона – так называемой ричардсонадой, начало которой положил еще Геллерт. Кроме того, появляются многочисленные подражания Стерну, особенно его «Сентиментальному путешествию», переведенному в 1769 г. на немецкий язык И.И. Боде. Однако в этих эпигонских произведениях отсутствует главное – сила стерновского смеха, стерновских иронии и сарказма. Подобная тенденция проявилась уже в романах Иоганна Георга Якоби (1740–1814), старшего брата Ф.Г. Якоби, «Зимнее путешествие» (1769) и «Летнее путешествие» (1770). Один из предшественников «Бури и натиска», Г.В. Герстенберг, в «Письмах о литературных достопримечательностях» (1770) советует читателям не портить себе впечатления от Стерна «бабьим причитанием» Якоби. Чувствительное пустословие Якоби осуждают Гер дер и Лихтенберг.
На фоне популярности Ричардсона, особенно его «Грандисона», появляются пародийные сатирические романы, осмеивающие «грандисоновскую лихорадку» и немецкую действительность. Еще в 1760 г. Иоганн Карл Музеус (1735–1787), прославившийся позднее фундаментальным пятитомным изданием «Немецких народных сказок» (1782–1786), написал роман «Грандисон второй». В нем он следовал традиции романа Филдинга «История Джозефа Эндрюса и Абрахама Адамса», полемизировавшего с Ричардсоном и пародировавшего основные ситуации его «Памелы». Полемика с эпигонами Ричардсона оказалась и в 80-е гг. столь актуальной, что Музеус переделывает и дополняет свою пародию, насыщает ее сочными бытовыми деталями, и появляется «Немецкий Грандисон, тоже семейная история» (1781–1782). В центре романа – немецкий юнкер, возомнивший себя Грандисоном.
В 80-90-е гг. сохраняет свою популярность «Зигварт» Миллера, что вызывает к жизни новые пародийно-сатирические романы. Так, К.Ф. Тимме (1752–1788) написал роман «Чувствительный мавр Панкраций Циприан Курт, прозванный также Зельмаром. Модный роман» (1781). Намекая на «Зигварта», Тимме дает следующий рецепт изготовления чувствительного романа: «Возьми чувствительного юношу и милую девицу, прибавь маленькое препятствие, брось их в поток слез, горестей, томлений, угрызений совести… хорошенько все это смешай, разбавь предчувствиями, похищениями, убийствами, башнями и могилами. Затем посахари песнями, набожностью, незабудками… будет очень приятно на вкус»[203].
Тем не менее влияние чувствительного романа так велико, что его испытают в начале своего пути и многие романтики, как, например, последний немецкий сентименталист и писатель-романтик Иоганн Пауль Рихтер, или Жан-Поль, в первом романе «Абеляр и Элоиза» (1781), как Людвиг Тик в романе «Вильям Ловель» (1795–1796), где ощутимо воздействие С. Ричардсона, Н. Ретифа де ла Бретона, а также готического романа.
В 80-90-е гг. сентименталистский роман в духе Ричардсона и Руссо соединяется с готическим романом, или «романом ужасов», в духе преромантизма. Опираясь на опыт английских и французских авторов готических романов, немецкие романисты вводят в чувствительный роман весь необходимый реквизит «романа ужасов»: роковые тайны, убийства, подземелья, загадочные пещеры и развалины, населенные духами и привидениями, и т. и. Иногда это сочетается с социальными мотивами – в «рыцарских» и «разбойничьих» романах, как, например у К.А. Вульпиуса (1762–1827), К. Шписа (1755–1799), К.Г. Крамера (1758–1817). Особенно показателен роман Вульпиуса «Ринальдо Ринальдини» (1798), где главный герой, имя которого вынесено в заглавие, является благородным разбойником, мстителем за народные страдания, воздающим по заслугам князьям и церковникам. М.Л. Тройская отмечает: «Готический роман как один из способов мистифицирования действительности является первым, примитивным этапом формирования темы, развивающейся позже в романтической “драме рока”»[204].
Период 80-90-х гг. отмечен особенно сложными эстетическими и литературными исканиями. Именно в это время наряду с развитием тенденций сентиментализма вызревает преромантизм и происходит постепенное становление романтизма. Именно в это время окончательно складывается эстетика Иммануила Канта (Immanuel Kant, 1724–1804) и появляется его важнейшее сочинение по эстетике – «Критика способности суждения» («Kritik der Urteilskraft», 1790), в котором Гегель впоследствии увидит «исходную точку для постижения прекрасного в искусстве». Взгляды Канта оказывают особенно сильное воздействие на Шиллера, а также на теоретиков романтизма – И. Фихте и братьев А.В. и Ф. Шлегелей, впоследствии, однако, отошедших от позиции Канта в сторону субъективизма. В это же время окончательно оформляется эстетика «веймарского классицизма» – в теоретических работах, публицистике и художественных произведениях Гёте и Шиллера. В целом это время создания глобальных концепций, касающихся всеобщей истории человечества, развития его духа.
Так, в 1780 г. выходит в свет итоговая работа Готхольда Эфраима Лессинга «Воспитание рода человеческого, или Сто тезисов о нравственном прогрессе человечества» («Die Erziehung des Menschengeschlechts»). В ней великий писатель и мыслитель размышляет о трудном пути движения человечества к совершенству, к царству разума. По его мнению, человечество как целое живет жизнью, напоминающей становление и духовные искания одного человека, который приходит в мир с потенциальной возможностью быть добрым, но должен пройти определенные стадии воспитания, стать разумной, нравственной и ответственной личностью. И как у каждого человека в жизни есть воспитатель, так есть он у всего человечества: это – благое Провидение (Промысел Божий). Человечество, как и отдельный человек, проходит через свои детство, юность, зрелый возраст, и этим фазам развития соответствуют открываемые человечеству Провидением различные формы религии – язычество, а затем теизм, или монотеизм (иудаизм, христианство, ислам). Все монотеистические религии несут великую истину Откровения, ибо истоки их едины, но и они должны слиться в единую «религию разума», когда человечество взойдет на ступень мудрости[205]. Лессинг свято верит в нравственный прогресс человечества, в то, что зло в конечном итоге – лишь то, что помогает человеку вырабатывать высокие духовные качества, сражаясь с ним и отстаивая добро. В своей работе Лессинг опирается на Спинозу и Лейбница, в том числе и на «Теодицею» последнего. Мир в высшей степени целесообразен, и Вечное Провидение в конечном итоге приведет человечество к чаемой цели – вселенскому торжеству Божественного добра. Но Лессинг понимает, что этот путь не может быть прямым и кратким, и порой у него невольно прорывается тоска от сознания слишком большой неприметности действия Провидения – такой неприметности, что можно и усомниться в нем: «Шествуй же твоими неприметными шагами, Вечное Провидение! Только не дай мне усомниться в тебе из-за твоей неприметности. Не дай мне усомниться в тебе, если мне почудится, будто шаги твои поворачивают вспять! Неправда, что прямая линия всегда самая краткая!» (§ 91)[206]. Как справедливо заметил В.Р. Гриб, «последние философские труды Лессинга образуют переход к новому этапу в истории немецкой мысли. Его идеи о воспитании человечества и человеческой личности прокладывают путь позднейшему идеалистическому гуманизму Гердера и веймарских классиков»[207].
В 80-90-е гг. появляются важнейшие религиозно-философские и исторические работы Иоганна Готфрида Гердера, в которых он продолжает свою работу по созданию целостной концепции человеческой истории и культуры, особой философии истории. Гердер включается в развернувшийся в Германии в 80-е гг. «спор о Спинозе», имевший важные последствия для развития немецкой культуры и формирования немецкой классической философии. Гердер посвящает Спинозе и его философии работу «Бог» («Gott», 1787), в которой, развивая идеи Спинозы и оспаривая иррационализм Ф.Г. Якоби, утверждает возможность познания Бога через созданный Им мир. Бог пребывает в мире, и поэтому разумное исследование природы не противоречит познанию Бога, но ведет к нему. Богопознание и познание природы неотделимы друг от друга. Учение Гердера, подобно учению Спинозы, может быть определено как панентеизм («все в Боге и Бог во всем») и несводимо к пантеизму материалистического или языческого толка. Идеи Гердера, высказанные в работе «Бог», во многом также близки взглядам Гёте.
Свою концепцию истории Гердер изложил в знаменитой работе «Идеи о философии истории человечества», или «Идеи к философии истории человечества» («Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit», 1784–1791). Гердеровская концепция основана на представлении о целесообразности человеческой истории (основа этой целесообразности – Бог, действие Промысла Божьего), о ее целостности, создающейся из постоянного и разнонаправленного движения. «Ничто в истории не находится без движения… Все развивается и движется вперед», – заявляет Гердер[208]. Однако это движение не всегда однозначно поступательное. Как и древние библейские авторы, Гердер видит в историческом процессе два типа движения – нисходящее и восходящее. Более того, он утверждает, что отдельные явления, кажущиеся для своего времени прогрессивными, могут сыграть отрицательную роль в мировом прогрессе в целом. И все-таки он верит, как и библейские авторы, как и Лессинг, в общее восходящее движение человечества. Этот процесс определяет не только Провидение, но и сложный комплекс факторов: географическая среда, социальная и научная деятельность человека, развитие языка и искусства. «Гуманность – цель человечества», – формулирует Гердер.
В его работе сохраняются идеи руссоизма, столь повлиявшие на него в юности. Он страстно негодует против проявлений насилия в истории формирования цивилизации, особенно больших государств. В основе образования государства всегда лежит «насилие вместо права». В полном согласии с Руссо Гердер пишет: «В больших государствах должны сотни голодать ради того, чтобы один кутил и утопал в роскоши; десятки тысяч должны быть подавлены и загнаны насмерть ради того, чтобы один коронованный дурак или мудрец мог выполнить свои фантазии»[209]. Однако в отличие от Руссо для Гердера не существует болезненного разрыва между природой и цивилизацией, ему не свойственна мысль о враждебности цивилизации природе. Он верит в то, что человеческий разум преодолевает и будет преодолевать негативные проявления цивилизации и двигать человечество вперед, к торжеству гуманности. В этом движении нет неважных или малозначительных ступеней или этапов, но каждый занимает свое место, каждый необходим, в том числе и Средневековье. Точно так же нет значительных и незначительных, «великих» и «малых» народов, но каждый вносит неповторимую, своеобразную лепту в историю общечеловеческой культуры. «Каждый народ несет в себе меру своего совершенства, не сравнимую с другими».
Эти мысли Гердера получили развитие в «Письмах для поощрения гуманности» («Briefe zur Beförderung der Humanität», 1793–1797), само появление которых было вызвано событиями во Франции, установлением якобинской диктатуры. Вновь напоминая, что цель человечества – гуманность, Гердер именно в гуманности и гуманном искусстве видит главные инструменты преобразования действительности. В этом смысле идеи Гердера совпадают с идеями веймарских классиков. Кроме того, как и они, Гердер указывает на необходимость нового открытия античности, которое должно выразиться не в заимствовании сюжетов и внешних форм, но в возрождении античных идеалов гуманности. Однако в «Письмах для поощрения гуманности» Гердер вступает в спор о сущности прекрасного с Кантом «критического» периода и находящимся под влиянием Канта Шиллером. Гердер диалектически решает вопрос о соотношении содержания и формы в искусстве: «Форма – многое в искусстве, но не все. Прекраснейшие формы древности оживляют дух, великая мысль, которая самое форму делает формой, раскрывает ее в своем содержании. Уничтожьте эту душу, и форма пуста… Если бы я должен был выбирать мысль без формы или форму без мысли, то выбрал бы первое»[210]. По мысли Гердера, у каждого народа на каждом конкретно-историческом этапе его развития вырабатываются свои формы, соответствующие идеалам этой эпохи.
Гердер убежден, что литература, как и искусство в целом, как и представление о прекрасном, «порождается жизнью, временем, действительностью» (именно по этому пункту с ним будет спорить Шиллер). Полемику со своим учителем Кантом, с его «Критикой способности суждения», Гердер продолжает в «Каллигоне» («Kalligone», 1800). Если Кант определяет вкус как субъективную способность суждения, то Гердер подчеркивает, что вкус – историческая категория, она зависит не только от индивидуальных особенностей субъекта, но и от его образа жизни, социальной принадлежности, воспитания. Восприятие всегда субъективно, но оно не может не зависеть от объекта восприятия. Гердер также критикует положение Канта о «целесообразности без цели» в искусстве. Прекрасное, по Гердеру, всегда целесообразно, но эта целесообразность не может быть сведена к полезности и тем более утилитарности. Искусство прежде всего несет в себе идеал красоты и гармонии, представленный в самой природе – прообразе всякого искусства. В природе нет самодовлеющей красоты, но вместе с тем она прекрасна сама по себе. Понятие прекрасного и возникает, когда соединяются гармония объекта созерцания и восприятие созерцающего. Как в познании соединяются чувственное восприятие предмета и постижение его сущности, так в искусстве необходимо соединение чувственного восприятия художественной формы и проникновения во «внутреннюю форму», или «внутренний образ» («innere Gestalt»). Прекрасное в понимании Гердера есть «сущностная форма вещи» («wesentliche Forme der Sache»), сущность действительности, выражаемая через художественный образ, рождающийся в душе художника. Именно в человеке, подчеркивает Гердер, «мера прекрасного всего человеческого». Обязательным компонентом прекрасного в искусстве для Гердера является «высокое», являющееся идеалом по отношению к настоящему. Собственно, подлинное искусство и ищет это «высокое». Только поэзия, достигшая «высокого», может «поднимать прекрасное до высокого и преобразовывать высокое и прекрасное».
Концепция Гердера оказала значительное влияние на формирование эстетики романтизма, прежде всего на теоретиков иенского романтизма Ф. Шлегеля и А.В. Шлегеля. Как отмечает Н.П. Банникова, «многие положения эстетических работ Гердера, его требование развития национальной литературы, отражающей историю и жизнь Германии, его мысли о новом, индивидуализированном герое, акцентирование внимания на его внутреннем, духовном мире, его чувствах, – все это способствовало рождению и формированию романтизма»[211]. В то же время идеи Гердера, равно как и его полемика с Винкельманом и Лессингом, как и полемика с ним Шиллера, способствовали формированию «веймарского классицизма».
Для вызревания эстетики «веймарского классицизма», как и для развития немецкой исторической прозы, большое значение имели исторические сочинения Фридриха Шиллера, стоящие на стыке научной, философско-публицистической и художественной прозы. Шиллер начинает усиленно заниматься историей после прибытия в Веймар в 1787 г. и знакомства с Виландом и Гердером. В 1788 г. выходит из печати его «История отпадения Соединенных Нидерландов» («Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niderlande»), в 1789 – «История Тридцатилетней войны» («Geschichte des Dreissigjärigen Krieges»). В том же году Шиллер получает кафедру истории в Иенском университете. Здесь в мае 1789 г. он прочитал вступительную лекцию на тему «В чем состоит изучение мировой истории и какова цель этого изучения». Подобно Гердеру, Шиллер представляет мировую историю как поступательное движение человечества к гармонии и совершенству. Однако при этом развитие различных народов подчиняется своим закономерностям, а неодинаковый образ жизни и уровень развития культуры у разных народов подтверждают наличие общих закономерностей и отдельных ступеней развития. История не является цепью случайностей, и задача историка – постичь связь, преемственность и повторяемость событий. Однако Шиллер в меньшей степени, нежели Гердер, считает важными для объяснения той или иной фазы развития общества природные и социальные условия. Непреложные законы, действующие в истории, понимаются им прежде всего как законы человеческого духа, что и может вызвать повторение в новейшие времена событий, произошедших в глубокой древности. Шиллер завершил свою речь словами, исполненными высокого просветительского пафоса и почти дословно перекликающимися с декларацией Дидро и д’Аламбера о задачах «Энциклопедии»: «Мы должны гореть благородным стремлением приобщить и нашу долю к тому богатому наследию истины, нравственности и свободы, которое мы получили от прошлого, и в приумноженном виде передать последующим поколениям и закрепить наше кратковременное существование связью с той вечной цепью, которая соединяет между собой все человеческие поколения»[212].
Движение истории мыслится Шиллером как постепенная эволюция, однако при этом он тяготеет к изучению переломных, катастрофических эпох в истории, когда на авансцену выходят сильные личности, носители тех или иных идей, ведь именно идеи движут историей. Так, в «Истории Тридцатилетней войны» на первый план выходят шведский король Густав Адольф и немецкий полководец Валленштейн. При этом Шиллер создает идеализированный образ Густава Адольфа, бескорыстного защитника протестантизма, – образ скорее художественный, нежели исторический: «С мечом в одной руке и милостью в другой проносится он теперь по всей Германии, из конца в конец, покоритель, завоеватель и судья, проносится в такое короткое время, какое другой употребил бы на обозрение ее во время увеселительной поездки… Нет для него неприступных замков, реки не останавливают его победоносного шествия; часто он побеждает одним звуком своего грозного имени» [213]. Точно так же в «Истории французских смут» («Geschichte der französischen Unruhen», 1791–1793), посвященной религиозным войнам во Франции XVI в., главными действующими лицами являются Гизы, Екатерина Медичи, адмирал Колиньи, о котором Шиллер пишет: «До тех пор, пока протестантами руководил такой человек, все попытки совладать с ними были обречены на неудачу»[214].
Изучение истории и роли в ней великих личностей вызовет к жизни великие исторические драмы Шиллера. Однако это изучение не позволяло ему ответить на вопросы, тревожившие многих просветителей: почему, несмотря на действие Промысла Божьего и разума в истории человечества, она не становится более разумной? Почему в истории так много насилия и можно ли путем насилия и революций изменить мир и человека? На эти вопросы, а также на вопросы о сущности искусства и его соотношении с жизнью Шиллер отвечает в своей важнейшей теоретической работе «Письма об эстетическом воспитании человека» («Über die ästhetische Erziehung des Menschen», 1793–1795). Показательно, что Шиллер начал писать ее в период якобинской диктатуры, оценивая последнюю однозначно отрицательно, как и Французскую революцию в целом. При этом он вовсе не игнорирует политических проблем, но, наоборот, подчеркивает, что именно на политической арене «решается теперь великая судьба человечества»[215]. Шиллер также отмечает, что его обращение к сфере эстетики может показаться неуместным в момент, «когда гораздо больший интерес представляют события мира морального и обстоятельства времени так настойчиво призывают философскую пытливость заняться самым совершенным построением истинной политической свободы»[216]. Однако автор настаивает, что обращение к эстетике вызвано как раз его стремлением понять, как достичь истинной политической свободы: «…для решения на опыте указанной политической проблемы нужно пойти по пути эстетики, ибо путь к свободе ведет через красоту»[217].
Шиллер обосновывает свой основной тезис, который является и наиболее афористичным выражением сущности «веймарского классицизма» («путь к свободе ведет через красоту»), следующим образом. Совершенно ясно, что абсолютистское государство выявило свою абсурдность, нежизнеспособность и не соответствует разуму и естественному состоянию. Большая масса людей поняла, что не может жить по-старому: «…человек пробудился от долгой беспечности и самообмана, и упорное большинство голосов требует восстановления своих неотъемлемых прав. Однако он не только требует их. По сю и по ту сторону он восстает, чтобы насильно взять то, в чем, по его мнению, ему несправедливо отказывают»[218]. Но в том-то и дело, что человек восстает, чтобы взять свое право насильно, а значит беззаконие сменяется новым беззаконием. По мысли Шиллера, появилась «физическая возможность возвести закон на трон», но «недостает моральной возможности, и благоприятный миг встречает невосприимчивое поколение». Эта же мысль уже прозвучала в «Доне Карлосе» и будет повторена в «Валленштейне»: век еще не созрел для свободы, для осуществления гуманистических идеалов. Шиллер убежден, что они вообще не могут быть осуществлены варварскими и кровавыми методами. Методы же изменятся только тогда, когда благородным станет человек. Как же воспитать благородного человека? «Ради этой цели, – пишет Шиллер, – нужно найти орудие, которого у государства нет, и открыть для этого источники, которые сохранили бы, при всей политической испорченности, свою чистоту и прозрачность»[219]. Таким орудием Шиллер считает искусство.
Только искусство, прекрасное и гармоничное, может сформировать прекрасного, благородного человека. При этом Шиллер настаивает, ссылаясь на Канта, что прекрасное не может быть ангажированным, иначе оно перестает быть прекрасным: «…следует вполне согласиться с теми, которые считают прекрасное и расположение духа, проистекающее из прекрасного, совершенно безразличными и бесплодными с точки зрения познания и убеждения. Красота не преследует никакой отдельной интеллектуальной и моральной цели; она не находит ни единой истины, не помогает выполнению какой-либо обязанности, одним словом – в одинаковой мере не способна создать характер и просветить рассудок» [220]. В соответствии с этим заявлением Шиллер утверждает, что в истинно прекрасном произведении все зависит от формы и меньше всего от содержания, ибо «только форма действует на всего человека в целом. Содержание же – лишь на отдельные силы»[221]. Всякая тенденциозность противна настоящему искусству: «… ничто в такой степени не противоречит понятию красоты, как стремление сообщить душе определенную тенденцию»[222].
Однако именно такая, нетенденциозная, красота, именно такое, незаинтересованное, искусство и способны в конечном счете выполнить великую миссию – воспитать прекрасного человека, готового принять трудную свободу, проявить и укрепить в человеке ту «прекрасную душу», которая заложена в нем изначально. В статье «О грации и достоинстве» (1793) Шиллер соотносит эту «прекрасную душу» – идеал гармоничной личности, свободно и сознательно проявляющей себя в мире, – с благородными образами античного искусства и ссылается при этом на Винкельмана, который так тонко воспринимал и описал «эту высокую красоту, где сочетаются грация и достоинство»[223]. Понятие шиллеровской «прекрасной души» кореллирует с гётевским понятием «свободной человечности», и оба они становятся своеобразными «столпами» эстетики «веймарского классицизма».
Итак, высшая цель искусства – воспитание «прекрасной души», а в конечном счете – преображение мира. Опираясь на Канта, Шиллер вместе с тем спорит с отдельными его положениями. В трактате «Каллий, или О красоте» (1793) он пишет о странности утверждения Канта о том, что всякая красота, подчиненная понятию цели, не является чистой красотой. Шиллер полагает, что высшая человеческая красота и есть цель искусства, что несколько противоречит его же тезису о незаинтересованности искусства в «Письмах об эстетическом воспитании человека». Во время работы над «Письмами» Шиллер одновременно полемизирует с Гердером, с его утверждением, что поэзия «порождается жизнью, временем, действительностью». Ему кажется, что Гердер ставит знак равенства между поэзией и действительностью (что не совсем так, ибо Гердер говорит о значимости не только формы, но и содержания). По мнению Шиллера, чтобы вырвать поэзию из-под тлетворного влияния «прозы», т. е. действительности, необходимо «покинуть область действительности и направить свои усилия не на опасный союз, а на полный разрыв с ней»[224]. Это означает, что художник должен не «подражать природе», но отражать тот идеал прекрасного, который возникает в его душе, и облекать этот идеал в благородную форму в духе античного искусства. «Письма об эстетическом воспитании человека» заканчиваются провозглашением особого царства духа и красоты, «царства эстетической видимости», которое пока является достоянием немногих избранных, но выступает прообразом идеального общественного состояния.
Эстетические положения Шиллера соединились с теоретическими установками Гёте, с его новым открытием античности, близким Винке льману. Так родился «веймарский классицизм», давший миру великие шедевры. Его плоды ярко проявились в поздней драматургии Шиллера, в «Фаусте», поздней лирике и романах Гёте. При этом Гёте побуждал Шиллера к большей пластичности и конкретности образов, а Шиллер приветствовал обогащение художественной палитры Гёте всем, что было наработано им за его долгий творческий путь. Не случайно в 1797 г. Шиллер писал своему старшему другу о том, что тот вступил в «удивительную эпоху» своего развития, в эпоху синтеза и универсализма. Это было связано прежде всего с выходом в свет романа Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1796), первой части дилогии о Вильгельме Мейстере, работа над которой растянулсь до 1829 г. («Годы странствий Вильгельма Мейстера») [225].
В те же годы, когда Гёте завершал первую часть «Вильгельма Мейстера», Фридрих Гёльдерлин (Friedrich Hölderlin, 1770–1843) работал над своим романом «Гиперион, или Отшельник в Греции» («Hyperion, oder Der Eremit in Griechenland»), который также стал своего рода синтезом эпохи, итогом духовных и эстетических исканий писателя, его философских размышлений над прошлым и будущим человечества и в котором автор намного опередил свое время. Гёльдерлин задумал роман о современном эллине и вместе с тем о современном молодом человеке вообще, о путях преобразования мира еще в самом начале своего творческого пути. Работа над романом началась в 1792 г. В 1794 г. фрагмент из «Гипериона» был опубликован Шиллером в его журнале «Талия». Затем замысел писателя видоизменился. Интенсивная работа над новой редакцией романа шла во франкфуртский период творчества Гёльдерлина (1796–1798) и вдохновлялась его духовным общением с Сюзеттой Гонтар – Диотимой его поэзии, его любовью к ней[226]. Она же стала прототипом Диотимы в романе «Гиперион», первый том которого вышел в 1797 г., второй – в 1799 г.
Эпистолярный по форме, роман несет в себе очень сильное лирическое начало и является своеобразной лирической автобиографией поэта (Гиперион пишет своему другу Беллармину, в котором исследователи угадывают черты то Шеллинга, то Гегеля). Сходным образом построен гётевский «Вертер», в котором письма героя к его другу Вильгельму образуют лирическую исповедь. В «Гиперионе» соединились жанровые черты социально-философского романа и «романа воспитания», а также черты философского, политического и эстетического трактатов. Гёльдерлин создает новый тип дискурса, в котором в повествование органично «врастает» собственно философствование, но при этом текст не теряет ни своей эмоциональности, ни своей художественной силы. Художественный образ легко перетекает в философское понятие, и наоборот: выявление субъективных ощущений и переживаний героя перерастает в раздумье о судьбах мира, красоты, искусства, о путях к подлинной духовной свободе. В этом смысле Гёльдерлина наряду с Гёте в «Вильгельме Мейстере» можно считать одним из предшественников так называемого интеллектуального романа XX в., основоположником которого общепризнанно считается Т. Манн («Волшебная гора», «Иосиф и его братья», «Доктор Фаустус»).
При этом в отличие от «Вильгельма Мейстера» Гёте в «Гиперионе» минимум внешнего действия, собственно нарратива, но важнейшую роль играет действие внутреннее, формирование прекрасной души прекрасного человека. Как герой «воспитательного романа» Гиперион не только стоит в одном ряду с Вильгельмом Мейстером, но и предваряет таких романтических героев, как Генрих фон Офтердинген в одноименном романе Новалиса или Франц Штернбальд в романе Л. Тика. И все же герой Гёльдерлина отличается от героев романтиков величайшей цельностью характера, страстным энтузиазмом и столь же страстной мечтой о счастливом будущем для всего человечества. Если Новалис устремлен к Средневековью (в лице своего Генриха фон Офтердингена, томящегося по таинственному Голубому цветку), к таинственной ночной стороне души, к мистическим тайнам Ночи, к тайнам трансцендентного мира (в «Гимнах к Ночи»), то Гёльдерлин и в лирике, и в романе весь обращен к сияющему ослепительным солнечным светом миру Эллады (безусловно, идеализированной в его сознании). Это Эллада, в которой слиты прошлое, настоящее и будущее человечества и которая не только противопоставляется убогому настоящему Германии, но и сопоставляется с ней своей нынешней рабской судьбой (современная Гёльдерлину Греция находилась под властью Турции), а также несет в себе надежду на преображение родной Германии (не случайно писатель приведет своего Гипериона к немцам).
Имя главного героя выбрано совершенно не случайно. Согласно греческому мифу, титан Гиперион стал отцом бога солнца – Гелиоса. Титан, подаривший миру солнечный свет, словно бы заново является в мир в современной Греции, стонущей под турецким игом и жаждущей освобождения. Возлюбленная Гипериона, Диотима, говорит ему: «…твой великий тезка, небесный Гиперион, воплотился в тебе» (здесь и далее перевод Е. Садовского). Под «небесным Гиперионом», возможно, понимается сам Гелиос. Мысль Диотимы подхватывает Гиперион: «…покуда светят солнце и Диотима, для меня нет ночи». Герой задуман как воплощение света, противостояния ночи и тьме, как титан, исполненный неистовой жажды свободы, красоты и преображения мира по их законам. Безусловно, это и воплощение внутреннего «я» самого Гёльдерлина, его духовных устремлений. К Гипериону вполне могут быть отнесены гётевские слова о «свободной человечности». Герой Гёльдерлина представляет всю полноту человеческого развития, и в этом смысле автор «Гипериона» чрезвычайно близок по своим устремлениям веймарским классикам. Гиперион – прекрасный миф о прекрасном и совершенном человеке, и то же может быть сказано о его прекрасной возлюбленной – Диотиме. Однако эти идеальные герои помещены в современность и несут в себе черты реальных людей XVIII в. Время действия романа может быть определено очень точно, ибо это время русско-турецкой войны 1768–1774 гг. В какой-то мере роман можно считать историческим, хотя это и совсем недавняя для автора история, и в историческом, современном он ищет вневременное, в вечном – современное. При этом содержание романа гораздо шире и глубже его элементарной фабулы.
Главное, что волнует писателя, – формирование характера современного молодого человека, но не мелочно погруженного в быт, а призванного к великим свершениям, формирование современного титана. Не случайно эпиграфом к первому тому Гёльдерлин ставит следующее латинское изречение: «Non coerceri maximo, contineri minimo, divinum est» («Не знать меры в великом, хоть твой земной предел и безмерно мал, – божественно»). Несомненно, эти слова выражают жизненную установку не только Гипериона, но и его создателя: бесконечное стремление к безмерному, титанизм духа. Особый символический смысл имеет в романе сцена, в которой Гиперион и его учитель и старший друг Адамас поднялись на гранитную стену Кинфа на острове Делос, где почитали некогда Аполлона, отождествленного с Гелиосом: «Еще не рассвело, когда мы поднялись наверх. И вот он взошел, вечно юный древний бог солнца; бессмертный титан, как всегда беспечный и неутомимый, воспарил, неся с собой несчетные радости, улыбаясь своей опустелой земле, своим алтарям, колоннам своих храмов, которые судьба разбросала перед ним, словно сухие лепестки роз, мимоходом бездумно сорванные с куста ребенком и рассеянные по земле. “Будь подобен ему”, – воскликнул Адамас, схватил меня за руку и поднял ее навстречу светлому богу, и мне показалось, что утренние ветерки вот-вот унесут нас, превратив в спутников святого солнца, которое сейчас всходило под самый купол небосвода, величавое и ласковое, наполняя нас и вселенную как по волшебству своей силой и своим духом».
Человек, по мысли Гёльдерлина, и есть солнце, освещающее вселенную, исполненное неукротимого духа, особенно тогда, когда ему открыта любовь: «Да, человек – солнце, всевидящее, всепреображающее, если он любит, если же он не любит, он – темная хижина, в которой еле горит лампадка». В романе раскрывается особая философия любви, близкая платоновской концепции (не случайно имя Платона неоднократно появляется на страницах романа; философия Платона чрезвычайно близка Гёльдерлину, но соединяется со своеобразным панентеизмом, со спинозизмом и выливается в результате в антропософскую концепцию всеединства). Любовь – важнейший закон, движущий миром. «Знаешь ли ты, как любили друг друга Платон и его Стелла?[227]Так любил и я, так был я любим. О, я был счастливцем!» В отношениях Гипериона и Диотимы Гёльдерлин не только выразил свое представление об идеальной любви, но и воздвиг памятник своей реальной любви, передал свои, подлинно духовные, взаимоотношения с Сюзеттой-Диотимой. Они были необычайно близки и внутренне, и внешне, так что их принимали за брата и сестру. Точно так же за брата и сестру принимают окружающие Гипериона и Диотиму. Это, говоря словами Гёте, удивительное «избирательное сродство» душ, взаимопонимание с полуслова или даже без слов, которое Гёльдерлин пережил в собственной жизни. «Ах, ее присутствие освящало и украшало все! Куда бы я ни глянул, к чему бы ни притронулся – к коврику ли, к подушечке или столику Диотимы, – все было связано с ней сокровенными узами. А когда она в первый раз назвала меня по имени, когда она подошла так близко, что меня коснулось ее чистое дыхание… Мы очень мало говорили. В такие минуты стыдишься обыденных слов. Вот если бы стать музыкой и слиться в едином небесном гимне!»
Диотима предстает в романе как сама гармония, как синтез красоты духовной и физической. В какой-то мере внутреннее наполнение этого образа сходно с символикой образа Елены во второй части «Фауста» Гёте. Однако существеннейшая разница заключается в том, что Елена у Гёте – лишь символ, сознательно сконструированный, Диотима же – вполне реальная женщина, образ которой излился из глубин поэтического духа Гёльдерлина. Он намеренно подчеркивает, что при всей своей идеальности, надмирности, небесности, его Диотима – от мира сего, и красота этой души проистекает именно из глубинного родства со всем земным миром: «Ее сердце чувствовало себя как дома, среди цветов, словно оно им сродни…И все это в ней было вовсе не напускное, не надуманное, а врожденное. Есть вечная истина, и она повсеместно подтверждается: чем чище, прекрасней душа, тем дружнее живет она с другими счастливыми существами, о которых принято говорить, что у них нет души». И точно так же, как поэтам Гёльдерлин советовал – «даже духовным, быть мирскими», снисходить к простым земным вещам, так его Диотима воплощает абсолютное «доверие к земному» (слова Рильке о Гёльдерлине). Высочайшей одухотворенности Диотимы не противоречат ее заботы о быте, о домашнем очаге, ибо и в этом – проявление природы: «Тысячу раз я от всего сердца смеялся над людьми, которые воображают, что натуре возвышенной отнюдь не положено знать, как готовится овощное блюдо. Диотима же умела вовремя и попросту упомянуть об очаге, и нет, разумеется, ничего благородней, чем благородная девушка, которая поддерживает полезный для всех огонь в очаге и, подобно самой природе, готовит приятное яство».
Диотима, уподобленная самой природе, воплощает концепцию «естественного человека», как и Гиперион, хотя он предстает гораздо более мятущимся и разорванным, страдающим от диссонантности мира: «Мое мятежное сердце льнуло к спокойствию этой чудесной девушки, как волна океана к берегам блаженных островов. Мне нечего было дать ей, кроме души, полной яростных противоречий, полной еще кровоточащих воспоминаний; мне нечего было ей дать, кроме безграничной любви с ее несчетными тревогами и буйными надеждами, а она стояла передо мной в своей неизменной красоте, беспечная в своем улыбающемся совершенстве, и все страстные стремления, все мечты смертных, – ах! – все, о чем в златой утренний час пророчествует гений, нашептывая об иных мирах, – все воплотилось в одной этой кроткой душе». Последняя фраза, как и последующие слова, недвусмысленно свидетельствует о том, что Диотима предстает еще и как некая Мировая Душа, как воплощение Небесной Любви: «Я стоял перед ней, я слышал и видел небесную тишину, и в ропоте хаоса мне явилась Урания». Любовь, по мысли Гёльдерлина, является подлинным источником жизни и ее целью: «Все, что делали и думали люди на протяжении тысячелетий, что все это перед единым мгновением любви? Ведь она самое счастливое, божественно-прекрасное создание природы, к ней ведут все ступени у преддверия жизни! Оттуда мы пришли, туда мы идем».
Еще одним важнейшим фактором, преображающим мир, является, согласно Гёльдерлину, дружба. Гиперион счастлив не только в общении с Диотимой, но и со своими друзьями – Нотарой, Алабандой, Беллармином (так счастлив был Гёльдерлин своей дружбой с поэтами Нойфером и Магенау, с юными Шеллингом и Гегелем, с верным ему до гроба Синклером). «Однажды мы с Нотарой – так звали друга, у которого я жил, – и с его приятелями, прослывшими на Калаврии подобно нам чудаками, сидели в саду Диотимы, под цветущими миндальными деревьями. Зашла речь о дружбе». В этом споре о дружбе Гиперион, вспоминая знаменитых Гармодия и Аристогитона, друзей, убивших афинского тирана Гиппарха, говорит: «И в том моя надежда, мое утешение в часы одиночества, что такие благородные, а может, и более благородные созвучья когда-нибудь снова зазвучат в симфонии бытия. Тысячелетия, богатые жизнедеятельными людьми, – порождение любви, а нынче их возродит дружба. Из гармонии детства произошли когда-то народы, гармония духа станет началом новой истории мира». И, как чуткий камертон, откликаясь Гипериону, Диотима восклицает: «Я все поняла дорогой, что ты хотел сказать! Любовь родила мир, дружба должна его возродить. О, тогда вы, грядущие новые Диоскуры, замедлите шаг, проходя мимо места, где спит Гиперион, помедлите, вдохновленные свыше, над прахом забытого человека и скажите: “Он был бы как мы, будь он сейчас среди нас”». Диотима подчеркивает, что Гиперион весь устремлен к новому, лучшему миру, и предвестие этого мира заключено в его любви к друзьям, в нем самом: «Ты ищешь иной, блаженный, век, иной, лучший мир. Любя друзей, ты любил в них этот мир и сам вместе с ними был этим миром».
В первом томе романа, в беседах Гипериона, Диотимы и их друзей, которые они ведут над развалинами древних Афин, высказаны важнейшие мысли Гёльдерлина о путях развития культуры и цивилизации, о сути человека, о роли свободы и красоты в его жизни. «Речь зашла о доблестях афинян, о том, откуда эти качества проистекают и в чем заключаются. Один сказал: “Их создал климат”; другой: “Искусство и философия”; третий: “Религия и государственный строй”. “Искусство и религия афинян, их философия и государственный строй – это цветы и плоды дерева, но не почва и корни, – возразил им я. – Вы принимаете следствие за причину. А тот, кто говорит мне: “Источник всего здесь – климат”, – пусть вспомнит, что и мы живем в этом климате”». Источником блистательного расцвета Афин, по Гёльдерлину, явилось их долгое, до начала взлета, существование в неприкосновенной гармонии с природой, без грубого давления извне. Это взрастило в них Красоту, неотделимую от свободы и изначально заложенную в человеке. «Ведь человек есть бог, коль скоро он человек. А если он бог, то он прекрасен…Так стал афинянин подлинным человеком, что и должно было случиться. Он вышел прекрасным из рук природы, прекрасным душой и телом… Первое детище человеческой, божественной красоты есть искусство. В нем обновляет и воссоздает себя божественный человек. Он хочет постигнуть себя, поэтому он воплощает в искусстве свою красоту. Так создал человек своих богов. Ибо вначале человек и его боги были одно целое, когда существовала еще не познавшая себя Вечная Красота…Первое дитя Божественной Красоты – искусство. Так было у афинян. Второе – религия. Религия – это любовь к красоте…Так и было у афинян. И без такой любви к Красоте, без такой религии каждое государство будет голым скелетом, лишенным жизни и духа, а всякая мысль и дело – деревом без вершины, колонной, с которой сбита капитель».
Собственно, такую «религию Красоты» создает Гёльдерлин в своем творчестве. Красота для него – понятие онтологическое: Вечная Красота, Божественная Красота. Она есть исток мира, она тождественна Всемирному Духу, который через нее заявляет о себе. Именно из Красоты, открывшейся грекам, проистекала их свобода. Таким образом, свобода для Гёльдерлина не есть категория политики, но прежде всего – категория Духа. Дух открывается через прекрасное – прекрасную природу, прекрасного человека и творимое им искусство. Развивая идеи Гамана и Гердера о поэзии как праязыке человечества, об огромной роли интуиции и чувства как важнейших инструментов познания, отчасти – идеи Ф.Г. Якоби, Гёльдерлин высказывает мысль о том, что вся философия проистекает из поэзии, что греки «без поэзии… никогда не были бы народом философов». «Поэзия, – заявляет он, – есть начало и конец этой науки; философия, как Минерва из головы Юпитера, родится из поэзии бесконечного божественного бытия. И таким образом все, что есть в ней несоединимого, в конце концов сливается воедино в таинственном источнике поэзии».
Красота, по Гёльдерлину, синонимична гармоничному единению всех элементов бытия, всеединству В своем определении Красоты он отталкивается от диалектической формулы Гераклита: «Великое определение Гераклита – “единое, различаемое в себе самом” – мог открыть только грек, ибо в этом вся сущность красоты, и, пока оно не было найдено, не было и философии. Теперь можно было давать определения: оставалось разъять его на части. Отныне красота стала известна людям, она существовала и в жизни и в воображении, являя себя в бесконечном единстве». Бросая прозрачный упрек «людям Севера» (т. е. современным европейцам, немцам), Гёльдерлин устами своего героя говорит: «…единству цельного человека – красоте – не дают расцвести и созреть в детстве, пока человек еще не вырос и не развился. Голый рассудок, голый разум – неизменные властители Севера». Путь «голого разума» – тупиковый путь. На нем не создать ни искусства, ни философии. «Философия не рождается из голого рассудка, ибо философия есть нечто большее, чем только ограниченное познание существующего. Философия не рождается из голого разума, ибо философия есть нечто большее, чем слепое требование стремиться к бесконечному прогрессу в объединении и противопоставлении всевозможных объектов познания. Но когда светит божественное “единое, различаемое в себе самом” – идеал красоты целеустремленного разума, – то его требования не слепы, и он знает, зачем, для чего он требует». Эти глубокие философские размышления Гёльдерлина не только подтверждают, что он предваряет идеи романтиков (одновременно намного опережая их) о единстве поэзии и философии, но и остается верным гармоничному пониманию красоты, свойственному веймарским классикам, – «идеалу красоты целеустремленного разума».
Со взглядами веймарских классиков сходно и представление Гёльдерлина о путях преобразования мира. Гиперион готов сражаться за свободу Греции, понимая, что нельзя сидеть сложа руки, когда гибнет родная земля. Однако крайне важно, что в видении окончательных путей преображения мира он расходится со своим другом Алабандой, воплощающим самоё борьбу за свободу, героическое действие, бунтарство (этот герой весьма близок штюрмерскому, особенно Карлу Моору в «Разбойниках» Шиллера). Если Алабанда полагает, что нужно «взрывать гнилые пни», т. е. революционным путем изменять действительность, то Гиперион считает, что необходимы глубинные духовные перемены, что нужно воспитывать человека под знаком «теократии красоты». Гиперион, как и Гёльдерлин, отвергает путь крови и насилия, а главное – путь, на котором дозволены любые средства. Он страдает оттого, что Алабанда окружил себя страшными, нравственно опустошенными людьми. «Что ж, сказал я себе, лучше быть пчелой, строящей свой дом в невинности, чем разделять власть с властителями мира и выть с ними по-волчьи, чем повелевать народами и марать руки в нечистом деле…» В спорах Гипериона с Алабандой выявляется еще одна сторона великой утопии Гёльдерлина: он мечтает об обществе без государства, которое всегда, в любой форме есть орудие угнетения. Это еще раз подтверждает, насколько Гёльдерлин не абсолютизировал политические аспекты свободы, насколько он не идеализировал и афинскую демократию, помня, что основой ее было рабовладение. Гиперион говорит Алабанде: «Ты все-таки предоставляешь государству слишком большую власть. Оно не вправе требовать того, к чему не в силах принудить. Но то, что достигается любовью и духовным воздействием, нельзя вынудить. Так пусть государство к этому не прикасается, иначе придется пригвоздить все его законы к позорному столбу. Клянусь, тот, кто хочет сделать государство школой морали, не ведает, какой он совершает грех. Государство всегда оттого и становилось адом, что человек хотел сделать его для себя раем. Государство – жесткая скорлупа, облекающая зерно жизни, и только. Оно – каменная стена, ограждающая сад человечества, где растут цветы и зреют плоды. Но зачем ограждать сад, в котором высохла почва? Здесь поможет одно: дождь с неба».
В этих размышлениях нельзя не различить упрек просветителям, которые в «просвещенной монархии» видели орудие изменения мира. Здесь Гёльдерлин поднимается до прозрения библейского уровня, ибо, по мысли Библии, для людей, живущих по законам Божьим, не нужно никакое государство. Гёльдерлин настаивает, как некогда библейские пророки, что мир изменит только духовное преображение, Божественная Благодать, равнозначная Божественной Красоте: «О дождь с неба, животворящий! Ты возвратишь народам весну. Государство не может приказать тебе явиться. Только бы оно не мешало, и ты будешь, будешь, одаришь нас своим всемогущим блаженством, окутаешь золотыми облаками и вознесешь над всем смертным, и мы изумимся и спросим, мы ли это, – убогие, вопрошавшие звезды, не там ли расцветет для нас весна… Ты хочешь знать, когда это будет? Тогда, когда любимица века, самая юная, самая прекрасная его дочь, новая Церковь, сбросит свои запятнанные, ветхие ризы, когда пробудившееся чувство Божественного возвратит человеку Божество и сердцу его – прекрасную юность. Когда это произойдет – не берусь предсказать, я могу только догадываться, что это будет, будет».
При этом Гёльдерлин возлагает особую миссию в осуществлении этого нелегкого дела на избранников – творцов, поэтов, художников.
Глядя на развалины Афин, на людей, которые «в веселом танце или в священном мифе находят утешенье от позорного ига», Диотима призывает возлюбленного: «Отдай им то, что есть в тебе, отдай…» Гиперион потрясен ее словами и отзывается им всем сердцем. Но он тут же думает о своем одиночестве – и одновременно о том, что и один может многое, если он настоящий человек: «Правда, я одинок и приду к ним безвестным. Но разве один человек, если он поистине человек, не сделает больше, чем сотни частиц человека? Святая природа! Ты и во мне, и вне меня – одна и та же. Значит, не так уж трудно слить воедино и существующее вне меня, и то Божественное, что есть во мне. Удается же пчеле создать свое крохотное царство, почему же я не смогу посеять и взрастить то, что нужно людям?…Так пусть же все, сверху донизу, станет иным! Пусть вырастет новый мир из корней человечества! Пусть новое Божество властвует над людьми, пусть новое будущее забрезжит перед нами! В мастерских, в домах, на собраниях, в храмах – всюду все станет совсем иным!»
Так Гиперион дает клятву: действовать отныне во имя обновления духа, возрождения древней родины. Но он чувствует, что еще не созрел как художник: «Но мне еще надо поехать учиться. Хоть я и художник, но пока неискусный. Я творю в воображении, но рука моя еще не окрепла». Диотима вдохновляет Гипериона, говоря, что ему достаточно несколько лет поучиться в Европе – в Италии, Германии, Франции, что он ведь «не какой-нибудь лентяй», он ищет «только самое великое и прекрасное». На вопрос героя о том, что же потом, Диотима говорит: «Ты станешь учителем нашего народа и, надеюсь, великим человеком». Таким образом, как и веймарские классики, Гёльдерлин возлагает надежду на воспитание и преображение мира через искусство, через свободу духа, недостижимую без красоты. В финале первого тома герой исполнен веры в собственное предназначение, в лучезарное будущее: «Мы возвращались обратно, как после первого объятья. Все казалось незнакомым и новым. Я стоял теперь над развалинами Афин, как пахарь перед невозделанным полем. “Мир тебе, – думал я, когда мы шли назад, на корабль, – мир тебе, спящая страна! Скоро здесь зазеленеет юная жизнь и потянется навстречу благодатному небу. Скоро тучи не напрасно будут кропить тебя дождем, скоро солнце вновь приветит своих прежних питомцев”. Ты спрашиваешь, природа: “Где же люди?” Ты стонешь, как струны лютни, которых касается только брат Случая – залетный ветер, потому что мастер, ее настроивший, умер? Они придут, твои люди, природа! Обновленный юный народ вернет и тебе юность, и ты станешь как невеста его, и ваш древний духовный союз обновится вместе с тобою. Надо всем будет царить лишь одна-единая красота; и человечество и природа сольются в едином всеобъемлющем Божестве».
Вторая половина романа резко контрастирует с первой по своему настроению. Об этом свидетельствует уже эпиграф, взятый на этот раз из последней трагедии Софокла – «Эдип в Колоне»: «Не родиться совсем – удел // Лучший. Если ж родился ты, // В край, откуда явился, вновь // Возвратиться скорее» (перевод С. Шервинского). Эти горькие слова Софокла, перекликающиеся с мыслью библейского Экклесиаста о том, что умершим лучше, чем живым, а еще лучше – тем, кто совсем не приходил в этот мир («И прославил я мертвых – что умерли давно – // Более, чем живых – что живут поныне; // Но больше, чем тем и другим, благо тому, кто совсем не жил, // Кто не видел злого дела, что творится под солнцем»; Еккл 4:2–3; перевод КМ. Дьяконова), как нельзя лучше выражают настроения тоски и горького разочарования в жизни, постепенно овладевающих Гиперионом. Это связано с целым рядом причин, как общественных, так и личных.
Вернувшись с Диотимой из Аттики, герой чувствует в себе, по его собственным словам, «могучий прилив жизненных сил». Через какое-то время он получает письмо от Алабанды: «Началось, Гиперион! Россия объявила Порте войну, русский флот направляется к Архипелагу… греки будут свободны, если они восстанут и помогут прогнать султана на Евфрат. Греки своего добьются, греки станут свободными, и я бесконечно рад, что для меня снова нашлось дело. Мне так опостылел свет, но вот наконец час пробил. Если ты прежний, приезжай!» И Гиперион решает действовать. Ему кажется, что он должен стать Гармодием при Алабанде – новом Аристогитоне. Он убежден: «Новый союз идей должен иметь почву под ногами, священная теократия Красоты должна находиться в свободном государстве, а такому государству нужно место на Земле, и мы завоюем ему это место». Диотима, все более превращающаяся в воплощение высшей человечности, гармонии, провидческой мудрости, пытается отговорить возлюбленного, убеждая его, что мир нельзя изменить насилием, что этот путь будет гибельным для души Гипериона: «Да, ты завоюешь, а потом позабудешь, зачем!… Создашь себе, если уж дело до этого дойдет, с помощью насилия свободное государство, а потом скажешь: “Зачем я его построил?” Ах, да ведь она погибнет, не родившись, вся эта прекрасная жизнь, которая там якобы возникнет, она истлеет в тебе самом! Яростная борьба надломит тебя, чистая душа…»
События происходят в 1770 г., когда Алексей Орлов во время русско-турецкой войны поднял восстание греков в Морее. В романе Гёльдерлина восстанием руководят Алабанда и Гиперион. Герой, находясь в самом сердце Пелопоннеса, вызывает в своей памяти древних героев. Созерцая прекрасную греческую природу, свидетельницу древней славы, оскверненную рабством, он восклицает: «Кто мы – блуждающие огни, порожденные болотом, или потомки победителей при Саламине? Что же случилось? Как же ты стала рабою, вольнолюбивая греческая природа?…Но слушай меня, небо Ионии! Слушай меня, родная земля, прикрывающая, словно нищенка, свою наготу лохмотьями былого великолепия, я не хочу больше этого терпеть!» Диотима, неизменно любя Гипериона, поддерживает его своими письмами. Но не случайно срывается с уст ее тревожный вопрос: «А ты не разучишься любить?»
Гипериона ждет страшное разочарование: люди, которых он готовил к сражению за высокие идеалы, оказались просто злодеями, думающими всего лишь о грабеже, о добыче (это напоминает разочарование шиллеровского Карла Моора в своих разбойниках): «Все пропало, Диотима! Наши солдаты устроили грабеж и резню, убивали всех без разбору, даже наши ни в чем не повинные братья, греки в Мизистре, тоже либо истреблены, либо беспомощно бродят кругом, и их безжизненные скорбные лица взывают к земле и небу о мести варварам, главарем которых был я… Однако ж и я хорош. Я-то знал своих солдат. Это был поистине необыкновенный план: насаждать рай с помощью шайки разбойников». Гиперион был ранен одним из своих сподвижников, когда пытался прекратить разбой и убийства. В Морее он пережил страшное потрясение и окончательно понял, что любая насильственная борьба пробуждает в человеке звериные инстинкты. Это был ответ Гёльдерлина на то, что происходило во Франции. Н.Я. Берковский в свое время писал: «В обрисовке событий Гёльдерлин держится показаний реальной истории; действительно, восстание в Морее распалось и частью выродилось в пиратские авантюры клефтов. Но Гёльдерлин пишет свой роман не ради этих частных фактов…Они для него – конец иллюзиям, которые породила буржуазная революция, а также и разоблачение буржуазной революции как таковой»[228]. Следует уточнить – не только буржуазной революции, но революции как таковой. И совершенно точно следующее замечание Берковского: «Повсюду здесь действуют, хотя и без назойливости, хотя и очень косвенными связями, тройственные аналогии: восстание в Морее – борьба за классическую Грецию, за Элладу – борьба за идеалы Просвещения, за новый классицизм» [229].
Именно борьба за идеалы Просвещения, за новый классицизм, чрезвычайно близкий по духу веймарскому, не позволяет Гёльдерлину принять варварские, кровавые средства как путь достижения прекрасной цели. И главное, что открывает его Гиперион: гармония тяжко нарушена в самом человеке, в нем властно заявляют о себе темные, разрушительные инстинкты. Он думал выпрямить униженных людей великой мечтой и борьбой за свободу и гармонию, но это только проявило в них звериное начало: «Со всех концов стекаются озверелые орды; словно чума, лютует в Морее разбой, и кто сам не поднял меч, того гонят прочь, убивают, и эти бесноватые говорят, что сражаются за нашу свободу Среди одичавшей черни есть и люди, подкупленные султаном, и они уж не отстают от прочих». Гиперион особо отмечает храбрость и самоотверженность русских солдат: «Только сейчас я узнал, что наше нечестивое войско рассеяно. Эти трусы столкнулись под Триполисом с албанским отрядом, в котором солдат было вдвое меньше. А так как грабить было нечего, то наши подлецы пустились наутек. Русские, отважившиеся на совместный с нами поход – сорок храбрых солдат, – долго держались одни, но они все погибли».
Гиперион нанимается служить в русском флоте, участвует в битве при Чесме (Чесменской битве), сознательно ища смерти. Но он всего лишь ранен, хотя и очень тяжело. Его выхаживает верный Алабанда. Отныне все, что остается для Гипериона, – его любовь и дружба. Он предлагает Диотиме (в письме к ней) и Алабанде покинуть Грецию и найти какой-нибудь тихий уголок, в какой-нибудь из долин Альп или Пиренеев, где они смогут жить втроем. Но гордый и честный Алабанда отказывается: сердце его тоже переполнено любовью к Диотиме и он боится, что не совладает с собой, что может во имя своей любви убить и Диотиму, и себя, ведь Диотима не ответит на его любовь. Алабанда покидает Гипериона и отправляется в скитания. «Утопия возрожденного человечества», как в романе Руссо, оказывается неосуществимой. Однако, «заставив» какое-то время своих любящих и терзающихся героев жить в Кларане, казалось бы, в гармонии, Руссо уводит из жизни свою Юлию. Суждено умереть и Диотиме. Она погибает в тоске от разлуки с Гиперионом, от переполняющей ее любви, хотя именно эти любовь и разлука позволили предельно раскрыться ее душе, полнее всего почувствовать жизнь, но и вместе с тем ощутить разлад с ней: «Могу ли я сказать, что меня убила скорбь о тебе? Нет, нет! Она была даже желанной, эта скорбь, она придавала смерти, которую я носила в себе, и смысл и прелесть; теперь я могла говорить себе: ты умираешь во славу возлюбленного. А может, моя душа давно уже созрела в восторгах нашей любви и потому ей теперь, точно резвому мальчику, не сидится в скромном отчем доме? Скажи, уж не богатство ли чувств причина моего разлада с земной жизнью? А может, моя душа благодаря тебе, прекрасный, так возгордилась, что не захотела больше мириться с этой заурядной планетой?»
Вскоре после последнего письма Диотимы приходит известие о ее смерти. Оно становится той каплей, которая переполняет душу Гипериона беспредельным отчаянием (так некогда самого Гёльдерлина окончательно ввергла в безумие смерть его Диотимы). Не случайно Диотима писала Гипериону (эти слова выделены авторским курсивом, как самое важное): «Тот, чья душа так оскорблена, как твоя, не утолит свою боль одной какой-нибудь радостью; тот, кто, подобно тебе, почувствовал бессмысленную тщету бытия, будет весел только на высочайших вершинах духа; тот, кто, подобно тебе, так близко видел смерть, отдохнет только среди богов». Как никогда остро Гиперион ощущает свою отчужденность от мира, свою бесприютность. Не случайно в уста своего героя Гёльдерлин вкладывает свое стихотворение, заслуживающее именование формулы трагизма бытия, и называет его «Песнь судьбы»:
Вы блуждаете там, в вышине, В горнем свете, блаженные гении! Ветры, сверкая, Касаются вас, Как пальцы арфистки Струны священной. Вне судьбы, словно спящий младенец, Дышите вы, небожители. Девственно скрытый В скромном бутоне Вечным цветом Дух ваш цветет, И блаженные очи Тихо смотрят, Ясные вечно. А нам нет приюта Никогда и нигде. Падают люди В смертном страданье Всегда вслепую С часу на час, Как падают воды С камня на камень, Из года в год Вниз, в неизвестность. (Перевод В. Микушевича)Гиперион покидает Грецию и в своих скитаниях приходит в Германию. Гёльдерлину так важно привести своего героя в свое Отечество, увидеть его глазами самой красоты и гармонии. Приговор, вынесенный Гиперионом Германии и немцам, суров и беспощаден, ибо это страна, где унижают свободу, красоту, искусство, гениев. Безусловно, в уста своего героя Гёльдерлин вкладывает собственные горькие мысли: «Варвары испокон веков, ставшие благодаря своему трудолюбию и науке, благодаря самой своей религии еще большими варварами, глубоко не способные ни на какое божественное чувство – к счастью святых граций, испорченные до мозга костей, оскорбляющие как своим излишеством, так и своим убожеством каждого нравственного человека, глухие к гармонии и чуждые ей, как черепки разбитого горшка, – таковы, Беллармин, были мои утешители. Это жестокие слова, но я все же произношу их, потому что это правда: я не могу представить себе народ более разобщенный, чем немцы. Ты видишь ремесленников, но не людей; мыслителей, но не людей; священнослужителей, но не людей; господ и слуг, юнцов и степенных мужей, но не людей… <…>…немцы в своей деятельности охотно подчиняются требованию насущной необходимости, вот почему среди них так много бездарных кропателей и в их произведениях так мало свободного, истинно радостного…Добродетели же немцев представляют собой блистательное зло, и ничего больше, ибо они – порожденье необходимости, вымученное в рабских усилиях, из пустого сердца и под влиянием низкого страха; они способны омрачить любую чистую душу, которая тянется к красоте, которая, увы, избалована святой гармонией, присущей благородным натурам, и не выносит ту вопиющую фальшь, какой насквозь пронизан мертвящий порядок этих людей».
Многие слова Гёльдерлина звучат особенно пророчески после трагического опыта XX в.: «Говорю тебе: нет ничего святого, что не было бы осквернено этим народом, не было бы низведено до уровня жалкого вспомогательного орудия; даже то, что у дикарей очень часто сохраняет свою божественную чистоту, эти сверхрасчетливые варвары превращают в ремесленничество… <…>…Здесь все бездушней и бесплодней становятся люди, а ведь они родились прекрасными; растет раболепие, а с ним и грубость нравов, опьянение жизненными благами, а с ним и беспокойство, наряду с роскошью растет голод и страх перед завтрашним днем…» Томас Манн не случайно причислял Гёльдерлина к великим немцам, которые «бросали в лицо Германии беспощадные истины».
Роман имеет открытый финал: Гиперион собирается покинуть Германию, но его задерживает на этой земле весна: «Я больше не хотел оставаться в Германии. Я уже ничего не пытался найти в этом народе, – довольно меня там оскорбляли, да так безжалостно, и я не хотел, чтобы сердце мое изошло кровью среди таких людей. Однако меня удержала пленительная весна; она была единственной оставшейся мне радостью, она ведь была моей последней любовью, как же мог я о ней не думать и покинуть страну, куда пришла весна». Эти слова звучат как признание самого Гёльдерлина, навсегда покидающего Германию, в которой его сердце исходит кровью, но все-таки верящего в ее преображение. Он вернется на родину уже безумным, но все же не устанет повторять, что жизнь всегда права, что только познавший страдание принимает ее до конца. Так и его герой переживает катарсис, принимая жизнь вопреки и благодаря страданиям: «Никогда еще, Беллармин, я не был так твердо убежден в правоте древних и вещих слов, что сердцу откроется новая благодать, если оно выдержит и вытерпит глухую полночь скорби, что только среди глубокого страданья зазвучит для нас, будто соловьиная трель во тьме, чудесная песнь жизни».
Гиперион в какой-то мере является «продолжением» гётевского Вертера, его собратом по духу. Он такой же «лишний» в своем веке, и главная причина их страданий – умение любить, обостренно чувствовать красоту, быть верным высоким нравственным идеалам. Но если Вертер не в силах снести душевные муки, если гармония природы оборачивается к нему дисгармонией, страшным ликом смерти, то Гиперион преодолевает леденящий ужас внутри именно через целительную силу и гармонию природы (так будет исцеляться душой гётевский Фауст в начале второй части): «Теперь я жил, окруженный цветущими деревьями, словно гениями, и лепет чистых ручьев, которые струились под ними, заглушал, как голос богов, горе в моей душе…Так все больше и больше покорялся я благосклонной природе, и казалось, этому не будет конца. Как мне хотелось стать ребенком, чтобы быть к ней поближе, как хотелось поменьше знать, стать чистым, как луч света, чтобы быть к ней поближе! О, если бы на мгновение почувствовать, что проникся ее спокойствием и ее красотой! Насколько дороже было это сейчас для меня, чем многолетние размышления, чем все испытания всеиспытующего человека! Как лед на реке, растаяло теперь все, чему я учился, все, что я свершил в жизни, и все замыслы юности отзвучали во мне; а с вами, милые моему сердцу – мертвые и живые, теперь равно далекие, мы были единым, нераздельным целым».
Гёльдерлиновский герой, как и роман в целом, не только синтезирует идеи штюрмерства, но и преодолевает их. Он несет в себе идеи «веймарского классицизма» о том, что мир будет спасен красотой. Он также в сжатом виде несет в себе романтический опыт – с его энтузиастическим порывом к целостности и неминуемым разочарованием, раздвоением, отчужденностью. Однако и этот опыт предстает в романе в «снятом» виде: преодолев расколотость и отчужденность, Гёльдерлин, как и его герой, обретает целостность в слиянии с миром, в своеобразном панентеизме, где нет границ между миром природным и сверхприродным, телесным и духовным, человеческим и Божественным: «Люди падают с древа жизни, как гнилые плоды, так пускай же они погибают! Они возвращаются вновь, преображенные, к твоим корням, о древо жизни, и я снова оденусь зеленью, и буду вдыхать аромат твоей усыпанной почками кроны, и буду жить со всем в мире, ибо все мы выросли из одного золотого семени. О земные источники, и вы, цветы, и леса, и орлы, и ты, побратим мой свет! Как стара и нова наша любовь! Мы свободны, у нас нет трусливого стремления быть точь-в-точь одинаковыми с виду, почему бы не существовать различным формам жизни? Но все мы любим эфир и сходны между собой в самой нашей сути. И мы, мы тоже не разлучены с тобой, Диотима, хотя слезы, которые я лью по тебе, этого не поймут. Мы – живое созвучие, мы вливаемся в твою гармонию, природа! Кто же нарушит ее? Кто может разлучить любящих? О душа, душа! Нетленная красота мира, пленительная в своей вечной юности, ты существуешь, и что тогда смерть и все горе людское! Ах, эти чудаки наговорили столько пустых слов. Все ведь свершается по свободному побуждению, и все ведь кончается миром. Все диссонансы жизни – только ссоры влюбленных. Примиренье таится в самом раздоре, и все разобщенное соединяется вновь. Расходится кровь по сосудам из сердца и вновь возвращается в сердце, и все это есть единая, вечная, пылающая жизнь. Так думал я. Остальное потом».
Так, высшим утверждением целостности бытия, снятием – как мнимого – противоречия между природой и духом, природой и идеалом завершается развитие немецкой прозы XVIII в. Точнее, последнее слово скажет Гёте в своем дерзко-экспериментальном, авангардном по форме романе «Годы странствий Вильгельма Мейстера», который стремится охватить жизнь во всем ее многообразии и в котором также идет речь о ее преображении под знаком «теократии красоты». Гёте завершит свой роман стихотворением, в котором прозвучит столь свойственная ему идея вечной метаморфозы бытия, целостности Природы и Духа – идея, чрезвычайно близкая так и не понятому им Гёльдерлину:
Как я пленялся формою природы, Где мысли след Божественной оставлен! Я видел моря мчащиеся воды, В чьих струях ряд всё высших видов явлен. Святой сосуд, – оракула реченья! — Я ль заслужил, чтоб ты был мне доставлен? Сокровище украв из заточенья Могильного, я обращусь, ликуя, Туда, где свет, свобода и движенье. Того из всех счастливым назову я, Пред кем Природа-Бог разоблачает, Как плавя прах и в дух преобразуя, Она созданье духа сохраняет. (Перевод С. Соловьева)Немецкая драматургия XVIII века
XVIII век стал временем создания в Германии национального театра в настоящем смысле этого слова. Важнейшим же условием возникновения профессионального театра общенационального масштаба был взлет драмы как рода литературы, особенно ярко обозначившийся во второй половине века. Безусловно, этот расцвет драматургии и театра был подготовлен еще эпохой Реформации (драматургия Г. Сакса) и XVII в., и прежде всего драматургической и театральной деятельностью М. Опица и А. Грифиуса. М. Опиц впервые создал на немецкой почве образцы классицистической трагедии, опирающейся на опыт античной драмы, точнее – на ее переводы (наиболее удачным был перевод «Троянок» Сенеки), а также на опыт французского театра. Именно Опиц ввел как основной размер для немецкой трагедии шестистопный ямб (имитация в силлаботонике знаменитого александрийского стиха французских классицистов). Этот размер продержался в немецкой трагедии вплоть до середины XVIII в. В свою очередь Грифиус создал великолепные образцы барочных трагедий и комедий, в которых (особенно в трагедиях) просматриваются также тенденции классицизма. Однако творчество «немецкого Шекспира», как современники прозвали Грифиуса, для которого действительно крайне важен был, кроме опыта античных драматургов и П. Корнеля, также и опыт Шекспира, осталось уникальным и неповторимым явлением в немецкой литературе XVII в., не получившим достойного продолжения. Новый опыт немецкой драматургии, приведший к появлению драматических шедевров Лессинга, Гёте, Шиллера, к созданию развернутой и глубокой теории драмы и театра, был связан с просветительскими идеями, с той особой ролью, которую Век Просвещения отводил театру как важнейшему общественному учреждению, воспитывающему нового человека и преобразующему общество. В соответствии с различными этапами развития Просвещения в Германии различные стадии прошла и немецкая драматургия.
1. Драматургия Раннего Просвещения (1680–1750)
На этапе Раннего Просвещения в Германии закладываются основы национального театра, впервые предпринимается попытка театральной реформы, введения единой театральной нормы, создания профессионального репертуара и разработки теории драмы и театра. Это прежде всего было связано с деятельностью И. К. Готшеда, создателя просветительского классицизма в Германии. Однако непосредственно на рубеже XVII–XVIII вв. в немецкой драматургии выявляются и переплетаются самые разнообразные стилевые тенденции – классицистические, барочные, рокайльные, что обусловливает в дальнейшем большое разнообразие жанров и манер не только в драматургии вообще, но и в драме, непосредственно связанной с просветительским классицизмом.
Драма на рубеже XVII–XVIII веков: Кистиан Рейтер и Кристиан Бейзе
Новый виток в развитии немецкой драмы и театра начинается на рубеже веков, когда в Германии в целом оживляется литературная жизнь и литературная полемика. В драме теснейшим образом переплетаются черты барокко, становящихся чертами классицизма (в его еще старом, классическом варианте), и рококо.
В 90-е гг. XVII в. как талантливый драматург выступил Кристиан Рейтер (Christian Reuter, 1665 – после 1712). Биография Рейтера, в том числе и творческая, до сих пор полна белых пятен. Известно, что он учился в Лейпцигском университете и там же, в Лейпциге, начал свой путь как комедиограф. Трагифарсовым подтверждением блистательного сатирического таланта Рейтера стал факт его изгнания из Лейпцига в связи с жалобой некоего почтенного семейства, оскорбившегося из-за одной из комедий молодого драматурга, который «осмелился» обнародовать в пьесе якобы именно жизнь этого семейства. Это очень напоминает обвинения в адрес Мольера, в комедиях которого тот или иной почтенный буржуа «узнавал» себя самого. Покинув Лейпциг, Рейтер отправляется в скитания. Об этой полосе его жизни почти нет данных. Сохранились сведения, что в самом начале XVIII в. он жил в Берлине и сочинял пьесы для придворных спектаклей, чтобы заработать на кусок хлеба. После 1712 г. о нем нет никаких упоминаний. Место, время и причины его смерти неизвестны. Только в 1884 г. немецким исследователям удалось установить, что Рейтер является автором популярного сатирического романа «Шельмуфский»[230].
Как в прозе, так и в драматургии Рейтер является прежде всего сатириком. Это обнаружилось уже в ранних его комедиях – «Честная женщина из Плиссина» («Die ehrliche Frau zu Plissine», 1695) и «Болезнь и смерть честной госпожи Шлампампе» («Der ehrlichen Frau Schlampampe Krankheit und Tod», 1696). В обеих пьесах драматург, развивая мольеровские тенденции, высмеивает претензии немецкого бюргерства на аристократизм и одновременно их крайнюю духовную ограниченность и невежество. По основной проблематике это чрезвычайно близко комедиям Мольера, особенно «Смешным жеманницам [прециозницам]» и «Мещанину во дворянстве». В комедиях Рейтера есть отчетливые и вполне сознательные параллели с Мольером, свидетельствующие о хорошем знании немецким драматургом комедий великого французского классициста. Рейтера можно с полным правом назвать «немецким Мольером», ибо он, как и Мольер, создает «комедию характеров» в духе классицизма, однако в гораздо большей степени несущую в себе черты барочной буффонады и содержащую живые, узнаваемые сцены немецкой жизни, поданные в рокайльном ключе.
Обе сохранившиеся комедии Рейтера объединены общими персонажами, и прежде всего образом г-жи Шлампампе, зазнавшейся трактирщицы, кичащейся своей «невероятной» порядочностью и духовным превосходством, всерьез считающей себя и свое семейство верхом добродетели и образцом всяческого совершенства. В лице сей почтенной госпожи Рейтер создал один из вечных типов (в духе классицистической типизации, стремящейся дать не просто образ, но образец) человека-филистера, ограниченного обывателя, не сознающего своей ограниченности и вечно поучающего других на собственном примере. Не случайно знаменитая «коронная» фраза г-жи Шлампампе – «Это так же верно, как то, что я – честная женщина», которую она применяет в любой ситуации, даже самой неуместной, стала в Германии иронической поговоркой, высмеивающей филистерство. Не меньше, чем почтенная г-жа Шлампампе мнят себя верхом совершенства и светской утонченности ее дочери и сын, бездельник и вертопрах Шельмуфский (именно этот герой «перекочует» затем в знаменитый роман Рейтера). Шельмуфский кичится своей галантностью, не понимая, что является лишь уродливой пародией на подлинную светскость и утонченность манер. Среди прочих сатирических задач Рейтера – пародирование барочного прециозного стиля через цветистые велеречивые фразы, которые он вкладывает в уста своих персонажей. Критике прециозного стиля подчинена также изящная пародийная музыкальная интермедия «Свадебный пир Арлекина», приложенная к «Честной женщине из Плиссина». Здесь Рейтер прямо обращается к арлекинаде, к традициям итальянской комедии дель арте.
Тот же сплав барочных, классицистических и новых, рокайльных, тенденций, но с преобладанием именно последних обнаруживается в драматургии еще одного крупного писателя рубежа XVII–XVIII вв. – Кристиана Вейзе (Christian Weise, 1642–1708), прославившегося также в качестве прозаика[231]. Тем не менее особенно значителен вклад Вейзе в развитие немецкой драматургии. Он начал писать пьесы еще до того, как стал ректором классической гимназии в родном саксонском городке Циттау (1678), которую он некогда окончил, а затем благодаря своему педагогическому таланту и реформам превратил в одну из самых образцовых в Германии (в том числе первым ввел преподавание на немецком языке вместо латыни). В гимназии с эпохи Реформации (с 1586 г.) существовала традиция школьных театральных постановок. Вейзе решил поддержать этот обычай, полагая, что театр – прекрасное средство воспитания молодого поколения. Для обновления школьного репертуара он начал писать по нескольку пьес в год. Так сама жизненная ситуация усилила тяготение Вейзе к театру, стимулировала его занятия драматургией.
Наследие Вейзе (точнее, сохранившаяся его часть) включает в себя 55 пьес, как трагедий, так и комедий. Общепризнанно одной из лучших пьес Вейзе считается «Трагедия о неаполитанском мятежнике Мазаньелло» («Trauer-Spiel von dem neapolitanischen Haupt-Rebellen Masaniello», 1683). Позднее Лессинг отмечал, что эта пьеса имеет «шекспировский ход действия», и утверждал, что у Вейзе есть «искры шекспировского гения». Трагедия Вейзе имеет реальную историческую основу: народное восстание в Неаполе в 1647–1648 гг. против испанского ига и гнета собственных, итальянских, богачей. Восстание возглавил рыбак Томмазо Аньелло, прозванный народом Мазаньелло. Испанцам удалось подавить восстание, а Мазаньелло погиб, став жертвой заговора. В пьесе Вейзе ощущается некоторая двойственность отношения автора к своему герою: с одной стороны, он восхищается силой, мужеством, невероятным свободолюбием и гордым достоинством Мазаньелло; с другой – осуждает избранные им методы изменения действительности, путь насилия (что вполне соответствует просветительским взглядам). Все это делает фигуру Мазаньелло живой, объемной. Трагедию отличают также мощь страстей, воистину шекспировская, непосредственность и искренность чувств, взволнованность языка, что делает ее примечательным явлением на фоне не только немецкой, но и европейской драматургии конца XVII в.
Особый вклад Вейзе внес в развитие немецкой комедии. С одной стороны, он первым, даже ранее Рейтера, применяет прием классицистической типизации и достигает высокого ее уровня. В его пьесах действуют классические, известные еще со времен Менандра и Плавта персонажи, преображенные затем под пером Мольера: хвастливый воин, злая и бранчливая мачеха, школьный учитель-педант и т. п. Однако у Вейзе эти традиционные фигуры показаны в интерьере узнаваемого немецкого провинциального быта, они говорят реальным языком саксонской провинции (часто используются диалектные слова). В комедиях Вейзе весь мир маленького немецкого городка предстает как живой, и отсюда, как справедливо отмечают исследователи, прямые пути ведут к «Минне фон Барнхельм» Лессинга. Сам же Лессинг высоко ценил драматургию Вейзе и полагал, что ее изучение чрезвычайно полезно для дальнейшего развития немецкого театра. Думается, Лессингу особенно был близок сплав классицистических установок и элементов рококо в пьесах Вейзе.
Театральная реформа Иоганна Кристофа Готшеда и становление просветительского театра
Новый виток в развитии немецкой драматургии и театра наступает в «эпоху Готшеда», т. е. в 20-30-е гг. XVIII в. В своем стремлении создать высокую гражданскую литературу общенационального масштаба, привить немецкой публике просвещенный «разумный» вкус Иоганн Кристоф Готшед (Johann Christoph Gottsched, 1700–1766) делает особую ставку на театр, на его воспитательное значение для нации. Именно в области театральной реформы, театральной деятельности проявились смелость и недюжинные организаторские способности Готшеда. Так, он не побоялся выступить в защиту театра и актерской профессии, за признание ее общественной полезности перед лицом протестантских теологов. Более того, рискуя своей ученой карьерой, он нашел в себе смелость выйти из замкнутого университетского круга, практически обратиться к театру, вступить в общение с презираемой братией бродячих актеров. Готшед полагал, что с помощью театра можно воспитывать гораздо более широкую публику, нежели через книги и журналы. Но для этого нужно сделать театр иным, дать ему высокую гражданскую и нравственную проблематику, подобную французскому классицистическому театру XVIII в. и его современным последователям. То, что показывали бродячие театральные труппы, гастролировавшие в Лейпциге, совершенно не устраивало Готшеда, ибо это были барочные напыщенные «Главные и Государственные действа», а также чисто развлекательные фарсовые арлекинады.
Готшед решил создать новый для Германии профессиональный театр высокого звучания и для этого привлек на свою сторону талантливую актрису Фридерику Каролину Нойбер (1697–1760) и ее мужа, руководивших одной из лучших театральных трупп того времени. Точнее, формальным руководителем труппы был Нойбер, но роль подлинного лидера играла его жена – «Нойберша» (Neuberin), как ее называли современники (образ Каролины Нойбер привлек к себе внимание Гёте, который в романе «Театральное призвание Вильгельма Мейстера» наделил ее чертами образ мадам де Ретти). Сотрудничество Готшеда с труппой Каролины Нойбер длилось более десяти лет – с конца 20-х до начала 40-х гг. – и позволило ему осуществить проект «хорошо устроенного театра», т. е. продвинуть на сцену классицистический репертуар, «правильные» трагедии и комедии.
Свои взгляды на драму Готшед изложил в главном теоретическом сочинении – «Опыт критической поэтики для немцев» (1730)[232]. Как истинный классицист, он в высшей степени настаивает на логичности, правдоподобности избранной для пьесы темы, сюжета, самого действия, призывает искать «совершенную природу», т. е. создавать в высшей степени типичные и правдоподобные образы. Драматургу, заявляет Готшед, необходимо основательное знание человека, ибо он должен воспроизводить поступки человека, проистекающие из его свободной воли, из тех или иных склонностей его души, а также из сильных аффектов. Упор на «свободную волю» означает в данном случае только то, что автор не должен изображать воздействие на человека каких бы то ни было потусторонних сил. Создавая искусство, литературу, в том числе и драматургию, нужно опираться на опыт «разумных» народов, обладавших «хорошим вкусом», единым во все времена. При этом Готшед уверен, что одним народам уже в древности удалось стать «разумными», а другим – нет. Так, первыми стали «разумными» и просвещенными афиняне, но почему это произошло, Готшед не объясняет. Он убежден, что именно от афинян другие народы получили «законы, философию, медицину, ораторское искусство, поэзию, архитектуру, живопись, музыку». Вслед за афинянами, испытав их влияние, «разумными» стали древние римляне. Из современных народов лучше всего, по мнению Готшеда, усвоили уроки афинян французы, и он призывает беспрекословно ориентироваться на французский классицистический канон, прежде всего в том виде, в каком он изложен Н. Буало в его «Поэтическом искусстве».
Внешне провозглашая верность «Поэтике» Аристотеля и «Поэтическому искусству» Горация, Готшед на самом деле отталкивается только от французских теоретиков и авторов классицизма XVII–XVIII вв., что придает его классицизму характер «подражания подражанию». Помимо французских авторов, Готшед признает достойными подражания некоторых английских драматургов-классицистов, например Дж. Аддисона. Он строго настаивает на соблюдении правил «трех единств» и жесткой иерархии жанров. Именно в высоких жанрах (из драматических жанров – в трагедии) получает наиболее полное воплощение «совершенная природа». В трагедии должны царить атмосфера героического, возвышенные чувства и характеры «высоких особ»; в ней доминирует высокий стиль. Здесь невозможно представлять ничего современного, никакого частного быта, действие должно происходить только в далекие времена, в далеких странах, желательно исторических – Греции, Риме или странах Востока. Обязательны стихотворная форма, александрийский стих (шестистопный ямб) с парной рифмовкой. Готшед настаивает на том, что только известная историческая личность, выведенная в трагедии, может научить людей чему-то достойному, проиллюстрировать высокую «моральную тезу». Трагедия может и обличать пороки, но это непременно должны быть «большие пороки», «позорные поступки» также известных исторических личностей, чтобы трагедия исполнила свою высокую воспитательную миссию.
Частная жизнь, современные нравы и быт должны представать в «правильной» комедии, которой Готшед также уделяет большое внимание. В комедии нет места «высоким особам», здесь должны действовать «обычные бюргеры». Комедия, по его словам, «изображает порочные поступки, которые своей смехотворностью доставляют зрителям развлечение и способны поучать его». Таким образом, Готшед на свой лад повторяет знаменитый девиз Мольера: «Поучая – развлекать, развлекая – поучать». Однако в отличие от Мольера Готшед считает, что просто смеху ради смеха (например, фарсовым сценам) нет места в комедии – ее смех должен быть сугубо обличительным. Хотя Готшед допускает в комедии стихотворную форму (последняя являлась обязательной для высокой комедии Мольера), но полагает прозу более уместной для этого жанра, ориентируясь на современную ему французскую комедию (например, Ф. Детуша).
Готшед доводит все внешние правила драматического искусства, свойственные классицизму, до логического апогея, делая их самодовлеющими. Например, он предлагает ограничить время действия пьесы не сутками, но всего лишь двенадцатью часами дневного времени, ибо именно это соответствует правдоподобию: «по ночам люди спят, а не действуют». Точно так же Готшед считает непременно обязательными пять актов, даже в комедии. Показательно: жена Готшеда, Луиза Адельгунда Викторина Кульмус (1713–1762), довольно талантливая писательница и переводчица, переводя с французского трехактную комедию Филиппа Детуша «Ложная Агнесса» (в немецком переводе – «Der poetische Landjunker», что примерно означает «Поэтический помещик»), специально растягивает действие так, чтобы получились необходимые пять актов (Лессинг в «Гамбургской драматургии» иронизирует над искусственной растянутостью этой пьесы). Главным критерием оценки произведения для Готшеда становится именно соблюдение или несоблюдение этих правил.
Борясь за «правильную» трагедию и комедию, за «хороший вкус», Готшед отвергает все формы народной драмы, комизм народного театра как слишком грубый и вульгарный. Так, он всячески противится использованию традиций итальянской комедии масок: «Арлекин, Скарамуш с их проделками настолько нелепы, что даже во сне они присниться не могут». Готшед осуждает и маски, и импровизационные и фантастические элементы итальянской комедии. «Хорошему вкусу» в понимании Готшеда не соответствует и Шекспир. Когда в 1741 г. появился первый перевод из Шекспира на немецкий язык (трагедия «Юлий Цезарь» в переводе К. В. фон Борка), Готшед счел необходимым публично осудить Шекспира за отсутствие «хорошего вкуса». В конце жизни (1757–1765) он составил обширную библиографию по истории немецкой драмы начиная с 1450 г., сопроводив ее своими комментариями. Показательно, что в числе крупных немецких драматургов он называет Г. Сакса, но тут же отмечает, что это драматург, не знающий «правил», а потому не могущий считаться образцовым.
Для того чтобы закрепить преобладание «хорошо устроенного театра», сделать «правильные» трагедии и комедии достоянием не только труппы Каролины Нойбер, но и других театральных трупп, Готшед решает существенно пополнить немецкий театральный репертуар своими и переводными пьесами, а также пьесами своих учеников, оригинальными и переводными. Итогом этого замысла и многолетней работы Готшеда и его учеников стал шеститомный сборник немецких и переводных пьес «Немецкий театр, построенный согласно правилам древних греков и римлян» («Deutsche Schaubühne, nach den Regeln der alten Griechen und Römer eingerichtet», 1740–1745). Он стал крупной вехой в истории немецкого театра. В сборнике были помещены перевод трагедии Ж. Расина «Ифигения в Авлиде», выполненный Готшед ом, а также две его собственные трагедии: «Парижская кровавая свадьба» («Die Pariser Bluthochzeit», 1744) и «Агис» («Agis», 1745). Здесь же были напечатаны пьесы его учеников и последователей: Иоганна Элиаса Шлегеля, Иоганна Кристиана Крюгера, Фридриха Мельхиора Гримма и др. В сборнике были представлены перевод «Мизантропа» Мольера, переделка «Ложной Агнессы» Детуша и других французских пьес, выполненные Луизой Кульмус (г-жой Готшед). Кроме того, здесь же были напечатаны ее собственная комедия «Француженка-гувернантка» («Die Hausfranzösin», 1744), три комедии «датского Мольера» Людвига Хольберга (1684–1754) и многое другое.
В собственных трагедиях Готшед выступает как последовательный классицист, старательно иллюстрирующий собственную теорию, подражающий французским и английским образцам, много заимствующий из них, утверждающий высокую гражданскую тематику, защищающий просветительские идеалы – разум, веротерпимость и т. д., осуждающий деспотизм и религиозный фанатизм. Однако его трагедии не отличаются ни оригинальностью, ни особыми художественными достоинствами. Сам Готшед и не скрывает, что он не претендует на высокие поэтические лавры. В предисловии к своей первой трагедии «Умирающий Катон» («Der sterbende Cato»; поставлена в 1731 г., опубликована в 1732 г.) он признается, что почти весь материал заимствован из трагедии англичанина Дж. Аддисона «Катон» (1713) и одноименной трагедии француза Ф. Дешана (1715). Самостоятельно написаны только несколько сцен, все остальное – дословный перевод из Аддисона и Дешана. Однако подобный «метод», с точки зрения Готшеда, оправдан во имя высокой цели – воспитания немецкой публики, утверждения на немецкой сцене высоких гражданских идеалов. Две другие трагедии более самостоятельны. Существует мнение, что Готшед, обильно заимствуя материал для «Умирающего Катона», просто «подстраховался» авторитетом известных писателей, ибо тема пьесы была достаточно крамольной для тогдашней Германии: республиканские доблести и свободы.
Как ни странно, но именно «Катон» стал единственной пьесой Готшеда, пользовавшейся успехом у публики (две другие трагедии прошли совершенно незамеченными и после первого спектакля больше не ставились). Трагедия построена так, чтобы как можно ярче высветить главную страсть Катона – республиканское свободолюбие. (По мысли Готшеда, именно чрезмерная любовь к республике делает Катона не совсем совершенным; нельзя также оправдать и самоубийство героя.) Катон в интерпретации Готшеда остается абсолютно бескомпромиссным во всех мелочах и тем самым ведет себя политически неосмотрительно, обрекая на поражение. Однако Готшед восхищается именно цельностью характера своего героя, последовательно проявляющейся во всем.
В пьесе показан итог долгой борьбы между Катоном Старшим (Утическим) и Юлием Цезарем. Катон, страстный защитник республики, потерпел ряд поражений. Армия Цезаря подходит к Утике, которую Катон сделал последним оплотом республики. Здесь и должно состояться генеральное сражение. Такова исходная ситуация трагедии. Неожиданно в У тику прибывает молодая парфянская царица Арсена, однако выясняется, что она не парфянка, а римлянка, более того – она дочь Катона Порция, считавшаяся давно погибшей. Перед Порцией выбор: она должна отказаться от престола Парфянского царства, потому что гордый республиканец Катон, несмотря на его любовь к дочери, не примирится с тем, что она царица. Порция готова к этой жертве. Ее руки просит у Катона его главный потенциальный союзник – понтийский царь Фарнак, однако тот отвечает отказом, не желая ни отдавать дочь тирану, ни вступать с ним в союзы. Оскорбленный Фарнак грозит поддержать Цезаря, но Катон остается бескомпромиссным и на все угрозы отвечает презрением.
Тем временем Цезарь, который давно любит Порцию и любим ею, является к Катону с предложением мира. Он не желает кровопролития и просит руки Порции, чтобы этот брак скрепил его политический союз с Катоном. Они вместе будут консулами Рима. Однако Катон гневно отвергает это предложение, ибо только из рук народа и сената он принял бы власть. Порция во всем похожа на своего отца. Узнав, что она римлянка, дочь самого Катона, она подавляет свою любовь к Цезарю, которая еще недавно была столь сильной, и даже с презрением бросает ему вслед: «Ступай, злодей, ступай, тиран, ты – кровопийца!» В результате войска Катона разбиты. Не в силах пережить крушение республики, герой бросается на собственный меч. И хотя характеры в пьесе во многом ходульны, неестественны, Готшед добивается главного – восхищения своим главным героем. Важно также и то, что в условиях тогдашней Германии Готшед связывает добродетель с республиканизмом, напоминает о гражданских свободах, о независимости личности.
В трагедии «Парижская кровавая свадьба», сюжет которой связан с кровавыми событиями Варфоломеевской ночи, Готшед выступает против религиозного фанатизма. По его собственному признанию, он опирался на вторую песнь «Генриады» Вольтера – на рассказ Генриха Наваррского (будущего короля Франции Генриха IV) о страшной резне, устроенной в Париже протестантам (гугенотам) католиками. Готшед резко осуждает произвол и фанатизм короля Карла IX и его сторонников.
У героя третьей трагедии Готшеда, «Агис», есть реальный исторический прототип – спартанский царь Агис IV (правл. 245–241 гг. до и. э.). В противоположность своему соправителю, царю-тирану Леониду, Агис предстает как подлинный гражданин, заботящийся о благе родины, о своих подданных, стремящийся своими реформами преодолеть пропасть между богатыми и бедными. Однако по воле алчных богачей благородный Агис обречен на гибель со своей семьей.
Так Готшед преподносил уроки гражданственности и нравственности многочисленным немецким князьям, напоминал им об ответственности перед народом, воспитывал в соотечественниках любовь к свободе и ненависть к тирании и несправедливости. Однако делал он все это, старательно копируя манеру французских классицистов и подвергая их великое искусство излишней рационализации, упрощению, делая свои произведения бледными и сухими по языку, лишенными живой эмоциональности. «Не подлежит сомнению, что трагедии Готшеда в художественном отношении очень слабы, – пишет Б. Я. Гейман. – Но только в свете этих произведений становится ясным, что “правила”, “хороший вкус” и т. д. нужны Готшеду для того, чтобы утвердить на сцене высокую трагедию просветительского, вольтеровского направления, т. е. классицистическую трагедию передового идейного содержания. Готшед не только призвал своих современников к ответственному отношению к литературе. Он перенес в немецкую литературу наиболее общие требования Просвещения: принцип разумности, новое гражданственное понимание добродетели, антидеспотические мотивы»[233].
Исследователь справедливо отмечает двойственность сделанного Готшедом для немецкой литературы в целом и для развития драматургии и театра в частности: с одной стороны, он ввел такую необходимую высокую идейную проблематику, создал гражданственный просветительский классицизм, утвердил на сцене просветительскую трагедию, стимулировал развитие бюргерской комедии нравов; с другой стороны, он наивно и искренне не понимал, что немецкая литература и театр не могут идти по заимствованному пути. Пройдет некоторое время, и Лессинг напишет достаточно безжалостные слова: «Следовало бы пожелать, чтобы господин Готшед никогда не касался театра». Это, конечно, сказано в полемическом запале и не совсем справедливо. Реформа Готшеда была необходима – она помогла преодолеть застой в немецком театре, и даже само обращение к наследию французского классицизма было благотворным для Раннего немецкого Просвещения. Однако скоро, по мере «взросления» немецкой литературы, следование только французскому канону стало сковывать ее развитие. Поэтому абсолютно прав Лессинг, когда в 17-м из «Писем о новейшей литературе» пишет, что Готшед не вникал, «соответствует ли офранцуженный театр немецкому образу мысли или нет».
Для Готшеда действительно еще не существовала проблема национального своеобразия литературы. Он не понимал, что культурные традиции его родной Германии, социально-исторические условия ее развития иные, нежели во Франции. Но действовал он при этом, побуждаемый самыми горячими патриотическими чувствами, желая поднять немецкую культуру, немецкий театр на европейский уровень, отождествлявшийся в его сознании, как и у многих современников, с французской культурой. Готшед никогда не переставал считать себя немцем, выступал против засорения немецкого языка иностранными словами (в том числе и французскими), против галломании. В «Немецкий театр» Готшед не случайно включил комедию Л. Хольберга «Жан де Франс», в которой осмеивается молодой датчанин, побывавший в Париже и вернувшийся на родину «французом», презирающим все свое. Готшед полностью солидарен со своей женой Л. Кульмус, которая в комедии «Француженка-гувернантка» ставит ту же проблему, но на немецком материале, осуждает слепое преклонение перед всем французским (комедия имела значительный успех у публики).
Таким образом, сам Готшед и его театр являют собой в некотором смысле парадокс: с одной стороны, искренняя патриотическая забота о немецкой культуре; с другой – полное непонимание и игнорирование национальной самобытности. Именно жесткость классицистических «норм» и «правил», отстаиваемых Готшедом и его школой, нежелание и неспособность даже и в 40-е гг., когда немецкая литература уже дала собственные яркие и самобытные плоды, осознать, что могут быть и иные пути развития немецкой культуры, привели к суровой критике позиций Готшеда и готшедианцев со стороны Лессинга. Однако еще раньше полемику с Готшедом и его классицизмом развернули немецкоязычные швейцарские критики Бодмер и Брейтингер[234]. На переломе же от Раннего к Зрелому Просвещению, в 40-е гг. XVIII в., оппозицию классицистической драматургии Готшеда составляет «трогательная» комедия К. Ф. Геллерта.
«Трогательная» комедия Кристиана Фюрхтеготта Геллерта и утверждение чувствительности на немецкой сцене
Крупнейшей и авторитетнейшей фигурой литературного процесса в Германии в 40-50-е гг. XVIII в. был Кристиан Фюрхтеготт Геллерт (Christian Fürchtegott Geliert, 1715–1769), многое сделавший в различных сферах немецкой литературы[235] и ставший также обновителем немецкого театра, особенно жанра комедии. В комедиях Геллерта еще в большей степени, нежели в его баснях, очевиден переход от дидактической литературы к чувствительной, от излишне рационализированного просветительского классицизма к сентиментализму и рококо или к сплаву классицистических и рокайльно-сентименталистских тенденций.
Геллерт создает новый для немецкой литературы жанр – «трогательную», или «серьезную», комедию. Незадолго до этого подобный жанр возник во Франции под пером Филиппа Детуша (1680–1754) и Пьера Нивеля де ла Шоссе (1692–1754). В университетской речи на латинском языке «Pro comoedia commovente» (1751), переведенной Лессингом в 1754 г. под названием «Исследование о трогательной комедии», Геллерт ссылается именно на comedie larmoyante – «трогательную», или «слезную», комедию Детуша и Нивеля де ла Шоссе. Он дает собственное теоретическое обоснование нового жанра. Классицистическая комедия поучала, осмеивая пороки. Смех в понимании классицистов неизбежно связан с изображением пороков и их обличением. Готшед в «Опыте критической поэтики» указывает, что несмешному пороку – место в трагедии, а не в комедии. Смех, не обращенный против порока, не имеет поучительной ценности – это область фарса, гансвурстиады (Гансвурст – Ганс-колбаса – традиционный персонаж немецкого фарсового театра). Геллерт же в отличие от Готшед а выступает за комедии, которые «пробуждают более глубокие движения души… более сильное чувство человечности и вызывают даже слезы, свидетельство растроганности». Отодвигая осмеяние пороков на второй план, «серьезная» комедия ставит задачу растрогать зрителя, вписывая в бытовую комедийную атмосферу добродетельные характеры. При этом такая комедия иначе изображает добродетель, нежели трагедия, ибо в отличие от последней она стремится вызвать более мягкие и нежные чувства. Она рисует не героическое величие добродетели, но простые и скромные черты характера, украшающие человека в обыденной жизни. Соответственно, такая комедия отказывается от высокого патетического языка трагедии. В отличие от «резкого» смеха классицистической комедии смех «серьезной» комедии, по словам Геллерта, «мягкий и скромный». Здесь чередуются веселье и печаль, серьезные мотивы переплетаются с шутливыми. «Трогательная» комедия предполагает тихое веселье, которое вполне может совмещаться с тихой же печалью, а в целом такая комедия должна создавать «необыкновенно сладостное» настроение. При этом «сладость» проистекает из осознания добродетели, ее невероятной важности в жизни, а «печаль» – от осознания, что в обыденной жизни добродетель почти всегда несовершенна. Тем не менее, величайшим утешением для зрителя должен служить тот факт, что и в жизни обычных людей, простых бюргеров, есть примеры общезначимых высоких поступков, подлинно добродетельные характеры.
Итак, по Геллерту, «серьезная» комедия – это драматическое произведение, которое, рисуя картины «обыденной частной жизни», славит добродетель, шутливо и мягко осмеивает разнообразные человеческие пороки и несовершенства. В сущности, в основе геллертовской «трогательной» комедии остаются классицистические черты, но они «разбавляются» чертами рокайльными и сентименталистскими (типичный образец «смешанной поэтики», свойственной литературе XVIII в.).
Первая комедия Геллерта – «Богомолка» («Die Betschwester», 1745) – написана еще в духе готшедианской комедии с ее «громким и резким» смехом и обличает религиозное ханжество. Во второй комедии – «Лотерейный билет» («Das Los in der Lotterie», 1746) – уже четче выступает стремление не только обличать в духе классицистической комедии характеров, но и воспитывать чувствительность души, способность сострадать. И только третья комедия Геллерта – «Нежные сестры» («Die zärtlichen Schwestern», 1747) – представляет собой законченный образец «трогательной», или «серьезной», комедии.
В «Нежных сестрах» нет резко очерченных пороков. Почти все персонажи добродетельны, но это добродетель, способная на слабость, а порок – скорее не порок, но неустойчивость характера, подталкиваемая к нехорошим поступкам внешними обстоятельствами. Так, Зигмунд не может понять, кого же из двух сестер он любит – Лоттхен или Юльхен, потому что к его чувствам примешивается такая «слабость», как корыстолюбие, порожденное бедностью. Он мечется от Лоттхен к Юльхен и обратно, потому что Юльхен неожиданно оказывается богатой наследницей, а затем выясняется, что ею все-таки является Лоттхен. Геллерт демонстрирует, что в Зигмунде это не некая изначальная порочность, но именно неустойчивость моральных качеств, которая развивается под влиянием сложившихся обстоятельств. Возможно, не будь неожиданного наследства, никто, в том числе и сам Зигмунд, не заметил бы способности героя к вероломству и корыстолюбию.
Однако в центре внимания автора не обличение, пусть и мягкое, моральной неустойчивости героя, но стремление дать чувствительный идеал добродетели в среде простых людей. Основой движения сюжета является состязание в бескорыстии и самоотверженности двух сестер – нежных, чувствительных душ, что подчеркивается и названием комедии. Старшая, Лоттхен, искренне радуется, что именно младшая, Юльхен, стала богатой наследницей, хотя, согласно трезвой логике, Лоттхен должна обижаться и негодовать. Но в душе ее – только любовь к сестре. В свою очередь Юльхен искренне радуется, когда это известие оказывается ложным и богатое наследство по праву достается Лоттхен. Попутно выясняется вопрос об истинности чувств: посрамлен Зигмунд, Лоттхен остается без жениха, хотя еще недавно она искренне любила его. Она приказывает Зигмунду навсегда покинуть их дом, но в то же время прощает его и обещает прислать ему, бедняку, достаточно денег, чтобы у него не было больше причин обманывать какую-нибудь девушку. В пьесе торжествуют трогательное бескорыстие и всепрощение. Образы «нежных» сестер симметрично дополняются трогательными фигурами честного отца и благородного опекуна.
Современники очень ценили комедии Геллерта, и не только за трогательное содержание, за мягко и ненавязчиво преподнесенную мораль, за высокую оценку нравственных качеств бюргерства, но и за узнаваемость, тщательную выписанность немецкого быта. Немецкие зрители видели на сцене самих себя в своих собственных обстоятельствах, пусть и идиллически-идеализированных, но узнаваемых. В «Гамбургской драматургии» Лессинг признает, что пьесы Геллерта более чем кого-либо другого из немецких писателей «проникнуты чисто немецким духом», и подчеркивает: «…это – настоящие семейные картины, среди которых сразу чувствуешь себя как дома: каждый зритель узнает тут своих родных – двоюродного брата, зятя, тетушку». Одновременно Лессинг мягко указывает и на некоторую схематичность персонажей Геллерта. Его попытки нарисовать сложные характеры не очень удачны, герои так или иначе оказываются воплощением какого-либо одного, пусть и преподнесенного смягченно, качества.
Значение Геллерта для развития немецкого театра весьма значительно. Он смягчил классицистический ригоризм Готшеда рокайльной непринужденностью и сентименталистской чувствительностью, сохраняя в целом специфику классицистической типизации. Ему многим обязан и сам Лессинг, который в «Минне фон Барнхельм» будет использовать трогательный мотив соревнования героев в благородстве и самоотверженности. Геллерт также подготовил в Германии почву для «мещанской драмы», или «бюргерской трагедии», создателем которой станет Лессинг и блестящий образец которой даст Шиллер в своей пьесе «Коварство и любовь».
2. Драматургия Готхольда Эфраима Лессинга как вершина Зрелого Просвещения (1750–1780)
Подлинной зрелости немецкая драматургия достигает на этапе Зрелого Просвещения, в 50-70-е гг. XVIII в., и связано это прежде всего с деятельностью выдающегося немецкого просветителя Готхольда Эфраима Лессинга (Gotthold Ephraim Lessing, 1729–1781). Не случайно Зрелое Просвещение в Германии так и именуют: «эпоха Лессинга». Этот человек действительно составил целую эпоху в развитии не только немецкой, но – шире – европейской, мировой культуры и литературы. Лессинг сделал чрезвычайно много как теоретик искусства и литературы, как писатель. Он работал в различных жанрах – в публицистике, философской эссеистике, писал стихотворения, басни и эпиграммы. Но все-таки прежде всего его душа была отдана драматургии и театру. Лессинг, наряду с Дидро, стал крупнейшим для эпохи Просвещения теоретиком драмы и театра и при этом столь же талантливо демонстрировал правоту своих теоретических выкладок на практике, в оригинальных пьесах различных жанров.
Творческий путь Г Э. Лессинга
Выдающийся литературовед В. Р. Гриб писал: «Бывают такие времена и исторические жизни, когда не только творчество писателя, но и его личная жизнь, его образ действий становятся общественным подвигом. Пример тому жизнь Лессинга. На первый взгляд в его биографии нет ничего драматического: он никогда не бросал вызова княжеским властям, жил добропорядочно и мирно. И все же он, пожалуй, единственный немецкий писатель XVIII в., который прожил свою жизнь как свободный человек»[236]. Думается, изрядную подпитку природное свободолюбие Лессинга получило в атмосфере театра, в которую он погрузился в ранней молодости.
Лессинг родился 22 января 1729 г. в Саксонии, в маленьком городке Каменец, в добропорядочном патриархальном пасторском семействе. Родители постарались дать сыну хорошее образование, надеясь, что он станет пастором или профессором университета. Однако он не оправдал их ожиданий, так и не усвоив вкуса к главному для достижения размеренной, спокойной жизни – к карьере, к службе, к аккуратному чиновничьему существованию, к кабинетной учености. В нем жило нечто от будущего гётевского Фауста, и прежде всего – неуемное стремление к познанию, к ощущению полноты жизни (не случайно именно Лессинг первым укажет своим соотечественникам, какие неисчерпаемые глубины таятся в народном немецком сюжете о Фаусте). В годы учебы в Лейпцигском университете (1746–1748) он ищет не ученой карьеры, но духовной свободы, полноты человечности. Показательны его слова в одном из писем матери: «Я понял, что книги сделают меня ученым, но никак не сделают меня человеком». Лессинг хочет быть в гуще самой жизни, его привлекает к себе все, что не связано с официозом и ученым педантизмом, с мертвящей рутиной. Как отмечает В. Р. Гриб, «Лессинга всегда влекло к париям, к отверженным тогдашнего официального общества, актерам, солдатам, людям вольной жизни. Среди них он находил прямоту, смелость, любовь к независимости, цельные, самобытные характеры, пренебрежение званиями и житейскими выгодами, – все то, чего не было и в помине в “порядочном обществе” филистеров, академических париков и княжеских блюдолизов»[237].
Крайне важно, что восемнадцатилетний Лессинг становится своим человеком в знаменитой театральной труппе Каролины Нойбер, на которую сделал некогда ставку в своей театральной реформе Готшед (прямое сотрудничество Готшеда с труппой «Нойберши» к этому времени уже завершилось). И Лессинг не только кутит с актерами, не только ухаживает за актрисами, но и находит время для глубокого изучения античности, современной философии и литературы, для творчества. Показательно, что дебютирует он не только стихами в модном тогда рокайльном анакреонтическом духе (позднее он опубликует их в сборнике «Безделки», или «Безделушки», – «Die Kleinigkeiten», 1751), но и пьесами, написанными специально для театра Каролины Нойбер: «Молодой ученый» («Der junge Gelehrte», 1747), «Вольнодумец» («Der Freigeist», 1749), «Евреи» («Die Juden», 1749).
Смелым шагом со стороны Лессинга было решение отказаться от всякой официальной карьеры и зарабатывать на жизнь пером. В условиях тогдашней Германии, когда все писатели, даже самые знаменитые, вынуждены были искать покровительства состоятельных людей, занимать должности при дворах герцогов и князей, получать монаршие стипендии и пенсии, это решение было необычайно дерзким. И главное: Лессингу почти удалось доказать, что это возможно, что литературная деятельность, свободное, смелое, талантливое перо – единственный путь к житейской и духовной независимости. Почти удалось – потому что в финале своей достаточно короткой жизни он вынужден будет занять место при князе, пойти на унизительные для себя условия, но только потому, что его будут снедать тревога и забота о семье, о любимых людях. Показательна написанная им в молодости эпитафия на могилу достойного бюргера («Достойному частному лицу»): «Он жил просто и честно, без должностей и пенсий, и не был никому ни барином, ни слугой». Безусловно, эта эпитафия выражает жизненное кредо самого Лессинга. В равной степени его девизом можно считать шутливо сформулированную им в юности мудрость: «Быть ленивым – вот мой долг» («Faul zu sein, sei meine Pflicht»). Этот афоризм выражает здоровый эпикуреизм молодого Лессинга. Ему близок естественный гедонизм рококо, разумное наслаждение, к которому призывает столь любимый и ценимый им Фридрих фон Хагедорн (в одном из юношеских писем отцу Лессинг называет его «величайшим поэтом своего времени»). В понимании Лессинга «быть ленивым» синонимично понятию «быть свободным», не угождать никому, творить, подчиняясь голосу собственного разума и совести. Пафос разумного наслаждения жизнью соединяется у него с осуждением всякого вида тирании, узурпации свободных прав человеческой личности. Не случайно в одной из анакреонтических песен Лессинг призывает: «Да, будем пить и веселиться, и пусть житейская суета идет своим путем, но если грубая рука тирана опрокинет наши амфоры и сорвет с нас венки, возьмемся за мечи!» Тиран и придворный льстец – две ненавистнейшие для него фигуры. В одной из ядовитых эпиграмм Лессинга (они образуют целый цикл под названием «Sinngedichte» – «Изречения», «Афоризмы»[238]), именующейся «Вреднейший зверь», на вопрос короля, какой зверь вреднее всех других, мудрец отвечает: «Средь диких – тиран, средь домашних – льстец».
Окончательно решиться идти независимым путем литературного творчества Лессингу помог случай, заставивший его бежать из Лейпцига в Берлин. Он стал жертвой ярости кредиторов, ополчившихся на него как на поручителя нескольких актеров, не уплативших долги и исчезнувших из Лейпцига. Пришлось и ему в 1748 г. срочно покинуть этот город и перебраться в Берлин, столицу Бранденбург-Пруссии, где для него началось поначалу полуголодное, нищенское, но дающее независимость существование свободного литератора. Берлин в это время только начинал превращаться из провинциального города в один из крупных европейских центров культуры. Лессинг с нетерпением ждал приезда в Берлин Вольтера, приглашенного Фридрихом II, которому нравилось играть роль «просвещенного» монарха и поддерживать общение с выдающимися просветителями. В 1750 г. Вольтер приехал, и Лессинг добился рекомендации к нему в качестве переводчика его деловых бумаг. Однако знакомство с великим человеком, на которое Лессинг возлагал большие надежды, неожиданно закончилось крахом. Личный секретарь Вольтера, Ришье де Лувен, передал Лессингу корректуру книги Вольтера «Век Людовика XIV», не спросив разрешения у автора, о чем понятия не имел Лессинг. Вольтер заподозрил своего секретаря и переводчика в нечестных замыслах и в грубой форме порвал с Лессингом. Несмотря на пережитую обиду (дело получило неприятную для Лессинга огласку), несмотря на неприятие некоторых личностных качеств Вольтера, Лессинг навсегда сохранил к нему глубочайшее уважение как к учителю и старшему собрату по перу, так много сделавшему для его интеллектуального и духовного развития. В Берлине Лессинг находит близких ему по духу и верных друзей – таких как поэт, издатель и книгопродавец Кристиан Фридрих Николаи (1733–1811) и особенно философ-моралист Мозес Мендельсон, не только яркий представитель немецкого, но и основоположник еврейского Просвещения (Гаскалы). До конца жизни Лессинга Мендельсон был самым преданным его другом; даже когда Лессинг надолго покинул Берлин, друзья постоянно переписывались.
Берлинские годы жизни Лессинга (1748–1760) явились чрезвычайно важным и плодотворным периодом его творчества. Он начинает с переводов и мелких рецензий в «Фоссовой газете» и здесь же в 1751–1755 гг. публикует все свои важнейшие сочинения-рецензии. В Берлине опубликованы «Письма» (1753), «Вадемекум для г-на С. Г. Ланге, пастора в Лаублингене» (1759) и «Письма о новейшей литературе» (1759), которые Лессинг издает с помощью своих друзей Николаи и Мендельсона. Именно в «Письмах о новейшей литературе» Лессинг провозглашает необходимость поисков немецкой литературой собственного пути, протестует против «офранцуженного» театра Готшеда. В это же время он много внимания уделяет переводам из Вольтера, Дидро, Детуша, пропагандирует взгляды французских просветителей, предлагает немецким читателям и зрителям усвоить все лучшее, что дает современная французская и английская литература, не только французский, но и английский театр. Лессинг также на деле демонстрирует восприятие традиций английского театра: результатом становится его пьеса «Мисс Сарра Сампсон» («Miss Sara Sampson», 1755). Кроме того, он призывает изучать античность и задумывает целый цикл трагедий на античные темы: «Освобожденный Рим», «Виргиния» (этот сюжет будет впоследствии обработан в «Эмилии Галотти»), «Кодр», «Клеонид», «Филотас». Закончена была только трагедия «Филотас» (1759) – небольшая одноактная трагедия в прозе. Одновременно Лессинг по-настоящему открывает для себя и своих соотечественников Шекспира, через призму которого он иначе оценивает и достижения античности, и наследие французских классицистов XVII в.
К концу 50-х гг. Лессинг уже очень знаменит как критик и знаток литературы, театра. К его мнению, к его оценкам прислушиваются и маститые, и начинающие писатели. «К Лессингу, – отмечает В. Р. Гриб, – пришла слава и сравнительная обеспеченность. Его критические приговоры получили силу закона. Литературная чернь трепетала перед ним. К нему тянулось все сколько-нибудь мыслящее и честное в немецкой литературе. Даже такие далекие от него люди, как Виланд и Клопшток, не могли не считаться с ним. Но натура Лессинга была не такова, чтобы он мог удовлетвориться ролью оракула поэтического цеха»[239].
Действительно, беспокойная и ищущая натура Лессинга жаждет перемен. Он хочет отойти, по крайней мере на время, от критики и публицистики и сосредоточиться на художественном творчестве и более глубоком осмыслении прекрасного, законов эстетического творчества. Именно поэтому Лессинг в 1760 г. принимает приглашение военного губернатора Силезии, генерала Тауэнцина, переехать к нему в Бреслау (Бреславль, центр Силезии, ныне – Вроцлав в Польше) и стать его секретарем. При этом Тауэнцин обещает Лессингу минимум служебных обязанностей, максимум свободы и сдерживает свое обещание. В Бреславле Лессинг наслаждается свободой и внешне напоминает «гуляку праздного» (слова пушкинского Сальери о Моцарте). Однако именно в это время, незримо для других, в нем идет напряженнейшая внутренняя работа. По его собственному признанию, это начало «серьезной эпохи его жизни». И действительно, именно в бреславльские годы (1760–1765) Лессинг произносит свое главное слово в эстетике – создает знаменитый трактат «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии» («Laokoon, oder über die Grenzen der Malerei und Poesie», 1766), где разворачивает полемику с Винкельманом, дает свое понимание античности, пластических искусств и литературы, создает свой, индивидуальный, вариант просветительского классицизма[240]. В это же время он пишет знаменитую «серьезную» комедию «Минна фон Барнхельм» («Minna von Barnhelm», 1763–1767), которая по-настоящему открывает славную историю немецкого просветительского театра.
В 1765 г. Лессинг покидает Силезию и возвращается в Берлин. Однако здесь он постоянно чувствует какое-то удушье, не находит себе настоящего дела и с радостью принимает предложение Национального театра в Гамбурге – стать во главе репертуарной части театра и рецензировать все постановки в особом критическом листке. В Гамбурге, свободном ганзейском городе, гордившемся своей независимостью и республиканскими нравами, еще в XVII в. был основан театр. Теперь гамбуржцы решили возродить его на новой основе и с помощью такого знаменитого человека, как Лессинг. «Создать для немцев национальный театр», со сцены воздействовать на умы и чувства современников, воспитывать просвещенных людей – эта идея не могла не захватить Лессинга, всю жизнь «болевшего» театром. Он переезжает в Гамбург и с энтузиазмом берется за новое дело. На протяжении двух лет, из отдельных рецензий на постановки Национального театра в Гамбурге и из размышлений Лессинга о природе театрального искусства вообще, вырастает знаменитая «Гамбургская драматургия» («Hamburgiche Dramaturgie», 1767–1768) – один из самых глубоких трудов в области теории драмы и театра. Попытка же создать в Гамбурге настоящий высокопрофессиональный театр общенационального звучания закончилась крахом и горьким разочарованием, ибо гамбургские купцы, на меценатство которых рассчитывал Лессинг, были, по его словам, равнодушны ко всему на свете, кроме собственного кошелька. В 1770 г. театр закрылся из-за элементарной нехватки денег на дальнейшие спектакли.
Лессинг пережил жестокий удар и в очередной раз оказался на перепутье. Он был бесконечно одинок, и, быть может, как награда за это одиночество, к нему пришла наконец-то единственная настоящая любовь. В 1771 г. Лессинг обручился с Евой Кёниг, вдовой его ранее умершего друга, для которой он стал настоящей опорой в тяжкую минуту, а она в свою очередь одарила его светом сочувствия, понимания и любви в очень нелегкие для него годы. В 1772 г. Лессинг и Ева Кёниг поженились. Теперь у него была семья, и нужно было думать об оседлой жизни, нужно было искать службу. Так Лессинг в том же 1772 г. оказался в Вольфенбюттеле, где принц Брауншвейгский предложил ему заведовать его библиотекой. С одной стороны, принцу был лестен имидж «просвещенного» монарха, покровителя искусств, мецената, поддерживающего знаменитого человека. С другой стороны, он бесконечно тиранил Лессинга и отказывал ему даже в скромном увеличении жалованья, необходимом для содержания семьи. Семейное счастье Лессинга было недолгим: жена умерла через год после женитьбы. Он всегда считал себя виноватым в ее болезни и смерти, в том, что так и не сумел создать необходимые условия для их совместной жизни и счастья. Эти бесконечные муки совести, душевные терзания Лессинга всерьез повлияли на его здоровье и привели к преждевременной смерти в 1781 г.
Однако именно вольфенбюттельские годы жизни и творчества Лессинга стали временем, когда он создал свои самые художественно совершенные и философски глубокие произведения: трагедию «Эмилия Галотти» («Emilia Galotti», 1772), серию философских памфлетов «Анти-Гёце» («Anti-Goetze», 1778), философскую драму «Натан Мудрый» («Natan der Weise», 1779), религиозно-философский трактат «Воспитание рода человеческого» («Die Erziehungs des Menschengeschlechtes», 1780). Несмотря на все обрушивавшиеся на него общественные и личные удары, Лессинг оставался духовно невероятно стойким, верным самому себе. В глазах современников он заслуженно был не просто великим критиком, писателем, теоретиком искусства, но Человеком с большой буквы. Недаром Гёте, размышляя о своем великом старшем современнике и учителе уже много лет спустя после его смерти, скажет в беседе с И. П. Эккерманом: «Такой человек, как Лессинг, нужен нам, потому что он велик именно благодаря своему характеру, благодаря своей твердости. Столь же умных и образованных людей много, но где найти подобный характер!»
Особенности драматургической концепции Г Э. Лессинга
В истории мировой культуры Лессинг помимо прочих своих заслуг остался как один из самых выдающихся теоретиков драмы и театра. Безусловно, его взгляды на искусство драмы не были неизменными, но развивались в процессе его духовной и творческой эволюции. Самые ранние пьесы Лессинга (конец 1740-х гг.) созданы еще в духе эстетики Готшеда и нравоучительной комедии Детуша: это комедии, в которых обличаются пороки общества. При этом общественное зло преподносится в русле моралистической трактовки и мыслится зависящим не от сословной принадлежности человека, но от его разумного или неразумного, достойного или недостойного поведения. Как только герой осознает неразумность и недостойность своего поведения, он становится на путь исправления. Герои в этих комедиях предстают очень обобщенными, практически лишенными индивидуальности. Это же относится и к неоконченной политической трагедии «Самуэль Генци», замысел которой возник в 1749 г., но фрагменты из нее были опубликованы только в «Письмах» в 1753 г. Самуэль Генци (Хенци), бернский патриот, пламенный республиканец, организовал заговор против властей города, губящих и развращающих народ. Однако заговорщиков выдает втершийся в их ряды предатель Дюкре, который на словах призывает бороться с тиранией, но на деле только прикрывает велеречивой риторикой свои корыстные интересы.
Вскоре Лессинг осознал, что для того, чтобы двигаться дальше как драматургу, искать новые пути в театре, ему нужно обратиться к теоретическому осмыслению театра и – шире – искусства, литературы. В споре между «швейцарцами» и Готшедом Лессинг поддерживает первых, хотя ему несколько претит их сугубо религиозный, пиетистский, излишне чувствительный и восторженный («серафический») подход к творчеству Он также ратует за большую роль воображения в искусстве, но стоит пока на позициях старого, «классического», классицизма – позициях эстетики Буало и Батте, одного из ранних теоретиков просветительского классицизма во Франции. Он особенно ценит подражание изящной, артистической природе, которое провозгласил Баттё, он пишет о том, что особое наслаждение читатель получает от виртуозности, с которой поэт преодолевает различные технические трудности. И он уже готов признать, что гений всегда торжествует над «правилами», хотя по-прежнему считает последние необходимыми.
Внешним толчком к некоторому пересмотру взглядов на драму становится для Лессинга знакомство с английской мещанской драмой и «слезной» комедией – как в ее французском, так и в уже сложившемся под пером Геллерта немецком варианте. Особый интерес Лессинга привлекает пьеса английского драматурга Дж. Лилло «Лондонский купец, или История Джорджа Барнвеля» (1731), в которой впервые в качестве положительного героя из третьего сословия предстал не абстрактный «порядочный человек» с характерным обобщенным именем (какой-нибудь Арист, Клеант или Дамон, как в комедиях Мольера), но английский купеческий сын, вполне узнаваемый, в совершенно жизнеподобной современной ситуации. Лессинг также полагает, что задача современного театра не только осмеивать пороки и изображать гиперболизированные страсти и характеры, но стать ближе обычному «среднему» человеку, искать позитивный идеал и находить его в обыденной жизни. Он мечтает о создании жанра, который соединил бы в себе в смягченном варианте несовместимые в классицистической иерархии трагедию и комедию и стал бы действенным средством воспитания «просвещенных умов» и «чувствительных душ». Именно поэтому его столь привлекают «слезная» комедия Нивеля де ла Шоссе и «трогательная» комедия Геллерта, прокладывающие путь «мещанской драме». В 1754 г. Лессинг публикует в «Театральной библиотеке» два «Рассуждения о слезной, или трогательной, комедии» в своем переводе на немецкий язык. Первое из них написано неким французским противником комедии, укрывшимся за инициалами М. Л. С., второе является латинским трактатом Геллерта. В предисловии редактора Лессинг пишет: «Теперь утверждают, что свет достаточно увеселился комедиями и освистывал пороки, и приходят к мысли, что мир должен плакать над комедиями и находить благородное удовольствие в мирных добродетелях. Считают также несправедливым, что только царственные и высокие особы должны пробуждать в нас ужас и сострадание; теперь ищут героев из средних сословий и возводят их на подмостки сцены, на которой их раньше видели представленными только в смешном виде». Любая пьеса, и трагедия, и комедия, должна в первую очередь трогать, волновать, а для этого мало только рассудка и следования правилам «изящного вкуса». Вместе с тем уже в послесловии к «Рассуждениям…» Лессинг предлагает отличать «трогательную» комедию от «слезной». Последняя не изображает ничего, кроме добродетелей, достойных восхищения и вызывающих растроганность, и поэтому она «приносит только половину той пользы, которую дает истинная комедия». Истинная же комедия должна и трогать, и изображать пороки, ибо «именно путем этого смешения» она больше всего «приближается к своему оригиналу – человеческой жизни».
Далее Лессинг развивает свои идеи в «Предисловии к трагедиям Томсона» (1756). Он говорит о том, что для искусства недостаточно только логики, продуманности, ясности, соразмерности, ведь лишь благодаря чувству, порыву души произведение искусства получает жизнь. Такие же волнение чувств, движение души, человечность искусство должно пробуждать в людях. Согласно Лессингу, трагедия никуда не годится, если она не возбуждает в зрителе «слез сострадания и ощутившей самое себя человечности». Итак, он спорит с излишне рационализированной трагедией классицизма в духе Готшеда и, в сущности, выступает за обогащение традиционного классицизма элементами рококо и сентиментализма. Трагедия (как и комедия) должна быть нацелена на постижение человеческого сердца. По мнению Лессинга, «познанию человеческого сердца и магическому искусству представить перед нашими глазами зарождение, развитие и крушение всякой страсти… не выучит никакой Аристотель, никакой Корнель, кому как раз и не хватало этого искусства». С точки зрения Лессинга, гораздо лучше написать «Лондонского купца», чем аддисоновского «Умирающего Катона». Он согласен, что в трагедии Аддисона «действие героично, просто, целостно, оно согласуется с единством времени и места; каждый персонаж имеет свой особый характер, говорит сообразно своему характеру, нет недостатка ни в моральной пользе, ни в благозвучии выражений». Однако тут же, мысленно обращаясь к английскому драматургу, Лессинг восклицает: «Но ты, ты, создавший это чудо, можешь ли ты похвалиться, что написал трагедию? Да, но не больше того, кто, создав статую, стал бы хвастаться, что создал человека. Его статуя – человек, и ей не хватает одной лишь безделицы – души».
Этот пассаж недвусмысленно свидетельствует о том, что Лессинга не устраивает излишняя рассудочность, холодная «скульптурность» образов старого, особенно «гражданственного», классицизма. Для него главным критерием правды является истинность чувств и переживаний героя, приближающая его к зрителю. Так, разбирая все того же «Катона» Аддисона в переписке с Николаи и Мендельсоном (1756), Лессинг указывает, что в этой трагедии все сделано по тем правилам, о которых писал Буало. Но беда в том, что герои пьесы оставляют нас холодными и равнодушными, мы не можем сострадать им, потому что они ни в чем не похожи на нас, простых смертных. Добродетели героев Аддисона – лишь фантазия, абстракция, ведь в реальных людях добродетели всегда идут рука об руку с ошибками, слабостями, недостатками. Лессинг настаивает, что «живое тело» гораздо важнее «статуй», а «душа» намного важнее «правил». Это, однако, не означает, что он выступает против «правил»: они приносят свою пользу, ибо «на них покоятся правильные пропорции частей, ибо от них получает целое порядок и симметрию». «Катону» Аддисона Лессинг противопоставляет трагедии Томсона именно потому, что они «так же правильны, как и сильны», т. е. созданы по всем правилам классицизма и одновременно трогают, волнуют, изображают истинные страсти, подлинные движения души.
Преодолеть разрыв, существующий между «правильной» трагедией классицизма, и трагедией, волнующей публику, чувствительной, Лессинг предлагает, обратившись к опыту Шекспира. В знаменитом 17-м письме из «Писем о новейшей литературе» он, объявляя войну «офранцуженному театру» Готшеда, впервые ставит вопрос о национальном, исторически сложившемся характере искусства. Лессинг утверждает: старинные немецкие пьесы, изгнанные Готшедом со сцены, могли бы показать, что немецкий вкус ближе к Шекспиру, чем к французским классицистам, что «мы в своих трагедиях хотели больше видеть и мыслить, чем нам позволяет робкая французская трагедия; что великое, ужасное, меланхолическое сильнее действует на нас, чем все учтивое, нежное, ласковое, что чрезмерная простота нас утомляет сильнее, чем чрезмерная сложность и запутанность». По его мнению, «Корнель ближе к древним по внешним приемам, а Шекспир – по существу». В этом же письме Лессинг предлагает образец того, как можно писать в духе Шекспира, взяв за основу немецкий народный сюжет, – сцену из задуманной им трагедии «Фауст». Непосредственным источником для Лессинга послужила народная кукольная комедия. В этой сцене Фауст вызывает различных адских духов, чтобы выбрать одного из них себе в качестве слуги. Лессинг, в сущности, первым указал немцам на возможности сюжета о Фаусте, для которого, по его словам, требуется «гений шекспировской силы». Он так и не закончил свою трагедию о «Фаусте»; сохранились лишь свидетельства друзей о его замысле. Лессинг собирался представить Фауста наделенным всепоглощающей жаждой знания, что в конечном итоге и должно было спасти его из когтей дьявола. Добычей же последнего должен был оказаться призрак, созданный Богом специально для того, чтобы защитить неутомимого искателя истины.
На новом этапе изучения античности и творчества Шекспира появляются важнейшие теоретические работы Лессинга – «Лаокоон» и «Гамбургская драматургия», в которых довершается его глубокое осмысление природы драматического искусства. В «Лаокооне» Лессинг по-прежнему говорит о необходимости появления на сцене не ходульного, но естественного героя: «Герои на сцене должны обнаруживать свои чувства, выражать открыто свои страдания и не мешать проявлению естественных наклонностей». Вместе с тем это не означает, что позитивный герой должен отдаваться только голосу природы, только инстинктам и страстям. Он непременно должен поверять свои страсти разумом и чувством долга, он должен опираться как на разумную естественную природу, так и на позитивные гражданские идеалы. Более того, театр и должен формировать у зрителя эти позитивные идеалы, способствовать созданию гражданского общества. В этом смысле Лессинг был солидарен с Дидро, который писал в «Парадоксе об актере»: «Спектакль подобен хорошо организованному обществу, где каждый поступается частью своих прав в интересах всех и для блага целого». Хороший гражданин, как и хороший актер, соизмеряет свои страсти и желания с той «ролью», которую предназначило ему общество. Вместе с тем в старом классицизме правда жизни и правда искусства – две разные правды. По словам Дидро, во французской трагедии «правда условная диссонирует с правдой действительности», «актер в жизни ничего не говорит и не делает так, как на сцене: это иной мир», в котором действуют не живые индивидуальности, но «маски», «громадные манекены», «преувеличенные портреты». По мнению Дидро, нужно создать истинную трагедию, которая черпала бы поэзию и героизм из обычной жизни, но изображала бы «возвышенную и простую доблесть», подобно тому, как это делали античные трагедиографы. Вместе с тем Дидро опасается натурализма, излишнего бытовизма и приземленное™, подчеркивая, что искусство должно возвышать человека, воспитывать в нем гражданское чувство и чувство гармонии.
Лессинг разделяет позицию Дидро, предполагающую соседство «высокой» и «мещанской» трагедии: последняя также может быть возвышенной, воспитывать истинные чувства и формировать общественную позицию. Но если для Дидро эстетическим эталоном по-прежнему остается Расин, а Шекспир предстает хоть и как колосс, но колосс «готический, варварский, не Аполлон Бельведерский, а статуя св. Христофора», то для Лессинга как раз недостаточны Корнель и Расин, а Шекспир стоит наравне с греческими драматургами. В «Гамбургской драматургии» Лессинг заявляет: «Шекспир должен быть для нас тем, чем является для пейзажиста камера-обскура. Он должен внимательно смотреть в нее, чтобы научиться, как природа во всех случаях отражается на плоскости, но ничего не заимствовать из нее». В Шекспире Лессинг особенно ценит способность создавать живые, объемные характеры, соединяя положительное и отрицательное, прекрасное и безобразное. «Только поэт, – пишет он в «Лаокооне», – может рисовать отрицательные черты и путем смешения этих отрицательных черт с положительными соединять два изображения в одно». Поэзия, по мнению Лессинга, в отличие от живописи создает характеры типические и одновременно индивидуально определенные. Поэтому и красота предстает в поэзии иной, нежели в пластических искусствах, ибо это не просто телесная красота, но красота духовно-телесного целого, движущегося и изменяющегося. Более того, поэт может пользоваться безобразным «для возбуждения и усиления смешных впечатлений», «сочетания смешного и ужасного», как это делает Софокл в «Филоктете» или Шекспир в «Ричарде III».
Таким образом, типичное для Лессинга не исключает, а предполагает индивидуальное, а последнее приближается к обыденной жизни, но несводимо к ней. В «Гамбургской драматургии» Лессинг, который всегда отмечал, как много для него значит Дидро («Без примера и наставления Дидро мой вкус получил бы совсем другое направление»), тем не менее продолжает полемику с ним, и прежде всего с его концепцией «совершенного характера». Драматический персонаж, по мнению Лессинга, должен быть не исключительным – невероятным героем или столь же невероятным злодеем, но таким, каким он бывает у большинства людей. Только тогда он сможет стать характером, «возводящим частное явление в общий тип». Драматург должен прежде всего достоверно передавать психологию человека. В то же время Лессинг выступает против излишнего натурализма и бытовизма, считая, что художник должен создавать прежде всего типы. Если Дидро утверждал, что «в комедии изображаются типы, а в трагедии – индивидуумы», то Лессинг настаивает на том, что в любом виде драмы характеры должны быть типичными и одновременно представлять индивидуумы. Точнее, Лессинг различает характеры «обыкновенные» и «перегруженные». «Обыкновенный характер, – пишет он, – это такой характер, в котором всему, что замечено в нескольких или всех личностях, придано известное среднее сечение, средняя пропорция». Однако эта формулировка не означает тяготения Лессинга к реализму, как полагали ранее советские исследователи. Это вовсе не равно общеизвестной формуле «типический характер в типичных обстоятельствах». Нет, по Лессингу, характер – всегда укрупнение, обобщение, всегда тип, несводимый к абсолютно конкретному, индивидуальному. Это тот же классицизм, но с требованием большего правдоподобия: «Обыкновенный характер обыкновенен не как характер сам по себе, а поскольку его степень, его мера обыкновенны». Другими словами, индивидуальное развитие типического характера должно быть согласовано с индивидуальным развитием среднего человека, так, чтобы зритель мог сказать: «Это такой же человек, как я!» «Перегруженный характер» – это в высшей степени типический характер, персонифицированная идея, доведенная до апогея какая-либо страсть, какая-либо черта. Но и такой характер должен быть подан психологически правдоподобно.
Лессинг полагает, что для трагедии, в которой изображаются исключительные конфликты и ситуации, достаточно «обыкновенного характера». Главное в трагедии – фабула, так как трагедия – поэзия в ее чистейшем выражении, она имеет дело с неординарным, сугубо индивидуальным, сверхобычным. Трагический персонаж может также сочетать черты «обыкновенности» и «перегруженности». В свою очередь для комедии, которая имеет дело с обыденным, общераспространенным и для которой характер важнее фабулы, органичен «перегруженный характер», преувеличивающий какую-либо одну черту – скупость, лицемерие и т. и. Здесь возможно нарушение «средней пропорции» характера, и именно таким путем были созданы мольеровские Гарпагон, Тартюф и другие персонажи, ставшие в высшей степени типами. Лессинг настаивает на том, что комический характер должен быть одновременно и «обыкновенным» и «перегруженным». В нем «все, что замечено в нескольких или во всех личностях, собрано воедино… Это скорее – олицетворенная идея характера, чем охарактеризованная личность». Комический характер не должен быть абсолютно правдоподобен, ибо это противоречит законам жанра и задачам комедии. Отмечая заслуги Геллерта в его комедиях, Лессинг тем не менее упрекает его и его последователей в том, что глупцы в их пьесах чересчур натуральны, что они изображены «похоже, но не рельефно». «Глупцы во всем свете пошлы, тупы и скучны, если же поэт хочет сделать их забавными, то должен вложить в них что-то от себя… принарядить их, наделить их остроумием и рассудком… вложить в них стремление блистать хорошими качествами».
Таким образом, очевидно, что Лессинг не отказывается от классицистической типизации, но провозглашает необходимость большего ее соединения с индивидуализацией и тем самым – достижения большего правдоподобия, сгущенного выражения правды жизни. Как истинный классицист, он подчеркивает воспитательную силу искусства, но одновременно протестует против излишней назидательности, прямолинейного иллюстрирования той или иной «тезы», как того хотел Готшед: «Для драматического поэта все равно, можно ли вывести из его фабулы общеизвестную истину, или нет……Могут быть весьма поучительные и безукоризненные пьесы, не имеющие в виду разъяснения… или подтверждения какой-нибудь великой нравственной истины». Согласно Лессингу, великий поучительный смысл трагедии заключается уже в том, что она демонстрирует, как все диссонансы действительности разрешаются в высшей гармонии мироздания, как никакое временное зло не может остановить движение человечества к добру и совершенству (Лессинг был верным сторонником Лейбница, разделял его взгляды на предустановленную гармонию и теодицею). Трагедия должна учить человека стойкости в испытаниях и человечности. Ее художественный эффект заключается в том, что она, благодаря катарсису, «превращает страсти в совершенство добродетели», помогает найти равновесие между личными желаниями и стремлениями и объективным ходом вещей. По Лессингу, сострадание при восприятии трагедии «очищает душу не только чрезмерно сострадательного человека, но и слишком малострадательного». В свою очередь страх преображает «душу не только того, кто не страшится никакого несчастья, но и того, кого устрашает всякое несчастье, даже самое отдаленное и невероятное». Драматург должен подчинять тот жизненный материал, который он избрал объектом изображения, даже самый ужас жизни, самым высоким идеальным целям, прежде всего теодицее. В произведении не должно быть абсолютной безысходности, возбуждающей в человеке «ропот на Провидение». Так, например, не следует делать главным героем трагедии абсолютно невиновного человека, гибель которого заставит нас усомниться в конечном торжестве добра и справедливости Бога. «Если учение разума должно укрепиться в нас и если мы вместе с покорностью должны сохранить упование и бодрое расположение духа, то в высшей степени важно, чтобы нам как можно меньше напоминали о смущающих примерах подобного незаслуженного и ужасного предопределения. Прочь их со сцены! Прочь, если можно, и из книг!»
Как истинный классицист, Лессинг не отказывается от принципа гармонии, стройности, пропорциональности, симметрии любого произведения искусства, а значит – и от правил «трех единств». Более того, подлинный художник, по его мнению, должен стремиться к конечной гармонизации всего, что он изображает, к гармонии формы и содержания (в этом смысле его позиция близка будущему «веймарскому классицизму» Гёте и Шиллера). Особенно показательна в этом плане лессинговская оценка Шекспира. С одной стороны, он его явно «эллинизирует», доказывает согласованность творческих установок Шекспира с требованиями поэтики Аристотеля, говорит о великом нравственном мужестве Шекспира, его умении обнаруживать в жизни смысл, разум, красоту вопреки ее бессмысленности, ужасу, безобразию. С другой стороны, архитектоника пьес Шекспира кажется ему слишком произвольной, недостаточно строгой и гармоничной, и в этом Шекспиру не нужно подражать. В «Гамбургской драматургии», писавшейся тогда, когда на авансцену уже вышли драматурги-штюрмеры, Лессинг осуждает молодых авторов, которые, по его мнению, перенимают у Шекспира не его сильные, но его слабые стороны. Так, он резко критикует свободную шекспировскую форму гётевского «Гёца фон Берлихингена», равно как и штюрмерский культ гения, свободного от всех правил. «Гений, гений! Гений превыше всех правил! Правила угнетают гения», – иронически пишет Лессинг о штюрмерах. Он считает этот культ гения проявлением излишнего себялюбия и необузданности, отсутствия подлинного разума и мужества. У молодой немецкой литературы, по его мнению, «есть и кровь, и жизнь, и краски, и огонь, но недостает крепости и нервов, и мозга, и костей».
В сущности, драматургическая теория Лессинга, как и его драмы, остается в рамках просветительского классицизма. Однако он стремится найти «золотую середину», достичь компромисса между излишне рациональной эстетикой старого классицизма, чувствительностью рококо и сентиментализма, неистовостью шекспировских страстей. Как справедливо замечает В. Р. Гриб, «логически строгая архитектоника лессинговских драм навсегда сохранила “классический” отпечаток… Для эстетического чувства Лессинга, как для эстетического чувства всякого просветителя, внешний произвол композиции был синонимом бесхарактерности, гипертрофии индивидуального, словом, синонимом того, что впоследствии называли “вертеризмом”»[241]. Следует, однако, заметить, что «Вертер» Гёте – также явление Просвещения, в художественном отношении очень многообразного, но явление, безусловно, не просветительского классицизма, а сентиментализма. Тенденции последнего также не чужды Лессингу, но эстетика просветительского классицизма преобладает в его творческих установках. Гётевского же «Вертера» он критиковал и с точки зрения общественной, гражданской позиции, видя в самоубийстве героя только слабость, проявление бесхарактерности: «Скажите, греческий или римский юноша лишил бы себя жизни так и по такой причине?.. Производить таких мелко-великих суждено только нашему новоевропейскому воспитанию, которое так отлично умеет превращать физическую потребность в душевное совершенство». Здесь Лессинг не совсем прав, тем более что Гёте, отдавая дань уважения именно Лессингу и подчеркивая, что самоубийство его Вертера – бунт, протест, который сродни отказу от жизни Эмилии Галотти, заставляет своего героя в последнюю ночь жизни читать трагедию Лессинга.
«Бюргерская трагедия» и «бюргерская комедия» в творчестве Г. Э. Лессинга
Драматургия Лессинга ярко отражает в себе теоретические установки их автора и эволюцию его взглядов. Первой пьесой, принесшей Лессингу широкую известность, была «Мисс Сарра Сампсон» (1755) – первая «бюргерская» («мещанская») трагедия в Германии. Писатель обратился здесь к новому и актуальному драматургическому материалу. Кроме того, Лессинг указывает, в пику готшедовскому «офранцуженному» театру, на другой источник подражания – английский буржуазный театр (вместе с тем он последовательно выступает против англомании, как и против галломании).
Впервые в немецкой пьесе героями трагедии стали обычные люди из буржуазной среды. Действие пьесы происходит в Англии. Главная героиня, Сарра Сампсон, честная, наивная, кроткая девушка из порядочной семьи, полюбила обаятельного Меллефонта, мота и повесу, который соблазнил ее. (В пьесе угадываются творчески переработанные коллизии нашумевшего романа Ричардсона «Кларисса».) Однако любовь преобразила Меллефонта: он обещает жениться на Сарре, и та, страшась гнева отца, бежит с возлюбленным из родительского дома. Герои хотят покинуть Англию и отправиться во Францию, но неожиданно дела, связанные с наследством, задерживают Меллефонта в одном из провинциальных городков. Тем временем бывшая любовница Меллефонта, леди Марвуд, пытается всяческими способами вернуть его. Когда это не удается сделать мольбами и слезами, она пускает в ход коварство. Сначала она извещает сэра Сампсона о том, где скрываются беглецы. Однако тот великодушно прощает дочь и дает согласие на ее брак с Меллефонтом. Тогда Марвуд решает уничтожить соперницу. Она упрашивает Меллефонта показать ей его новую возлюбленную и незаметно подсыпает яд в ее стакан с лимонадом. Сарра погибает, а Меллефонт, виня себя в ее смерти, закалывается кинжалом.
В пьесе, кроме ричардооновских, угадываются шекспировские ходы (в свою очередь, уроки Лессинга, как и уроки Шекспира, отзовутся в «Коварстве и любви» Шиллера). Несмотря на все новаторство содержания «Сарры Сампсон» для немецкой сцены, несмотря на то, что герои обыденны и действуют в обыденном мире, несмотря на отказ от «единств», пьеса еще несет в себе тенденции старого классицизма. Это сказывается в первую очередь в излишне однолинейной характеристике героев, в их все еще «скульптурности», в отсутствии индивидуализации. Перед нами сугубо «перегруженные» характеры. Как тонко замечает В. Р. Гриб, «герои “Сарры Сампсон” – такие же виртуозы самоотречения, такие же примерные стоики, как и герои “Катона”, с той только разницей, что у Аддисона это самоотречение совершается, так сказать, по долгу службы, ради интересов государственных, а у Лессинга ради интересов семейных, по сердечной склонности. Твердость и воля заменены чувствительностью и мягкосердечием. Ни один из героев “Сарры Сампсон” не имеет индивидуальности. Сарра – только “дочь” и “возлюбленная”, сэр Сампсон – только “отец”, и даже Меллефонт, задуманный Лессингом как характер, в котором борются добро и зло, в сущности, по своей натуре не Ловлас, а пастор. Стоит только послушать, каким смертным грехом кажется ему увоз Сарры! Зато демоническая Марвуд – настоящее исчадие ада. Убить человека ей ничего не стоит. И если у классицистов герои непрестанно произносили громовые тирады о долге и давали торжественные клятвы, то теперь они непрестанно раскрывают свои нежные сердца и проливают бесконечные слезы»[242].
Действительно, герои пьесы еще не совсем убедительны, нарисованы слишком резкими красками (особенно леди Марвуд). Однако главное, что делает Лессинг, – введение обыденности и простых героев в мир необыденных измерений классицистической трагедии, утверждение на сцене культа рокайльно-сентименталистской чувствительности, отстаивание «естественного» чувства и порицание всего, что ему препятствует. При этом семейные и психологические проблемы поданы пока в отрыве от социальных проблем.
Оттачивание мастерства Лессинга и стремление создать новую модификацию драмы приводят к появлению на свет знаменитой комедии «Минна фон Барнхельм» (1763–1767), в которой автор, развивая идеи Геллерта, его «трогательной» комедии, дает первый образец самобытной национальной немецкой комедии – той комедии, которая должна и смешить, и трогать, и волновать, и утверждать высокие идеалы. В ней личное, индивидуальное теснейшим образом переплетается с общественным, общезначимым. Реальным историческим фоном комедии является Семилетняя война, точнее – то, что происходило после ее окончания, когда Фридрих II ради экономии бюджета уволил в отставку всех офицеров недворянского происхождения, не обеспечив их никакой пенсией. В отличие от «беззубых» комедий Геллерта с их «нежным» смехом, пьеса Лессинга обличает прусский военно-бюрократический режим, в ней сталкиваются смелая благородная личность и бездушная государственная машина. В результате торжествует справедливость благодаря королевской бдительности, но это «бдительность» того же рода, что и в финале мольеровского «Тартюфа»: она не снижает остроты критики, чему служит нарочитая искусственность благополучного исхода, идущего якобы от самого короля. Главным же стержнем, на котором держатся психологизм пьесы и ее сюжет, является трогательное соревнование благородных душ в бескорыстии и самоотверженности.
Блестящий прусский офицер и подлинно благородный человек, майор фон Тельхейм, любит девушку из знатного бюргерского саксонского рода – Минну фон Барнхельм, отвечающую ему взаимностью. Казалось бы, ничто не может помешать счастью влюбленных. Однако неожиданно Тельхейм уволен со службы без денег и наград, более того – он, воплощение храбрости, благородства, истинного сострадания к людям, привлечен к суду. Его несправедливо обвиняют во взяточничестве, в то время как он просто заплатил из собственного кармана контрибуцию, которую не могли внести бедные жители нескольких областей Саксонии. Майор получил от них вексель, а потом, после окончания войны, включил этот вексель в список военных государственных долгов, подлежащих возмещению. Это и дало повод чиновникам короля обвинить его во взяточничестве – якобы за снижение размеров контрибуции.
Итак, Тельхейм разорен и опозорен. Гордость не позволяет ему быть обузой для своей невесты, и он решает вернуть ей обручальное кольцо. Минна проявляет чудеса изобретательности, чтобы вернуть возлюбленного: она сочиняет историю о том, что дядя-опекун лишил ее наследства за то, что она бежала из дому к своему жениху. Теперь они равны, и Тельхейм вздыхает свободно оттого, что может любить свою Минну, не боясь упреков совести и уколов самолюбия. Вскоре приходит известие от самого короля, что с Тельхейма сняты все обвинения, он восстановлен в чине, а вексель принят к уплате. Майор счастлив, но теперь Минна, самоотверженная, исполненная достоинства и очаровательно-насмешливая, решает дать урок своему возлюбленному за излишнюю гордость. Теперь она говорит Тельхейму, что отказывается от него, ибо не желает быть ему обузой. Как ни умоляет майор, Минна непреклонна. И тогда Тельхейм принимает решение отказаться от чина и денег, чтобы вновь устранились барьеры между ним и возлюбленной. Минна, видя его глубокую любовь и преданность ей, открывает ему всю правду Пьеса заканчивается свадьбой героев.
В «Минне фон Барнхельм» Лессинг в веселой и остроумной форме и в то же время трогательно, психологически глубоко выразил свое понимание любви, чести, свои жизненные идеалы. Одновременно ему удалось органично соединить различные регистры: чувствительность, трогательность, веселую насмешливость, юмор, сатиру. В пьесе есть и философская «подкладка»: она связана все с той же «предустановленной гармонией» и теодицеей. Тельхейм под влиянием Минны переживает поучительную эволюцию. Сначала от наивной веры в благость миропорядка он движется к сомнению в действии благого Провидения (именно потому, что он, хороший человек, пострадал ни за что). Однако Минна, утешая возлюбленного, говорит: «Верьте мне, Провидение всегда вознаграждает честных людей за понесенный ими ущерб, а чаще даже заранее. Поступок, который лишил вас двух тысяч пистолей, сделал меня Вашей». Таким образом, герой убеждается в том, что действительно, говоря словами Лейбница, «Бог избрал лучший из возможных вариантов», сотворяя наш мир, что мир, в сущности, внутренне гармоничен, в нем существуют отдельные недостатки, но даже зло в конечном итоге учит пониманию добра и ведет к нему. «Минну фон Барнхельм» можно назвать своеобразной «лессинговской теодицеей».
Иной, более трагический и неразрешимый, ракурс на проблему теодицеи представлен в «Эмилии Галотти» (1772), по праву считающейся жемчужиной драматургии Лессинга. В этой пьесе конфликт между свободной личностью и деспотическим обществом, между миром любви и миром эгоизма, насилия, коварства принял трагический характер. И хотя действие поисходит в Италии, чужие имена и костюмы – лишь внешняя драпировка, понадобившаяся Лессингу для того, чтобы пьеса была поставлена на сцене. В вымышленном княжестве Гвасталла легко узнать любое из бесчисленных немецких княжеств. Сюжетным ядром для «Эмилии Галотти» послужила легенда из римской истории, пересказанная Титом Ливием, – о том, как римский патриций Аппий Клавдий решил сделать своей наложницей Виргинию, дочь плебея Люция Виргиния. Чтобы сохранить честь дочери, отец заколол ее кинжалом. В своей пьесе Лессинг демонстрирует, как, обращаясь к античности, можно не рабски копировать ее, но творчески перерабатывать, вкладывать в старую форму современное содержание, одновременно добиваясь и конкретной узнаваемости, и предельной сгущенности, типичности образов. В «Эмилии Галотти» перед нами предстают характеры «обыкновенные» и в то же время «перегруженные».
Главная героиня пьесы, как и Виргиния в римской легенде, становится жертвой сластолюбия облеченного властью правителя Гвасталлы принца Гонзаго. Коварный и подлый интриган и карьерист, камергер принца Маринелли решает «устроить» счастье своего господина, убрав с дороги его счастливого соперника – благородного и независимого графа Аппиани. В день свадьбы Эмилии и Аппиани жених убит, а невеста похищена и привезена в загородную резиденцию принца. Здесь и находит дочь обезумевший от горя и ужаса отец, полковник Одоардо Галотти. Эмилия просит отца убить ее, чтобы избежать позора. И хотя удар кинжала Одоардо Галотти направлен не против тирана и подлинного виновника несчастья, хотя убивает он дочь в состоянии аффекта, тут же сожалея о содеянном, объективно финал пьесы рождал в душах зрителей боль, гнев и возмущение существующими порядками. Сама смерть Эмилии, ее, в сущности, самоубийство воспринимались как протест против деспотического мира, в котором невозможно выжить честным, порядочным, гордым, независимым людям.
«Эмилия Галотти» отличается тонким психологизмом, глубиной и убедительностью образов. Психологически сложен прежде всего образ самой Эмилии. Лессинг рисует ее чистой, самоотверженной, очень сильной духовно и в то же время наделяет свою героиню внутренней слабостью, неуверенностью в себе. Больше смерти Эмилия боится соблазна, которому могут поддаться ее душа и плоть: «Соблазн – вот настоящее насилие! В моих жилах течет кровь, отец, такая молодая и горячая кровь! И мои чувства – живые чувства! Я ни за что не отвечаю, ни за что не могу поручиться!» В сущности, Эмилия уходит из жизни не потому, что боится насилия извне, но потому, что опасается деформации собственной души. Она предпочитает физическую смерть смерти духовной и уходит из мира чистой, несломленной.
Психологически более однолинейным, но именно типическим, «перегруженным», является образ фаворита Маринелли, негодяя и льстеца, готового на любую подлость в своем стремлении угодить принцу. Убедительна и графиня Орсина, брошенная принцем любовница, которую уязвленная женская гордость, оскорбленное чувство любви делают обличительницей гнусностей и разврата, царящих при дворе. В. Р. Гриб замечает по поводу графини Орсины: «Лессинг не поддался такому законному в этом случае искушению, которое соблазнило бы девять из десяти просветительских драматургов, сделать из нее тираноборца. Она только оскорбленная и отвергнутая женщина, уязвленная в своей гордости аристократка. Но как раз потому, что она настоящая аристократка, а не развращенная придворными нравами титулованная куртизанка, она не может простить принцу своего унижения и становится его обличительницей. Ее горькая язвительность, страшная веселость раненного насмерть человека, действуют сильнее, чем красноречивые обличительные тирады просветительского классицизма»[243]. Следует добавить – просветительского классицизма старого, готшедовского, типа. Лессинг, также верный эстетике просветительского классицизма, но создающий собственный его вариант, в своей пьесе по-прежнему, и с гораздо большим мастерством, демонстрирует приверженность психологической убедительности, стремлению создавать не только «ходячие идеи» и «мраморные тела», но живые души, индивидуальности.
Бесспорной удачей Лессинга явился образ принца Гвасталлы. Драматург намеренно изобразил его обычным человеком, а не исчадьем ада. Принц не лишен обаяния, понимает и любит искусство, обладает тонким чувством прекрасного, уважает и ценит порядочность. И тем страшнее последствия его поступков, которые он совершает, не в силах противиться своим эгоистическим прихотям и желаниям, ибо давно уже привык жить по единственному закону: «Государство – это я!» В финале пьесы Гонзаго с ужасом и отчаянием смотрит на труп Эмилии, обвиняя во всем Маринелли. Но Лессинг убедительно показывает, что для принца, не знающего преград своим желаниям, чужая судьба и вообще человеческая жизнь давно стали ничего не значащим пустяком. Это особенно ярко раскрывается в сцене, казалось бы, малозначительной, разыгрывающейся еще до основных трагических событий. Гонзаго предвкушает встречу с Эмилией, надеясь, что он отговорит ее от брака с Аппиани, а Камилло Рота, один из советников принца, приносит ему на подпись смертный приговор. Даже не выслушав, кому выносится этот приговор, не задумавшись ни на секунду, принц торопится его подписать: «Весьма охотно. Давай сюда! Быстрей!» Придворный поражен этой радостью и энтузиазмом и думает, что повелитель не расслышал: «Смертный приговор, я сказал…» И в ответ звучит беспечно-циничное: «Отлично слышу. Я бы давно успел это сделать. Я тороплюсь». Самое страшное заключается в том, что принц не осознает собственных цинизма и жестокости. Все мысли его просто заняты его новым увлечением, а потому – что значит чья-то там жизнь или смерть… Бумага со смертным приговором – лишь досадное препятствие, мешающее быстрее увидеть Эмилию, которой принц очарован. Так извращается сама любовь, становясь до предела эгоистичной и жестокой. Всем ходом пьесы Лессинг подводит читателя и зрителя к мысли, что именно неограниченная власть, сам деспотический способ правления уродуют, искажают душу человека.
«Эмилия Галотти» исполнена протеста против тирании, против узурпации естественных прав личности, и именно так она была воспринята молодым штюрмерским поколением, что отразилось и в гётевском «Вертере».
Философская драма «Натан Мудрый» как духовное завещание Г. Э. Лессинга
Духовным завещанием Лессинга стала его философская драма «Натан Мудрый» (1779) – произведение, исполненное подлинно просветительского гуманистического пафоса, страстной мечты о братстве людей. В этой пьесе, посвященной прежде всего проблемам толерантности и веротерпимости, утверждению единого истока и общих основ всех трех монотеистических религий – иудаизма, христианства, ислама, Лессинг использовал тот способ типизации, который он сам определил как «перегруженность», сгущение образа. Действительно, каждый образ в драме – воплощение определенной идеи, олицетворение той или иной конфессии, того или иного человеческого качества. Одновременно герои предстают как живые индивидуальности. Не случайно у главного героя – Натана Мудрого, иерусалимского еврея, образ которого задуман как воплощение лучших устремлений иудаизма и одновременно истинной человечности, был реальный жизненный прототип – Мозес Мендельсон.
«Натан Мудрый» непонятен вне контекста религиозно-философских взглядов Лессинга, а также той борьбы за свободу совести и веротерпимость, которую он вел всю жизнь, но особенно в последние, вольфенбюттельские, годы. В 1778 г. появилась знаменитая книга Лессинга «Анти-Гёце» как ответ на нападки на него пастора Гёце. Дело было в том, что Лессинг издавал сочинения покойного теолога-деиста Германа Самуила Реймаруса под названием «Вольфенбюттельские фрагменты неизвестного» с собственными комментариями. Реймарус опровергал боговдохновенность Библии и подобно Вольтеру рассматривал исторически сложившиеся религии как изначальный и заведомый обман. Лессинг не был согласен с этой точкой зрения (он был одним из немногих просветителей, считавших религии исторически оправданными и необходимыми), но тем не менее отстаивал право Реймаруса быть опубликованным и услышанным. И сама публикация, и комментарии Лессинга вызвали яростные нападки лютеранских ортодоксов. Особенно свирепствовал фанатичный пастор Гёце. Отстаивая свободу мысли и совести, Лессинг гневно и остроумно заклеймил своего противника в серии блестящих памфлетов, составивших книгу «Анти-Гёце». Все закончилось вмешательством самого герцога, запретившего публикацию и сочинений Реймаруса, и статей Лессинга. Лессинга вынудили замолчать. И все же последнее слово осталось за ним, и он высказал его в драме «Натан Мудрый» и работе «Воспитание рода человеческого».
Эти два произведения Лессинга – философская драма и религиозно-философский трактат – развивают дальше идеи, заложенные в комментариях к сочинениям Реймаруса, в «Анти-Гёце», и одновременно дополняют друг друга: «Натан Мудрый» выглядит как художественная иллюстрация к «Воспитанию рода человеческого», а трактат представляет собой философскую квинтэссенцию пьесы. Трактат имеет подзаголовок: «Сто тезисов о нравственном прогрессе человечества». Как истинный деист, Лессинг верит в существование Творца Вселенной, Вечного Разума, предоставившего человечеству и каждому отдельному человеку свободу воли. Однако в отличие, например, от Вольтера Лессинг не считает, что Бог абсолютно устранился от управления миром. Он полагает, что воля Божья проявляется через Провидение – Промысел Божий, ведущий человечество к мудрости, к Царству Разума. Провидение воспитывает человечество, как мудрый наставник воспитывает ребенка. Оно открывает человечеству великие нравственные истины, но делает это постепенно, в соответствии с тем или иным возрастом человечества (точно так же человек в своем развитии проходит различные возрасты, разные стадии становления личности). Главным инструментом в руках Провидения является религия, которая меняет свои формы, несет в себе ту или иную истину, соответствующую степени духовной зрелости человечества. Первой стадии – детству – соответствует язычество, особенно эллинское. Новую ступень – строгое отрочество и мечтательно-восторженное юношество – представляет иудаизм. Следующей стадии – возрасту зрелости – соответствуют вышедшие из иудаизма христианство и ислам. При этом и сам иудаизм, по мысли Лессинга, вовсе не должен исчезнуть только оттого, что появились новые монотеистические религии (предрассудок, в который в отличие от него впадали многие просветители). Однако и это не последняя ступень: все три великие теистические религии должны слиться в единую Религию Разума, когда человечество достигнет возраста мудрости. Лессинг настаивает, что все исторически сложившиеся теистические религии, полагающие Бога трансцендентным, внеположным миру, и не просто Абсолютом, но Личностью, – иудаизм, христианство, ислам, – имеют единую основу, открытую некогда древним иудаизмом на библейском этапе его развития, и должны прийти к взаимопониманию. Без этого невозможен дальнейший путь человечества. Весь этот комплекс идей в художественной форме изложен в «Натане Мудром».
Появление «Натана Мудрого» непонятно также вне контекста страстной борьбы Лессинга с антисемитизмом – одной из страшнейших форм ксенофобии. Великий сын Германии, он с болью переживал то, как прочно укоренилась иррациональная ненависть к евреям в его Отечестве. Еврейская тема появляется у Лессинга уже в самых ранних его вещах. Так, в комедии «Евреи» (1749) создан первый в немецкой литературе положительный образ еврея. Эта пьеса была очень смелой для своего времени: Лессинг протестовал против предвзятого отношения к людям только из-за их национальности, против искажения христианских истин, против зоологического антисемитизма, абсолютно противопоказанного христианству. Некий немецкий барон и его дочь спасены от разбойников неизвестным путешественником. Барон очарован храбростью, великодушием, благородством своего спасителя, а дочь влюбилась в него. Все могло бы закончиться свадьбой, но вдруг выясняется, к вящему ужасу барона-антисемита, что их спаситель – еврей. И барон восклицает: «О, как достойны были бы уважения евреи, если бы все они походили на вас!» Это типичная фраза, выдающая антисемита: он готов признать, что судьба столкнула его с хорошим евреем, но это, конечно же, исключение… На тираду барона путешественник иронически отвечает: «И как достойны были бы любви христиане, если б все они обладали вашими качествами». В подтексте комедии звучит горький вопрос: почему слишком многие христиане не следуют великой заповеди любви к человеку, провозглашаемой ими на словах, почему столь часто в пренебрежении оказывается сказанное апостолом Павлом: «Нет ни эллина, ни иудея…»?
Новую подпитку еврейская тема и борьба против антисемитизма, юдофобии, религиозного фанатизма получают у Лессинга после его знакомства с Мозесом Мендельсоном, ставшим прообразом Натана Мудрого – и именно кроткой мудростью, человечностью, истинной толерантностью. В защиту евреев Лессинг высказывается также в философском диалоге «Эрнст и Фальк. Беседы для масонов» (1778–1780). Лессинг, как и многие выдающиеся немецкие просветители (Виланд, Гер дер, Гёте и др.), был членом масонской ложи (стал им еще в бытность проповедником в Риге). В своем диалоге он говорит о противоречиях, раздирающих современный мир, – социальных, политических, национальных. И выход из этих противоречий для «благородных и гуманных людей», которые «во все времена заботились об устранении и смягчении неудобств, порождаемых устройством всех гражданских обществ», Лессинг видит – типично просветительский ход мысли – в воспитании благородной и гуманной личности. Такова, по его мнению, задача идеального масонства, объединяющего лучших людей, независимо от религиозных, национальных и социальных различий.
Действительно, устав Большой ложи провозгласил равенство всех вступающих в ряды масонов, независимо от происхождения и вероисповедания. Но вот беда: в рядах масонов также сохранялись предрассудки среды, их породившей. К тому же, являясь ересью с христианской точки зрения, масонство оставалось христианской сектой и продолжало отделять «козлищ» от «овец». Это выражалось в том, что евреев не принимали в масонские ложи, особенно в Германии. Об этом с болью пишет и против этого протестует Лессинг в диалоге «Эрнст и Фальк. Беседы для масонов».
Однако нигде проблемы истинного гуманизма, подлинной любви к человеку, настоящей толерантности и веротерпимости не были подняты так глубоко, как в драме «Натан Мудрый». Нигде в европейской литературе до тех пор не звучал столь страстный протест против фанатизма и религиозной нетерпимости, мракобесия и антисемитизма, нигде не выражалась столь великая надежда на духовное единение рода человеческого.
Драма Лессинга имеет притчевый характер, но несет в себе и некоторые черты исторической драмы. Ее действие происходит в эпоху Средневековья, точнее – в конце XII в., в эпоху крестовых походов, после того, как в 1187 г. султан Салах ад-Дин, именуемый европейцами Саладином, оттеснил крестоносцев к морю и взял Иерусалим. Именно в это время, согласно замыслу Лессинга, в Иерусалиме живет богатый, великодушный, добрый и очень умный еврей Натан, единодушно прозванный своими соседями (вовсе не евреями) Мудрым. (Исторически проживание евреям в Святой Земле, на их родине, было запрещено в годы крестовых походов со стороны как христиан, так и мусульман, но горсточка, составлявшая еврейскую общину Святого города, неизменно оставалась там; известно также, что реальный Салах ад-Дин, курд по происхождению, призвал евреев поселиться в Иерусалиме и дал им некоторые права.) У Натана есть единственная дочь – Реха, которая даже не подозревает, что не является родной дочерью Натану, что он когда-то принял ее на воспитание в младенческом возрасте. Эту тайну знает, кроме Натана, лишь наперсница Рехи – христианка Дайя, живущая в его доме и помогающая ему воспитывать дочь. Во время поездки Натана в Вавилонию по торговым делам (в это время важнейшие центры еврейской культуры действительно находятся на территории бывшей Вавилонии, как продолжают именовать ее евреи) случается непредвиденное: в доме Натана вспыхивает пожар, в результате которого Реха едва не погибла. Точнее, она погибла бы, если бы ее не спас проходивший мимо молодой рыцарь-тамплиер (храмовник), попавший в плен к султану, но почему-то оставленный им в живых и получивший дозволение свободно передвигаться по Иерусалиму. Увидев горящий дом, услышав крики Дайи о помощи, тамплиер не раздумывая бросился в огонь и вынес из него бесчувственную девушку. Когда Реха очнулась, молодые люди мгновенно почувствовали взаимную симпатию. Однако тамплиер, узнав, что Реха – еврейка, смиряет свои чувства и даже надменно отвергает благодарность Дайи.
Лессинг демонстрирует, что тамплиер, хотя и находится во власти расовых и религиозных предрассудков, в глубине души великодушен и благороден. А главное – он поддается убеждению, и именно Натану, явившемуся к нему с благодарностью за дочь, удается сильно поколебать предубеждение тамплиера против евреев. Лессинг настоятельно подчеркивает глубинное духовное родство Натана и тамплиера еще до их встречи перекличкой их мыслей и слов. Так, Натан, беседуя с дочерью и восхищаясь поступком храмовника, говорит: «…Он, кто, не зная даже, // Чья ты и кто ты, бросился в огонь. // Там человек горел\» (здесь и далее курсив автора. – Г. С.; здесь и далее перевод Н. Вильмонта). Натан, страстно верящий в благородство человека вообще, убежден, что рыцарь спас бы его дочь в любом случае, ибо «человеку // Всех ангелов дороже человек». В свою очередь храмовник, объясняя свой поступок Дайе, говорит, что он спасал просто человека, вовсе не думая, кто он: «…Но если // Я вновь столкнусь с бедою, на себя // Пеняйте, коль не брошусь в дым и пламя, // А стану спрашивать: кто он и чей он? // И человек сгорит…» И Натан, и тамплиер видят в человеке прежде всего человека, хотя у последнего это глубинное благородство закрыто внешней броней предрассудков и слепой ненависти: «Жид есть жид!» Тем не менее мудрому и воистину человеколюбивому Натану удается пробить эту броню, тронуть сердце тамплиера своей неподдельной искренностью. Первый диалог Натана и храмовника – шедевр психологического мастерства Лессинга и одновременно обобщающая истинно просветительская модель воспитания души, перестройки сознания именно через убеждение, через мудрое и доброе слово. Натан и тамплиер расстаются друзьями, и в душе рыцаря все больше крепнет любовь к спасенной им Рехе.
Тем временем султан Саладин, прослышав о мудрости и богатстве Натана, призывает его ко двору, преследуя сразу несколько целей. С одной стороны, он хочет проверить, так ли этот еврей мудр на самом деле, как о нем говорят, с другой – надеется с помощью его богатств пополнить свою казну, прохудившуюся после военного похода. Будучи гуманным человеком, Саладин не хочет прибегать к насилию, по крайней мере сразу: если Натан окажется действительно мудрым, он станет его другом и сам поделится с ним своим состоянием. Султан хочет испытать Натана – насколько тот закоснел в своем иудейском «фанатизме». Не подозревая, насколько сам он подвластен стереотипным предрассудкам и не совсем толерантен, Саладин задает Натану вопрос о том, какая вера лучше. Он заранее убежден, что еврей будет хвалить свою веру и хулить другие. В ответ Натан рассказывает ему знаменитую притчу о трех кольцах (Лессинг преображает историю, рассказанную евреем Мельхиседеком в «Декамероне» Дж. Боккаччо; см. 3-ю новеллу 1-й части).
Притча о трех кольцах является религиозно-этическим и философским ядром пьесы. Натан рассказывает о том, что у одного человека было особое чудодейственное кольцо, способное привлекать к его владельцу любовь Бога и людей. У этого человека были трое сыновей, и только одному из них он по закону смог бы завещать чудесное кольцо. Но так как он любил всех троих одинаково сильно, то заказал знаменитому ювелиру, с условием строго хранить тайну, еще два точно таких же кольца. Никто, даже сам отец, не мог различить кольца, и, умирая, он каждому из сыновей завещал заветное кольцо. (По мере того, как Саладин слушает притчу Натана, он прозревает: Отец – Сам Бог, три кольца – три великие религии, которые в равной степени несут в себе великую истину.) После смерти отца между сыновьями начались раздоры и выяснения, чье же кольцо подлинно. Каждый полагал, что подлинное – только у него, что только он – любимец Бога и людей. И тогда сыновья обратились к мудрому судье, и тот, выслушав их претензии, задал им нелицеприятный вопрос:
Так кто ж из вас всех более любим Двумя другими братьями? Ответьте! Молчите? Значит, кольца-то вовсе Не действуют, сердец не привлекают? И каждый, знать, себя всех больше любит? Обманутый обманщик всяк из вас! Все три кольца поддельны. А кольцо Заветное, должно быть, потерялось, И потому-то ваш отец велел Три изготовить новых.Судья заставляет братьев взглянуть на самих себя, заглянуть в собственную душу: соответствуют ли они тем высоким моральным требованиям любви и человечности, которые символизирует кольцо? Нужно быть достойными кольца, и только тогда оно будет действовать. Судья разрешает тяжбу следующим образом: каждый из братьев должен чистосердечно служить Богу, быть милосердным, кротким, миролюбивым, и тогда обнаружится, у кого кольцо действительно чудодейственное. Окончательно же решит это другой, Высший Судия:
…И если через тысячу годин Себя таинственная сила камня Не перестанет проявлять, так я Вас приглашу на суд. На кресле этом Воссядет Судия меня достойней. Так рек судья.Натан, а его устами – сам автор, хочет сказать следующее: бесполезное и бездарное занятие – выяснять, чья вера лучше и угоднее Богу, особенно если это касается религий Единобожия, единых в своей основе. Каждому дорога его вера, традиции отцов. Нужно искренне следовать этому пути, выполняя высокие этические заповеди, любя Бога. Недостойно даже задавать вопрос, какая вера лучше, а тем более доказывать это силой, убивать во имя веры, насильственно обращать других в свою веру. Бог, Высший Судия, видит искренность или неискренность помышлений и поступков человека, и только Он может определять истинность веры. Следуя пути каждой из трех религий, можно стать настоящим человеком. Богу в высшей степени неугодно видеть, как Его сыновья выясняют отношения с помощью грубой силы.
Саладин, пристыженный и восхищенный мудростью Натана, делает его своим другом и советником. Но уже новая беда подстерегает героя. Дайя, которой не дает покоя мысль о том, что Натан воспитал как свою дочь христианского младенца и тем самым, согласно христианскому догмату, лишил ее жизни вечной, открывает тайну Рехи тамплиеру. Тот же, мучимый все возрастающей обидой на Натана, почему-то противящегося его браку с Рехой (впал-таки в свою иудейскую «гордыню»!), открывает эту тайну фанатичному Патриарху Иерусалимскому (главе Православной Иерусалимской Церкви). И тут же ужасается, услышав из уст этого пастыря исполненные ненависти слова:
…Жид, богомерзостно христианина От православной веры отвративший, Костра достоин. …Тем паче жид, Крещеного ребенка самовольно Лишивший благодати приобщенья К Христовой Церкви. Все насилье, что Свершают над детьми, за исключеньем, Что Церковь совершает.Последними словами Патриарха Лессинг дает понять, по какому двойному стандарту живет этот человек, на какой двойной стандарт опиралась Церковь: то насилие, которое она совершала, обращая в христианство еврейских детей, отобранных у родителей во время гонений и погромов (или детей, родители которых погибли), вовсе не считалось насилием, но благим делом – спасением душ этих детей… Но еврею, спасшему христианского ребенка, грозит страшная смерть. Ошеломленный тамплиер уточняет:
…А коль скоро Дитя, когда бы жид его не спас, Погибло бы в нужде неотвратимой?И слышит в ответ безапелляционно-фанатичное:
Пусть даже так, жид должен быть сожжен. Ребенку лучше с голоду погибнуть, Чем вечного спасения лишиться Такой ценою. Не жиду пристало Опережать соизволенье Божье: Захочет Бог – и без жида спасет.В образе Патриарха Лессинг воплотил все, что было для него столь неприемлемо в человеке и особенно противоестественно в духовном наставнике: ослепляющая душу ненависть, фанатизм, извращающий все, бесчеловечность, оправдывающая себя религиозными догмами. Патриарх является к Саладину, требуя казни еврея, осмелившегося воспитать христианского ребенка как свою дочь.
Тучи сгущаются над Натаном. Тем временем его разыскивает послушник, некогда служивший у одного христианского рыцаря и по его просьбе передавший его дочь на воспитание Натану. Послушник предупреждает Натана о грозящей ему беде. В их диалоге высказываются крайне важные для Лессинга мысли о глубинной внутренней взаимосвязи христианства и иудаизма, о единстве связующих их великих религиозно-этических принципов. Послушник утверждает:
…И разве христианство все не вышло Из иудейства? О, как часто я Досадовал на то и слезы лил Над тем, что христиане забывают, Что и Спаситель наш был иудеем.Только послушнику Натан открывает особую тайну – при каких невероятно тяжких обстоятельствах он принял у него христианского ребенка:
…Мы встретились тогда В Даруне. Но едва ль дошло до вас, Что накануне в Гате христиане Предали избиенью иудеев, Что и жена и семеро моих Сулящих счастье сыновей сгорели У брата в доме.Послушник только и может воскликнуть: «Боже!» Итак, Натан потерял всех своих близких, как потерял их некогда библейский Иов, оплакавший своих детей, стойкий в страшном несчастье, но все-таки затем осмелившийся бросить горькие упреки в лицо Самому Богу Так, сознательно вводя аллюзии на Книгу Иова, в центре которой – проблема теодицеи, проблема осмысленности мира и оправдания Бога перед лицом страданий невинных, Лессинг подчеркивает, что эта проблема – также одна из важнейших в его пьесе, что его герой по-своему проходит путь Иова – от спора с Богом к новому приятию Его, к приятию созданного Им мира:
….Перед вашим Приездом я лежал три дня, три ночи В золе, во прахе перед Вездесущим, И плакал… Нет, не плакал, а вопил! Корил Творца и клял Его творенье И мстить хотел жестоким христианам И днесь и впредь! …Но постепенно разум прояснился И внятным голосом сказал мне: «Все же Есть Бог и Божья правда! Встань! Ступай! И сотвори, что ты постиг умом! И знай: благое делать не труднее, Чем веровать в благое, – захоти лишь! Восстань!» Я встал и крикнул: «Я хочу! Лишь повод дай мне, Господи!» И тут Вы спрыгнули с коня и протянули Дитя в плаще своем. Что вы тогда Промолвили, что я сказал, – не помню… Я знаю только, что младенца принял Из ваших рук… и прорыдал: «О Боже! Одну взамен семи ты все же дал мне!»Натан сумел совершить самое трудное: победить себя самого, свои отчаяние и ненависть, жажду мести, смог отказаться от мести во имя любви. И девочку он принимает не только потому, что обязан многим ее отцу, но потому что видит в посланном ему христианском младенце волю Божью, то, что спасет его собственную душу от неверия и слепой ненависти. Всю любовь, которую он испытывал к семи своим погибшим сыновьям, он направил на Реху, которую не просто воспитал, но дал ей главное – свою любовь. Пораженный историей Натана, послушник растроганно восклицает: «Натан, клянуся, Вы христианин, //
Из лучших лучший!» На это Натан отвечает с теплой и доброй иронией: «Благо нам! Что в ваших – // Христианином делает меня, // В моих глазах вас делает евреем». Так Лессинг вновь дает понять, что высокие нравственные принципы, способность творить добро – не есть сугубо христианская прерогатива, что дело не в том, кем слыть – христианином ли, евреем ли, но в том, чтобы быть человеком, а этого требуют и та и другая религии.
Натан и Реха призваны ко двору, чтобы султан вынес свой вердикт о праве Натана на отцовство и о его участи. Реха узнала, что она – приемыш, более того – она крещена как христианка. Ей нужно сделать выбор. Однако Натан уже воспитал ее в духе своей высокой веры в человека, и она знает: именно иудаизм в отличие от христианства и ислама признает достойными Царства Божьего, достойными Спасения всех, кто веровал в Единого Бога, независимо от конфессии, кто творил добро, соблюдал Заповеди сынов Ноевых (семь цивилизационных заповедей, завещанных, согласно Книге Бытия, через сыновей Ноя всему человечеству). Она твердо знает, что нет надобности претендовать на истину в последней инстанции только в своей вере, что к Богу ведут разные пути. Вот почему она с горечью и недоумением говорит о поступке Дайн:
Она, ведь я сказала, христианка, А им любовь повелевает мучить. Бедняжка мнит, что ведом только ей Путь к вечной жизни и пути другого Нет к Вездесущему.Реха предстает как истинная дочь Натана и хочет остаться ею, даже узнав, что она – не родная ему по крови. Но не важнее ли кровного родства – родство духовное?
…Молю лишь об одном? Меня – отцу, а мне отца оставить. Не знаю, кто другой имеет право Мне быть отцом, и не хотела б знать! Но разве только к кровному родству Отцовство сводится?Саладин соглашается с доводами Рехи:
…Но чтобы быть отцом, Родства по крови мало – и для зверя, Пожалуй, мало. Ибо кровь дает Лишь преимущество добиться званья Отцовского.Султан признает, что Натан является подлинным отцом Рехи, что он совершил благой поступок – спас ее, и не просто спас, но дал ей истинную любовь – единственное, что делает человека человеком. В устах Саладина звучит мысль, чрезвычайно дорогая и для Натана, заветная мысль самого Лессинга: важнее всего – человек, а уж христианин ли он, мусульманин ли, иудей – дело вторичное. И тогда Натан при Саладине раскрывает тайну рождения Рехи и тамплиера. Оказывается, они родные брат и сестра, что и понял раньше всех Натан, потому и воспротивился их браку. Они – дети любимого брата Саладина Ассада, который в молодости отправился в Европу, там онемечился, принял христианство, затем оказался в Палестине, а когда отправился в свой последний поход, доверил свою малютку-дочь, потерявшую мать, только Натану.
Итак, в финале выясняется кровное и – главное – духовное родство всех главных действующих лиц пьесы. Все они обнимаются со слезами радости и любви на глазах, и эти объятия, по замыслу Лессинга, – символ грядущего единения рода человеческого, грядущего «возраста мудрости», о котором он говорил в «Воспитании рода человеческого».
Необычный финал пьесы еще раз подчеркивает, что перед нами – своеобразная утопия, опрокинутая в прошлое, но устремленная в будущее. И сердцем этой утопии является Натан, высшее воплощение человечности. Ничто не способно пошатнуть веру Натана в человека. Эта вера выше всех религиозных и национальных предрассудков. В человеке Натан видит прежде всего человека, несколько раз повторяя свою заветную мысль, несомненно, являющуюся одним из идейных стержней драмы: «Уж ты поверь мне, Дайя: человеку // Всех ангелов дороже человек»; «…Ах, когда бы // Мне удалось найти в Вас человека. // Хоть одного найти еще, который // Довольствовался б тем, что человеком // Зовется он!»; «…еврей и христианин // Не люди ли сперва, а уж потом // Еврей и христианин?» Духовный антипод Натана – Патриарх Иерусалимский, низводящий христианство к человеконенавистнической доктрине. В этом образе сконцентрирована страстная ненависть Лессинга к зашоренности и фанатизму, к духовной слепоте, к мертвящей догме, в нем живет еще не остывший жар сражений с пастором Гёце.
Лессинг не надеялся на постановку «Натана Мудрого» в тогдашней Германии. «Я не знаю такого места в Германии, где эту пьесу сегодня могли бы поставить», – писал он в одном из набросков предисловия. Таким образом, он создавал свою драму скорее как драматическую поэму для глубокого, вдумчивого чтения (отсюда – огромная значимость монологов, идейные споры, часто перерастающие в небольшие трактаты, малая внешняя сценичность). Два года спустя после кончины
Лессинга «Натан Мудрый» пережил премьеру в Берлине, однако успеха пьеса не имела: слишком мало она завлекала внешним действием, слишком смелыми и не всегда понятными обывателю были мысли, слишком крупной должна была быть личность актера, взявшегося за роль Натана. Так продолжалось до 1801 г., когда в Веймарском придворном театре «Натан Мудрый» был поставлен в сценической редакции Шиллера и наконец-то получил признание публики. «Пьеса ставится еще и поныне, – писал Гёте в 1815 г., – и продержится долго, ибо всегда найдутся толковые актеры, которые будут чувствовать, что роль Натана им по плечу. И пусть знакомое повествование, удачно поставленное на подмостках, напоминает вечно немецкой публике, что ее дело не только смотреть, но также и слушать и внимать. И пусть выраженное в пьесе божественное чувство терпимости и милосердия пребудет для нации дорогим и священным».
Гёте как нельзя лучше выразил великий предостерегающий и поучительный смысл, заключенный в пьесе Лессинга. Так оба великих немца пытались предостеречь свою родину, словно предчувствуя, что случится с Германией в XX в. Знаменательно, что в 1945 г., после крушения нацизма, «Натан Мудрый» стал первой пьесой, сыгранной на подмостках Немецкого театра имени Макса Рейнгарда в Берлине.
3. Драматургия Позднего Просвещения (1770–1810)
Драматургия Лессинга и теоретическое осмысление им законов драматического искусства подготовили блистательный взлет драмы на позднем этапе немецкого Просвещения, появление целой плеяды талантливых драматургов, ярчайшим из которых был и остается Фридрих Шиллер. Драма явилась органичным родом литературы как для выражения штюрмерских идей, так и идей «веймарского классицизма». Она дала яркие плоды и в раннем, и в зрелом творчестве Гёте и Шиллера.
Штюрмерская драматургия
Штюрмерское десятилетие (70-е гг. XVIII в.) стало временем бурного развития драматургии в Германии. Драма в различных своих жанровых разновидностях, но прежде всего «мещанская» трагедия, «мещанская» драма, оказалась одним из важнейших средств для выражения штюрмерских идей – страстной защиты «естественного» человека и «естественного» состояния, борьбы с сословными предрассудками, прокламации культа сильной личности, «бурного», «оригинального» гения. Не случайно и само штюрмерское движение – движение «Бури и натиска» – получило свое название по пьесе одного из самых видных штюрмеров – М. Клингера. Это название как нельзя лучше отражало свойственные штюрмерству вообще и штюрмерской драматургии в частности бунтарство, неистовость чувств, неукротимость стремлений. Чувствительность, переходящая порой в экзальтацию, высокая патетика, перетекающая в нарочито сниженную и порой вульгарную речь низов, в нарочитую грубость, – такой стилевой сплав весьма характерен для штюрмерской драматургии. Чаще всего штюрмеры, даже в трагедии, предпочитали прозу, которая в их глазах служила выражением наибольшего приближения к жизни, к ее суровой, трагической, а порой убогой прозе. Кроме того, прозаическая форма предпочиталась в связи со страстной полемикой с классицистическими нормами.
Штюрмеры отрицали всякие нормы и правила, их кумиром был Шекспир, которого они ценили за историзм мышления, глубинное постижение жизни, неистовость страстей, соединение трагического и комического, естественного и сверхъестественного. Они стремились так же, как и Шекспир, создавать на сцене незримое присутствие огромной массы людей, самой истории. Следуя свободной форме его трагедий и комедий, штюрмеры еще в большей степени усилили эту свободу, тяготея к фрагментарности формы, к созданию произведений, состоящих из отдельных, практически самостоятельных, сцен. Подобная штюрмерская «фрагментарность» сохранится даже в окончательной редакции «Фауста» Гёте, создававшейся тогда, когда Гёте расстался со штюрмерством. Великолепными образцами штюрмерской драматургии стали трагедии Гёте «Гёц фон Берлихинген с железной рукой» и первоначальный «Фауст», уничтоженный автором, но открытый позднее учеными и названный «Прафаустом»[244].
Одним из наиболее ярких представителей штюрмерской драматургии был Фридрих Максимилиан Клингер (Friedrich Maximilian Klinger, 1752–1831), известный также как прозаик-романист[245], но дебютировавший и прославившийся прежде всего как драматург. Судьба Клингера неисповедимо переплелась с судьбой России, его творчество вобрало в себя многие русские темы и впечатления. Сам же жизненный путь этого «бурного» гения весьма типичен для писателей-штюр-меров, вышедших из низов общества.
Клингер родился во Франкфурте-на-Майне и был сыном солдата и прачки. В 1772 г. он окончил гимназию, но никаких средств для дальнейшего продолжения образования у него не было. Милостивая судьба распорядилась так, что он познакомился с Гёте, вошел в его кружок, в котором были также Ленц, Вагнер, Лейзевиц. Молодые люди с восторгом читали Руссо, Гердера, Шекспира. Особенно увлек Клингера Руссо, досконально им проштудированный. Позже, в 1790 г., он напишет в письме своему другу Шлейермахеру: «Пусть из всех писателей Руссо будет твоим другом». В 1774 г. Клингеру удается поступить на юридический факультет университета в Гиссене. Именно здесь начинается его литературная деятельность, и начинается стремительно, бурно. За два с небольшим года он создает пять пьес: «Отто» («Otto», 1774), «Страждущая женщина» («Das leidende Weib», 1775), «Близнецы» («Die Zwilinge», 1775), «Новая Аррия» («Die neue Arria», 1776), «Симеоне Гризальдо» («Simsone Grisaldo», 1776).
Весной 1776 г. Клингер бросил университет и отправился в Веймар к Гёте. Тот поначалу очень обрадовался приезду старого друга, но вскоре стал им тяготиться: Гёте к этому времени уже начал пересмотр своих позиций, распрощался со штюрмерством, Клингер же оставался в кругу старых идей и сам был наглядным воплощением штюрмерского бунтарства, даже в быту, со своим излишним максимализмом, юношеской пылкостью и резкостью. Однако именно здесь, в Веймаре, Клингер пишет пьесу, названную первоначально «Путаница» («Der Wirrwarr»), а затем переименованную в «Бурю и натиск» («Sturm und Drang», 1776). Именно она стала ярким манифестом штюрмерства и дала название всему движению.
Покинув вскоре Веймар, Клингер продолжает свой скитальческий путь, странствует с группой бродячих актеров. В этот период он пишет пьесу «Стильпо и его дети» («Stilpo und seine Kinder», 1777). Какое-то время Клингер служит в австрийской армии, затем вновь отправляется в скитания. Его преследуют материальные заботы, но он упорно работает, открывает в себе талант сатирика и пишет сатирический фрагмент «Сын богов в изгнании» («Der verbannte Göttersohn», 1777), комедии «Принц Зейденвурм» («Prinz Seidenwurm», 1779), «Дервиш» («Der Derwisch», 1779). Параллельно он приступает к созданию сатирических романов[246].
В 1780 г. Гёте, стремившийся как-то помочь своему неприкаянному и непрестанно нуждающемуся другу, просит своего зятя, Ф. К. Шлоссера, ходатайствовать о Клингере перед герцогом Вюртембергским. Герцог дает Клингеру рекомендательное письмо к своей племяннице -
Марии Федоровне, жене наследника русского престола Павла Петровича. Так осенью 1780 г. Клингер оказывается в Петербурге. Покидая Германию, он даже не предполагал, что уже никогда не вернется на родину. В России Клингер сначала служит в должности лейтенанта в Морском батальоне, а в 1785 г. переходит в Сухопутный шляхетский корпус, позднее переименованный в Первый Кадетский, готовящий цвет русского офицерства. Клингер служит сначала офицером-воспитателем, а затем становится директором Кадетского корпуса и остается им на протяжении сорока лет, проявляя незаурядный организаторский и педагогический талант.
В России он не бросает пера. За первые десять лет жизни здесь он создает 11 пьес, второе десятилетие отдает преимущественно роману, создает цикл из девяти социально-философских романов, среди которых наиболее знаменит роман о Фаусте[247]. Этот период завершают «Наблюдения и размышления над различными явлениями жизни и литературы» (1801–1804). При этом Клингеру тщательно приходится скрывать свои литературные труды, ибо в глазах официальных российских властей они (а особенно их содержание) несовместимы с должностью директора Кадетского корпуса. Однако несмотря на то, что его произведения издаются в Германии анонимно, о его авторстве все равно становится известно в России. Он все больше и больше слывет опасным вольнодумцем. При Александре I Клингер был назначен директором Кадетского корпуса и куратором Дерптского учебного округа. Он чувствует себя относительно спокойно, но царю постоянно пишут на него доносы о том, что он ходатайствует об издании опасных книг, в которых содержатся материлы о положении крепостных, в которых, как пишет министр просвещения граф П. В. Завадовский, допускаются «оскорбительные выражения по адресу европейских властей» и «ощутительно кинуты семена к народному вознегодованию о своем состоянии». В доносах говорится также об «опасных» беседах, которые ведутся в доме Клингера. Немецкая писательница Фанни Тарнов, побывавшая в Петербурге, приводит в своей книге о путешествии в Россию (1819) отзыв о Клингере «одной петербургской дамы», которая «с благонравным ужасом заявила, что она не прочла ни одной строчки, написанной Клингером, его произведения считаются богохульными и пользуются слишком дурной славой, чтобы она отважилась их прочитать…».
Клингер все больше чувствует себя в изоляции в России, вдали от родины. Впрочем, он стремится не порывать связей с Германией, с Европой – переписывается с Гёте, мадам де Сталь, Фанни Тарнов, Шлейермахером и др. В 1805 г. выходит в свет третий том его «Наблюдений и размышлений…». После этого остались еще 26 лет жизни в России, но совершенно неизвестно, что он писал в эти годы. Он больше ничего не печатал, а после смерти писателя, выполняя его предсмертную волю, его вдова предала огню весь его архив.
Еще в 1788 г. Клингер женился на Елизавете Александровне Алексеевой, которая, как предполагают биографы, была внебрачной дочерью Григория Орлова. Сын Клингера во время Отечественной войны 1812 г. был адъютантом Барклая де Толли. Смертельно раненный в Бородинском сражении, он умер в Москве, захваченной Наполеоном. Это было большим горем для Клингера. Все сильнее он переживает горькое чувство одиночества, все больше сомневается в искренности политики Александра I. В результате Клингер отстранен от должности куратора. «Отныне кураторами будут люди известного благочестия, – с горечью пишет Карамзин Дмитриеву. – Клингер уволен, мне сказывали, что он считается вольномыслящим…» В 1820 г. Клингер был освобожден от всех должностей и уволен в отставку. При этом официальные власти обвиняли его в вольнодумстве, корыстолюбии и даже нелюбви к России, что было совсем несправедливо. Клингер с уважением отзывался о русском народе, выучил русский язык, интересовался историей России, глубоко переживал из-за ее несвободного состояния, обличал, хотя и скрыто, деспотизм и самодурство русских властей. Это особенно сказывается в его пьесах «Фаворит» (1785) и «Родерико» (1787), говорящих о режиме Екатерины II и о фаворитизме. Царский двор обличается в трагедиях Клингера на античные сюжеты: «Дамокл» (1786) и «Аристодем» (1787). В трагедии «Ориант» (1789) драматург обратился к коллизии Петра I и царевича Алексея.
Наибольшую известность Клингеру-драматургу принесли его штюрмерские пьесы, особенно «Близнецы» и «Буря и натиск». Они очень показательны для штюрмерской драматургии в целом.
В основе первой трагедии лежит мотив вражды двух братьев-близнецов (новая вариация архаического «близнечного мифа»), типичный для штюрмерской литературы. Демонстрируя вражду людей, близких по крови, штюрмеры тем самым утверждали главенство духовного родства над кровным, доказывали, что внутреннее, естественное право человека обусловлено уникальностью его личности, его талантом, а не высоким происхождением. Герои пьесы, братья-близнецы Гвельфо и Фернандо, являются сыновьями богатого итальянского дворянина. Однако право наследования принадлежит только Фернандо, ибо он родился первым. При этом Фернандо труслив, жаден, хитер, в то время как Гвельфо благороден, наделен невероятной волей и огромной физической силой. Однако униженное положение извращает все лучшее в Гвельфо, превращает его в человеконенавистника и убийцу, бунтаря-одиночку, бросающего вызов всему обществу и его нормам.
В драме «Буря и натиск» варьируются шекспировские и руссоистские мотивы. Два английских дворянина – Буши и Берклей – находятся в смертельной вражде, как шекспировские Монтекки и Капулетти. Но сын одного из них, Карл, любит дочь другого, Каролину (совпадение имен подчеркивает духовное родство влюбленных). Однако отец Каролины увозит свою дочь в Америку, подальше от ненавистного семейства Карла. Тем не менее новый Ромео находит в Новом свете свою Джульетту. Здесь влюбленным удается преодолеть вражду родителей и обрести счастье вдали от извращенной цивилизации.
В пьесе очевидны социальные ноты: несчастья, обрушивающиеся на героев, связаны не только с враждой семейств, но и с придворными интригами, королевскими немилостями и т. и. Поэтому не случайно счастливый финал разыгрывается в Америке, борющейся за независимость. Именно в это время лучшие люди Европы сочувствовали Американской революции и видели в новом рождающемся государстве надежду на торжество независимости духа и прав человека. Сам Карл собирается вступить добровольцем в армию Вашингтона.
Наиболее показательны для идеалов штюрмерства образы главных героев. В Карле воплощены благородство, способность любить, незгибаемая воля, свободолюбие, неукротимость стремлений. В начале своих скитаний он принимает имя Вильд (букв, «дикий», «буйный»), символизирующее его неуничтожимое жизнелюбие, неостановимость стремлений, близость природе. В отличие от Гвельфо из «Близнецов» бунт Карла не носит сугубо индивидуалистического, разрушительного, мизантропического характера, он сочетается с созидательной силой, со светлыми чувствами. Под стать Карлу и Каролина, в которой соединяются нежность и необычайная сила – черты, характерные для образа «сильной женщины», свойственного штюрмерской драматургии.
Пьеса поражает стремительностью и насыщенностью действия. Все события, в ходе которых меняются судьбы и разрешаются десятилетние страдания героев, происходят в течение суток с небольшим. Но, внешне соблюдая правило единства времени, Клингер создает совершенно антиклассицистическую драму, стремясь передать и структурой пьесы, и ее стилистикой темп современной жизни с ее резкими, неожиданными поворотами. Язык драмы отличается особой экспрессией, страстностью, неистовостью, сознательно проявляющейся в нарушении грамматических норм. Клингер часто использует неправильный порядок слов, пропускает связки, нарочито делает фразу судорожной, рваной, беспорядочной. В диалогах он пользуется повторами одних и тех же ключевых реплик и слов, часто неологизмов, созданных им самим.
Показательна для штюрмерства также драматургия еще одного «рейнского гения», друга юности Гёте и Клингера – Якоба Михаэля Рейнгольда Ленца (Jakob Michael Reinhold Lenz, 1751–1792), короткая и трагическая жизнь которого также связана с Россией. Якоб Ленц родился в России, в маленькой лифляндской деревушке Зессвеген, в семье пастора. С 1755 г. его семья жила в Дерите, где мальчик учился в городской латинской школе. Его отец возглавлял местный кружок пиетистов и приобщил к пиетизму своего сына. В Ленце очень рано пробудился интерес к литературе, его кумиром стал Клопшток, «Мессиадой» которого он зачитывался. Особый интерес он испытывает также к «трогательной» комедии.
В 1769 г. Ленц поступает на богословский факультет Кёнигсбергского университета, где единственной отрадой для него становятся лекции Канта. Так и не закончив образования, Ленц в 1771 г. отправляется в Страсбург, где знакомится с Гёте. Он переводит Поупа, Шекспира, пишет лирические стихотворения, посвященные Фрид ерике Брион, в которую влюблен, как и Гёте[248]. В 1774 г. в печати появляются драмы Ленца «Домашний учитель» («Der Hofmeister»), «Новый Меноза» («Der neue Menosa»), переводы из Плавта, а также «Замечания о театре». В 1776 г. выходят драма «Солдаты» («Die Soldaten»), перевод «Кориолана» Шекспира, перевод из Оссиана. Ленц создает в Страсбурге литературное общество и исполняет в нем обязанности секретаря. На заседаниях общества он прочел такие важные теоретические работы, как «О разработке немецкого языка» и «Письма о моральном смысле “Страданий молодого Вертера”». В первой работе Ленц, опираясь на идеи И. Г. Гамана и И. Г. Гердера, говорит о необходимости самостоятельного пути немецкой литературы, о возрождении немецкого языка, протестует против засилия галлицизмов в нем. Во второй работе Ленц страстно защищает роман Гёте и его героя от обвинений в безнравственности. «Письма о моральном смысле…» представляют собой самую настоящую апологию страсти, столь свойственную штюрмерству.
В 1776 г. Ленц, очень нуждавшийся материально, отправляется в Веймар, рассчитывая на поддержку Гёте. Здесь он пишет драматическое стихотворение «Тантал», начинает работу над романом «Отшельник», так и оставшимся незавершенным. В Веймаре Ленца все больше раздражают светское общество и придворная жизнь, а Гёте все больше раздражают юношеский максимализм и нетерпимость Ленца. Все заканчивается ссорой бывших друзей, и Ленц навсегда покидает Веймар в том же, 1776 г. (Гёте употребил для этого все свое влияние).
После этого начинается полоса скитаний, все ближе подступает психическая болезнь, стимулируемая жизненными неудачами и ударами судьбы. Летом 1779 г. Ленц делает попытку вернуться на родину Однако возвращение блудного сына не состоялось: он не может успокоиться, найти пристанище, какую бы то ни было службу В 1780 г. Ленц отправляется в Петербург в надежде найти там постоянное место, но опять терпит неудачу и поселяется в Москве. Здесь он переводит Шекспира, пишет трагедию «Сицилийская вечерня» («Die sizilia-nische Vesper», 1779–1781). Ленц пристально интересуется русской литературой и русской историей. Сохранилась сцена из задуманной им трагедии «Борис Годунов»; он пишет о «Россияде» М. М. Хераскова и переводит поэму на немецкий язык. Ленц познакомился с М. Д. Чулковым и Н. М. Карамзиным, с которым встретился в кружке Н. И. Новикова. Своими взглядами и настроениями он близок русскому масонству. В «Письмах русского путешественника» Карамзина и в его переписке с И. К. Лафатером есть сочувственные упоминания о Ленце и его трагической судьбе. Как полагает Н. Д. Молдавская, «вкус Карамзина к немецкому сентиментализму во многом был подготовлен его московским знакомством с Ленцем»[249].
Однако и в Москве Ленца сопровождают неприкаянность и жизненная неустроенность. Он постоянно нуждается, тяжело болеет. В 1792 г. Ленца находят мертвым на одной из московских улиц. Так трагически обрывается жизнь одного из «бурных гениев», до конца сохранившего верность движению «Бури и натиска». Творчеством Ленца всегда интересовались в России. В 1901 г. в Москве вышла монография М. Н. Розанова «Поэт периода “бурных стремлений” Якоб Ленц, его жизнь и произведения».
В историю литературы Я. Ленц вошел не только своей замечательной по искренности и глубине чувств лирикой, но и драматургией. Пожалуй, из всех штюрмеров Ленца выделяет особое преклонение перед мастерством Шекспира (особенно он ценил его исторические хроники). В «Замечаниях о театре», сравнивая «Юлия Цезаря» Шекспира и «Смерть Цезаря» Вольтера, он отдает безусловное предпочтение Шекспиру. Ленц берет на вооружение шекспировскую технику и еще больше усиливает парадоксальность сюжетов и образов, смешение трагического и комического, стремительную смену места действия, эскизные зарисовки действующих лиц. При этом он не повторяет ходы и коллизии Шекспира, но использует шекспировскую технику для воссоздания коллизий немецкой жизни, узнаваемых фигур немецкого быта, а также для выражения внутреннего мира «бурного гения».
Ленц тяготеет к жанрам «серьезной» комедии и «мещанской» драмы. В комедии «Домашний учитель», вызвавшей горячий отклик современников, противопоставлены легкомысленный домашний учитель Лойфер, недоучившийся студент и бездельник, и сельский учитель Венцеслав, честный труженик, исполненный чувства собственного достоинства. Ленц органично включает в комедию элементы семейной драмы. Лойфер соблазнил дочь майора Густхен, которая вынуждена бежать из дому и скрываться в лесной хижине со своим внебрачным ребенком. Лойфер же в это время укрывается от разгневанного майора в доме Венцеслава. Однако все завершается благополучно: благородный Фриц, жених Густхен, женится на ней. Счастливый финал приправлен иронией: Фриц дает обещание никогда не прибегать к помощи домашних учителей. Эта ирония задана и в подзаголовке пьесы: «О выгодах домашнего воспитания».
Трогательность, серьезность сочетаются в комедии с обличительным пафосом. С большим мастерством, сказывающимся в бытовой, психологической, речевой характеристике персонажей, Ленц создает образы прусских помещиков, которые пытаются прикрыть внешним «французским» лоском свое невежество и духовное убожество. «Домашний учитель» вызвал восторженный отзыв Шубарта, который писал в «Немецкой хронике»: «Это творение поистине немецкой силы и правдивости». Тем не менее Виланд и Николаи критиковали Ленца за искусственность развязки, отсутствие единства действия, разорванность композиции.
В драме «Новый Меноза» (новый, потому что герой с таким именем фигурировал в романе датского писателя Э. Понтоппидана «Меноза, азиатский принц, объехавший весь свет в поисках христианства, но с малым успехом», 1742) Ленц использовал прием «остраненного» зрения и фигуру простака для критики европейской цивилизации (подобный прием весьма характерен для просветителей и использован в романе Монтескьё «Персидские письма» и повестях Вольтера «Кандид» и «Простодушный»). По замыслу автора, герой драмы – кумбанский, или калмыцкий (!), принц Танди приезжает в Германию, чтобы ознакомиться с местной жизнью, с пресловутой европейской цивилизацией. Последнюю представляют эпикуреец Цирау, проповедующий безудержный гедонизм, пиетист Беза, проходимец и авантюрист Хамелеон, «демоническая женщина» Диана. Ленц делает принца Танди рупором руссоистских (и своих собственных) идей, его устами бросает вызов гнилой цивилизации, уродующей человека: «Я задыхаюсь в вашем болоте, моя душа более его не выносит! И это называется просвещенной частью света! Всюду, куда ни глянь, вялость, ленивое и бессильное вожделение, лепет смерти вместо огня и жизни, болтовня вместо действия». Обличительные тирады Танди весьма напоминают гневные речи Карла Моора из шиллеровских «Разбойников» (точнее, в какой-то степени предваряют их). Устами принца Танди Ленц выражает и свой идеал – счастья, обретаемого в творчестве, творческого наслаждения, противопоставленного животному гедонизму: «Творчество делает человека счастливым, а не наслаждение. Животное тоже наслаждается».
Одной из самых смелых пьес Ленца является драма «Солдаты», вышедшая анонимно (авторство Ленца было подтверждено значительно позже издателями и друзьями писателя). Это «мещанская» драма в духе Дидро и Мерсье, несущая в себе также отзвуки «бюргерской» трагедии Лессинга «Сарра Сампсон». Действие пьесы происходит во французской Фландрии. Мария, девушка из бюргерской семьи, встречает офицера-дворянина Депорта и ради любви к нему отказывается от своего преданного жениха Штольциуса. Депорт соблазняет доверчивую девушку и разоряет ее отца. Обесчещенная Мария и ее отец отправляются в скитания и влачат жалкое существование. Одна из самых сильных, трогательных и патетических сцен пьесы – сцена, в которой Мария просит милостыню у неузнанного ею отца. Развращенному дворянину Депорту противостоят люди простого происхождения – Штольциус и священник Эйзенгардт. Именно они являются людьми чести, именно в их уста автор вкладывает резкую критику современного общества. Верный Марии Штольциус решает отомстить за поруганную возлюбленную. Переодевшись лакеем, он подает Депорту отравленную пищу, а после того, как негодяй отведал ее, говорит ему прямо в лицо: «Да, предатель, ты отравлен. Меня зовут Штольциус. Я тот, чью невесту ты сделал публичной девкой. Она была моей невестой. Если вы не можете жить без того, чтобы делать женщин несчастными, почему вы устремляетесь к тем, которые не могут перед вами устоять, которые верят вам с первого же слова? Ты отомщена, моя Мария! Бог не проклянет меня».
Однако острота социальной критики смягчается странным и несколько алогичным финалом пьесы, в котором графиня Ларош беседует с полковником о проекте организации специальных поселков для солдатских жен, дети которых будут воспитываться государством. Ленц действительно разработал подобный проект, в котором пытался найти выход и спасение от вынужденного безбрачия военных, а также спасение для брошенных ими женщин и детей, рожденных вне брака. Он представил этот проект герцогу Веймарскому, но тот и не собирался его осуществлять. В этом жесте вновь проявились как величайшая наивность Ленца, так и высота, благородство его души, присущие ему юношеский максимализм и энтузиазм.
Драмы Ленца остались не только принадлежностью истории литературы, но и живой частью театрального искусства. Они по-прежнему идут на сцене. Особенно популярен «Домашний учитель», обработанный Б. Брехтом и занявший прочное место в репертуаре театра «Берлинский ансамбль».
Свой след в немецкой драматургии оставил и безвременно ушедший в 34 года «бурный гений» Генрих Леопольд Вагнер (Heinrich Leopold Wagner, 1747–1779), входивший, как и Ленц, в союз «Рейнских гениев», кумиром и душой которых был Гёте. Вагнер был его близким другом, а также поддерживал дружеские отношения с Клингером, Ленцем, Мюллером-живописцем. Он родился в Страсбурге, окончил юридический факультет Страсбургского университета. Адвокатская практика во Франкфурте-на-Майне дала ему глубокое знание жизни, ее острых конфликтов и драматических коллизий. Все это послужило материалом для его драм.
В наследии Вагнера – пять драм, из которых наиболее знаменита «Детоубийца» («Die Kindermörderin», 1776), роман «Жизнь и смерть Себастиана Зиллига» (1776), фарс «Прометей, Девкалион и его рецензенты» (1775), написанный в защиту романа Гёте «Страдания молодого Вертера». Кроме того, Вагнер в 1776 г. перевел на немецкий язык и опубликовал трактат о театре С. Мерсье – «Новый опыт о драматургическом искусстве», оказавший значительное влияние на штюрмерскую драматургию.
Пьеса «Детоубийца» является типичной «мещанской» трагедией и по сюжету близка истории Гретхен в I части «Фауста», точнее – «Прафауста». Вагнер был знаком со сценами «Прафауста» в рукописи и сознательно писал вариацию к истории гётевской героини, усиливая бытовые, натуралистические подробности, дразня общественный вкус, эпатируя обывателя, выступая в защиту естественных чувств, обличая филистерскую мораль и ханжество Церкви.
Действие пьесы начинается в подозрительной гостинице, куда соблазнитель, дворянин и офицер, лейтенант фон Гренингсек приводит свою жертву – дочь мясника Эвхен Хумберт, длится ровно девять месяцев и завершается убийством ребенка, рожденного героиней, и ее самоубийством. В драме предстают отвратительные антигерои, деградировавшие морально. Особенно отвратителен Гренингсек, для которого не существует ничего святого и который презирает «мещанскую добродетель». Таков же его приятель, прожженный циник майор фон Газенпот. Воссоздание «среды», правдивое и даже натуралистическое, довершается образами родителей Эвхен – глупой и тщеславной фрау Хумберт, готовой продать честь дочери дворянину, грубого отца, воинственно о стаивающего ханжескую мораль и подталкивающего дочь к гибели. Не является героиней и Эвхен: она наивна и предельно пассивна, она просто жертва, а не «сильная женщина», являющаяся рупором штюрмерских идей. Однако именно это и придает пьесе Вагнера убедительность, жизненную правдивость.
Еще одно заметное имя в штюрмерской драматургии, также связанное с союзом «Рейнских гениев», – Фридрих Мюллер (Friedrich Müller, 1749–1825), прозванный Мюллером-живописцем за свои занятия живописью и историей искусства. Мюллер родился в семье трактирщика в Пфальце, в маленьком селении Крейцнах. Само место рождения с детства предопределило его интерес к фигуре доктора Фауста, к легендам о нем (согласно одному из преданий, Фауст служил учителем в Крейцнахе). Позднее этот интерес был стимулирован дружбой с Гёте и работой последнего над сюжетом о Фаусте. Мюллер получил художественное образование и в 1777 г. стал придворным живописцем в Маннгейме. Гёте выхлопотал для своего друга стипендию у Веймарского герцога, чтобы учиться в Италии. С 1778 г. Мюллер жил в Риме и занимался преимущественно историей искусства. Главное, что он создал в литературе, было написано до отъезда в Италию: это идиллии, несколько драматических фрагментов о Фаусте и драма «Голо и Генофефа».
В 1776 г. написаны «Сцены из жизни Фауста» («Situationen aus Fausts Leben»), в которых герой немецкой легенды предстает как университетский ученый, находящийся в остром конфликте с окружающим его филистерством и становящийся объектом зависти и клеветы собратьев-ученых. Фауст осознает свое высокое призвание и рвется к ничем не ограниченной свободе, являя собой типичный пример «бурного гения», наделенного неистовостью чувств и стремлений.
В 1778 г. Мюллер начинает писать трагедию в прозе «Жизнь и смерть доктора Фауста» («Doktors Fausts Leben und Tod»), но создал только фрагменты первого акта. Действие начинается, как и в гётевском произведении, сценой в кабинете Фауста. Фауст предстает как неукротимый «бурный гений», недовольный своей жизнью, окружающей действительностью, рвущийся к полноте бытия: «Все или ничего! Пошлая посредственность тащит нас по задворкам человеческой жизни; ни отдыха, ни умиротворения! Один-единственный прыжок, и это бы свершилось! Почему так безграничны стремления существа, имеющего всего-навсего пять чувств, так стеснены его созидающие силы!» Фауст стремится к преодолению ограниченной человеческой натуры, рвется к безграничному, к сверхчеловеческому. В разговоре с таинственным незнакомцем, явившимся в его кабинет, он говорит о своем желании стать «Колумбом ада»: «Зачем я мучаюсь и не решаюсь отважиться на деяние, дерзостно свершить которое я предназначен со дня сотворения мира?» И Фауст отваживается рискнуть, проверить, на что он способен, поверить в свое сверхчеловеческое призвание. В сцене на перекрестке дорог, написанной в духе народных книг и кукольных комедий о Фаусте, герой беседует с семью духами, предлагающими ему свои услуги. Предложения шести из них он с презрением отверг, а седьмому говорит: «Посмотри на меня, человек желает больше, чем может дать ему Бог и дьявол». На этом сцена обрывается. Таким образом, в своем фрагменте Мюллер создает самый штюрмерский, самый «бурный» образ Фауста, воплощая в нем идеал человека неукротимых стремлений, сверхчеловеческого дерзания.
В трагедии «Голо и Генофефа» («Golo und Genoveva», 1776), примыкающей к традиции рыцарских драм и испытавшей влияние «Гёца фон Берлихингена» Гёте, Мюллер обработал сюжет знаменитой народной книги о св. Генофефе. Однако и в этой героине, ставшей в немецкой народной культуре символом чистоты, мученичества, невинного страдания, Мюллер видит прежде всего обычную женщину, любящую жену и мать, терпеливо и кротко переносящую страдания. Как «бурный гений» предстает в пьесе Голо, сын демонической «сильной женщины» – графини Матильды. Голо охвачен неистовой, всепоглощающей страстью к Генофефе. Автор прославляет силу чувств и воли человека.
Штюрмерская драматургия Гёте, Мюллера-живописца, Клингера и в особенности Ленца и Вагнера подготовила появление Шиллера, драмы которого стали высшей точкой и завершением штюрмерской драматургии. В целом же творчество Шиллера, в том числе и его драматургия, далеко выходит за пределы штюрмерства.
Драматургия Фридриха Шиллера: от штюрмерства к «веймарскому классицизму»
На последней стадии своего развития немецкое Просвещение дало миру одного из самых выдающихся драматургов мира – Фридриха Шиллера. Впрочем, имя Шиллера несводимо только к драматургии и даже только к литературе, и не только потому, что талант этого писателя удивительно многообразен. Дело в другом: имя Шиллера навсегда стало символом чистоты чувств (о «шиллеровской чистоте» будут говорить Тургенев и Лев Толстой) и свободы, пламенной защиты прав человеческой личности и всего человечества. «Через все творения Шиллера проходит идея свободы», – говорил Гёте в беседе с И. П. Эккерманом[250]. «Благородным адвокатом человечества» назвал Шиллера
В. Г. Белинский, восторженно восклицавший: «Да здравствует великий Шиллер, благородный адвокат человечества, яркая звезда спасения, эманципатор общества от кровавых предрассудков предания!»[251]
В творчестве Шиллера органично соединились национальное и общечеловеческое, и все же именно последнее всегда стояло для него на первом месте, как для истинного просветителя: «Я пишу как гражданин мира, который не служит ни одному князю. Рано я потерял свое отечество, чтобы сменить его на широкий мир…»[252] Великая мечта о свободном человечестве, свободолюбивый дух Шиллера сформировались в условиях поразительной общественной и личной несвободы, вопреки пытавшейся сломить его судьбе, наперекор скитаниям и нужде, ежедневной борьбе за существование.
Иоганн Кристоф Фридрих Шиллер (Johann Christoph Friedrich Schiller, 1759–1805) родился 10 ноября 1759 г. в Швабии, в Марбахе-на-Неккаре, принадлежавшем герцогу Вюртембергскому, в семье военного фельдшера. Мать писателя была дочерью трактирщика. В 1773 г., после окончания латинской школы, Шиллер становится студентом военной Карловой академии в Штутгарте, где он сполна испытал на себе муштру и неусыпный контроль даже над мыслями. Он изучает юриспруденцию и медицину. Здесь, вопреки муштре и предписаниям, начинается его увлечение литературой. Юный Шиллер читает Руссо, Лессинга, писателей «Бури и натиска». В 1776 г. опубликовано его первое стихотворение – «Вечер»[253]. Однако больше всего его влечет к себе драматургия: с 1776 г. он тайно работает над своей первой пьесой. В 1780 г. Шиллер получает звание полкового врача, а в 1781 г. закончена его первая пьеса – «Разбойники». После ее премьеры в Маннгейме 13 января 1782 г. стало ясно, что в Германии появился еще один очень талантливый драматург. Однако всего лишь за одну поездку в Маннгейм без разрешения герцог посадил писателя под арест. И тогда Шиллер решается на побег, ибо хорошо помнит судьбу Шубарта: 22 сентября 1782 г. он покидает владения герцога Вюртембергского. Так начинаются его скитания, нужда, борьба за существование и его самостоятельный путь в литературе.
За свою недолгую жизнь (всего 45 лет) Шиллер проявил себя как выдающийся поэт и драматург, прозаик, историк, философ и эстетик. Однако именно в драматургии ярче всего раскрылся его художественный талант, нагляднее всего отразилась его творческая эволюция.
Сложен вопрос о творческом методе Шиллера (почти в такой же степени, как и в случае с Гёте): штюрмер в начале своего пути, он явился наряду с Гёте создателем эстетики «веймарского классицизма». В то же время в Европе XIX в. он воспринимался как один из первых романтиков, как прямой предшественник Байрона (особенно велико было влияние Шиллера, как и Байрона, на русский романтизм). Творческий метод Шиллера отразил всю сложность литературного процесса конца XVIII – начала XIX в.: в нем переплелись черты сентиментализма (в штюрмерском его варианте), просветительского классицизма (в варианте «веймарского классицизма»), в нем обозначились (на самом позднем этапе творчества) некоторые тенденции становящегося романтизма.
Первый период творческой деятельности Шиллера связан с движением «Бури и натиска». Выступив тогда, когда штюрмерское движение было уже на излете, он сумел тем не менее сказать новое слово и дать вершинные явления штюрмерской литературы в области драматургии. Ярким образцом штюрмерской драмы стала уже первая пьеса Шиллера – «Разбойники» («Die Räuber», 1781). И хотя в дальнейшем литературоведы будут говорить о некоторой неестественности ситуаций, недостаточной разработанности характеров, драма эта потрясла зрителей прежде всего сходством с реальной жизнью, тем, что в ней говорилось о проблемах немецкой действительности. Известный в то время критик К. Ф. Тимме писал в первой рецензии на пьесу: «Если мы имеем основание ждать немецкого Шекспира, то – вот он перед нами»[254]. В пьесе Шиллера действительно очень сильны шекспировские ноты. Интересно, что Л. И. Толстой, не принимавший Шекспира, критиковавший его за неестественность характеров, говорил о «Разбойниках» Шиллера, что они «глубоко истинны и верны» (из дневника 1890 г., 5 июля)[255].
Герой «Разбойников» Карл Моор – типичный штюрмерский герой, «бурный гений», одиночка, решившийся на бунт против всего общества. «О, как мне гадок становится этот век бездарных борзописцев, когда я читаю в моем милом Плутархе о великих мужах древности» (здесь и далее перевод Н. Ман), – вот первое, что произносит Карл Моор, появляясь на сцене. Дух вольности, опьяняющая жажда свободы, руссоистский культ республиканизма и пиетета перед доблестью римских героев, запечатленной Плутархом, – главное, что характеризует шиллеровского героя. В духе эстетики «Бури и натиска» пьеса построена на резких контрастах, проявляющихся и в основных конфликтах, и в образной системе, и в стилистике, в самой речи персонажей, особенно Карла (сочетание высокой патетики и подчеркнутой приземленное™, прозаизмов, даже вульгаризмов).
Главный конфликт драмы – конфликт между смелой, свободолюбивой личностью и трусливым, рабским, отравленным духом подлости и наживы обществом. С гневом клеймит Карл Моор свой постыдный век: «Пропади он пропадом, этот хилый век кастратов, способный только пережевывать подвиги былых времен, поносить в комментариях героев древности или порочить их в трагедиях. В его чреслах иссякла сила, и людей плодят теперь с помощью пивных дрожжей!» С горечью герой констатирует: «Сверкающая искра Прометея погасла». Возглавив шайку разбойников, Карл Моор борется против ненавистного ему порядка, пытается восстанавливать социальную справедливость. Его идеал – республиканские Греция и Рим, исполненные гражданской доблести античные герои. В начале пьесы Карл уверен в своих силах: «Поставьте меня во главе войска таких молодцов, как я, и Германия станет республикой, перед которой и Рим и Спарта покажутся женскими монастырями».
Таким образом, основной конфликт пьесы имеет остросоциальный характер. Стремясь помочь униженным, угнетенным, несправедливо обиженным, Карл расправляется с жестокими помещиками, несправедливыми судьями, подлыми и лицемерными церковниками (при этом зритель не видит этих эпизодов на сцене, но узнает о них из речей Карла и других действующих лиц). Однако движущей пружиной действия становится личный конфликт между двумя братьями – Карлом и Францем Моорами, конфликт, имеющий глубокий общественный и философский смысл. Образы Карла и Франца контрастно противопоставлены (при этом в их духовном состязании угадываются следы чтения Шиллером романа Г. Филдинга «История Тома Джонса, найденыша» с его противостоянием Тома и Блайфила, принимаемых не за тех, кто они есть на самом деле).
Если Карл несет в себе все лучшее, благородное, смелое, вольнолюбивое, что было в филистерской Германии, то Франц является наглядным воплощением этого филистерства, приспособленческого духа, смешанного с алчностью и страстной жаждой власти любой ценой. Деспот и эгоист по своей природе, Франц добивается жизненного успеха подлостью, хитростью, вероломством. Для него не существует нравственных законов, а совесть – понятие растяжимое, как у мольеровского Тартюфа. Франц убежден: «Право на стороне победителя, а закон для нас – лишь пределы наших сил». Слова «совесть», «честь» – для него лишь пустой звук, то же, что модные пряжки на панталонах, «позволяющие, по желанию, то стягивать, то распускать их».
Для него не существует любви, не основанной на непререкаемом авторитете его собственного «я». Являясь по-своему сильной личностью, титаном зла (как шекспировский Ричард III), Франц одержим лишь одной страстью – страстью жизненного успеха, страстью власти над людьми. Он безумно завидует Карлу и мстит ему за то, что тот наделен привлекательной внешностью, умом, огромной силой воли, благородством. В противоборстве двух братьев предстает противоборство двух жизненных позиций, противоборство республиканизма, жажды справедливости, жизни во имя людей – и деспотизма, тирании, животного эгоизма.
Однако и Карл Моор, при всей симпатии к нему автора, показан внутренне противоречивым. В нем рациональное захлестывается эмоциональным (что в целом характерно для штюрмерского героя), общественное заслоняется личным. Он отчетливо сознает враждебность нормальному человеку немецких порядков, но на открытый протест его толкает прежде всего личная обида. Предводителем шайки разбойников Карл становится после того, как узнает об отречении от него отца. С крахом семейной гармонии для него рушится и мировая гармония, он готов обратить свою ненависть против всего рода человеческого: «О, я хотел бы отравить океан, чтобы из всех источников люди впивали смерть!…О, кто даст мне в руки меч, чтобы нанести жгучую рану людскому племени, этому порождению ехидны!» Шиллер показывает, как постепенно нарастает конфликт Карла с остальными разбойниками и с самим собой. Автор подчеркивает принципиальное отличие своего героя от дельцов типа Шпигельберга. Карл не грабит, он свершает возмездие. Убив продажного адвоката, он с презрением бросает своим подопечным: «Я свое совершил! Грабеж – ваше дело!» Он страстно ненавидит светскую чернь, всплывающую на вершину успеха на слезах обобранных сирот; он собственными руками придушил священника, который в своей проповеди плакался на упадок инквизиции. Однако чем дальше, тем отчетливее Карл с ужасом осознает, что в орбиту его мести (пусть лишь руками его подопечных) втягиваются и совершенно невиновные люди, становятся его жертвами. «Но детоубийство? Убийство женщин? Убийство больных? О, как тяжко гнетут меня эти злодеяния! Ими отравлено лучшее из того, что я сделал», – эти мысли не дают герою покоя. Став невольной причиной смерти отца, в отчаянии убив свою возлюбленную Амалию, чтобы она не досталась разбойникам, Карл в финале пьесы решает добровольно сдаться властям, причем так, чтобы его казнь принесла хоть какую-то пользу бедному крестьянину, который сможет воспользоваться вознаграждением, объявленным за поимку главаря банды.
Герой Шиллера отрекается не от самой идеи справедливости, но от избранных им методов борьбы за нее. Автор недвусмысленно показывает, что путь крови и насилия ведет не к восстановлению справедливости, но к еще большей крови и насилию. Как истинный просветитель, Шиллер не может согласиться с таким путем изменения мира. Он развенчивает индивидуалистический бунт, связанный с насильственными методами изменения действительности. Первая пьеса Шиллера явилась не только ярким произведением, выразившим устремления штюрмерства, но уже содержала в себе критику наиболее радикальных штюрмерских идей.
В «Разбойниках», как ни в одном произведении немецкого Просвещения, с большой силой воплотился руссоистский идеал республиканизма, защиты естественных прав человека. Воздействие пьесы на современников было огромным. По воспоминаниям очевидцев, во время премьеры «театр походил на сумасшедший дом – выпученные глаза, сжатые кулаки, резкие выкрики в зрительном зале! Люди, рыдая, бросались друг другу в объятия, женщины в полуобморочном состоянии, шатаясь, брели к выходу. То было всеобщее потрясение, как в хаосе, из неопределенности которого рождается новое творение»[256]. Все, что происходило на сцене, было совершенно новым и неслыханным для немецкого театра. Смелость пьесы заключалась прежде всего в открытом вызове немецкой действительности, в яростном тираноборческом пафосе, о котором свидетельствовал краткий эпиграф из Ульриха фон Гуттена – «Против тиранов!» Второй – из Гиппократа – напоминал об очистительном огне. Воистину, первая пьеса, с которой Шиллер вступил в литературу, прозвучала, по словам Белинского, как «пламенный, дикий дифирамб, подобно лаве, исторгнувшейся из глубины юной, энергической души»[257]. Не случайно именно за «Разбойников» Шиллер в годы Великой французской революции будет удостоен почетного звания гражданина Французской Республики.
Республиканские настроения молодого Шиллера отразились и в следующей драме – трагедии «Заговор Фиеско в Генуе» («Verschwörung Fiescos zu Genua», 1782), которую сам автор назвал «республиканской трагедией». Шиллер обращается к историческому материалу эпохи Ренессанса, привлекшему в свое время внимание Руссо, и, кроме того, вслед за Лессингом дает еще одно осмысление истории римлянки Виргинии, которая предстает на этот раз в образе Берты, дочери республиканца Веррины. В центре пьесы – конфликт между истинным стремлением к свободе и лжереспубликанизмом, скрывающим под собой жажду ничем не ограниченной власти. Эти разные позиции представляют суровый республиканец Веррина и честолюбец Фиеско, подготовивший в Генуе заговор против тирана Дориа. Прозорливый Веррина видит в Фиеско, перед которым благоговеют остальные заговорщики, то, чего не видят пока другие, – огромное себялюбие, жажду славы и власти: «Человек, чья улыбка обманула всю Италию, не потерпит в Генуе равных себе… бесспорно, Фиеско свергнет тирана. Еще бесспорнее: Фиеско станет самым грозным тираном Генуи». Шиллера интересует механизм, превращающий борца за свободу в нового тирана, он пытался предупредить о том, что в борьбе за свободу можно совершить насилие над самой свободой.
Показательно, что Шиллер создал три варианта трагедии, имеющих различную развязку. Все три развязки отличаются от исторической реальности: реальный Фиеско одержал победу над Дориа, но случайно утонул в море. Такой случайности не мог следовать Шиллер, ибо она не была подготовлена логикой предшествующих событий, характером героя. В первом опубликованном варианте пьесы (Маннгейм, 1783) Веррина, выбирая из двух зол меньшее, сталкивает Фиеско в море и отправляется к герцогу Дориа, чтобы покориться ему (последнее противоречило характеру последовательного республиканца Веррины). Готовя пьесу к постановке в Маннгейме в 1784 г., Шиллер вносит следующие изменения: Веррина только заносит руку с мечом над Фиеско, но, слыша крики толпы «Убивают князя!», бросает этот меч к его ногам и с горечью говорит: «Ты был глупым безумцем, Веррина! В твои шестьдесят лет ты хотел стать убийцей, чтобы отстоять свободу этого народа, и забыл спросить, хочет ли этот народ быть свободным?» Однако эти исполненные разочарования и боли слова мгновенно преображают Фиеско: он ломает монарший скипетр и отказывается от власти. Народ кричит: «Фиеско и свобода!» Веррина же бросается в объятия Фиеско с возгласом: «Навек!» Однако в этом варианте слишком немотивированным и наивным оказывалось преображение Фиеско. Поэтому в 1785 г., для постановки пьесы в Дрездене и Лейпциге, Шиллер сделал новую сценическую редакцию, найденную только в 1943 г. и опубликованную впервые в Веймаре в 1952 г. В этой версии Веррина все-таки убивает Фиеско, а затем отдает себя в руки правосудия и говорит гражданам Генуи: «Он был моим задушевным другом, моим братом, он сделал мне когда-то много добра. Это был величайший муж нашего времени. Но нет ничего выше долга перед отчизной. Что ж, призовите меня к ответу за пролитую кровь, генуэзцы. Я не уклоняюсь от суда за это убийство. Я проиграю этот процесс на земле, но я уже выиграл его перед лицом Всемогущего». И хотя Шиллер в этой редакции оправдывает насилие во имя свободы, весьма показательно, что дрезденско-лейпцигская редакция так и не была опубликована драматургом при его жизни и долгое время затем оставалась неизвестной.
Пьеса «Заговор Фиеско в Генуе» продемонстрировала возросшее мастерство молодого драматурга. С. В. Тураев отмечает, что в сравнении с «Разбойниками» «в ней меньше риторических монологов, тормозящих действие», что «острота ситуаций, разнохарактерность представленных в драме образов, непрерывная связь событий придают “Заговору Фиеско” сценичность»[258]. Исследователь подчеркивает также незавершенность и противоречивость образа главного героя: «Автор придает ему черты бурного гения… заставляет его колебаться между герцогской короной и республикой, хотя весь строй чувств и мыслей этого героя исключает перспективу борьбы Фиеско за республику. Даже в окончательной редакции явственны черты художественной незавершенности этого образа»[259]. В свою очередь С. В. Тураев относит к художественным удачам молодого Шиллера образ Веррины: «Образ Веррины при всей его монументальности и прямолинейности, напоминающих героев классической трагедии, жизненно убедителен. Он остается верен себе и в отношениях с Фиеско, и в сценах с дочерью, и в финале драмы»[260].
Бесспорной вершиной штюрмерской драматургии Шиллера является его третья пьеса – «Коварство и любовь» («Kabale und Liebe», 1783), определенная автором как «бюргерская трагедия». Уже само это определение свидетельствовало не только о тесной преемственной связи молодого драматурга с Лессингом, но и о его новаторстве. Впервые героями трагедии, действие которой происходило в Германии, стали люди третьего (бюргерского, или мещанского) сословия, впервые крупным планом были показаны чувства этих людей, их душевный и духовный мир, впервые на немецкой сцене появилась героиня незнатного происхождения, исполненная обаяния и высокого чувства человеческого достоинства. Показательно, что первоначально пьеса называлась «Луиза Миллер», что подчеркивало значение именно этого образа, истории любви девушки из бедного семейства и трагедии этого семейства как главной коллизии пьесы. Новое название, более привлекательное для публики, дал руководитель Маннгеймского театра Г. фон Дальберг. И хотя главной в трагедии выступает любовная интрига, «Коварство и любовь», помимо того что это трагедия глубоко психологическая, является также социальной и даже политической.
Пьеса построена на столкновении и контрастном противопоставлении двух миров: мира феодального, деспотического, придворного, мира лжи, насилия и коварства – и мира третьесословного, мира простых и честных людей, мира любви. Первый из них представляют не появляющийся на сцене, но незримо постоянно присутствующий на ней жестокий и развратный герцог, его фаворитка леди Мильфорд, президент фон Вальтер, безмозглый сплетник и болтун гофмаршал фон Кальб (в переводе с немецкого – «теленок»), личный секретарь президента, пресмыкающийся перед ним Вурм (в переводе – «червь»). На другом полюсе – семья скромного учителя музыки Миллера. Старик Миллер при всей своей простоте исполнен чувства высокого человеческого достоинства, истинного благородства. Он осмеливается напомнить разъяренному президенту, нагло явившемуся к нему в дом, кто является здесь хозяином: «Доведется мне быть вашим просителем и прийти к вам, тогда я вам почтение и окажу, но дерзкого гостя я выставляю за дверь». В «Коварстве и любви» Шиллер, с одной стороны, четко социально мотивирует характеры, создает именно социальные типы. С другой же, как истинный штюрмер, сентименталист, руссоист, он подчеркивает, что честь и благородство вовсе не есть атрибуты или функция только дворянского сословия, и наоборот – выходец из высших кругов вовсе не обязательно бесчестен, жесток и непорядочен. Он исповедует внесословный подход к человеку. Вот почему на полюсе любви и чести оказывается и сын президента Фердинанд, возлюбленный Луизы, исполненный истинно штюрмерского воодушевления, питающий искреннее сочувствие к простым людям и отвращение к порочной аристократической среде.
В трагедии сказалась рука уже опытного мастера, знающего законы сцены. В сравнении с «Разбойниками», отличающимися некоторой рыхлостью композиции, преобладанием речей и монологов над прямым действием, множественностью конфликтов, частично заслоняющей конфликт основной, и даже в сравнении с «Заговором Фиеско», где много побочных линий и излишне мелодраматических сцен, пьеса «Коварство и любовь» построена в соответствии со строгими законами драматического искусства. Действие ее предельно сконцентрировано и интенсивно, развивается стремительно, причем характеры героев выявляются не только в речах, но прежде всего в поступках, раскрываются в действии. Все сюжетные линии стянуты в узел одного-единственного конфликта, на первый взгляд частного, но позволяющего сделать глубокие социальные выводы и обобщения.
Луиза и Фердинанд любят друг друга. Их чистая, прекрасная любовь преодолевает все сословные барьеры. «Я дворянин? Подумай, что старше – мои дворянские грамоты или же мировая гармония?» – говорит Фердинанд возлюбленной. Шиллер не менее страстно, нежели Руссо в своих трактатах и в романе «Юлия, или Новая Элоиза», защищает естественное чувство, «естественного человека». Луиза вслед за Фердинандом мечтает о том времени, когда «спадет ненавистная шелуха сословий и люди станут только людьми…». Тем не менее для Луизы все отравлено горечью настоящего, которое не есть настоящее подлинное, а последнее наступит, скорее всего, в жизни за гробом. И уже в самой идиллии любви ощущается предвестие скорой трагедии. Предчувствие ее – в ворчании старого Миллера о том, «что девчонке вовек сраму не избыть», во внезапном страхе Луизы: «Фердинанд! Меч занесен над тобой и надо мной! Нас хотят разлучить!»
Действительно, силы коварства уже начали свою невидимую работу. Президент фон Вальтер, пришедший к власти ценой преступления, решает женить сына на леди Мильфорд, фаворитке герцога, и тем самым упрочить свое положение (при этом его ничуть не смущает скандальная слава леди). Низкий и коварный Вурм, отвергнутый Луизой, расчетливо спешит донести президенту о любви Луизы и Фердинанда. Сцена появления разъяренного президента в доме бедного учителя музыки – одно из самых ярких наглядных проявлений бюргерского самосознания и одновременно бюргерского бесправия. Фердинанд полон решимости защищать свою любовь и говорит об отце: «Нет, я разрушу его коварство, я порву железные цепи предрассудков, я выберу, кого хочу, как подобает мужчине, и пусть у мелких людишек закружится голова при взгляде на великий подвиг моей любви!» Но Фердинанд не смог до конца оценить всю силу коварства: когда не удалось прямое насилие, президент руками Вурма пускает в ход насилие более изощренное и подлое – клевету. Оклеветана Луиза, вынужденная ради спасения арестованного отца написать «любовное» послание фельдмаршалу фон Кальбу. Оскорбленный, уязвленный, ослепленный ревностью Фердинанд лишает жизни и Луизу и себя. Вновь повторяется – в новых общественных условиях – трагедия Ромео и Джульетты, Отелло и Дездемоны (Шиллер сознательно использует шекспировские ходы и аллюзии). Любовь гибнет в мире лжи, насилия, подлости, коварства.
Шиллер сумел поднять частную историю двух влюбленных до высоты социальной трагедии. Пьеса звучала и звучит как гневный протест против деспотизма и любого насилия над человеческой личностью. В ней прекрасно воссоздана удушливая атмосфера карликового немецкого княжества, атмосфера феодального гнета, сословного неравенства, полного попрания человеческого достоинства, обесцененности в глазах власть имущих жизни простого человека. Драматург дает почувствовать эту атмосферу одним выразительным штрихом: шкатулка с бриллиантами, подаренная герцогом леди Мильфорд, вместила в себя слезы семи тысяч сыновей родины, проданных как пушечное мясо для борьбы с североамериканскими повстанцами, а также слезы их матерей, невест, жен и детей. Рассказ старого камердинера о расправе с непокорными, о том, как обезумевшие матери бросали на штыки грудных младенцев, как жениха при помощи сабель разлучали с невестой, звучал как обвинительный приговор всему отжившему феодальному укладу, всему миру насилия. В рассказе самой леди Мильфорд предстает картина полного морального разложения, извращения нравов при дворе деспота. Пьеса звучала и звучит как страстный гимн в защиту свободы, прав человека, осмысленного, разумного человеческого существования.
В «Коварстве и любви» глубоко индивидуализирована речь персонажей (особенно в сравнении с «Разбойниками»): льстиво-угодливая, со скрытой угрозой – у Вурма; отрывисто-пустопорожняя, пересыпанная французскими словечками – у фон Кальба; простодушно-грубоватая – у старика Миллера; патетически-возвышенная и в то же время язвительная (истинно штюрмерская) – у Фердинанда; нежная, чувствительно-взволнованная и также исполненная высокого пафоса – у Луизы. В уста Луизы и Фердинанда Шиллер вкладывает и свои заветные мысли.
Премьера «Коварства и любви» прошла с огромным успехом. Правда, для того чтобы пьеса пробилась на сцену, автору пришлось до неузнаваемости изменить обстановку действия. Но затем пьеса крайне редко появлялась в репертуаре немецких театров, а в годы Великой французской революции была и вовсе запрещена, так велико было ее революционизирующее воздействие на сознание народа.
Своими пьесами штюрмерского периода Шиллер, наряду с Гёте, создавшим «Гёца фон Берлихингена», практически осуществил мечту Лессинга о создании национального театра. В докладе «О воздействии театра на народ», словно бы продолжая слова Лессинга, Шиллер говорил: «…если бы мы дожили до национального театра, то стали бы нацией». Позже этот доклад был напечатан под названием «Театр, рассматриваемый как нравственное учреждение» (1802). В статье шла речь о высокой миссии театра, который непосредственно переделывает мир через изменение зрительского сознания, через воспитание общественного мнения, через обличение пороков действительности: «Когда справедливость слепнет, подкупленная золотом, и молчит на службе у порока, когда злодеяния сильных мира сего издеваются над ее бессилием и страх связывает десницу властей, театр берет в свои руки меч и весы и привлекает порок к суровому суду». Эта речь стоила Шиллеру места в Маннгеймском театре (власти уже получили донос по поводу его «неблаговидной» и «возмутительной» деятельности).
С 1784 по 1787 г. длится полоса скитаний и напряженных раздумий о задачах искусства. В 1784 г. Шиллер основывает журнал «Рейнская Талия» («Rheinische Thalia»). В программной статье, извещавшей об издании нового журнала, он провозглашает: «Я пишу как гражданин мира, который не служит ни одному князю… “Разбойники” стоили мне семьи и отечества… Отныне все мои связи порваны». Журнал практически не давал средств к существованию, и Шиллера материально и морально поддерживал молодой правительственный чиновник из Дрездена Кристиан Готфрид Кернер (1756–1831). Писатель вначале переписывался с ним, а затем в 1784 г. поселился в его доме, в Лошвице под Дрезденом, где прожил два года. Именно в это время совершается отход Шиллера от прежних эстетических позиций, и в значительной степени под влиянием Кернера. Он все больше убеждается в трагической бесплодности индивидуалистического бунтарства «Бури и натиска», все больше утверждается в мысли, что действительность невозможно менять с помощью революционных взрывов, с помощью насилия.
Переходной от штюрмерского к новому этапу творчества стала драма «Дон Карлос» («Don Carlos»), над которой Шиллер работал на протяжении 1783–1787 гг., долго и мучительно. «Новые идеи, зародившиеся во мне тем временем, вытеснили прежние», – писал позднее Шиллер в «Письмах о “Дон Карлосе”» (1788). Новые идеи сказались уже в самой форме пьесы: на смену экспрессивной, патетической и одновременно сниженной по стилю, иногда намеренно грубоватой прозе приходит классически ясный стих, классический ямб высокой трагедии (жанр «Дон Карлоса» определяют иногда как драматическую поэму). Начав работу над пьесой, Шиллер пишет Дальбергу, что до сих пор «ставил свою фантазию на мещанские котурны, в то время как высокая трагедия являет собой столь плодотворное поприще». В поэтике пьесы сказалось пристальное изучение драматургии Корнеля, Расина, Кребийона-старшего, Вольтера. «Такое чтение, – пишет Шиллер, – во-первых, расширяет мои драматургические знания и обогащает мою фантазию, во-вторых, я надеюсь с его помощью найти благодатное равновесие между английским и французским вкусом». Вместе с тем в главных героях драмы, особенно в маркизе де Поза, сохраняется многое от штюрмерских героев с их неистовостью чувств и страстной жаждой свободы.
«Дон Карлос» – первая из великих исторических драм Шиллера. Однако драматург проецирует исторические события на современность, пытается с их помощью понять проблемы и болезни своего века. Шиллера волнует прежде всего всемирно-исторический, общечеловеческий аспект, он чувствует узость прежних национальных, сугубо немецких рамок. Именно поэтому действие пьесы происходит в Испании конца XVI в., в годы правления сурового и жестокого Филиппа II, когда Нидерланды боролись с испанским гнетом. Испания предстает как зловещий символ всего деспотического мира. Дон Карлос, сын Филиппа II, решает стать на сторону восставших Нидерландов, поднять свой меч против отца-тирана: «Он больше не отец мне. В сердце Карла // Умолк природы голос… // Иду спасти народ мой угнетенный // От тирании» (здесь и далее перевод В. Левика). Кроме того, Дон Карлос – соперник Филиппа в любви: он любит королеву Елизавету, ранее предназначавшуюся ему в жены. Король подозревает жену и сына в измене. Так завязывается тугой узел двойного трагического конфликта – социально-политического и психологического.
Дух свободолюбия, ненависти к тирании поддерживает в Карлосе его друг и мудрый наставник, мальтийский рыцарь маркиз де Поза. Он является, по сути дела, главным героем пьесы и во многом рупором авторских идей. Маркиз де Поза, «гражданин мира», и его ученик Карлос воплощают гуманное начало, стремление к истине, свободе мысли и совести. Именно за это их так ненавидят герцог Альба, граф Дерма, исповедник короля Доминго. Последний из них говорит: «Карлос – мыслит! // Он предался неслыханным химерам, // Он человека чтит!» В уважении к человеку, в самостоятельности мысли – прямая угроза могуществу мира, основанного на насилии и унижении человека.
Маркиз де Поза – новый герой Шиллера, во многом противоположный бунтарю-индивидуалисту Карлу Моору, но столь же трагически одинокий. Он свято верит в прогресс, в неизбежность победы гуманных идей и пытается воздействовать на разум и совесть короля. Поза уповает не на бунт, а на преобразования, осуществленные просвещенным монархом. В знаменитой сцене аудиенции (действие III, сцена 10) он бесстрашно открывает перед Филиппом свои взгляды, убеждая его в том, что самодержавие противно естественным законам, что любой монарх бессилен отменить эти законы: «Всмотритесь в жизнь природы. // Ее закон – свобода». Поза говорит о невозможности повернуть вспять колесо истории, задержать ход исторического прогресса: «Вы решаетесь схватить // За спицы колесо судеб всемирных // И задержать его на всем ходу. // Не сможете!» В уста Позы вложены просветительские идеи разума, естественного права, необратимого поступательного хода истории. В противоположность Карлу Моору, собственными руками убивавшему жестоких помещиков, мечтатель-гуманист Поза бросается на колени перед королем со страстным призывом ощутить в себе человека и даровать подданным свободу мысли и совести. Однако сам Поза горько осознает неосуществимость своих идеалов в современных ему условиях: «Нет, для моих священных идеалов // Наш век еще покуда не созрел. // Я гражданин грядущих поколений». В образе Позы Шиллер рисует свой идеал, прекрасного человека грядущего, ту «свободную человечность», о которой мечтал и Гёте и которую запечатлел в образах Ифигении, Эгмонта, Торквато Тассо.
Гибнет благородный маркиз де Поза, приняв на себя гнев короля, чтобы спасти Дона Карлоса. Но и сам Карлос, потрясенный гибелью друга, самоотверженно отказывающийся от любви, обречен: репликой, завершающей пьесу, Филипп передает сына в руки инквизиции. Пьеса Шиллера исполнена одновременно великого оптимизма, веры в человека и безысходности, отчаяния, но все же высокий свет духовности и человечности, исходящий от Позы и Карлоса, внушает читателю и зрителю надежду на ненапрасность их усилий, на осмысленность самых трагических коллизий истории.
Сложен и неоднозначен образ Филиппа. Он не является ходячим воплощением зла, он способен по достоинству оценить высокие моральные качества маркиза де Позы. Глубоко проникая в сущность проблемы, Шиллер изображает деспотизм не просто как власть одного человека, но как сложный многовековой механизм жестокого подавления свободы человеческой личности, как систему, основанную на ложных духовных ценностях, на антигуманизме. Именно поэтому в финале пьесы появляется одна из ключевых ее фигур – Великий Инквизитор, перед которым вынужден держать ответ сам король – за то, что поддался речам Позы, за то, что «возжаждал человека». Образ Великого Инквизитора, безусловно, связан с конкретным отношением Шиллера к деятельности инквизиции, особенно сильной в Испании. Не случайно, задумывая «Дон Карлоса», драматург писал в 1783 г.: «Я считаю долгом в этой пьесе отомстить своим изображением инквизиции за поруганное человечество, пригвоздить к позорному столбу их гнусные деяния. Я хочу, – пусть даже из-за этого мой Карлос будет потерян для театра, – чтобы меч трагедии вонзился в самое сердце той людской породы, которую он до сих пор лишь слегка царапал». Однако сами слова Шиллера, равно как и его пьеса, свидетельствуют, что фигура Великого Инквизитора – нечто большее, нежели олицетворение инквизиции, большее, нежели осуждение католического фанатизма. Эта фигура – грандиозная мифологема, созданная поэтом и сконцентрировавшая в себе всю его ненависть ко всякого рода фанатизму, насилию над человеком, деспотизму и варварству, оправдывающему себя высокими словами и ценностями. С шиллеровским Великим Инквизитором генетически связан образ с тем же названием в «Братьях Карамазовых» Ф. М. Достоевского, испытавшего огромное влияние немецкого писателя.
По своему тираноборческому и антиклерикальному пафосу «Дон Карлос» еще тесно связан с ранними пьесами Шиллера. Однако в нем уже содержатся черты будущей программы «веймарского классицизма», и прежде всего идея преобразования мира путем воспитания прекрасного человека через прекрасное, гармоничное и одновременно исполненное великих страстей искусство.
После завершения «Дон Карлоса» наступает десятилетний перерыв в драматургической деятельности Шиллера. Это время глубокого осмысления им важнейших философских и эстетических проблем, время прямого обращения к истории. Поворот знаменовало посещение поэтом и драматургом в 1787 г. Веймара и знакомство с Виландом и Гердером. В 1788–1789 гг. появляются важнейшие исторические сочинения Шиллера – «История отпадения Соединенных Нидерландов» и «История Тридцатилетней войны», проникнутые страстной верой в прогресс человечества, как ни сложно складывается его путь[261]. Сложным и противоречивым было отношение Шиллера к Великой французской революции. Приветствуя ее начало, он затем осуждает якобинскую диктатуру. Поэт все больше склоняется к мысли о том, что главную роль в преобразовании мира играет не политическая борьба, а нравственное и эстетическое воспитание человека, причем первое невозможно без второго. Не случайно именно в разгар якобинской диктатуры появляются «Письма об эстетическом воспитании человека» (1793–1795) – важнейшая теоретическая работа Шиллера, один из основных программных документов «веймарского классицизма»[262]. Именно здесь Шиллер наиболее емко и энергично формулирует основной постулат «веймарского классицизма»: «Путь к свободе ведет только через красоту». В это время на Шиллера оказывает огромное влияние эстетика Канта «критического» периода (и прежде всего «Критика способности суждения»). Под влиянием Канта он уделяет большое внимание форме художественного произведения, утверждая, что «только форма действует на всего человека в целом». Но одновременно Шиллер пытается преодолеть субъективность Канта, показать объективные критерии искусства, его действенную роль. Программу Шиллера никак нельзя назвать чистым эстетизмом. Его всегда волновали жгучие проблемы современности, судьбы родины и всего человечества. Еще одной чрезвычайно важной теоретической работой Шиллера явилась статья «О наивной и сентиментальной поэзии» (1795)[263], в которой он выделяет два типа поэзии, а в сущности – два типа искусства. Поэзия наивная исходит из самой природы, из чувственной действительности, поэзия сентиментальная – из идеала природы, из конструирования ее художником. Первая была возможна в полной мере лишь в античности, когда человек пребывал в гармонии с миром. Современному же художнику гармония доступна лишь в идее, лишь в идеале, чаще всего недостижимом. Эти размышления Шиллера дают толчок развитию романтической эстетики.
Статья свидетельствовала о живом и плодотворном влиянии на Шиллера его старшего друга – Гёте, признавая его невероятную творческую мощь. Еще до их знакомства Шиллер тонко подметил разницу в их взглядах и дарованиях: «Его философии я тоже не приемлю целиком: она слишком много черпает из чувственного мира там, где я черпаю из души» (письмо Кернеру от 1 ноября 1790 г.). Кантианец Шиллер не принимает пантеизма (спинозизма) Гёте. Однако эти расхождения не помешали дружбе двух великих писателей, не помешали им объединиться на базе единой эстетической программы – «веймарского классицизма». В 1794 г. Шиллер обратился к Гёте с предложением совместно издавать журнал «Оры» («Horen»). Так начинаются дружба и тесное творческое сотрудничество двух великих художников, одинаково плодотворные для обоих. Гёте побуждает Шиллера к художественному творчеству, отвлекая его от порой слишком умозрительных занятий философией, а Шиллер вдохновляет Гёте на создание произведений глобального, общечеловеческого масштаба.
Итак, преодолевая кризис, Шиллер от штюрмерского идеала политически активной поэзии приходит к идеалу «прекрасной поэзии», призванной через красоту воспитывать прекрасного и гуманного человека. В середине 90-х гг. он возвращается к художественному творчеству. В этот период Шиллер много внимания уделяет поэзии, особенно жанру баллады[264]. Однако параллельно разворачивается интенсивная работа и в области драматургии.
В 1796 г., после десятилетнего перерыва, Шиллер вновь обращается к драматургии и начинает работу над давно задуманной трилогией о знаменитом немецком полководце эпохи Тридцатилетней войны Валленштейне, служившем при австрийском императорском дворе. Трилогию отличает грандиозность замысла, масштабность событий, острота исторических конфликтов. В ней сказалось благотворное влияние Гёте и Шекспира. В прологе к «Валленштейну» («Wallenstein», 1799) Шиллер следующим образом сформулировал свою главную задачу:
…Оставя старый путь, зовет поэт Взлететь над тесной бюргерской средой, К той сфере исторических деяний, Что так сродни возвышенной эпохе, В грозе и буре коей мы живем. Ведь только впрямь значительный предмет Способен мир глубоко взволновать, А тесный круг сужает нашу мысль, — Дух рвется встать с великой целью вровень! (Здесь и далее перевод Н. Славятинского)Подобная задача – вполне в духе «веймарского классицизма», стремящегося к изображению масштабных предметов, созданию грандиозных, философски насыщенных образов. В центре трилогии – проблема сильной личности, ее ответственности перед временем и народом. В создании образа Валленштейна, чья тень, по выражению Т. Манна, «овеяна фаустовским демонизмом»[265], Шиллер не следовал строго историческим фактам. Как считал поэт, необходимо «подчинить историческую истину законам поэтического искусства и обрабатывать материал сообразно своим нуждам»[266]. В этом непосредственно проявляется специфика как «веймарского классицизма» вообще, так и шиллеровской концепции творчества, предполагающей, что художник черпает вдохновение прежде всего в мире идей, в мире собственного сознания, опираясь на исторические факты, подчиняет их выражению своего идеала. Искусство не отражает, но преображает жизнь, не искажая истину, но высвечивая ее ярче; для этого оно вправе обратиться к условности; какой бы мрачной ни была реальность, к которой обратился художник, он должен преобразовать ее в прекрасное, благородное, гармоничное искусство:
…И если муза, — Свободная богиня песен, плясок, — И к рифме обратится – не взыщите! Хвалы уже за то достойна муза, Что правду жизни мрачную она В игру преобразила и тотчас Иллюзию разрушила свою, Чтоб истины она не подменяла: Жизнь сумрачна – искусство лучезарно.Первая часть трилогии – «Лагерь Валленштейна» («Wallensteins Lager», 1797) – представляет собой своеобразную экспозицию и дает широчайший исторический, народный фон событий. Главный герой этой пьесы – многоликая и многонациональная солдатская масса (солдаты из Валлонии, Ломбардии, Хорватии), многоголосый хор, на устах у которого имя Валленштейна. Именно он – тот человек, который может сплотить войска императора и бросить ему вызов. Однако сам Валленштейн так и не появляется на сцене: его образ предстает в разговорах солдат, равно как и сама эпоха. Т. Манн отмечал особое искусство Шиллера в этой пьесе, его умение создать «виртуозно легкие, игривые сцены, в которых необычайно ярко раскрывается историческая обстановка, словно невзначай вспыхивают огоньки, освещающие эпоху, и где каждое слово характерно, за каждым образом во весь рост встает целое»[267]. В «Лагере Валленштейна» предстает целостный портрет трагической эпохи – начиная с первой сцены, где устами крестьянина и с помощью простонародного книттельферса говорится о страданиях мужиков, которых грабят ландскнехты, и завершая финальной солдатской песней, которую сопровождают рефрены хора и в которой выражены и горечь, и отчаянный порыв к свободе, и боевая удаль, и бесстрашие перед лицом смерти:
Живее, друзья, на коней, на коней! И – в поле, где ветер и воля! В походах мы кое-что значим, ей-ей, Какая ни выпади доля. Отрезан от всех ты в смертельном бою, Во всем полагайся на доблесть свою. …Нигде нет свободы, хоть свет обойди! Повсюду лишь баре да слуги; Удара коварного только и жди, Не вздумай ослабить подпруги. Свободен на свете один лишь солдат, Затем, что и смерти он выдержит взгляд. …Заботы житейские гонит он прочь, Тревоги и страха не знает, Он скачет навстречу судьбе во всю мочь, — Не завтра ль ее повстречает? Когда уже завтра нам смерть суждена, Наполним стаканы и выпьем до дна! …Взнуздай вороного, и – птицей в седло! Грудь ветрам походов подставим. Веселье кипит в нас, – клинки наголо! Не раз еще мы их прославим. Жизнь – это трофей в неустанном бою. Гэй, доблестно жизнь проживи ты свою!Вторая часть трилогии – «Пикколомини» («Die Piccolomini», 1798) – изображает самого Валленштейна и его приближенных, те интриги, которые плетутся против главного героя венским императорским двором. Действие разворачивается в старинном готическом зале ратуши города Пильзен. Все военачальники Валленштейна так или иначе стремятся извлечь свою выгоду из конфликта полководца с императором. Особенно тяжкий удар наносит Валленштейну человек, которого он считал своим преданным другом, – Октавио Пикколомини. Под командованием Валленштейна Пикколомини прошел путь от солдата до полковника. Однако он предает своего главнокомандующего, выслуживаясь перед императорским двором и хладнокровно готовя гибель бывшему другу. Двое других соратников Валленштейна – граф Терцки и Илло – толкают его на отпадение от императорского дома и советуют считаться только с собственными интересами. Так, когда выясняется, что шведы не доверяют Валленштейну и требуют от него материальных гарантий, Терцки предлагает ему пожертвовать частью германских территорий: «Ты хоть клочок земли им уступи. // Ведь не свое! Лишь выиграй игру, // А кто заплатит – не твоя забота!» Валленштейн отвечает Терцки и Илло резкой отповедью: «Пусть прочь уйдут!.. Никто сказать не смей, // Что продал я Германию пришельцам, // Что раздробил ее, врагам в угоду, // Себе кусок изрядный оторвав. // Пусть чтут во мне защитника страны…»
Валленштейн думает не о собственной выгоде, но о судьбе родины. Показательно, что когда представители солдат приходят к Валленштейну, чтобы узнать, почему император объявил его изменником, полководец говорит о страданиях немецкого народа, о страшной войне, длящейся уже пятнадцать лет, о том, что этому нужно положить конец: «Как тут найти исход? // Как узел возрастающий распутать? // Нет! Надо смело разрубить его. // Я чувствую, что призван я судьбою // На подвиг этот, и с пособьем вашим // Его вполне надеюсь совершить». Однако так или иначе Валленштейн вступает на скользкий путь интриг. Он слишком честолюбив и самонадеян, в себе самом видит вершителя судеб народа. Когда же приходит критический момент, Валленштейн колеблется, позволяя сомкнуться на своей шее петле заговора (третья часть трилогии – «Смерть Валленштейна» – «Wallensteins Tod», 1799). Гибнет полководец, а Октавио Пикколомини в награду за предательство получает княжеский титул. Так завершается трилогия.
Важнейшей в «Валленштейне» оказывается не столько историческая, сколько нравственно-философская проблематика. Именно поэтому огромное значение в ней приобретает образ, не имеющий реального исторического прототипа, – Макс Пикколомини, сын Октавио. Валленштейн дан в противопоставлении не только графу Терцки или Октавио Пикколомини, но и Максу. Макс – один из благороднейших шиллеровских героев. Как и маркиз де Поза, он – «гражданин грядущих поколений». Макс мечтает о подлинном мире, о прекрасном грядущем, когда вместо разрушения человек займется созиданием:
Он может строить, насаждать сады, За звездами следить, он может смело Схватиться с мощью яростных стихий, Теченье рек менять, взрывать пороги, Чтоб новый путь торговле проложить… («Пикколомини»)В уста Макса Пикколомини вложена страстная просветительская мечта о Царстве Разума, в нем живет созидательное фаустовское начало, лишенное фаустовского демонизма. Макс беззаветно любит дочь Валленштейна Теклу и столь же беззаветно предан Валленштейну. Страшным потрясением оказывается для него открытие, что и Валленштейн не остался в стороне от интриг и честолюбивых замыслов. Макс и Текла – прекрасный островок разума, чистоты, благородства в мире смерти и хаоса, где «сплелося преступленье с преступленьем // Звенами цепи бедственной…». «Но мы, // Безвинные, как очутились в этом // Кругу злодейств?» – горестно вопрошает Макс. Он не может поддержать ни Валленштейна, ни своего отца. Сам Валленштейн чувствует, что с уходом Макса от него уходит лучшая, благороднейшая часть его души.
Все благородное и прекрасное погибает в этом несовершенном мире – таков скорбный вывод поэта. Так гибнет в отчаянии, сознательно ища смерти на поле боя, Макс. Так вслед за ним решает уйти из жизни Текла. Эти герои – воплощение благородных идей и устремлений Века Просвещения, с позиций которого Шиллер судит и осуждает кровавое безумие эпохи Тридцатилетней войны, равно как и любое безумие, связанное с войнами, интригами, насилием над человеком.
После завершения «Валленштейна» Шиллер писал Гёте: «Склонность и неудержимое желание влекут меня к вымышленному, не историческому, а чисто человеческому, исполненному страстей сюжету; солдатами, героями и властителями я сыт по горло». В созданных одна за другой драмах – «Мария Стюарт» («Maria Stuart», 1800), «Орлеанская дева» («Die Jungfrau von Orleans», 1801), «Мессинская невеста» («Die Braut von Messina», 1803) – Шиллер предстает как великолепный знаток человеческих страстей, как художник, сумевший соединить глубокое исследование движений человеческого сердца с глубоким исследованием той или иной эпохи.
В трагедии «Мария Стюарт» поэта волнует прежде всего «чисто человеческое». Шиллер остается верен принципу творческой свободы: он не стремится создать исторически достоверные образы двух королев – Марии и Елизаветы I. Он изменяет возраст своей героини (в его пьесе Марии 25 лет, тогда как историческая Мария Стюарт была казнена в 44 года), его волнуют прежде всего характеры и страсти, а не политические позиции героев. Поэт противопоставляет гордое самосознание Марии, ее свободолюбие лицемерию и жестокости Елизаветы. С одной стороны, Шиллер не скрывает темных сторон в прошлом Марии, с другой – он героизирует ее, воплощает в ней страстный протест против любого насилия над человеческой личностью. В борьбе вокруг нее, в попытках ее освободить Шиллер подчеркивает не политическую подоплеку, но воздействие на ее сторонников ее ослепительной красоты. Мария – жертва и одновременно обвинитель. В ее уста поэт вкладывает резкую и точную характеристику английского общества елизаветинской эпохи. Действие пьесы происходит в последние дни перед казнью Марии Стюарт, и оно в первую очередь представляет собой напряженный психологический анализ душевного состояния участников драмы, погружает читателя и зрителя в переплетение сильных и противоречивых чувств и страстей. «Мария Стюарт» отличается необычайной психологической тонкостью и глубиной в подходе к человеку, многогранностью и сложностью характеров. Особенно это касается образа главной героини, что делает роль Марии Стюарт одной из самых сложных в мировом театральном репертуаре и одной из самых привлекательных для великих актрис.
В ином ключе была написана «Орлеанская дева», которую автор назвал романтической трагедией. Действительно, в этом произведении Шиллер нащупывает новые формы художественного обобщения. Его Иоанна (Жанна д’Арк) – личность яркая, романтически исключительная, исполненная высокой религиозной экзальтации. Поэт подчеркивает в ней сверхъестественную веру в собственное предназначение, страстную любовь к Богу и Отечеству. Шиллер заставляет свою героиню победить собственную внутреннюю раздвоенность, слабость, каковой является ее любовь к врагу – английскому военачальнику Лионелю. Драматург существенно изменил финал подлинной трагедии Жанны д’Арк, отстаивая право художника на вымысел и условность в обращении с историей. Его Иоанна погибает не на костре инквизиции. Она чудесным образом разбивает оковы, вырывается из тюрьмы, чтобы на поле брани погибнуть, но принести победу Франции. Финал пьесы стал апофеозом героического, победы долга, свободной воли и разума. Одновременно введение в драму элементов мистицизма и иррационализма сближало поиски Шиллера с исканиями романтиков, хотя в целом великий поэт и драматург не принимал излишнего субъективизма и иррационализма романтиков, стремясь к синтезу «наивной» и «сентиментальной» поэзии.
Дань романтическому мироощущению – при всей полемике Шиллера с романтиками – ощутима и в «Мессинской невесте», в которой драматург задумал возродить форму и дух аттической трагедии с ее непременным участником – хором. Поэтому пьесе он предпослал теоретическую статью «О применении хора в трагедии» (1803), значение которой, однако, шире, нежели обоснование возможности и необходимости возрождения форм античной трагедии. Речь идет о кардинальном для Шиллера вопросе: в какой мере искусство должно быть реальным (конкретно-чувственным, отражающим природу, «наивным») и идеальным (постигающим дух, воспроизводящим идеал, «сентиментальным»). По мнению поэта, эти два начала должны не исключать, но взаимодополнять друг друга, а художник должен избегать крайностей – и разрыва с действительностью, и рабского, плоского ее копирования: «Произвольно нанизывать фантастические образы – не значит возноситься в область идеала, а подражательно воспроизводить действительность – не значит изображать природу»[268]. Первая половина этой формулы направлена против субъективизма и произвола фантазии, характерных для иенских романтиков, вторая – против мещанского бытовизма театра весьма популярных в то время в Германии драматургов А. В. Иффланда и А. Коцебу. Шиллер отвергает искусство, основанное только на правдоподобии и подражании действительности, ибо главная цель искусства – постичь «дух сущего и и закрепить его в осязаемой форме»[269]. Вслед за Кантом он утверждает: «Сама природа есть лишь идеал духа, никогда не воспринимаемая чувствами. Она лежит под покровом явлений, но сама никогда не обнаруживается в явлении»[270]. Именно поэтому искусство, которое, как полагает Шиллер, по сути своей является игрой, условно и должно широко пользоваться различными формами условности, чтобы возвысить душу человека и донести до него идеальное поэтическое содержание. Так Шиллер обосновывает правомерность участия в трагедии хора, как в древнегреческом театре: «Хор покидает узкий круг действия, для того чтобы высказать суждение о прошедшем и грядущем, о далеких временах и народах, обо всем человечестве вообще, чтобы подвести великие итоги жизни и напомнить об уроках мудрости»[271].
Эта установка, весьма показательная для веймарского классицизма, проиллюстрирована в «Мессинской невесте», в которой Шиллер обратился также к античной идее рока. Как и в мифе об Эдипе, человек, наделенный свободой воли, вступает в борьбу с неотвратимым роком и терпит поражение. Глубоко трагичен в пьесе образ матери. Именно она осмелилась бросить вызов року, попыталась обойти судьбу, ведь эта судьба, открытая ей в вещем сне, изначально была связана со страшным злом – необходимостью пожертвовать дочерью. В вещем сне мать получает предсказание о том, что ее дочь, которую она должна родить, станет причиной гибели братьев и всего их рода. Девочка была обречена на гибель, но мать, вопреки воле супруга, спасла дочь, воспитав ее тайно в монастыре. Судьба распорядилась так, что оба брата влюбились в неузнанную ими сестру. Раздор между братьями приносит страшные беды государству и им самим. Все попытки матери остановить вражду, примирить братьев оказываются тщетными. В поединке дон Цезарь убивает дона Мануэля, а затем, узнав правду, кончает жизнь самоубийством. Хор, комментирующий события, завершает трагедию следующими словами: «Одно я понял и постиг душою: // Пусть жизнь – не высшее из наших благ, // Но худшая из бед людских – вина» (перевод Н. Вильмонта). Речь идет не только о трагической вине матери, которая всю жизнь боролась со злом, но и о вине братьев, вражда которых погрузила в смуту страну и привела к катастрофе.
В свое время Б. М. Эйхенбаум отметил, что рок в «Мессинской невесте» выступает не столько в своем религиозном значении, сколько как эстетический прием, «удобно уравновешивающий действие и придающий ему характер необходимости»[272]. Тем не менее идея рока, столь важная для этой пьесы, делает последнюю предшественницей романтической «трагедии рока». «Мессинскую невесту» отличает также необычайный лиризм (по выражению В. Г. Белинского, «волны лиризма, разливающегося широким потоком»[273]), который также будет характерен для романтической драматургии. С. В. Тураев подчеркивает, что «этот лиризм, а также идея предопределения связывают… трагедию Шиллера с литературой романтиков, с будущей “трагедией рока”»[274].
Сюжет последней законченной драмы Шиллера – «Вильгельм Телль» («Wilhelm Teil», 1804) – был подсказан ему Гёте. Первоначально
Гёте сам хотел обработать легенду о Вильгельме Телле, связанную с народным восстанием в Швейцарии против австрийского ига в самом начале XIII в. Однако затем он решил передать этот сюжет своему младшему другу Созданию пьесы предшествовала большая подготовительная работа, связанная с тщательным изучением Шиллером исторических источников о восстании швейцарских пастухов, а также быта, нравов, фольклора Швейцарии. Гёте, неоднократно бывавший в этой стране, помогал другу бесценными советами. Как и в «Валленштейне», Шиллер видел свою задачу в создании целостного облика исторической эпохи, портрета целого народа. В письме к Г. Кёрнеру он писал, что стремится «наглядно и убедительно показать на сцене целый народ в определенных местных условиях, целую отдаленную эпоху и, что главное, совершенно местное, почти что индивидуальное явление» (письмо от 9 сентября 1802 г.).
То, что Шиллеру удалось достичь поставленной цели, подтверждает уже первая сцена пьесы, являющаяся мастерски исполненной экспозицией и одновременно завязкой действия. Звучат песни рыбака, пастуха и охотника, и эти народные напевы сразу погружают зрителя в особую атмосферу Швейцарии. Вот-вот разразится буря. Рыбак вытаскивает на берег лодку, пастухи собирают стада. Именно в этот момент на сцене появляется Конрад Баумгартен, крестьянин из Унтер-вальдена, который спасается от преследователей: вступившись за честь жены, он убил австрийского коменданта. Рискуя жизнью, охотник Вильгельм Телль перевозит его во время бури через озеро.
Все шире и шире разворачиваются перед читателем и зрителем картины жестокого угнетения австрийцами швейцарского народа. И даже Телль, поначалу отстаивающий позицию гордого, но пассивного стоицизма («Терпеть, молчать – весь подвиг ныне в этом»; здесь и далее перевод Н. Славятинского), постепенно приходит к мысли о необходимости сопротивления завоевателям. Одним из переломных моментов его личной истории становится страшное испытание, которое устраивает ему имперский наместник Геслер: проверяя меткость Телля в стрельбе из лука, он заставляет его стрелять в яблоко на голове его собственного сына. После этого Телль убивает Геслера, и его выстрел становится сигналом к восстанию.
Однако главная особенность пьесы заключается в том, что центральным ее героем является не только Телль, но и весь народ, рост самосознания которого прослеживает драматург. И сам Телль не сразу становится участником освободительного движения, постепенно преодолевая свою пассивность. Особое значение в пьесе приобретает знаменитая сцена на Рютли, в которой представители трех швейцарских кантонов дают клятву совместно бороться против иноземных захватчиков: «Один народ, и воля в нас едина» (действие II, сцена 2). Характерно, что двигателем прогресса, выразителем идеалов свободы и красоты здесь является уже не выдающаяся личность, не герой-одиночка, но именно народ. Не случайно владетельный барон Аттингаузен, преданный своей родине, поражен, что крестьяне сами, без помощи рыцарей, заключили союз:
Как, без поддержки рыцарства крестьянин Дерзнул подобный подвиг предпринять? О, если он в свои так верит силы, Тогда ему мы больше не нужны, В могилу можем мы сойти спокойно. Бессмертна жизнь… иные силы впредь К величию народы поведут. От головы, где яблочко лежало, Свет новой, лучшей вольности взойдет.Шиллер отстаивает истинно просветительский, внесословный подход к человеку, провозглашая его ценность вне зависимости от происхождения. Так, крестьянин Мельхталь, подавая руку дворянину Руденцу, говорит: «Крестьянское рукопожатье стоит // Не меньше слова рыцаря. Притом – // Что вы без нас? Ведь мы – древней дворян». Шиллер, как истинный просветитель, мечтает о том времени, когда каждая личность, составляющая народ, обретет гордое и свободное самосознание, будет жить по законам красоты.
Безусловно, «Вильгельм Телль» несет в себе отзвуки грозного, переломного времени, связанного с Великой французской революцией. Однако, отстаивая право народа на свободу, независимость и на борьбу за них, Шиллер одновременно полемизирует с методами революции, выступает против насилия и жестокости – «безумья, что страшней любого зверя». В сцене на Рютли устами Вальтера Фюрста автор недвусмысленно высказывается против крайностей, против кардинальной ломки сложившихся веками общественных отношений, освященных традициями предков:
Цель наша – свергнуть ненавистный гнет И отстоять старинные права, Завещанные предками. Но мы Не гонимся разнузданно за новым, Вы кесарево кесарю отдайте, И пусть вассал несет свой долг, как прежде.В пьесе провозглашается идеал свободы и независимости, необходимость борьбы за них, но в рамках разума, не допускающего выпускания на волю диких, разнузданных инстинктов. «Вильгельм Телль» и ныне звучит как страстный гимн свободе и независимости как отдельной личности, так и целого народа, как выражение страстной веры в самосознание и разум человека. Пьеса является также образцовой в плане выражения в ней общечеловеческих ценностей и воссоздания национального колорита. Уже у современников вызвало удивление и восхищение умение Шиллера воспроизвести национальный колорит (показательно, что в самой Швейцарии Шиллер благодаря «Вильгельму Теллю» стал восприниматься как национальный поэт).
Последнее, над чем работал Шиллер, продолжая цикл великих исторических драм, была драма из русской истории периода Смутного времени, начала XVII в., основанная на истории Дмитрия Самозванца, или Лжедмитрия, – «Деметриус», или «Димитрий» («Дмитрий»). Он успел написать только два акта пьесы. Первый из них начинается с изображения польского сейма в Кракове, на котором выступает Дмитрий, рассказывая историю своей жизни. В интерпретации Шиллера герой совершенно убежден в том, что является сыном Ивана IV (Грозного), чудом спасшимся от убийства по приказу Бориса Годунова. Он верит в подлинность всех знамений и примет, подтверждающих его царский сан, его право на русский престол. Его заблуждение становится источником его трагедии. Субъективно он невиновен, но переживает свою вину за то, что невольно стал самозванцем, орудием в руках иноземцев. Им манипулируют Марина Мнишек, в которую он влюблен, и ее отец. Дмитрий прозревает слишком поздно, но уже в самом начале предчувствует, что принесет страшные беды родной земле:
Прости меня, прости, земля родная! Прости меня и ты, столб пограничный С наследственным родительским орлом! Простите, с оружием враждебным Я в мирный храм насильственно вхожу, Чтоб возвратить законное по праву; И достоянье отчее и имя! (Перевод Л. Мея)Вновь Шиллер-просветитель говорит о несовместимости чести и насилия, истинной харизмы и тирании: законное нельзя вернуть вероломством и насилием; любовь к родине не может совмещаться с поруганием ее. В этом – главный источник трагедии Дмитрия, а подлинная его вина заключается в том, что он не решается отказаться от претензий на власть даже тогда, когда он понимает, что является лжесыном. Современный немецкий исследователь Рюдигер Сафрански пишет об этом герое Шиллера: «Сам по себе Дмитрий – благородный человек и вновь воплотившийся маркиз Поза, который написал на своих знаменах программу освобождения людей от рабства, но прежде всего он верит сам в себя, и пока он это делает, сила его убеждения огромна, вплоть до магии, затем ему удается, как и Иоанне, привлечь к себе людей…Но в тот момент, когда он узнает, что он не сын царя, харизма его тает на глазах, как и у Иоанны, когда она нарушает запрет небесного задания. После того как он узнал правду, Дмитрий может удалиться, но он решается на обман, на власть без миссии. Если он до сих пор привлекал других верой в себя, то теперь ему остается только насилие. Его миссия вырождается в тиранию и террор» (здесь и далее перевод А. Гугнина)[275].
Сам Шиллер следующим образом определил, что привлекло его в истории Самозванца: «Великая чудовищная цель стремления, шаг из ничего к трону и к неоспоримой власти… Эффект веры в самого себя и веры других в него. Деметриус выдает себя за царя, и благодаря этому получается сосуществование противоположных состояний; что и происходит, когда Деметриус для какой-то части становится абсолютным царем, когда он для себя самого и для других им быть уже перестал»[276]. Р. Сафрански подчеркивает, что проблемы, поставленные Шиллером, были чрезвычайно актуальны для его эпохи и будущего времени, «эпохи масс»: «В целой череде сцен Шиллер изображает массово-психологический процесс харизматического властвования. Опыт феномена Наполеона приходится кстати. Для Наполеона тоже верно, что вера в себя самого и внушаемость масс в эпоху перемен может вознести “отдельного человека из ничего к трону и к неограниченной власти”. “Деметриус” – это еще и учебная пьеса о крушении традиционных соотношений власти и владычества в наполеоновское время, в начинающейся эпохе масс, когда пробил час великих авантюристов и народных трибунов»[277].
Немецкий исследователь отмечает особое новаторство Шиллера, проявившееся в невероятном расширении пространства, в искусстве композиции, в умении соединять мгновенные переходы во времени и пространстве с неизменным единством действия и с неизменным же его многообразием: «Пространственная фантазия в этой пьесе не имеет границ…Дмитрий объявляется в первой сцене, где он убеждает польский сейм в своей миссии, затем мы в Киеве и потом в снежной пустыне у Марфы, а затем где-то под Москвой, в пылу сражения, взгляд на золотые купола Новгорода, затем в деревнях у крестьян, цветущие ландшафты, пшеничные поля, слякоть. Наконец, в центре власти, в Москве. От единства места и времени не осталось и следа, только единство действия остается неизменным, хотя и переплетается с невообразимой путаницей побочных действий. Для “Деметриуса” особенно верным становится принцип, который Шиллер сформулировал в своем письме к Гёте от 26 июля 1800 года, когда он отважился на романтическое событийное ревю “Орлеанской девы”: “Нельзя связывать себя никаким общим понятием, а лучше отважиться на то, чтобы для каждого нового предмета заново найти форму и сохранить всегда подвижным понятие жанра”»[278].
Трагедия «Дмитрий», так и оставшаяся незавершенной, подтверждает, что смерть сразила великого писателя в самом расцвете его таланта, когда ему было всего 45 лет. Шиллер скончался 9 мая 1805 г., после тяжкой болезни, обострившейся в результате внезапной простуды. Серьезное заболевание обнаружилось у него еще в январе 1791 г.: как гласил диагноз, это была «круппозная пневмония, сопровождаемая сухим плевритом». 3 января 1791 г. Шиллер был на пороге смерти, но одолел ее силой своего духа. С болезнью он будет бороться все последующие 14 лет своей жизни, доказывая, насколько его дух сильнее тела. Р. Сафрански пишет: «После смерти Шиллера, 9 мая 1805 г., было произведено вскрытие. Пришли к заключению, что легкое “гангренозно, кашицеобразно и совершенно разрушено”, сердце “дистрофически сморщено”, желчный пузырь и селезенка крайне увеличены, почки “субстанционально атрофированы и полностью запаяны”. Доктор Хушке, придворный врач герцога Веймарского, добавил к протоколу вскрытия лапидарную фразу: “При данных обстоятельствах должно выразить удивление, каким образом этот бедный человек смог прожить так долго”. Но не сам ли Шиллер говорил о том, что его тело создано духом? Ему это очевидно удалось. Его творческий энтузиазм помог ему прожить дольше, чем было отпущено его телу. Генрих Фосс, сопровождавший Шиллера в последний путь, отметил: “Только с помощью его бесконечного духа можно объяснить, каким образом он смог прожить так долго”. Из протокола вскрытия трупа можно вычитать первое определение шиллеровского идеализма: идеализм – это когда человек с помощью силы восторга живет дольше, чем позволяет его тело. Это триумф осененной, светлой воли»[279].
Имя Шиллера правомерно стало для последующих поколений символом неукротимого стремления к свободе, силы духа, восторженной экзальтации и энтузиазма, неизменной веры в благородство и красоту человека и верности самому себе. «Но не страшись! Еще сердца людские // Прекрасным и возвышенным горят» (перевод А. Кочеткова), – эти строки Шиллера из его «Орлеанской девы» стали паролем и девизом возвышенного энтузиазма для многих поколений, и прежде всего для поколения романтиков.
Великий поэт обрел воистину вторую родину в России, в русской культуре. Его переводили такие выдающиеся русские поэты, как Г. Р. Державин, В. А. Жуковский, М. Ю. Лермонтов, А. А. Фет, Ф. И. Тютчев, Л. А. Мей, М. Л. Михайлов, В. С. Курочкин, Н. А. Заболоцкий, такие талантливые поэты-переводчики, как Н. Н. Вильмонт, Н. А. Славятинский, В. В. Левик, Л. В. Гинзбург и др. В свое время Н. Г. Чернышевский отметил, что Шиллер стал «участником в умственном развитии нашем». И это действительно так. В Шиллере и его творениях для русской интеллигенции воплотился идеал истинного служения правде, красоте и свободе. Интерес к его творчеству неизменно возрождается в сложные, переломные времена. Так, он был подлинным властителем дум юношества в России начала XIX в., что прекрасно выразил А. С. Пушкин, не раз обращавшийся своей мыслью к Шиллеру: «Поговорим о бурных днях Кавказа, о Шиллере, о славе, о любви!» Пьесы Шиллера пользовались огромным успехом у русского зрителя и никогда не исчезали из репертуара российских театров. Знаменательно, что созданный в 1919 г. М. Горьким и А. Блоком в Петрограде Большой драматический театр открылся драмой Шиллера «Дон Карлос» – и как отзвук трагическим потрясениям современности, и как предупреждение, как напоминание о недопустимости насилия и жестокости в деле переустройства мира. До настоящего времени сохранили свою силу слова А. И. Герцена, сказанные им в «Былом и думах»: «Тот, кто теряет вкус к Шиллеру, тот или стар, или педант, очерствел или забыл себя»[280].
Мещанская драма на немецкой сцене 1780-1790-х годов
Помимо штюрмерских тенденций и тенденций «веймарского классицизма», ярче всего выявившихся в творчестве Гёте и Шиллера, в немецкой драматургии 80-90-х гг. XVIII в. представлены и другие явления. Бурное развитие получил прежде всего жанр бытовой «мещанской драмы в русле сентиментализма и рококо, с включением тенденций просветительского классицизма. М. Л. Тройская отмечает: «“Бурные гении”, казалось, всколыхнули Германию и разбудили ее от спячки. Немецкие мыслители и поэты – Гердер, Кант, Гёте, Шиллер – выводили немецкую культуру на мировую арену. Но возникавшая в эти годы великая литература еще не стала общенародным достоянием, не дошла до массового читателя провинциально-отсталой страны. Немецкий обыватель искал не столько идейно насыщенной, сколько доступной и увлекательной духовной пищи. Потребность в занимательности, чувствительности и назидательности, на которые был так падок бюргер, удовлетворялась огромным потоком драм и романов невысокого уровня»[281].
Особенно популярна была мещанская драма, начало которой положил Лессинг своей «Саррой Сампсон». Однако к концу века мещанская драма прочно обосновалась в декорациях немецкого быта и потеряла свою социальную остроту. Она представляет на сцене картины бюргерского быта и прославляет бюргерские добродетели, соединяя морализаторскую рассудочность и слезливую чувствительность. Избегая трагических конфликтов, она неизменно завершается счастливым финалом, столь любимым публикой. «Сценический успех этого жанра колоссален, публика приветствует бытовую драму, цензура поощряет “пристойную” литературу, и на протяжении трех с лишним десятилетий, сопровождаемая злыми издевками романтиков и сдержанно-ироническими отзывами Шиллера и Гёте, она безраздельно господствует на немецкой сцене» [282].
Большую роль в популяризации мещанской драмы сыграл Маннгеймский театр, открывшийся в 1778 г., и непосредственно его директор – Вольфганг Гериберт фон Дальберг, в целом много сделавший для развития немецкого театра. Именно он принял к постановке первую пьесу Шиллера, объединил вокруг себя талантливых молодых драматургов, среди которых особенно выделяются друзья А. В. Иффланд, Г. Бек и И. Д. Бейль. Дальберг создает комитет актеров и драматургов для управления театром (в этот комитет в 1783 г. входит и Шиллер). На заседаниях комитета обсуждаются не только спектакли, но и актуальные эстетические проблемы, важнейшая среди которых – проблема правдоподобия на театральной сцене, проблема сценической иллюзии. Так, один из вопросов, представленных на обсуждение, гласил: «Что такое природа и каковы подлинные границы изображения ее в театральном представлении?» Сам Дальберг ответил на этот вопрос следующим образом: «Природа на сцене есть наглядное и живое изображение разнообразных человеческих характеров… природа в театре есть искусство так изобразить человека, чтобы ввести зрителя в заблуждение, заставить его поверить, что перед ним живой человек…»[283] Таким образом, главная задача Маннгеймского театра мыслится как приближение театра к жизни, как замена классицистического репертуара бытовым. Однако в этом вряд ли правомерно усматривать реалистические тенденции, ибо речь так или иначе идет о воспроизведении на сцене идеализированных образов бюргеров, о воспитании «честного», «простодушного» человека (того, что по-немецки обозначается как Biedermann), что невозможно без «идиллического хронотопа» (М. М. Бахтин) сентиментализма и, быть может, предваряет появление в немецкой литературе стиля бидермайер, который получит распространение в эпоху Реставрации (1815–1848).
Теоретиком и создателем новой разновидности мещанской драмы (бытовой мещанской драмы, сентиментальной мещанской драмы) стал Отто Генрих Гемминген (Otto Heinrich Gemmingen, 1755–1836). В своей «Маннгеймской драматургии», полемизируя с Лессингом, Гемминген выступает против театра, поднимающего предельно острые проблемы, изображающего неразрешимые конфликты, «способствующего развитию недовольства судьбой, досады на сложившиеся обстоятельства» («Маннгеймская драматургия за 1779 год») [284]. Театр должен воспитывать «честного человека», живущего в согласии с обществом, верного кодексу бюргерской нравственности, а последняя у Геммингена никак не связывается с бунтарством (в этом смысле установки Геммингена полемически направлены также против штюрмерской драматургии). Эстетические и этические принципы Геммингена сказались в его чрезвычайно популярной пьесе «Немецкий отец семейства» (1780), образцом для которой послужила мещанская драма Дидро «Отец семейства» (1758). Дидро как теоретик и создатель мещанской драмы чрезвычайно важен для авторов ее немецкой сентиментальной версии. Показательно, что во Франции пьеса Дидро не имела успеха, а в Германии долго шла на сцене и вызвала ряд подражаний. Гемминген, как и Дидро, поставил в центр своей пьесы конфликт отцов и детей и образ добродетельного отца, мирно улаживающего все конфликты. Внешне коллизии драмы близки штюрмерским: бедная девушка, соблазненная дворянином, даже намек на детоубийство. Однако в целом пьеса ориентирована как раз против штюрмерского обличения и бунтарства. Дворянин-отец расставляет все по своим местам: он заявляет, что женитьба на соблазненной девушке – моральный долг его сына; однако поскольку женитьба дворянина на мещанке является «нарушением гражданского порядка», он советует новобрачным отправиться в деревню и жить там, «дабы не подавать опасного примера свету». Речь не идет о ликвидации сословных барьеров, а лишь о воспитании «честного дворянина», равно как и «честного бюргера».
Пьеса Геммингена имела шумный успех и вызвала большое количество подражаний: «Отцовский дом», «Отцовские радости» (обе – 1787) А. В. Иффланда, «Немецкая мать семейства» (1797) И. Зодена, «Немецкая хозяйка» (1813) А. Коцебу и др. Общие черты этих драм: образ достойного хозяина (достойной хозяйки) дома в центре, сглаженность конфликта, его обязательное благополучное разрешение, открытое морализаторство, соединение трезвой рассудочности и слезливой чувствительности. Уже современники отмечали и некоторое влияние пьесы Геммингена на трагедию Шиллера «Коварство и любовь». Действительно, есть некоторое сходство в группировке персонажей, обрисовке отдельных действующих лиц (обязательное наличие придворного сплетника и интригана, знатной соперницы девушки-мещанки, образ отца – достойного бюргера). Однако все сходство на этом и заканчивается, и пьеса Шиллера кардинально отличается от геммингеновского типа драмы прежде всего острейшей социальной проблематикой и подлинным трагизмом, страстным штюрмерским пафосом защиты свободы и достоинства человека, прокламацией «естественного чувства» и «естественного состояния».
«Немецкий отец семейства» Геммингена во многом определил специфику немецкого театрального репертуара в 80-90-е гг., и в первую очередь в Маннгеймском театре. Показательно, что за пять лет, с 1781 по 1786 г., на сцене этого театра поставлены всего четыре французские трагедии, ничтожную часть репертуара составляют пьесы Гёте и Шиллера, чуть больше места занимает Шекспир, но в целом абсолютно доминирует сентиментальная мещанская драма. Статистические же данные о репертуаре Маннгеймского театра за период с 1779 по 1839 г. рисуют еще более разительную картину: всего 90 раз ставились пьесы Лессинга, 106 – Гольдони, 192 – Гёте, 200 – Шекспира, 276 – Шиллера, но абсолютно лидируют авторы мещанских драм – Коцебу (1487 постановок) и Иффланд (418)[285]. Сходную картину дает и репертуар Веймарского театра, которым руководил Гёте. Его собственные пьесы и пьесы Шиллера в интервале между 1791 и 1817 гг. ставились всего соответственно 19 и 18 раз, пьесы Лессинга – 4,
Шекспира – 8, но Иффланда и Коцебу – 31 и 87 раз[286]. Все это еще раз говорит о том, что массовая театральная публика искала на сцене не воплощения глубоких мыслей, не острых конфликтов, не высокой художественности, но прежде всего зрелищности (при сохранении узнаваемости немецкого быта), простой и понятной морали и душещипательно сти. Статистика также свидетельствует о невероятной популярности мещанской драмы не только на поздней стадии Просвещения, но и в эпоху романтизма и бидермайера.
Еще одним автором, который задал тон развитию сентиментальной немецкой драмы и репертуару Маннгеймского театра, был Фридрих Вильгельм Гроссман (Friedrich Wilhelm Grossmann), актер и драматург. Пьесу Гроссмана «Не больше шести блюд» Дальберг принял к постановке одновременно с «Немецким отцом семейства» Геммингена. Драма Гроссмана имеет подзаголовок: «Семейная картина». В ней действительно представлена, не без оттенков комизма, картина жизни семейства, в котором супруг-бюргер ведет войну с женой-дворянкой и ее родственниками за «демократизацию» нравов высшего света – за то, чтобы на званом обеде подавать не шестнадцать блюд, как принято, а всего лишь шесть. Пьеса Гроссмана как нельзя лучше демонстрирует мелочность и предельный бытовизм проблематики мещанской драмы. Не случайно Гёте говорил по поводу этой пьесы Гроссмана, что тот сервировал для публики «все лакомые блюда своей вульгарной кухни». Но эта кухня и сервировка понравились публике, и пьеса Гроссмана долго держалась в репертуаре. Именно от Гроссмана в немецкой мещанской драме идет традиция изображения доброго князя, находящегося в неведении насчет неблаговидных поступков его придворных. Поэтому достаточно только открыть князю глаза, чтобы справедливость восторжествовала. Сам Гроссман настолько уверовал в эту идею, что стал ее жертвой. В 1790-е гг., участвуя в торжественном спектакле, на котором присутствовали высокопоставленные особы, он стал импровизировать и пересыпать свою речь филиппиками в адрес придворных вельмож и духовенства, надеясь открыть глаза князю. После этого Гроссман был арестован и заключен в крепость, где вскоре умер.
Бытовые мещанские драмы писал также еще один актер и талантливый режиссер – Фридрих Людвиг Шрёдер (Friedrich Fudwig Schröder, 1744–1816). Шрёдеру как режиссеру принадлежит заслуга создания на сцене типичного интерьера бюргерского дома, точнее – комнаты, в стенах которой преимущественно и происходит действие его пьес. Он изображает бюргера прежде всего в сфере быта, делая акцент на достаточно примитивно понятой морали: нравственное поведение и бережливость неуклонно ведут к благополучию, а безнравственные поступки и мотовство столь же неуклонно – к разорению. Однако столь упрощенное морализаторство, равно как и узнаваемость персонажей и ситуаций, как раз и нравились публике. Ей импонировало также то, что Шрёдер активно включал в свои драмы приключенческие мотивы, неожиданные повороты сюжета для усиления их занимательности. Это обеспечило шумный успех его пьес «Завещание» (1781), «Кольцо» (1783), «Портрет матери» (1785) и др. Кроме того, Шрёдер был талантливым переводчиком и адаптировал для немецкой сцены пьесы многих французских и английских авторов.
Однако подлинными властителями сердец массовой публики и наиболее яркими творцами немецкой мещанской драмы стали Иффланд и Коцебу. Август Вильгельм Иффланд (August Wilhelm Iffland, 1759–1814) столь же рано, как и его гениальный ровесник – Шиллер, почувствовал призвание к сцене и драматургическому творчеству. Прежде всего он стремился стать актером и из-за этого даже бежал из родительского дома. Как актер Иффланд стремился достичь полного контакта с залом благодаря абсолютно правдоподобному изображению героев на сцене, особенно в пьесах бытового содержания. Он выступал против каких-бы то ни было приемов стилизации и условности, против театральности и театральной игры как таковой. На сцене все должно быть абсолютно как в реальности – и костюм, и декорации, и характеры, и манера игры. Не случайно в опубликованных Иффландом «Фрагментах об изображении людей» (1785) он настаивает на термине «изображение людей» как обозначении театрального спектакля – вместо общепринятого «представление», или, точнее, по-немецки «зрелищная игра» (Schauspiel). Актерская игра создала Иффланду огромный успех, в том числе в пьесах Шекспира и Шиллера. Однако наибольшим этот успех был в мещанских драмах, прежде всего в созданных им самим. Как напишет Иффланд позднее в своей автобиографии «Мой театральный путь», он великолепно умел вызвать у зрителей «слезы благоговения перед добрыми делами».
В 1784 г., после премьеры пьесы Шиллера «Коварство и любовь» и практически одновременно с шиллеровским «Заговором Фиеско в Генуе», Дальберг принял к постановке драму Иффланда «Преступление из тщеславия». Пьеса имела шумный успех, не несла в себе никакой острой социальной критики и опасных политических намеков, и поэтому вскоре Дальберг отдал окончательное предпочтение Иффланду как автору более благонадежных и занимательных пьес. В августе 1784 г. Шиллер был уволен из Маннгеймского театра, чему немало способствовал его доклад «О воздействии театра на народ».
Шиллер осмелился выступить против потакания публике, стремящейся к «времяпрепровождению», к занимательности, к примитивной морали, а не к потрясению, вызванному соприкосновением с настоящим искусством. Дальберг оценил «Преступление из тщеславия» выше «Коварства и любви», подчеркивая в пьесе Иффланда «благородную простоту плана», «чистую мораль, далекую от намеков на конкретные лица, сатиры и желчной критики»[287], воздавая ей хвалу за благотворное воздействие на нравы общества.
Основной проблемой «Преступления из тщеславия», отнюдь не новой, стало преклонение бюргерства перед дворянством и желание жить по-аристократически, на широкую ногу, что, конечно же, осуждается автором. Главный герой пьесы, молодой бюргер, влюблен в девушку из аристократических кругов. Ради нее он промотал все свои сбережения, а затем принялся растрачивать государственные деньги. Только помощь друга помогает ему избежать судебного преследования. Искренне раскаявшись, герой покидает почтенный родительский дом. Автор провозглашает порядочность и надежность в денежных, семейных и любовных делах как идеал жизни честного бюргера. При этом честное бюргерство противопоставляется изнеженному, праздному и коварному аристократическому сословию.
Подобный контраст лежит и в основе еще одной чрезвычайно популярной драмы Иффланда – «Охотники» (1785). Здесь глубоко добродетельная и простодушная семья лесничего противостоит развращенной, лживой, испорченной стяжательством семье горожанина-чиновника. Безусловно, правда торжествует, положительные герои преодолевают все несчастья, которые в достаточно большом количестве нагромождает драматург, стремясь сделать интригу занимательной. При этом он ни на минуту не забывает о чувствительной риторике, о морализаторстве (моралистические тирады переполняют пьесу). «Охотники» вызвали восторг не только публики, но и прессы: «От Рейна до Эльбы, от Шпрее до Дуная, от Невы до Бельта текут слезы умиления над несчастьями семьи лесничего и слышится похвальное слово прекрасному творению Иффланда» [288].
Иффланд столь популярен, что в 90-е гг. становится руководителем Прусского (Берлинского) придворного театра и в течение тридцати лет занимает этот пост в различных немецких театрах. В его наследии – несколько десятков мещанских драм и комедий. Все они построены по одному образцу, содержат одни и те же структурные компоненты, одних и тех же персонажей: непременные злоключения добродетельных героев, коварство аристократов, легкомысленные, но раскаивающиеся сыновья, идеальные ангелоподобные дочери, любящие снисходительные матери, грубоватые, но честные и простодушные ворчуны-отцы, торжество добродетели, благополучный финал, непременные слезы умиления. При этом чаще всего драма представляет собой иллюстрацию незатейливой житейской сентенции. Но именно эти незатейливость и понятность, со вкусом переданные детали немецкого быта и особая чувствительность подкупали зрителя. Иффланд стремился объединить в едином душевном порыве добродетельных героев своих пьес и зрителей в зале. Так, в финале одной из его драм длинная цветочная гирлянда связывала всех действующих лиц, а концы ее перебрасывались в зрительный зал со словами: «Нить взаимной любви да протянется к каждому доброму сердцу».
В то же время истинные ценители искусства и подлинные художники видели некоторую упрощенность и ограниченность пьес Иффланда, обусловленную жанровыми канонами мещанской драмы. Так, Гёте, отмечал, с одной стороны, талант Иффланда и Коцебу, их заслуги в развитии этого жанра. В беседе с И. П. Эккерманом он сказал: «Именно потому, что никто не умеет четко различать жанры, произведения этих двоих постоянно и несправедливо порицались. Но нам придется долго ждать, прежде чем снова появятся два столь талантливых и популярных автора»[289]. С другой стороны, в той же беседе Гёте подчеркивает, что недостаток Иффланда – его бесконечная погруженность в обыденность и что в силу этого «Холостяки» – лучшая из его пьес, ибо в ней единственной он, «поступившись житейской прозой, возвышается до идеального»[290]. Гёте также отмечал недостаточность психологических мотивировок в драмах Иффланда, слишком большую роль в них случайности: «Действие движется не изнутри, а извне, не как результат поведения героев, а лишь как случайное внешнее обстоятельство»[291]. В противоположность Гёте теоретик романтизма А. В. Шлегель вообще отказывает Иффланду в поэтическом даре и в своем разборе его пьес иронически замечает, что «поэтизировать бережливость невозможно»[292]. Для романтиков нестерпима именно прозаичность, бытовая приземленность пьес Иффланда, их рассудочность. Кроме того, сама по себе мещанская драма не является жанром, органичным для романтиков, и потому подвергается бесконечному осмеянию и пародированию.
Уже в 80-е гг. с Иффландом начинает соперничать по своей популярности Август Коцебу (August Kotzebue, 1761–1819), который приобрел широчайшую известность и за пределами Германии. Более четверти века он был властителем немецкой сцены, его пьесы были переведены на все европейские языки, ставились в различных европейских театрах и перерабатывались известными драматургами. По словам известного английского историка искусства и писателя Т. Карлейля, «Коцебу был известен от Камчатки до Кадикса». Своим успехом он обязан не только жизнеподобности и узнаваемости своих героев и драматических ситуаций, но и соединению этой жизнеподобности с различного рода экзотикой, сценичности своих пьес, напряженности действия, занимательности интриги. Судьба Коцебу оказалась теснейшим образом связанной с Россией, его слава – огромной и отчасти скандальной, финал его жизни – трагичным.
Коцебу родился в Веймаре, но в возрасте двадцати лет уехал в Россию и поступил там на службу к генералу Бауэру. Тот в своем завещании рекомендовал Коцебу Екатерине II, которая отправила его в Эстонию, даровала ему дворянство и чин надворного советника. Именно в России он написал свои первые пьесы и в 90-е гг. уехал в Германию уже известным драматургом. В 1800 г. Коцебу решает вернуться в Россию, однако на границе его ждет неприятная неожиданность: согласно указу Павла I, его арестовывают как подозрительного иностранца-вольнодумца и ссылают в Сибирь. Несколько месяцев ему пришлось прожить в Кургане, но затем его освободили. По не совсем проверенным фактам, которые отразились в более позднем автобиографическом очерке Коцебу «Примечательнейший год моей жизни» (1801), Павел в это время случайно прочитал его пьесу «Старый лейб-кучер Петра I» (1799), восхитился верноподданническими чувствами автора и не только приказал вернуть его из ссылки, но и даровал ему имение в Ливонии, а также назначил интендантом немецких театров в Петербурге.
После смерти Павла I Коцебу вернулся в Германию и продолжил свою драматургическую деятельность. Одновременно он много времени отдает публицистике, издает журналы «Литературный еженедельник», «Пчела», «Прямодушный», «Русско-немецкий народный листок». В статьях, опубликованных в этих журналах, а также в книге «О дворянстве» Коцебу откровенно обнаруживает свои монархические убеждения, провозглашает монархию «лучшей и естественнейшей формой правления», а представителей всех сословий призывает быть «честными сыновьями, которые могут почтительно советовать отцу, но не смеют ему предписывать». Он выступает против Наполеона, за «Священный союз», против свободы слова и автономии университетов, за введение казарменного режима для студентов. Все это вызвало страстную ненависть к Коцебу в студенческой среде. В 1817 г., во время Вартбургского празднества, студенты сожгли вместе с другими символическими знаками феодально-монархического режима книгу Коцебу «История Немецкого Рейха» (1813–1814). Кроме того, в Германии его упорно считали русским шпионом, потому что он поддерживал связь с русским двором и посылал туда отчеты, которые именовал «Донесениями о господствующих во Франции и Германии новых идеях в области политики и военного искусства». В 1819 г. студент Карл Занд убивает Коцебу ударом кинжала. Это событие всколыхнуло Европу, но не в смысле сочувствия убитому, а в смысле сочувствия юному террористу, приговоренному к смерти (в числе откликнувшихся на его казнь был и А. С. Пушкин, написавший стихотворение «Кинжал»).
Драматургическое наследие Коцебу чрезвычайно велико: более 300 произведений. Он работал в различных жанрах: исторические трагедии, мещанские драмы, бытовые и фантастические комедии, водевили, оперы. В его пьесах переплелись тенденции штюрмерской драматургии и английской мещанской драмы, французской мелодрамы, французской и итальянской комедии, в том числе и К. Гольдони.
В числе первых пьес Коцебу были исторические трагедии. Одна из них – «Димитрий, царь Московский» – была поставлена в Петербурге в 1782 г. и тут же снята с репертуара. Она вызвала неудовольствие российских властей тем, что Лжедмитрий был изображен с большим сочувствием, как подлинный сын Ивана Грозного. Коцебу и далее отдавал дань жанру исторической драмы: «Аделаида фон Вульфиген» (1788), «Октавия» (1801), «Гуситы под Наумбургом в 1432 году» (1803) и др. Однако во всех этих пьесах драматург слишком вольно обращается с историческими фактами, наполняет свои произведения излишне слащавым сентиментальным пафосом.
Гораздо большими были достижения Коцебу в жанре мещанской драмы, которую он сближает с мелодрамой и во многом определяет развитие этого жанра не только в Германии, но и в Европе в целом. Не случайно современники сопоставляли Коцебу с популярным французским автором мелодрам Рене Шарлем Пиксерекуром, которого называли «Шекспиром мелодрамы». В книге Армана Шарлеманя «Мелодрама на бульварах» (1809) утверждалось: «Господин Коцебу – Пиксерекур Германии, как Пиксерекур – французский Коцебу». Коцебу органично соединил черты мелодрамы (резкие контрасты, и прежде всего в столкновении добра и зла, соединение трагического и комического, патетики и чувствительности, непременная любовная интрига, аффектированные эмоции, зрелищность, занимательность, соединяющаяся с морализаторством) со штюрмерской проблематикой: защитой свободного чувства, «естественного человека» и т. д.
Большую известность приобрела драма Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние» (1789), героиня которой, Евлалия, изменив мужу, искупает свою вину искренним раскаянием, отречением от мира, слезами и добродетельными поступками. При этом штюрмерская прокламация свободы чувства соединяется с пафосом морального долга. Сам Коцебу писал: «…я вывел в положительном свете жену-изменницу, но ведь угрызения совести Евлалии вернули немало жен на стезю долга…» Евлалия, с большим сочувствием и симпатией изображенная автором, триумфально шествовала по сценам европейских театров. Во Франции пьесу Коцебу переработал Жерар де Нерваль (в главной роли выступила знаменитая трагическая актриса Рашель), в Англии – Р. Б. Шеридан. Поэты слагали сонеты в честь Евлалии, а дамы носили чепчики «а-ля Евлалия».
Еще одной чрезвычайно популярной драмой Коцебу стала пьеса «Индусы в Англии» (1790), посвященная проблеме «естественного человека» и соотношения природы и цивилизации. В духе руссоизма (и штюрмерства) пьеса построена на резком противопоставлении, с одной стороны, «естественных детей природы», индусов, благородных по природе, как благороден всякий человек, не испорченный цивилизацией, и с другой – чопорных, предельно эгоистичных англичан. В серьезную проблематику вклинивается и комедийная нота: наивная простушка Гурли очаровательно жеманничает, перенимая английские «цивилизованные» нравы. Этот образ задает тон многочисленным «простушкам» в европейской комедии конца XVIII – начала XIX в.
Комплекс проблем, связанных с «естественным состоянием», стремлением уйти от извращенной цивилизации «назад, к природе» (Руссо), и одновременно ряд этических проблем – в центре драмы Коцебу «Ла Перуз» (1795), отчасти повторяющей ситуацию гётевской «Стеллы», основанной в свою очередь на сложно-драматической жизненной ситуации Дж. Свифта в его любви к двум женщинам – Стелле (Эстер Джонсон) и Ванессе (Эстер Ваномри). В пьесе Коцебу мореплаватель Ла Перуз, потерпев кораблекрушение, оказался на необитаемом острове, который он, как и герой Дефо, превращает в «остров надежды». По закону природы, закону естественного чувства, он обретает счастье с молодой дикаркой, которая спасла его и стала значить для него больше, нежели Пятница для Робинзона. Однако через какое-то время Ла Перуза находит его любящая жена. Благодарная дикарке за спасение мужа, она отказывается от соперничества с ней. Кроме того, она не желает возвращаться в мир испорченной европейской цивилизации. В результате все трое остаются на острове, провозглашая: «Это будет рай невинности».
Руссоистские и штюрмерские мотивы варьируются также в пьесе Коцебу «Брат Мориц, чудак» (1797). Главный герой, эльзасский помещик, подтверждая просветительский тезис о равенстве всех людей независимо от происхождения, отказывается от дворянского титула и женится на собственной горничной, у которой есть внебрачный ребенок. Свою же сестру «чудак» Мориц выдает замуж за чернокожего. В результате все вместе, осознавая свою несовместимость с окружающим миром, уснащенным всяческими предрассудками, уезжают на вновь открытый необитаемый остров, чтобы основать там новый счастливый мир.
Таким образом, Коцебу во многом остается верным просветительской проблематике (особенно – руссоистско-штюрмерской), но преподносит ее специфически, сочетая элементы мелодрамы, бытовой мещанской драмы и драмы приключенческой. Он выступает как большой мастер сюжетостроения, фабульной игры и умело воздействует на публику, соединяя бытовую достоверность и всякого рода экзотику, сентиментальность и высокий пафос, нетрадиционность решения некоторых этических проблем и следование традиционному моральному кодексу. М. Л. Тройская пишет: «Мещанская драма обогащается у Коцебу действием, развертывается в разнообразных ситуациях, наполняется движением. Он умело чередует семейные мотивы с авантюрными: типично бюргерский конфликт протекает в экзотической обстановке: благородные отцы, матери, тетки, легкомысленные дворяне, честные немцы и плутоватые французы сталкиваются с неграми и индусами. Камчадалы и африканцы эффектно декорируют мещанские интерьеры. Искусное сочетание обывательщины с экзотикой – излюбленный прием Коцебу»[293]. Однако именно такое сочетание узнаваемости и одновременно мелодраматической преувеличенности житейских коллизий, открытого морализаторства и захватывающей экзотичности привлекало массового зрителя.
Значительны заслуги Коцебу и в развитии немецкой комедии, ибо в целом Германия была бедна на таланты комедиографов и не дала драматургов масштаба Мольера, Гольдони или Бомарше. Для Коцебу особенно важны традиции Гольдони и датского комедиографа Л. Хольберга (Гольберга), его смех тяготеет не столько к резкой сатире, сколько к юмору, хотя порой и весьма язвительно-ироническому. Больше всего он обличает всякого рода «мании», модные увлечения: англоманию, галломанию, моду на френологию, на масонство, на немецкую старину и все народное и т. п. Один из важнейших объектов сатиры Коцебу – немецкий обыватель, претендующий на особую значимость, но равно и немецкий интеллектуал-романтик, претендующий на особое духовное превосходство и презрительно взирающий на толпу Лучшей комедией Коцебу является его пьеса «Провинциалы» (1803), в которой он отчасти подражает им же переведенной пьесе французского комедиографа Л. Б. Пикара «Провинциальный город» (1801). Комический эффект строится на том, что городские обыватели-провинциалы принимают приезжего чиновника за короля и стараются всячески перед ним выслужиться и предстать в наилучшем свете. В комедии ярко представлены различные типы обывателей, традиционные комедийные маски органично соединены с чертами немецкого быта. В свое время г-жа де Сталь в книге «О Германии» отметила мастерство Коцебу в изображении напыщенных мещан, кичащихся своими смехотворными титулами, равно как и языковое мастерство автора в изобретении этих титулов, а также в использовании говорящих имен, контрастирующих с претензиями героев или мелочностью занимаемых ими должностей. Так, один из героев, поэт и эстет, носит имя Шперлинг («воробей») и титул «господин заместитель инспектора строительного, горного и дорожного дела» (в этом образе высмеян романтик А. В. Шлегель). Столь же потешно возвышенное имя г-жи Моргенрот («утренняя заря») в сочетании с титулом «госпожа канцелярская советница акцизной кассы» и т. и. Само название маленького городка в пьесе «Провинциалы» – «Вороний угол» – надолго становится нарицательным именованием немецкого захолустья.
Парадоксальность ситуации с пьесами Коцебу заключалась в том, что они пользовались колоссальной популярностью у публики, но эта популярность входила в противоречие со сдержанно-ироническими или открыто-неприязненными оценками его творчества со стороны духовной элиты общества. Так, иронически отзываются о Коцебу Гёте и Шиллер. Именно пьесы Иффланда и Коцебу, популярность мещанской драмы имеет в виду Шиллер, когда в «Прологе» к «Валленштейну» призывает «взлететь над тесной бюргерской средой» и утверждает, что «тесный круг сужает нашу мысль» (перевод Н. Славятинского). Шиллер и сам отдал дань мещанской драме с элементами мелодрамы (они есть и в «Разбойниках», и в «Коварстве и любви»), но он прекрасно понимал, что сцена не может быть отдана только мещанской драме, как нельзя полагаться в оценке искусства только на массового зрителя, на общепонятность и доступность. Обыватель всегда предпочтет трагедии Шекспира драму Коцебу. В стихотворении «Тень Шекспира» поэт иронически пишет: «Нет, восторгаемся мы одной христианской моралью, // Бытом домашним мещан, общепонятным для всех» (перевод В. Рождественского).
Гёте отмечал, что Иффланд и Коцебу излишне потакали нравам своего времени, и противопоставлял их слишком соглашательскую позицию позиции Мольера: «Он властвовал над своим временем, тогда как наши Иффланд и Коцебу позволили времени взять власть над ними и запутались в его тенетах»[294]. Гёте подчеркивал, что подлинный художник не может заботиться об ублажении толпы: «Если бы я, как писатель, задался целью ублажать толпу, мне пришлось бы рассказывать ей всевозможные историйки в духе покойного Коцебу»[295]. С другой стороны, Гёте охотно признавал, что в рамках своего, достаточно ограниченного, жанра Иффланд и Коцебу были талантливы и сделали многое. Так, когда Эккерман похвально отозвался об увиденных им пьесах Коцебу «Родственники» и «Примирение», подчеркнув, что «автор сумел свежим взглядом взглянуть на обыденную жизнь, разглядеть ее интересные стороны и к тому же сочно и правдиво ее изобразить»[296], Гёте с ним согласился: «То, что просуществовало уже двадцать лет и продолжает пользоваться симпатиями публики, конечно, чего-нибудь да стоит. Пока Коцебу держался своего круга и не преступал своих возможностей, его пьесы, как правило, были удачны…Не приходится отрицать, что Коцебу хорошо знал жизнь и смотрел на нее открытыми глазами»[297]. Гёте отмечал особую способность Иффланда и Коцебу построить занимательный сюжет и разнообразить его от пьесы к пьесе: «Пьесы Коцебу и Иффланда так богаты разнообразными сюжетами, что французы будут ощипывать их, покуда от тех перышка не останется»[298]. Эти отзывы тем более великодушны, что Коцебу вел с Гёте мелочную личную борьбу.
Абсолютно отрицательно отнеслись к творчеству Коцебу романтики, сделавшие его главным объектом своих насмешек, своей уничтожающей иронии. Так, Тик издевается над ним в комедии «Кот в сапогах», Шлегель – в своих теоретических работах, утверждая, что «обывательски чувствительный жанр привел к снижению поэтического и этического вкуса». Коцебу отвечает Шлегелю и другим романтикам комедией «Гиперборейский осел, или Нынешнее образование» (1799), где высмеивает философские идеи романтиков. В ответ Шлегель пишет памфлет «Почетные врата и триумфальная арка президенту театра фон
Коцебу». Само имя Коцебу становится для иенских романтиков символом мещанства, филистерской ограниченности, приземленности, отсутствия подлинного поэтического дара, что не совсем справедливо, но понятно в свете романтического мироощущения и высокой романтической иронии.
Коцебу был чрезвычайно популярен в России, что также вызывало неоднозначную реакцию. Так, В. Ф. Одоевский считал интерес к пьесам Коцебу проявлением плохого литературного вкуса, а сатирик Д. П. Горчаков жаловался: «Коцебятина одна теперь на сцене».
Философская трагедия Фридриха Гёльдерлина «Смерть Эмпедокла»
Завершает развитие драматургии немецкого Просвещения и далеко выводит ее в будущее (как, впрочем, и лирическую поэзию, как и прозу) гений, не понятый своим временем, не оцененный по достоинству даже веймарскими классиками, – Фридрих Гёльдерлин (1770–1843). Прав известный российский переводчик и иследователь творчества Гёльдерлина Г. И. Ратгауз, замечающий по поводу единственной драмы, которую всю свою недолгую творческую жизнь писал Гёльдерлин, – трагедии «Смерть Эмпедокла» («Der Tod des Empedokles»): «Философский смысл этой трагедии настолько значителен, фигуры самого Эмпедокла и его противников обладают такой монументальностью и мощью, действие драмы с такой необходимостью ведет к трагическому исходу, что дарование Гёльдерлина открывается нам с новой и неожиданной стороны: он должен был, при других условиях, получить признание как один из великих трагических поэтов Германии»[299]. «При других условиях» – в случае более благополучной жизненной и творческой судьбы поэта[300]. Однако и здесь трагическая судьба не позволила Гёльдерлину не только получить прижизненное признание, но и реализовать до конца свой единственный, но великий драматический замысел.
Судьба Эмпедокла из Агригента (из Акраганта; ок. 483–423 или 495^135 гг. до и. э.), греческого мыслителя, врача и поэта (автора двух поэм и трагедий), привлекла Гёльдерлина своей таинственностью и неисповедимостью. Об Эмпедокле, который прослыл чудотворцем и пророком и которого граждане Агригента почитали почти как Бога, сложилось множество легенд. Одна из них гласит, что Эмпедокл добровольно ушел из жизни, бросившись в кратер Этны. Сведения об этом содержатся у Диогена Лаэртия, который интерпретирует самоубийство Эмпедокла как проявление гордыни (греч. hybris) – желания таким образом оставить свое имя в истории. Известно, что реальный Эмпедокл умер на Пелопоннесе, но при этом достоверно следующее: он возглавлял демократические силы в Акраганте и после свержения тирании в родном городе отказался от предложенного ему народом сана царя. Достоверно также то, что Эмпедокл был жрецом и занимался врачеванием, что восхищенные приверженцы оказывали ему божественные почести. Сохранились фрагменты основного труда Эмпедокла «О природе», а также его работа «Очищения» («Искупления»). В них изложена натурфилософская и религиозная концепция мыслителя. Эмпедокл явился создателем классического учения об элементах. Согласно его мысли, основой всего сущего являются четыре элемента – огонь, вода, воздух и земля, которые вечны, неизменны и неразрушимы. Они могут механически соединяться, но не видоизменяться, не превращаться друг в друга. Из этого следует, что мир явлений существует благодаря соединению и разъединению элементарных частиц. При этом причиной соединений является любовь, а разъединений – ненависть. Таким образом, любовь и ненависть – универсальные силы, движущие мирозданием. Все мировые процессы – суть колебания между полным слиянием (сфера абсолютного господства любви) и полным разделением (сфера полного господства ненависти). Отдельные феномены, в том числе и люди, не могут существовать на этих полюсах, но лишь на промежуточных ступенях. Все многообразие мира является результатом различных пропорций смешения между элементами и следствием борения любви и ненависти. В «Очищениях» очевидно влияние на Эмпедокла орфико-пифагорейского учения о переселении душ: душа, обремененная виной, блуждает в различных образах трижды десять тысяч ор.
Фигура Эмпедокла привлекла внимание Гёте, изучавшего мистическую философию орфиков. Не могла она не привлечь и Гёльдерлина, которому, по-видимому, особенно импонировала диалектика Эмпедокла – учение о любви и ненависти как движущих силах бытия. При этом, принимая во внимание толкование самоубийства Эмпедокла у Диогена Лаэртия, Гёльдерлин дает свое, более сложное, объяснение этого поступка, равно как и «гордыни» своего героя. Последнюю, как отмечает Г. И. Ратгауз, «следует понимать в высоком, трагическом смысле, как у Эсхила гордыню Прометея, бросающего вызов олимпийцам»[301]. С этим нельзя не согласиться, однако «гордыня»
Эмпедокла в интерпретации Гёльдерлина несет в себе еще более сложные, противоречивые аспекты.
Следует принять во внимание, что до «Эмпедокла» поэт задумал две другие трагедии – «Смерть Сократа» и «Агис и Клеомен» (до сих пор не известно, были ли эти замыслы доведены до конца; рукописи трагедий утрачены). Первая из них была задумана в 1794 г., замысел второй возник уже во Франкфурте, в 1796 г., параллельно с «Эмпедоклом». Совершенно очевидна взаимосвязь всех этих замыслов. Как известно, Сократ был оклеветан врагами и заключен в тюрьму, а затем приговорен афинским судом к смерти. Он мог совершить побег, но отказался от такой возможности и спокойно выпил чашу с цикутой, чтобы хоть чему-нибудь научить самоуверенных афинян. Точно так же и Эмпедокл у Гёльдерлина окажется в конфронтации с гражданами Агригента, и его самоубийство, возможно, продиктовано стремлением преподнести им урок. Цари Спарты Агис и Клеомен (III в. до и. э.) пытались восстановить в государстве простоту и природную красоту нравов, борясь с роскошью и произволом знати. Как сообщает Плутарх, Агис «гордился грубым спартанским плащом» и хотел «уравнять состояние граждан и пополнить их число». Агис был предательски убит знатью. По свидетельству Плутарха, перед смертью он сказал плачущему слуге: «Перестань плакать, я стою выше своих убийц». Клеомен, который попытался продолжить дело Агиса, был изгнан из Спарты и погиб. В гёльдерлиновской трагедии об Эмпедокле так или иначе отозвались все эти мотивы: клевета сограждан, изгнание, добровольная смерть, вызов тирании и олигархии, стремление переустроить мир на началах справедливости, нравственности, гармонии, красоты.
Известно, что подробный план трагедии об Эмпедокле был записан Гёльдерлином во Франкфурте в 1797 г., но затем существенно видоизменился. Как отмечает Г. И. Ратгауз, «сначала под воздействием Шекспира Гёльдерлин предполагал ввести в свою трагедию много второстепенных действующих лиц и, по-видимому, чередовать “высокие” сцены с простыми, бытовыми. Однако драма Гёльдерлина по мере работы над ней все более приближалась к античным образцам, к подлинной трагедии, сущность которой Гёльдерлин видел в гордом презрении к “случайному”. Трагическая личность героя и его судьба главенствуют в этой драме»[302]. Скорее всего, изменению замысла и стилистики трагедии способствовало углубленное изучение Гёльдерлином античной трагедии и уже начатая им работа над переводами трагедий Софокла («Антигона» и «Царь Эдип» в переводах Гёльдерлина стали самыми блистательными интерпретациями шедевров великого греческого трагедиографа на новых европейских языках). В неменьшей степени изменению замысла способствовало усугубление трагического одиночества Гёльдерлина после его вынужденного расставания с Сюзеттой Гонтар – Диотимой его поэзии – и отъезда из Франкфурта.
Поэт предполагал закончить работу над трагедией летом или осенью 1799 г., но зимой 1799–1800 гг. все еще продолжал работать над ней. Однако эта работа все более замедлялась и вскоре остановилась совсем. В итоге сохранились три варианта драмы, из которых наиболее законченным и совершенным является первый, созданный в Гомбурге в октябре 1798 – апреле 1799 г. и содержащий два полных акта. Два других текста – вторая редакция «Смерти Эмпедокла» (май – июль 1799 г.) и «Эмпедокл на Этне» (сентябрь 1799 – зима 1800 г.) – представляют собой лишь отдельные поэтические наброски. «Смерть Эмпедокла» была опубликована только в 1846 г., когда Гёльдерлина уже не было в живых. При этом текст был избавлен от искажений лишь в научном издании 1915 г.
Показательно, как в своей пьесе Гёльдерлин предельно концентрирует просветительскую проблематику (проблема разумного переустройства общества под руководством мудрого философа, сочетающего религиозное чувство и научное познание природы, отрицание деспотизма, осуществление идеала «естественного состояния» в слиянии с природой и т. д.), а также выходит к новым, неведомым горизонтам. В своей трагедии Гёльдерлин не только предваряет и одновременно исчерпывает романтическую парадигму, но и предвосхищает проблемы, которые будут поставлены самой жизнью и отражены искусством и литературой эпохи декаданса и модернизма.
Речь в первую очередь идет о предельной сложности, загадочной неуловимости, непрочитываемости с рациональной точки зрения образа главного героя – Эмпедокла. По мысли Г. И. Ратгауза, легенда о нем «послужила Гёльдерлину поводом для создания символической (курсив автора. – Г. С.) трагедии, рисующей судьбу непонятого пророка, которому ведомы все тайны природы и человеческой жизни»[303]. Это глубоко верное наблюдение, однако Эмпедокл у Гёльдерлина сталкивается не только с непониманием людей, но и с глубочайшими внутренними противоречиями как в своих отношениях с природой, так и с народом Агригента. Как отмечал А. В. Карельский, в этой пьесе поднят один из главных романтических конфликтов – «конфликт гения и прозаической массы, которая его не понимает»[304]. Однако на какое-то мгновение гению удается добиться признания массы, единения с ней, – и, добившись этого, он отказывается от царской короны. При этом Эмпедокл переживает внутреннюю вину из-за того, что он, смертный, решил возвыситься до ранга Бога. Тогда, быть может, его отказ руководить Агригентом и его самоубийство можно трактовать как наказание и искупление. Однако это лишь один из возможных вариантов прочтения трагедии, и прав А. В. Карельский, когда говорит об «Эмпедокле»: «“Темнота” пьесы запрограммирована и изначально непереводима на понятийный язык». Это вполне соотносится с загадочностью реального Эмпедокла, который все силы отдавал на благо родного города и его граждан, но был при этом невероятно горд и заносчив, был одержим демократическими идеями – и одновременно убежден в исключительности своей личности. Недаром, согласно легенде, жители Агригента установили Эмпедоклу особый памятник-колонну, где философ представал как загадка – с закрытым лицом.
Во многом гёльдерлиновский Эмпедокл близок гётевскому Фаусту – прежде всего неутомимостью поисков истины, стремлением преобразовать жизнь, создать «народ свободный на земле свободной». Как и Фауст, одержимый изначально желанием постичь «вселенной внутреннюю связь», открыть единый закон, движущий бытием, Эмпедокл ищет единое начало, созидающее все сущее, но не находит его. Мир в его представлении предельно противоречив, ибо движется Любовью и Ненавистью. Отсюда проистекают все страдания людей, и эти же страдания, эту расколотость герой ощущает в собственной душе. С одной стороны, он задуман как воплощение гармонии, предельной близости богам, предельного слияния с природой, с другой – эта гармония оказывается чрезвычайно хрупкой, легко подверженной деформации, и не только из-за непонимания толпы, но и из-за внутренних сомнений, колебаний самого героя, а также из-за его гордыни.
Эмпедокл у Гёльдерлина выступает как великий духовный наставник народа и провозвестник подлинно свободного человеческого бытия, «прекрасного мира». В его уста поэт вкладывает не только великую мечту века Просвещения о «Царстве Разума», созданном на основе общественного договора, но и собственную величественную версию этой утопии – представление об абсолютной свободе человеческого духа, об обществе подлинной духовности и красоты, не нуждающемся в тирании никакого государства, пусть даже самого лучшего, о союзе сограждан-братьев, скрепленном нравственным законом, о людях, живущих в подлинном союзе с Природой, насквозь пронизанной движением Единого Духа (те же мысли мы обнаруживаем в романе Гёльдерлина «Гиперион» и его поэме «Архипелаг»):
Дерзните! Все, чем овладели сами, Все, что внушили вам отцы и деды, — Обряды древние, богов старинных, — Забудьте и к божественной природе Свой удивленный поднимите взор, Как смотрит новорожденный младенец! И вот, когда, узрев небесный свет, Ваш дух воспламенится, и впервые Дыханье жизни напоит вам грудь, И мир охватит вас, душе внушая Святым напевом благостный покой, Когда земля восторженному взору По-новому зеленой засверкает, И горы, море, облака, созвездья, Благие силы, как родные братья, Предстанут взгляду, зажигая сердце Порывом к героическим деяньям — Воздвигнуть собственный прекрасный мир, — Тогда подайте вновь друг другу руки И поделите меж собой добро По справедливости, и труд, и славу, Как Диоскуры верные; и каждый Пусть равен всем, и колоннадой стройной Пусть подпирает кровлю новой жизни Незыблемый порядок, и пускай Союз ваш будет укреплен законом. Тогда, о Гении природы, вас Народ свободный позовет, ликуя, На празднества свои, – ведь смертный может Души своей богатство расточать С любовью щедрой, если дух его Не стиснут гнетом рабства. (Здесь и далее перевод Е. Эткинда)Однако произносит эти слова человек, твердо решивший покинуть навсегда людей, которые так нуждаются в нем, которые все еще так несовершенны, так далеки от «прекрасного мира», чьи контуры обрисованы в речах их учителя. Почему же уходит Эмпедокл, и не только из Агригента – из жизни? Это самый трудный вопрос. Кажется, Гёльдерлин сознательно так выстраивает свою трагедию и так пишет ее, что в отдельности понятна каждая сцена, отчетлив и прозрачен каждый образ, внятно каждое слово, но в целом – все неисповедимо, зыблется, мерцает, двоятся и троятся смыслы, ускользают из-под власти обычной логики.
В начале трагедии мы видим главного героя глазами двух чистых прекрасных девушек – Пантеи, дочери Крития, архонта Агригента, и Делии. Точнее, об Эмпедокле восторженно и вдохновенно говорит Пантея, спасенная от таинственной тяжкой болезни его врачевательским искусством и полюбившая его самозабвенной любовью. Для нее Эмпедокл – высшее, идеальное существо, почти небожитель или даже нечто большее – великий дух, проникший во все тайны мироздания; он внушает трепет, смешанный с ужасом, и невероятную любовь: «Говорят, там, где он проходит, к нему тянутся травы и цветы, там, где посох его касается земли, воды из глубоких недр устремляются на поверхность! Все это, наверное, правда! Еще говорят: когда он в грозу поднимает очи к небосводу, тучи расступаются, открывая лучезарную синеву. Только что тебе все это может дать? Ты должна увидеть его сама, увидеть лишь на миг, – и тотчас прочь! О, я ведь тоже его стараюсь избегать, в нем живет грозный, всепреображающий дух. <…> Величественно прекрасный, он и сейчас стоит у меня перед глазами! Под улыбкой его очей жизнь моя снова расцвела, мое сердце, подобно утреннему облаку, плыло навстречу божественно сладостному свету, и я была слабым отблеском его!…Звуки, льющиеся из его груди… В каждом слоге – вся музыка мира… Дух, трепещущий в слове его!.. Я хотела бы сидеть у его ног, сидеть часами, как его ученица, его дитя, и, устремив взоры в родной ему эфир, подниматься, ликуя, к нему, чтобы в его небесных высях мой дух потерялся, как жаворонок утопает в синеве».
Пантея не случайно подчеркивает особую силу слова Эмпедокла: в сущности, он великий поэт, и устами своей героини Гёльдерлин погружает нас в глубины творческого духа, выражает собственное представление о великой тайне творчества. Поэт творит из самого себя, порождая в себе вдохновение; открывая в себе божественную гармонию, он несет ее людям, и эта гармония способна победить хаос:
…Чужд земному, Живет он в мире собственном, дыша Божественным покоем, посреди Своих цветов и ветер дуновеньем Счастливца не решается тревожить. Немотствует природа, вдохновенье Родится в нем из самого себя, Даря ему растущее блаженство, Покуда темный творческий восторг Не озарится яркой вспышкой мысли И сонмы духов, будущих деяний Не вторгнутся в него, – а с ними мир, Кипящий мир людей и мир природы Безмолвной, – и тогда, как божество В клокочущих вокруг него стихиях, Гармонией небесной упиваясь, Выходит он к народу…Процесс творчества, описанный Гёльдерлином, весьма показателен для его понимания поэта как посредника между двумя мирами – небесным и земным, а также почти иллюстрирует идею Ф. Ницше о рождении великого искусства как синтеза дионисийского («темный творческий восторг») и аполлоновского («яркая вспышка мысли») начал. Но если у Ницше, любимым поэтом которого был Гёльдерлин, художник и искусство – не от мира сего и никак с ним не связаны, то у Гёльдерлина поэт и мыслитель (а поэзия и философия понимаются им как нерасторжимое единство) низводит небесную гаромнию в земное бытие, открывает ее людям. Согласно одному из поздних гимнов Гёльдерлина – «Как в праздник…», названном М. Хайдеггером самым совершенным воплощением сущности поэзии, поэт, стоящий «под Божьей грозою» с головой непокрытой, «ловит луч Отца, Его свет» и, «одев его в песню», «народу приносит небесный дар». Так и Эмпедокл выходит к народу, неся ему небесную гармонию, высшее знание. Он обладает такой силой слова, такой харизмой, что заставляет замирать толпу, подчиняет ее своей мысли. Но подлинный мыслитель и поэт, утверждает Гёльдерлин, никогда не может быть до конца понят и принят этим миром:
…Выходит он к народу – в грозный час, Когда толпа сама себя не слышит И с хаосом способен совладать Лишь он, могучий. И, как мудрый кормчий, Выводит судно в море он, – но только Они его, чужого, начинают И понимать, и чтить, как сразу мир немой Природы вновь от них его уводит Под сень дерев, таинственная жизнь Которых для него открыта настежь, Даря ему блаженство и покой.Так уже изначально задается трагическая дихотомия бытия Эмпедокла: с одной стороны, он пребывает в полной гармонии с природой, с другой – обостренно ощущает дисгармонию социального бытия; с одной стороны, он стремится жить во имя людей, с другой – ощущает их неготовность к новой жизни, их чуждость себе.
Пантея предвидит трагические события, вспоминая, каким она в последний раз видела Эмпедокла – подавленным и скорбным:
Когда в последний раз он там стоял, В тени своих дерев, он показался Мне в тяжком горе, – боговдохновенный, Он взор свой, полный небывалой боли, То долу опускал, то устремлял Сквозь мглу дубравы, в синий свод небес, Как будто жизнь, уже покинув землю, Летит к иным пределам, – скорбь лежала На царственных его чертах, и я Вдруг поняла: увы, и ты погаснешь, Прекрасная звезда! Твой свет умрет, И этот день уж недалек.Пантея еще не знает и не понимает, как не понимает никто, что скорбь Эмпедокла продиктована ощущением собственной вины, тем, что он посмел уравнять себя с богами. Во второй сцене первого действия жрец Гермократ на свой лад объясняет архонту Критию происходящее с Эмпедоклом: «Сидит, опустошенный, в темноте. // Бессмертные его лишили силы // В тот самый день, когда пред всем народом, // Безумец, богом он назвал себя». Критий убежден, что Эмпедокл «заразил народ своим безумьем», что люди «ждут лишь от него благодеяний. // Он должен стать их богом, их царем». Гермократ прямо клевещет на Эмпедокла, обвиняя его в непомерной гордыне, в желании мстить и присвоить себе весь мир:
…И дух его, который сном окован, Боюсь, воспламенится жаждой мести… …Решив, что боги им сотворены, Узрит в огромном жизнетворном мире Утраченную собственность свою, И страшные мечтания, как змеи, В его груди зашевелятся, пламя Гордыни злобной все вокруг него Испепелит. Да, все, что создавало Благое время, и закон и нравы, Искусство и священные преданья, Все опрокинет он, и не потерпит Ни радости, ни мира для живущих. Он миротворцем более не будет. Лишив людей всего, он все на свете Возьмет себе, и ни единый смертный Не обуздает бешенства его.Гермократ одержим одним – стремлением продемонстрировать всему народу униженность Эмпедокла. Тем временем сам некогда целостный дух мучается разладом с великими богами, олицетворяющими стихии, самое природу; он вспоминает о былой гармонии и корит себя за безмерность своих притязаний:
Родимая природа! Ты всегда В очах моих, ужели ты забыла О том жреце, который песнью жизни Кропил тебя, как жертвенною кровью? Здесь, у святых деревьев, Где влага всех земных артерий Стекается и жаждущий находит Источник вечной юности, – здесь и во мне, В моей душе, когда-то воды жизни Стекались из глубин вселенной, И жаждущие толпы шли ко мне. А ныне?.. Я один? И ночь. Ужели ночь царит здесь даже днем? Я, проникавший взором глубже смертных, Теперь слепец, блуждающий во мраке. О где вы, мои боги? <…> Все позади! Бесстрашно Взгляни на правду! Ты во всем повинен, Повинен сам, страдающий Тантал! Ты оскорбил святыню, дерзновенный, Кощунственно порвал союз прекрасный, Ничтожество!Даже Павсаний, лучший и преданнейший ученик Эмпедокла, не может его утешить, не может смягчить боль от утраты целостности, гармонии, причастности тайнам Природы, ее богам, ее живительным силам, ибо мыслитель убежден: «Любовь бежит от брошенных богами…»
Но вот уже приближаются к Эмпедоклу жители Агригента, возглавляемые Гермократом и Критием, чтобы обличить его как «бесстыдного богохульника». Эмпедокл молит только об одном: «О, дайте мне уйти моей тропою, // Священно тихою тропою смерти». Он уже задумал уход из мира, ему нестерпимо назойливое внимание толпы, вламывающейся в его душу. В этот момент глухая стена воздвигается между ним и людьми, и этот процесс подогревается Гермократом, ненавидящим Эмпедокла за дерзание и высоту духа, недоступную ему. Толпа, которая боготворила Эмпедокла, готова растерзать его: «Все ясно нам! Казнить его! Казнить!» Гермократ проклинает Эмпедокла и обрекает его на изгнание при полном одобрении агригентян. Он проклинает также любого, кто окажет помощь, приют или даже посмертные почести изгнаннику:
Проклятие тому, кто с состраданьем Приимет в душу от тебя хоть слово, Кто руку помощи тебе протянет, Кто в полдень даст тебе глоток воды, Кто за своим столом тебя потерпит И пустит ночевать под теплым кровом, А в час, когда умрешь, зажжет огонь Священного костра. Он будет проклят, Как проклят ты. Ступай же прочь отсюда! Тебя изгнали боги Агригента, Которым храмы здесь возведены.Эмпедокл мужественно переносит это оскорбление. Он просит не за себя – за Павсания, своего верного молодого ученика, который смог бы стать опорой для жителей Агригента. Он все еще любит их, он думает о них. Но граждане, подзуживаемые Гермократом, не желают ничего слушать. Гермократ проклинает и Павсания, не желающего оставлять своего учителя. Эмпедокл упрекает Крития, ведь тот должен, будучи архонтом, наставлять народ на путь истинный:
Молчишь ты, Критий! Но проклятьем этим И ты клеймен. Ты знал его, не так ли? Потом греха вовеки не зальет Кровь жертвенных животных! Будет поздно! Они пьяны от ярости, спаси их И образумь несчастных трезвой речью!Эти слова вызывают слепую ярость у людей, и они грозят Эмпедоклу убийством: «Как, он еще бранит нас? Замолчи! // Ты проклят – уходи, пока мы руки // Не наложили на тебя!» В ответ – неожиданный взрыв негодования у Эмпедокла, столь прежде терпеливого, столь кроткого. Из его души изливается страшный гнев на глухих и слепых людей, ради которых он сделал так много; он обижен, оскорблен, он произносит жестокие и страшные слова тем, кого недавно так любил:
…Так пусть Умрете все вы медленною смертью, Вы, безымянные, и пусть в могилу Проводит вас воронья песнь жреца; И так, как волчью стаю манят трупы, Пусть и на вас найдется волк; и пусть, Насытясь вашей кровью, он очистит Сицилию от вас; и пусть засохнет Земля, где рос пурпурный виноград И в темных рощах золотился плод И зрело благородное зерно Для доброго народа; чужеземец, Ступив на щебень ваших храмов, спросит: «Здесь, видно, город был?» Идите. Больше Вы не увидите меня.Этот эпизод особенно ярко свидетельствует о противоречиях души Эмпедокла: в ней борются любовь к людям и ненависть к ним, когда они становятся толпой. Как полагает А. В. Карельский, Гёльдерлин одним из первых увидел ту опасную черту романтического миросозерцания, которая связана с забвением собственно человека (особенно слабого, несовершенного, т. е. обычного, земного) за космическим образом «человечества грядущих столетий»: «Мечтая о грядущем человечестве, романтизм как бы сбрасывает отдельного человека со счетов. Над этим и бьется, пытается преодолеть это мысль Гёльдерлина в “Эмпедокле”». Исследователь подчеркивает, что в своих поздних гимнах (особенно «Рейн», «Германия») Гёльдерлин уже отказывается от романтической идеи самодостаточности гения и формулирует новый альтруистический принцип. Ситуацию Эмпедокла А. В. Карельский описывает следующим образом: «Инерция гордыни говорит: это толпа, а сердце тут же поправляет: нет, люди».
Да, Эмпедокл на наших глазах преодолевает инерцию гордыни, сохраняя в своей душе любовь к людям, к каждому отдельному человеку. Пока же, прежде чем отправиться в изгнание, он трогательно прощается со своими рабами, которые хотят уйти вместе с ним и в которых он видит отнюдь не рабов, но с детства близких людей, друзей и почти братьев:
…Вы всегда Охотно мне служили, ибо с детства Росли мы с вами вместе в этом доме, Принадлежавшем моему отцу, А после – мне, и от меня не слышал Никто властительно-холодных слов. Судьбы рабов не знали вы и, верю, Теперь готовы следовать за мной В изгнанье. Но не мог бы я стерпеть, Чтоб и на вас его проклятье пало. Оно известно вам. И мир открыт Для вас, друзья, и для меня, так будем Искать в нем счастья – всяк себе.Гёльдерлин подчеркивает в своем герое подлинное человеколюбие: для него ценностью является всякий человек. Но в то же время Эмпедокл ощущает свою изолированность от обычных людей, и в последних его словах звучит горькая двусмысленность: он уже решился на окончательный уход из мира. Обида на «чернь» все еще живет в его душе, но одновременно зреет мысль о собственной вине – и прежде всего из-за того, что он оскорбил своим вызовом богов. Обращаясь к деревьям, душу которых он так хорошо понимал и которые понимали его, Эмпедокл говорит:
…Мои любимцы! Вы, освященные Ликующей песнью друга бессмертных богов, Умрите, мирные поверенные мира души моей, Верните ветрам ваши жизни, затем что Свирепая чернь хохочет под вашею сенью, И там, где я, просветленный, стоял, погруженный в мечты, Там они грубо поносят меня насмешкой. Горе! Вами ли, боги, отвергнут я? Вам в подражанье Жрец самозванный меня изгоняет бездушно? Вы меня бросили, о властелины небес, Вас оскорбившего, бросили в мрак одинокий, А этот меня исторгает из милой отчизны, И проклятье, которым я сам же себя заклеймил, Эхом звучит мне теперь в криках низкой толпы!Возможно, самое неразрешимое противоречие, терзающее душу Эмпедокла и обусловливающее трудность и алогичность как его образа, так и всей драмы, состоит в следующем: герою кажется, что причина его внутренней боли, его страданий заключена в отвержении его богами, в то время как истинная причина – в его разрыве с людьми, в отъединенности от них. Как справедливо отмечает А. В. Карельский, «в душе Эмпедокла – незаживающая рана не от разрыва с богами, а от разрыва с людьми, от разрушенных, ненормальных отношений между людьми». По мысли исследователя, Гёльдерлин передает своему герою собственное отношение к людям, ярко выраженное также устами Гипериона в одноименном романе: «Гёльдерлин не хочет видеть в людях только буржуа, но острым чутьем вновь и вновь фиксирует в своих современниках отдаление от идеала человеческой цельности. Поэтому его отношение к ним двойственно, как и у Эмпедокла».
Эмпедокл, стоически переносящий тяготы начавшегося изгнания, с горечью видит, как власть Гермократа уродует сознание людей, вселяет в них рабский страх: молва о его изгнании уже облетела окрестности, и ему, столь много сделавшему для Агригента, отказывают в элементарном приюте и даже кратком отдыхе в тени, в глотке воды, в куске хлеба. Перепуганный крестьянин не хочет продать Эмпедоклу и Павсанию еду и питье даже за немалую плату: «Я узнал вас! Горе! // Ведь это проклятый из Агригента… // Я догадался сразу! Прочь отсюда! // Ступайте!» И хотя негодует только Павсаний, а Эмпедокл с улыбкой принимает удары судьбы, в душе его по-прежнему кровоточащая рана. Исцеление и радость ему приносит только мысль о скором уходе и возвращении в лоно Матери-Природы, о слиянии с всеблагими богами и Вседвижущим Духом мироздания:
…Ко мне вернулась нынче Прекрасная пора цветенья жизни, Мне предстоит великое. Мой сын, Зовет меня к себе вершина древней, Священной Этны, на высотах горных Мы будем ближе к всеблагим богам. …под нами Там, в горных недрах, будет клокотать Священный жар земли, и нашего чела Коснется ласковым дыханьем дух Вседвижущий…Павсаний не понимает слов учителя, напуган ими. В то же время он прозорливо говорит: «Увы! В твоей груди горит обида, // И ты, великий, своего не видишь // Величья!» Эмпедокл и признает это отчасти («…мука эта – как укус ехидны, // Бушующей огнем в моей крови»), и в то же время считает, что он превозмог в себе обиду: «С богами и людьми // Мое свершится скоро примиренье, // Оно уже свершилось». Павсаний потрясен и обрадован: «Высокий муж! Ужель дела людские // Опять чисты, как пламя очага?»
Показательно, что именно в этот момент появляется толпа людей, идущая вверх по склону, к вершине, на которой находятся Эмпедокл и Павсаний. Последние узнают в них граждан Агригента во главе с Гермократом и Критием. Первые чувства, которые охватывают Эмпедокла, – страшный гнев, ярость, ненависть, ибо он уверен, что люди пришли вновь оскорбить, добить его:
Я рассчитаюсь с вами! Слишком долго Щадил я проходимцев, опекал Притворных нищих, доверял лжецам! Вы все еще не в силах мне простить, Что я добро вам делал? Нет, довольно! Сюда вы, мразь! И если нужно, я Могу прийти к богам, пылая гневом!Новый взрыв гнева вызывают у Эмпедокла слова приблизившегося Гермократа о том, что сограждане простили его, что он, Эмпедокл, искупил вину своими страданиями и недугом, которые написаны на его лице. Эмпедокла буквально захлестывают ненависть и презрение к людям:
Бесстыдные! Так вот к чему пришли вы! Глаза откройте, посмотрите сами, Как вы дурны, и пусть у вас от горя Отнимется язык, привыкший лгать И сквернословить! Не способны даже Краснеть вы, сброд! <…> …Ничтожный сброд, отринутый богами, Ужимки ваши видеть шутовские Все время пред собой – какая честь! Нет, нет, шуты! Стократ предпочитаю Жить бессловесным, чуждым средь зверей, В горах, под ливнем и палящим солнцем Делить кусок с животными, чем к вам В убожество слепое воротиться!Кажется, эти слова говорит человек, который никогда не испытывал любви к людям, но всегда питал к ним презрение – презрение, достойное байронического героя. Но именно люди, в чем-то ограниченные и слепые, не понимающие до конца слов Эмпедокла, демонстрируют чудеса всепрощения и любви. Они заставляют замолчать Гермократа, называющего Эмпедокла безумцем, они молят своего любимца о прощении и любви, они умоляют его вернуться в Агригент, принять царский сан: «О, полюби нас снова! Возвратись // В родной свой Агригент… // Мы давно хотели // Венчать тебя на царство! Будь царем! // Прими венец, – все этого желают».
Эмпедокл растроган, в его душе опять пробуждается любовь к этим людям, но он понимает, что уже никогда не сможет к ним вернуться, не сможет быть прежним с теми, кто видел его унижение:
…Добрые мои, Забудем зло. Но только вы теперь Меня оставьте, лучше вам не видеть Лицо того, кто вами изгнан был, — Пусть в памяти у вас хранится образ Любимого когда-то человека, И ваш так просто возбудимый разум Не испытает боле помраченья. Я буду вечно юным в думах ваших, И будут гимны радости звучать Прекраснее, когда я вдаль уйду. Мы разлучимся до того, как старость И безрассудство разлучат нас, надо Внять предостереженью, разойтись, Самим себе назначив день разлуки.Слова Эмпедокла недвусмысленно свидетельствуют, что он не сможет забыть своего унижения; к тому же он не уверен, что разум у агригентян не помрачится еще раз. В ответ на робкий и печальный вопрос: «Ты покидаешь нас во тьме?» – мудрец раскрывает людям свою душу, произносит заветное «святое слово», которое созрело, как плод, в глубинах его духа. В этом финальном слове он ободряет людей, призывает их к духовному дерзанию и преодолению самой смерти и тем самым приоткрывает еще одну причину своего ухода:
Нет, не во тьме я покидаю вас, Отбросьте страх. Детей земли всегда Все новое и чуждое пугает. И жизнь растенья, и веселый зверь Желают одного – собой остаться, Замкнуться в ограниченных пределах И сохранить себя – их узкий смысл Кончается на том. В конце концов Приходится им все же, боязливым, Себя покинуть – смерть их возвращает В круговорот стихий, чтоб, обновясь, Для новой юности они воскресли. Благословен лишь человек – он может Себе вернуть своею волей юность, В желанный миг, который сам избрал он, Пройдя сквозь очистительную смерть, Восстать, как некогда Ахилл из Стикса, Неодолимым… Отдайтесь же природе добровольно, Пока она не овладела вами!После этого Эмпедокл излагает программу преобразования жизни в Агригенте на демократической основе. И как ни просят его остаться народ и Критий («Лишь если будешь рядом ты, в народе, // Как плод, созреет новая душа»), Эмпедокл неумолим, хотя и раздираем противоречивыми чувствами:
Прощайте! Смертный с вами говорил, Который в этот час был раздираем Любовью к вам, о люди, и к богам, Его к себе призвавшим. В миг прощанья Наш дух способен будущее зреть. Правдивы уходящие навеки.Возвращение народом Эмпедоклу своей любви, равно как и решение героя уйти из жизни, – самое алогичное и неисповедимое в трагедии. Одно из объяснений этой алогичности, и очень глубокое, дает А. В. Карельский: «Почему вдруг признан Эмпедокл? Почему Гермократ вдруг из врага превратился в друга? Гёльдерлину в этой сцене не до формально-драматургических мотивировок. Это – в сфере переживаний, психологической ситуации самого автора. Белые нитки и швы его не волнуют. Автор почти насильственно вызывает призрак единения, союза между гением и массой. Эмпедокл будит в соотечественниках веру в собственные силы, веру в демократическое устройство общества. Но просто примирение невозможно. Эмпедокл все равно считает себя обязанным умереть. Читатель возвращается, свершив круг, к исходной загадке. Жертвуя собой, оставляя людям свое сердце, Эмпедокл чувствует себя на вершине счастья. После того, как люди вернули ему любовь, он хочет “остановить мгновение”, он не хочет спуститься ниже в этой земной жизни. Кроме того, драма “сама себя сняла” (Гегель). Эмпедокл вновь чувствует свою божественность и не ощущает своей вины. Нельзя требовать от этой драмы формальной логики. Здесь одна сцена противоречит другой, перед нами – неразрешимость во плоти».
Действительно, эта «неразрешимость во плоти» до конца не отпускает Эмпедокла, как, по-видимому, не отпускала она самого Гёльдерлина: страстная любовь к земному бытию и к людям – и ощущение чуждости своей и этому миру, и людям. Только в Эмпедокле гораздо больше гордыни и стремления увековечить свой триумф, опасения нового падения. Одновременно совершенно очевидно, что он навсегда хочет впечатать в души и память людей нравственный урок, как и Сократ:
…час очищенья пробил, Пока не поздно, обрести могу Я в новой юности свое спасенье; Не должен друг бессмертных стать предметом Людских издевок, злобы и насмешек. …Не требуйте же, люди, возвращенья Того, кто вас любил, но как чужой Жил среди вас и лишь на краткий срок Родился в мир. Не требуйте, чтоб смертным Принес он в жертву душу и святыню! Прощанье наше горькое прекрасно. Я б отдал то, что мне всего дороже, Вам, дети, – сердце сердца моего. Что я могу вам дать еще?И вот уже Эмпедокл на вершине Этны готовится высшему мигу своего бытия – соединению с его истоками:
Теперь наступит ночь – и темнотою Укроет мне главу. Но из груди, Ликуя, рвется пламя. О тоска По страшному!.. От смерти жизнь опять Воспламенится, ты же, о природа, Ты чашу мне даешь, в которой, пенясь, Клокочет ужас, чтобы жрец твой мог Испить последний из земных восторгов! Доволен я, и больше ничего Не нужно мне, – лишь тот алтарь, где в жертву Я мог бы принести себя. Я счастлив.Великую жертву Эмпедокла по достоинству оценила великая и чуткая душа Пантеи, в монологе которой, в самой его ритмике, словно бы оживает мощный дух греческой трагедии:
Он нисходит в торжественном блеске — И все радостней, все лучезарней вокруг. Отчего же скорблю? Нисходя Лучезарной звездою, Светит он и душе моей темной, Он, любимец твой светлый, природа! Те, кто смерти боится, не любят тебя, Страх их гложет и им закрывает Глаза; и не бьется их сердце На груди твоей, И они засыхают Вдали от тебя, о мир! О священный, живой! В благодарность тебе, Чтобы славить тебя, О не знающий смерти, Жемчуга он, бесстрашный, бросает В морскую пучину, В которой родились они. Это свершиться должно. Этого требует дух И время, которое зреет, Ибо мы ждали, слепые, Свершения чуда.И Павсаний, ближе всех знавший Эмпедокла, самый верный его ученик и преемник, вторит Пантее: «Велик божественный дух, и велик // В жертву принесший себя». Эти финальные строки незавершенной трагедии свидетельствуют о ненапрасности жертвы Эмпедокла, о том, что он свершил ее во имя людей.
Как считает А. В. Карельский, «не судьбу Эмпедокла толкует Гёльдерлин, но стремится на его примере разобраться в своей собственной судьбе. Поэтому пьеса принципиально незавершена: Эмпедоклу еще не настало время броситься в Этну». Собственной «Этной» Гёльдерлина стала его башня над Неккаром, ведь, по его словам, «тот, через кого говорил дух, должен вовремя уйти». Что прозревал великий поэт во тьме безумия, в которой, возможно, он был более зрячим, чем другие? По мысли А. В. Карельского, Гёльдерлин создал в «Эмпедокле» одну из самых ярких моделей романтического сознания и «в своем одиночестве рассчитал все на несколько ходов вперед – вплоть до жестокого крушения романтической мечты, до перелома утопии в трагедию».
От «надзвездных сфер» Гёльдерлин указывает путь к людям: «Подобает поэтам, даже духовным, быть мирскими». Проходя ускоренно романтическую парадигму, он преодолевает ее, «стремится додумать до конца логику романтического эгоцентризма и гениоцентризма» (А. В. Карельский). Всем своим творчеством Гёльдерлин демонстрирует открытость миру, а не замыкание на себе, как, например, у Новалиса. «Все приводит меня ко мне самому», – утверждает Новалис, выражая тем самым принцип романтического индивидуализма, субъективизма, гениоцентризма. «То, что мы находим, – уже не мы», – говорит Гёльдерлин устами своей Пантеи, выражая бесконечность поисков тайны бытия, которая превыше произвола гения, как жизнь – совершеннее любого искусства: «О тайна жизни! То, что мы такое // И что мы ищем – не найти того, // А то, что мы находим – то не мы».
Творчество Иоганна Вольфганга Гёте как синтез и вершина немецкого просвещения
Безусловной вершиной немецкого и европейского Просвещения является творчество Иоганна Вольфганга Гёте (Johann Wolfgang Goethe, 1749–1832). Гёте – один из самых необычных феноменов мировой культуры. Это касается в равной степени как его личности, так и творчества, отмеченного художественной мощью и универсализмом. Среди многочисленных откликов на смерть Гёте были и замечательные строки русского поэта Е. А. Баратынского, акцентирующие именно эту универсальность и глубину мирообъемлющего гения Гёте, подлинным масштабом которого были весь мир и весь человек:
Погас! Но ничто не оставлено им Под солнцем живых без привета; На все отозвался он сердцем своим, Что просит у сердца ответа; Крылатою мыслью он мир облетел, В одном беспредельном нашел он предел. Все дух в нем питало: труды мудрецов, Искусств вдохновенных созданья, Преданья, заветы минувших веков, Цветущих времен упованья. Мечтою по воле проникнуть он мог И в нищую хату, и в царский чертог. С природой одною он жизнью дышал: Ручья разумел лепетанье, И говор древесных листов понимал, И чувствовал трав прозябанье; Была ему звездная книга ясна, И с ним говорила морская волна. Изведан, испытан им весь человек! И ежели жизнью земною Творец ограничил летучий наш век И нас за могильной доскою, За миром явлений, не ждет ничего: Творца оправдает могила его.(«На смерть Гёте»)
Гёте обладал чрезвычайно разнообразными талантами: лирический поэт, наделенный, по словам немецкого поэта XX в. И. Р. Бехера, «всеми мелодиями души», и эпический певец, автор эпопей и идиллий, романист, новеллист, драматург, эпиграмматист, искусствовед и театральный критик, актер, режиссер и директор театра, живописец, натурфилософ и естествоиспытатель, чьи исследования и сегодня не утратили своей ценности, знаток минералов и древних монет… Этот список можно продолжать. Кажется, нет такой сферы деятельности, которой не интересовался бы Гёте и в которой он не оставил хотя бы какой-нибудь след. Но самое главное – он обладал талантом жить и быть счастливым, обновлять себя и строить свою судьбу вопреки самой судьбе и неблагоприятным обстоятельствам. Гёте поражает исключительным совпадением в нем масштаба дарования и масштаба личности. Не случайно самые знаменитые образы, им созданные, – Гёц и Вертер, Эгмонт и Вильгельм Мейстер, мудрец Хатем и Фауст – воспринимались уже его современниками (и тем более потомками) как отражение души их творца. Недаром молодой Генрих Гейне, посетив в Веймаре знаменитого поэта, с восхищением писал: «В Гёте действительно во всей полноте ощущалось то совпадение личности с дарованием, какого требуют от необыкновенных людей. Его внешний облик был столь же значителен, как слово, жившее в его творениях…»[305] Эту мысль продолжил Бехер в речи «Освободитель», посвященной 200-летию со дня рождения Гёте: «В своем самом всеобъемлющем и глубоком самораскрытии, какое только когда-либо встречалось, Гёте предстает великим воспитателем человечества и провозвестником нового гуманистического учения. Предстает не в пророчествах и не в поучениях, – воплощая собой новый образ человека, он рисует его с самого себя»[306].
Однако сам поэт не считал свою универсальность и свой талант исключительно собственной заслугой. В 1830 г., за два года до смерти, Гёте сказал слова, которые могут рассматриваться как своего рода завещание: «Что я собой представляю, что я совершил? Все, что я видел, слышал и наблюдал, я собирал и использовал. Мои произведения вскормлены бесчисленными различными индивидуумами – невеждами и мудрецами, людьми с умом и глупцами. Детство, зрелый возраст, старость несли мне свои мысли, свои способности, надежды и взгляды на жизнь. Я часто пожинал то, что сеяли другие. Мои труды – это труды коллективного существа, которое носит имя Гёте». И все же это «коллективное существо», даже если поверить скромному гению, воплотилось в одном человеке, которому удалось стать тем, кем он стал, благодаря тому, что он был на высоте своей эпохи. Не случайно Гёте говорил: «Человек – всегда более или менее орган своего времени». Он был этим чувствительнейшим органом своего времени, его напряженным слуховым и зрительным нервом. В «Разговорах с Гёте в поздние годы жизни» И. П. Эккермана сохранены следующие слова поэта: «Мое большое преимущество – в том, что я родился, когда назрели величайшие мировые события; они происходили в течение всей моей долгой жизни, так что я был живым свидетелем Семилетней войны, затем отделения Америки от Англии и, наконец, всей наполеоновской эпохи и всех последующих событий. Благодаря этому я пришел к совсем другим выводам и взглядам, чем те, которые будут возможны для всех, кто родился сейчас».
Гёте стал свидетелем перелома эпох, кризиса просветительского сознания, становления романтизма. И хотя он относился к последнему настороженно и скептически, романтики считали его одним из своих духовных отцов, а сам великий поэт, шутя, говорил, что это он подсказал романтикам, куда идти и что искать. Все это обусловило сложность творческого метода Гёте, который невозможно отнести ни к одному из направлений или стилей той эпохи. В нем переплетаются и сложно взаимодействуют рококо, барокко, сентиментализм, классицизм (в его классическом варианте, сложившемся в XVII в.), специфический «веймарский классицизм» и даже, как полагают некоторые исследователи, черты преромантизма или самого романтизма. Это позволяет определить индивидуальный творческий метод Гёте как «художественный универсализм» (термин А. А. Аникста[307]).
Во многом сложность и полистал истинность художественной манеры Гёте связаны со сложностью его творческого пути, протянувшегося более чем на шестьдесят лет, – случай, не столь уж частый в литературе. Творческий путь великого поэта наглядно воплощает его собственный знаменитый девиз, являвшийся одновременно его жизненным и художественном кредо: «Stirb und werde!» Эти два императива не так просто перевести на другие языки: «Умри и становись!»; «Умри и пребудь»; «Умри и возродись!» В любом случае он означает вечное движение, преодоление смерти и новое рождение, отрицание себя самого в прежнем качестве и рождение в новом, бесконечное обновление. Этот девиз Гёте в высшей степени передаст своему Фаусту, но и сам будет двигаться в соответствии с ним – по своего рода диалектической спирали.
Гигантский творческий путь Гёте можно условно разделить на две неравные во временном отношении части: 1) конец 60-х гг. XVIII в. -1775 г. (год переезда поэта в Веймар); 2) 1775–1832 гг. Первый период связан в основном с движением «Бури и натиска», т. е. со штюрмерством, одним из лидеров которого являлся Гёте, второй – преимущественно с «веймарским классицизмом», основоположником которого также стал Гёте. Кроме того, веймарский период, как он условно именуется, сам по себе насыщен сложными философско-эстетическими и художественными исканиями и также разделяется на несколько этапов. Финальный этап – начиная с конца 90-х гг. XVIII в. – может быть определен как собственно этап «художественного универсализма», когда все лучшее, что было найдено Гёте в области философии, эстетики и художественного творчества, сливается в едином мощном потоке, образуя новое качество, и в первую очередь – в «Фаусте».
1. Молодой Гёте: начало творческого пути и штюрмерский период
Становление поэта
Иоганн Вольфганг Гёте родился 28 августа 1749 г. во Франкфурте-на-Майне в знатной бюргерской семье имперского советника Иоганна Каспара Гёте. Отец дал своему сыну очень разностороннее домашнее образование, план которого разработал сам: вместе с сестрой Корнелией будущий поэт изучал древние и новые языки, историю, литературу, Библию, живопись, музыку, естественные науки, брал уроки фехтования и в целом занимался физическими упражнениями (последнее было очень важно, ибо мальчик родился с сильной асфиксией и долгое время был очень слабеньким). Таким образом, истоки универсальности личности Гёте были заложены еще в детстве, благодаря отцу; ростки разнообразных талантов не были подавлены, но успешно росли и развивались, чтобы соединиться затем в древо гениальности. Гёте обладал выдающимися способностями и развивал их благодаря упорному труду и невероятной любознательности, позволившими ему проявить себя в самых различных сферах жизни, науки и искусства.
Начало литературной деятельности Гёте приходится на годы его учебы в Лейпцигском университете (1765–1768) – крупнейшем центре немецкого Просвещения. Благотворное влияние на него оказало знакомство с К. Ф. Геллертом, лекции которого он слушал и в доме которого был тепло принят. Первые произведения Гёте были созданы в русле рококо, для которого характерны внимание к частной жизни человека, здоровый гедонизм, вытекающий из «естественной» природы человека, утонченность форм, легкость, игривость, эротизм, ироничность манеры. Все эти черты присутствуют в ранних произведениях Гёте – пьесах «Капризы влюбленного» («Die Laune des Verliebten», 1768), «Совиновники» («Die Mitschuldigen», 1768), в анакреонтических стихотворениях. Особенно в анакреонтике, очень органичной для рококо, выявляется солнечный, искристый, жизнерадостный талант Гёте. Даже изменчивость бытия осмысливается поэтом как бесконечная жажда наслаждения и ожидание счастливых перемен – например, в стихотворении «Смена» (1768), где и уход разлюбившей возлюбленной воспринимается только как предвестие новой любви, подобно тому, как одна ласковая волна сменяется другой:
Лежу средь лесного потока, счастливый, Объятья раскрыл я волне шаловливой, — Прильнула ко мне, сладострастьем дыша, И вот уж смеется, дразня, убегая, Но, ластясь, тотчас набегает другая, И сменою радостей жизнь хороша. И все же влачишь ты в печали напрасной Часы драгоценные жизни прекрасной, Затем, что подруга ушла, не любя. Верни же веселье, мгновеньем играя! Так сладко тебя расцелует вторая, Как первая – не целовала тебя. (Перевод В. Левика)Продолжая традиции Ф. фон Хагедорна и других анакреонтиков, Гёте варьирует классические рокайльные мотивы, насыщая легкие, певучие, звучные строфы тонким эротизмом, как, например, в стихотворении «Первая ночь» (1767), где непременный Амур становится свидетелем брачной ночи, а лирический герой соревнуется с ним в искусстве любви и где откровенная чувственность соединяется с целомудрием и осеняется святостью любви:
В покое брачном, в полумраке, Дрожит Амур, покинув пир, Что могут россказни и враки Смутить постели этой мир. Свечам урок священный задан — Вам чистый трепет передать, Разлит в алькове нежный ладан, Пора любимую обнять. Как сердце бьется в такт старинным Часам, торопящим гостей. Как хочется к устам невинным Припасть всей силою своей. Как долго ждал ты этой встречи И таинств ласковых молил; Амур, залюбовавшись, свечи Наполовину пригасил. Целуешь ты нетерпеливо Лицо, и плечи ей, и грудь, Ее неопытность пуглива, Но страстью можно ли спугнуть? Раздеть ее одним движеньем — Быстрей, чем смог бы сам Амур! И вот, лукаво, но с почтеньем Глаза отводит бедокур (Перевод В. Топорова)Неповторимый поэтический почерк Гёте особенно сказывается в тех стихотворениях, где чувства поэта сливаются с окружающим ландшафтом, одухотворяя и его, и типичную галантную тему – например, в стихотворении «Прекрасная ночь» (1767/1768), построенном на антитезе одной ночи, проведенной с возлюбленной, и тысячи других, бесцветных, не наполненных страстью:
Покидаю домик скромный, Где моей любимой кров. Тихим шагом в лес огромный Я вхожу под сень дубов. Прорвалась луна сквозь чащи: Прошумел зефир ночной, И, склоняясь, льют все слаще Ей березы ладан свой. Я блаженно пью прохладу Летней сумрачной ночи! Что душе дает отраду, Тихо чувствуй и молчи. Страсть сама почти невнятна. Но и тысячу ночей Дам таких я безвозвратно За одну с красой моей. (Перевод А. Кочеткова)Пройдут многие годы, но Гёте сможет удивительным образом сохранить свой, возможно, самый главный талант: умение воспринимать жизнь сразу всеми чувствами, вновь и вновь переживать ее радость и красоту, не утрачивать способности удивляться ее чуду В позднем стихотворении «Парабаза» («Parabase», 1820) поэт скажет: «Immer wechselnd, fest sich haltend, // Nah und fern und fern und nah: // So gestaltend, umgestaltend – // Zum Erstaunen bin ich da» («В вечных сменах сохраняясь, // Было – в прошлом, будет – днесь. // Я, и сам, как мир, меняясь, // К изумленью призван здесь»; перевод Н. Вильмонта).
Н. Н. Вильмонт, известный исследователь творчества Гёте и переводчик его поэзии, писал: «То, что отличает лирику Гёте от лирики его великих и малых предшественников, – это повышенная его отзывчивость на мгновенные, неуловимо-мимолетные настроения; его стремление – словом и ритмом – преображенно отображать живое биение собственного сердца, сраженного необоримой прелестью зримого мира или же охваченного чувством любви, чувством гнева и презрения – безразлично; но, сверх и прежде всего, его способность мыслить и ощущать мир как неустанное движение и как движение же поэтически воссоздавать его»[308] (курсив автора. – Г. С.).
Уже в годы учебы в Лейпциге мысль молодого поэта сосредоточивается на таинственной фигуре Фауста, имя которого мелькает на страницах первых гётевских произведений. Как полагают исследователи, именно в Лейпциге – городе, который сохранил следы присутствия реального исторического Фауста и предания о нем, – складываются первые сцены будущего гётевского «Фауста», и в первую очередь прямо связанные со студенческой жизнью: Фауст и Мефистофель в винном погребке Ауэрбаха, Мефистофель в одежде Фауста дает остроумные и иронические советы не очень сообразительному и настроенному весьма прагматично абитуриенту – «какой бы факультет избрать».
Однако пока что Гёте вынужден прервать учебу: июльской ночью 1768 г. у него пошла горлом кровь. Кровотечение удалось остановить, но состояние молодого человека никак не улучшалось, и 28 августа, в день своего девятнадцатилетия, он вернулся в родительский дом во Франкфурте, где провел два года. Так и осталось невыясненным, что за болезнь поразила поэта, но она все-таки отступила, а он силой своего духа, упорной работой над своим физическим здоровьем сотворил чудо, до конца жизни оставаясь на удивление здоровым и молодым человеком.
Во время двухлетнего пребывания во Франкфурте Гёте подружился и духовно сблизился с Сусанной фон Клеттенберг, принадлежавшей к религиозной секте гернгутеров[309]. Под ее влиянием Гёте всерьез заинтересовался мистикой, магией, алхимией (позднее эти знания скажутся в «Фаусте», в сцене вызывания Духа и не только в ней). Гёте штудирует также книгу известного пиетиста Г. Арнольда «Беспристрастная история Церкви и ересей», которая оказала достаточно сильное влияние на оформление позиции поэта по отношению к Богу, религии,
Церкви. Сохраняя, как и все деисты, веру в существование Творца, Гёте считает религиозное чувство естественным, Божьи законы – естественными законами мироздания и полагает, что, сохраняя веру, человек вовсе не обязательно должен ограничиваться рамками той или иной конфессии и быть человеком воцерковленным. Это ярко отразится в «Фаусте» – и в беседах Фауста с Маргаритой о вере, и в строках, прямо несущих в себе отзвуки чтения книги знаменитого пиетиста:
Немногих проникавших в суть вещей И раскрывавших всем души скрижали Сжигали на кострах и распинали, Как вам известно, с самых давних дней. (Перевод Б. Пастернака)За десять дней до смерти, 11 марта 1832 г., в беседе со своим секретарем И. П. Эккерманом, Гёте произнесет: «“Духа не угашайте”, – говорит апостол. Очень уж много глупостей в установлениях Церкви. Но она жаждет властвовать, а значит, нуждается в тупой, покорной толпе, которая хочет, чтобы над нею властвовали. Щедро оплачиваемое духовенство ничего не страшится более, чем просвещения широких масс. Оно долгое, очень долгое время утаивало от них Библию. И правда, что должен был подумать бедный человек, принадлежащий к христианской общине, о царственной роскоши богато оплачиваемого епископа, прочитав в Евангелии о бедной и скудной жизни Христа, который ходит пешком со своими апостолами, тогда как князь Церкви разъезжает в карете шестериком»[310]. Здесь устами Гёте говорит дух пиетизма и одновременно дух истинного Просвещения.
Тем не менее Гёте с его пытливым умом не мог остаться в рамках пиетизма, в котором весьма часто набожность становилась самоцелью. Великий поэт скажет позднее в «Максимах и рефлексиях»: «Те, кто видит в набожности самоцель и конечное назначение, обычно впадают в ханжество». Для Гёте ничего не было противнее религиозного ханжества, любой конфессиональной ограниченности. В той же предсмертной беседе, мечтая о грядущей духовной свободе немцев и всего христианского мира, Гёте сказал: «Не будет долее существовать и убогое протестантское сектантство, а вместе с ним – вражда и ненависть отца к сыну, брата к сестре. Ибо когда человек усвоит и постигнет чистоту учения и любви Христовой, он почувствует себя сильным и раскрепощенным и мелкие различия внешнего Богопочитания перестанут его волновать. Да и все мы мало-помалу от христианства слова и вероучения перейдем к христианству убеждений и поступков»[311]. Более того, Гёте как истинный сын Века Разума приходит к убеждению, что Божественная истина – прерогатива не только христианства, что человек в целом не должен оцениваться ни по сословной, ни по конфессиональной принадлежности. Ускорило осознание этого общение с И.Г. Гердером, который не раз повторял своему младшему другу, что неизменна не буква догматики, но те великие духовные силы, которыми Бог наделил человека, что подобно тому как в древности посланцами Бога являлись Моисей, Иов и Давид, так теперь ими являются Ньютон, Лейбниц и другие великие, оставившие замечательный след в культуре. Эккерман сообщает все о той же предсмертной беседе с Гёте: «Теперь уже разговор коснулся великих людей, живших до Рождества Христова среди китайцев, индусов, персов и греков, в которых Божественное начало проявлялось с не меньшей силой, чем в великих иудеях Ветхого Завета. Из этого разговора возник вопрос, как являет себя Божественная сила в великих того мира, в котором мы сейчас живем. “Если послушать людей, – сказал Гёте, – то, право же, начинает казаться, будто Бог давным-давно ушел на покой, человек целиком предоставлен самому себе и должен управляться без помощи Бога, без Его незримого, но вечного присутствия. В вопросах религии и нравственности вероятность вмешательства Господня еще допускается, но никак не в искусстве и науке, – это, мол, дела земные, продукт чисто человеческих сил, и только. Но пусть кто-нибудь попытается с помощью человеческой воли и силы создать что-либо, подобное тем творениям, над которыми стоят имена Моцарта, Рафаэля или Шекспира. Я отлично знаю, что, кроме этих троих великих, во всех областях искусства действовало множество высокоодаренных людей, которые создали произведения, не менее великие. Но, не уступая им в величии, они, следовательно, превосходят заурядную человеческую натуру и так же боговдохновенны, как те трое. Да и повсюду что мы видим? И что все это должно значить? А то, что по истечении шести воображаемых дней творения Бог отнюдь не ушел от дел, напротив, Он неутомим, как в первый день. Сотворить из простейших элементов нашу пошлую планету и из года в год заставлять ее кружиться в солнечных лучах, вряд ли бы это доставило Ему радость, не задумай Он на сей материальной основе устроить питомник для великого мира духа. Так этот дух и доныне действует в высоких натурах, дабы возвышать до себя натуры заурядные”»[312]. Вера в то, что великий дух – дар Духа Божьего – действует через художника, гения, являлась непреложной для Гёте с юности, с того времени, когда он, наряду с Гердером, стал одним из идейных вождей и вдохновителей движения «бурных гениев».
Новый виток творческого развития Гёте начинается с переездом в Страсбург летом 1770 г., чтобы продолжить учебу в Страсбургском университете. Здесь, в Страсбурге, бывшем немецком Эльзасе, который стал областью Франции, немцы в первую очередь чувствуют себя немцами, не расколотыми на баварцев, саксонцев и т. д. Здесь как нигде талантливая молодежь ощущала единство немецкого духа, болела за самобытный путь развития немецкой культуры. Кружок молодых талантов группировался вокруг Иоганна Готфрида Гердера. Встреча с этим человеком, который на всю жизнь стал одним из ближайших друзей Гёте, произвела самый настоящий переворот в душе и сознании молодого поэта. Гердер, которого еще во время его учебы в Кёнигсберге Иммануил Кант назвал «бушующим гением», поразил Гёте вдохновенностью, резкой критичностью по отношению к действительности, неутомимыми поисками нового. Все эти качества его личности предстанут перед читателем в образах Фауста и Мефистофеля, но прежде всего именно фаустовский дух вечного движения, неудовлетворенности собой, неустанного поиска истины жил в сердце молодого человека, который уже тогда, в момент встречи в Страсбурге со своим младшим другом, был духовным лидером движения «Бури и натиска».
Гердер, создатель философской и эстетической базы штюрмерства, познакомил Гёте с новыми идеями. Родоначальник исторического подхода к искусству, он открыл своему младшему другу понимание национального своеобразия литературы каждого народа, обусловленности ее развития на каждом этапе определенными историческими причинами – и вместе с тем глубочайшее единство всей мировой культуры. Стремление Гердера создать единую историю философии и культуры (во многом осуществившееся в его философских, литературоведческих и фольклористических трудах) стимулировало выработку понятия «мировая литература», сформулированного позднее Гёте. В мироощущении Гердера Гёте привлекает также его спинозизм – взгляд на природу и – шире – универсум как на целостную, динамичную, вечно живую субстанцию, в каждой частице которой присутствует Творец (влияние Спинозы и далее остается чрезвычайно важным для Гёте). Благодаря Гердеру Гёте тщательно штудирует Дидро и Руссо. Руссоистский культ природы и чувства, страстный протест против сословного неравенства чрезвычайно важны для молодого Гёте.
Гердер также по-настоящему открывает для него Шекспира как величайший образец «самобытного гения». В статье «Ко дню Шекспира» («Zum Shakespears Tag», 1771) Гёте пишет, каким потрясением было для него это открытие: «Первая же страница Шекспира, которую я прочел, покорила меня на всю жизнь, а одолев первую его вещь, я стал как слепорожденный, которому чудотворная рука вдруг даровала зрение» (здесь и далее перевод Н. Ман)[313]. Герои Шекспира становятся для Гёте олицетворением естественности и жизненной полноты, воплощением самой природы. Он не щадит даже Вольтера за его неприятие Шекспира, равно как и не принимающих его немецких классицистов: «Вольтер, сделавший своей профессией чернить великих мира сего, и здесь проявил себя подлинным Ферситом. Будь я Улиссом, его спина извивалась бы под моим жезлом. Для большинства этих господ камнем преткновения служат прежде всего характеры, созданные Шекспиром. А я восклицаю: природа, природа! Что может быть больше природой, чем люди Шекспира!»[314]
Через Гердера Гёте познакомился также с «философией чувства и веры» И. Г. Гамана. Идеи «северного мага» (как называли Гамана, жившего в Кёнигсберге) о единстве вселенской жизни, органичной целостности универсума, который можно охватить не столько разумом, сколько интуитивным переживанием, а также мысли о первичности и первоначальности чувств, о том, что эмоционально-образное мышление, поэзия – «изначальный язык рода человеческого», оказали сильное влияние на мироощущение не только Гердера, но и Гёте. Гердер же привил своему младшему другу глубокий интерес и любовь к фольклору, и не только немецкому, а также к древним культурам и литературам Востока, к библейской поэзии.
Под влиянием Гердера и Гамана написана программная статья Гёте-штюрмера «О немецком зодчестве» («Von deutscher Baukunst», 1771), опубликованная Гердером в сборнике «О немецком духе и искусстве» (1773), ставшем самым важным манифестом движения «Бури и натиска». Статья Гёте – восторженный гимн создателю Страсбургского собора Эрвину фон Штейнбаху, а на самом деле – гимн творческой фантазии гения, которая не может быть ограничена никакими правилами и канонами, которая есть проявление Духа Божьего через дух художника: «Чем больше искусство проникает в сущность духа, так что кажется, будто оно возникло вместе с ним и ничего больше ему и не нужно, и ничего другого он создать не может, тем счастливее художник, тем совершеннее его творения, тем ниже преклоняем мы колена перед ним, помазанником Божьим» (перевод Н. Ман)[315].
В Страсбурге Гёте становится одним из вождей «Бури и натиска». В штюрмерский период творчества им созданы многочисленные лирические стихотворения, драма «Гёц фон Берлихинген с железной рукой» («Götz von Berlichingen mit eisernen Hand», 1771–1773), роман «Страдания юного [молодого] Вертера» («Die Leiden des jungen Werthers», 1774). В эти же годы начинается упорная работа над сюжетом о Фаусте, и Гёте еще не знает, что она продлится до конца его жизни. Пока же то, что создано, – трагедия, написанная импульсивной штюрмерской прозой, – кажется завершенным. Впоследствии, однако, первый «Фауст» (исследователи назовут его «Urfaust» – «Прафауст») в переработанном виде (прежде всего переведенном в стихотворную форму) станет первой частью окончательного «Фауста».
Лирика штюрмерского периода
Одним из самых удивительных явлений немецкой и мировой поэзии стала лирика молодого Гёте, в которой впервые с необычайной непосредственностью и глубиной раскрылся духовный мир молодого человека, «бурного гения», исполненного неукротимых страстей и стремлений, выразились различные состояния его души, ощущение органичного единства с природой и мировым целым, тонкость чувств, мимолетных впечатлений и невероятная творческая мощь. В лирике Гёте штюрмерского периода отчетливо выделяются и одновременно переплетаются две тенденции, коррелирующие с двумя различными жанровыми формами. Первая из них, по сути, основанная Гердером и Гёте, связана с небольшим по размерам лирическим стихотворением, которое, подобно мгновенному фотоснимку, передает состояние души, тончайшие нюансы чувств и одновременно стремится к выразительной простоте, к песенному строю (к этому же разряду лирики примыкают и стихотворения-песни, стилизованные в жанре народной баллады и продолжающие традицию Г. А. Бюргера). Вторая тенденция является продолжением новаторских поисков Ф. Г. Клопштока и связана с жанром философского гимна в свободных ритмах (в форме верлибра). Однако и в том и в другом случае, и в кажущейся простоте и акварельной прозрачности песенной формы, и в сложнейшем прихотливом рисунке философского гимна лирический герой Гёте, его безусловное alter ego, предстает как «бурный гений», наделенный невероятной активностью, неукротимой жаждой жизни, страстным стремлением к неизведанному.
Именно Гёте первым осуществил мечту Гердера о создании поэзии, близкой по форме, духу, языку народной песне, первым в таких больших масштабах начал традицию тонкой стилизации фольклорных песен и баллад, написанных народным немецким дольником (акцентным тоническим стихом), и тем самым проторил дорогу немецким романтикам, особенно представителям гейдельбергской школы (прежде всего – Л. А. фон Арниму и К. Брентано с их «Волшебным рогом мальчика»). Недаром некоторые стихотворения молодого Гёте действительно стали народными песнями: «Дикая розочка» («Heidenröslein», 1771), «Фиалка» («Das Veilchen», 1773), «Фульский король» («Der König von Thule», 1774), «Спасение» («Rettung», 1774) и др. Они отличаются сочетанием необычайной легкости интонации и глубины чувств, мастерским использованием аллитераций и ассонансов, рефренов и ретрементов:
Мальчик розу увидал, Розу в чистом поле, К ней он близко подбежал, Аромат ее впивал, Любовался вволю. Роза, роза, алый цвет, Роза в чистом поле! («Дикая роза». Перевод Д. Усова)Даже в неплохом переводе не удалось вполне сохранить особую звукопись оригинала, особенно рефрена, где на фоне необычайно мягко и нежно звучащего уменьшительного суффикса – lein в слове Röslein («розочка») шестикратно повторяется твердый звук [г]: «Röslein, Röslein, Röslein rot, // Röslein auf der Heiden» («Розочка, розочка, розочка красная, // Розочка на пастбище [в поле]». – Подстрочный перевод наш. – Г. С.).
Прекрасную балладу о фульском короле («Es war ein König in Thule…» – «Король жил в Фуле дальной…»), о его верности своей таинственной возлюбленной, в память о которой он хранил ее прощальный дар – золотой кубок, Гёте вложит позднее в уста своей Гретхен, через эту песенку выразив силу ее любви к Фаусту и надежду на взаимность этой любви:
…Когда он пил из кубка, Оглядывая зал, Он вспоминал голубку И слезы утирал. И в смертный час тяжелый Он роздал княжеств тьму И все, вплоть до престола, А кубок – никому. Со свитой в полном сборе Он у прибрежных скал В своем дворце у моря Прощальный пир давал. И кубок свой червонный, Осушенный до дна, Он бросил вниз с балкона, Где выла глубина. В тот миг, когда пучиной Был кубок поглощен, Пришла ему кончина, И больше не пил он. (Перевод Б. Пастернака)В небольшой балладе «Перед судом» («Vor Gericht», 1775), представляющей своего рода параллель – но с другим исходом – к истории Гретхен в «Фаусте», безымянная героиня, бедная девушка, родившая ребенка вне брака и заклейменная как «грязная шлюха», отстаивает свою честь и любовь и дает достойный ответ неправедному суду:
…А вот и не так: Я честно всю жизнь жила. Я вам не скажу, кто возлюбленный мой, Но знайте: он добр был и мил, Сверкал ли цепью он золотой Иль в шляпе дырявой ходил. И поношения и позор Приму на себя сейчас. Я знаю его, он знает меня, А Бог все знает про нас. Послушай, священник, и ты, судья, Вины никакой за мной нет. Мое дитя – есть мое дитя! Вот вам и весь мой ответ!(Перевод Л. Гинзбурга)
Одной из вершин немецкой поэзии стали «Зезенгеймские песни» («Sesenheimer Lieder», 1770–1771), навеянные свежим и радостным чувством молодого Гёте к Фрид ерике (Рике) Брион (Friederike Brion), дочери пастора из деревушки Зезенгейм под Страсбургом. Эти стихотворения отличает столь личностный характер, что многие из них были опубликованы только после смерти поэта. В «Зезенгеймских песнях» с необычайной силой передана ликующая мощь любви, преображающая и самого влюбленного, и внешний мир, заставляющая его сверкать ослепительно яркими красками, как, например, в стихотворении «Проснись, Фридерика…» («Erwache, Friederike…», 1771; в переводе В. В. Левика – «Фридерике Брион»), исполненном неудержимого порыва и властных императивов любви, нежных укоров возлюбленной, проспавшей свидание, и страстных признаний:
В сознании и сердце влюбленного (между ним и поэтом – никакой дистанции, отсюда – предельная искренность чувств) соловьиный плач-томление вливается в его песнь любви, а возлюбленная – простая сельская девушка, естественная, как сама природа, сливается с образом Музы (Камены):
Erwache, Friederike, Vertreib die Nacht, Die einer deiner Blicke Zum Tage macht. Der Vögel sanft Geflüster Ruft liebevoll, Dass mein geliebt Geschwister Erwachen soll. Ist dir dein Wort nicht heilig Und meine Ruh‘? Erwache! Unverzeihlich — Noch schlummerst du! Horch, Philomelas Kummer Schweigt heute still, Weil dich der böse Schlimmer Nicht meiden will. …Ich seh‘ dich schlummern, Schöne, Vom Auge rinnt Mir eine süsse Träne Und macht mir blind. Wer kann es fühllos sehen, Wer wird nicht heiss, Und wär‘ er von der Zehen Zum Kopf von Eis! Проснись, восток белеет! Как яркий день, Твой взор, блеснув, развеет Ночную тень. Вот птицы зазвенели! Будя сестер, Поет: «Вставай с постели!» Их звонкий хор. Ты слов не держишь, видно, Я встал давно. Проснись же, как не стыдно! Открой окно! Чу, смолкла Филомела! Всю ночь грустя, Она смутить не смела Твой сон, дитя. …Ты спишь! Иль нежной снится — О, счастье! – тот, Кто здесь, бродя, томится И муз клянет, Краснеет и бледнеет, Ночей не спит, Чья кровь то леденеет, То вновь кипит. (Здесь и далее перевод В. Левика)В сознании и сердце влюбленного (между ним и поэтом – никакой дистанции, отсюда – предельная искренность чувств) соловьиный плач-томление вливается в его песнь любви, а возлюбленная – простая сельская девушка, естественная, как сама природа, сливается с образом Музы (Камены):
Die Nachtigall im Schlafe Hast du versäumt, So höre nun zur Strafe, Was ich gereimt. Schwer lag auf meinem Busen Des Reimes Joch: Die schönste meiner Musen, Du – schliefst ja noch. Ты проспала признанья, Плач соловья, Так слушай в наказанье, Вот песнь моя! Я вырвался из плена Назревших строф. Красавица! Камена! Услышь мой зов!Подчеркивая новаторство ранней лирики Гёте, Т. Манн писал: «Как все это было ново, сколько здесь чудесной свободы, мелодичности и красочности, как под бурным порывом этих ритмов летела пудра с рационалистических париков!»[316] В своей любовной лирике Гёте акцентирует в первую очередь естественность чувства и естественность самой поэтической мелодии, непросредственно изливающейся из сердца, всегда несущей отпечаток его лихорадочного биенья, его радости или тоски:
Скоро встречу Рику снова, Скоро, скоро обниму. Песня вновь плясать готова, Вторя сердцу моему. …Мучусь скорбью бесконечной, Если милой нет со мной, И глубокий мрак сердечный Не ложится в песен строй. («Скоро встречу Рику снова…» Перевод А. Кочеткова)Даже традиционные мотивы рокайльной поэзии, отчасти сохраняющиеся в штюрмерской лирике Гёте, обретают новое дыхание: на глазах читателя буколическая условность декораций, традиционные зефиры и ленты из роз сметаются бурным вихрем истинного чувства, как, например, в стихотворении «С разрисованной лентой» (1771):
И цветочки и листочки Сыплет легкою рукой, С лентой рея в ветерочке, Мне богов весенних рой. Пусть, зефир, та лента мчится, Ею душеньку обвей; Вот уж в зеркало глядится В милой резвости своей. Видит: розы ей убором, Всех юнее роз – она. Жизнь моя! Обрадуй взором! Наградишь меня сполна. Сердце чувства не избудет. Дай же руку взять рукой, Связь меж нами да не будет Слабой лентою цветной. (Перевод С. Шервинского)Одно из самых знаменитых стихотворений зезенгеймского цикла – «Свидание и разлука» («Willkommen und Abschied», 1771), многократно положенное на музыку различными композиторами, в том числе и Ф. Шубертом. Оно создано под непосредственным впечатлением ночных поездок Гёте верхом в Зезенгейм, где в условленном месте, под гигантским дубом за околицей деревушки, он встречался с Рикой. Поэт очень тонко передает лихорадочно-взволнованное состояние влюбленного, стремящегося к своей возлюбленной через ночь, исполненную мистически-сладостного ужаса, его душевный порыв, стук его сердца, обгоняющий стук конских копыт:
Es schlug mein Herz. Geschwind, zu Pferde! Und fort, wild wie ein Held zur Schlacht. Der Abend wiegte schon die Erde, Und an den Bergen hing die Nacht. Schon stund im Nebelkleid die Eiche Wie ein getrümter Riese da, Wo Finsternis aus dem Gesträuche Mir hundert schwarzen Augen sah. Der Mond von einem Wolkenhügel Sah schläfrig aus dem Duft hervor, Die Winde schwangen leise Flügel, Umsausten schauerlich mein Ohr. Die Nacht schuf tausend Ungeheuer, Doch tausendfacher war mein Mut, Mein Geist war ein verzehrend Feuer, Mein ganzes Herz zerfloss in Glut. Душа в огне, нет силы боле, Скорей в седло и на простор! Уж вечер плыл, лаская поле, Висела ночь у края гор. Уже стоял, одетый мраком, Огромный дуб, встречая нас; И тьма, гнездясь по буеракам, Смотрела сотней черных глаз. Исполнен сладостной печали, Светился в тучах лик луны, Крылами ветры помавали, Зловещих шорохов полны. Толпою чудищ ночь глядела, Но сердце пело, несся конь, Какая жизнь во мне кипела, Какой во мне пылал огонь! (Здесь и далее перевод Н. Заболоцкого)Никакие ночные ужасы не могут остановить влюбленного, наоборот – они стократно усиливают любовь:
В моих мечтах лишь ты носилась, Твой взор так сладостно горел, Что вся душа к тебе стремилась И каждый вздох к тебе летел. И вот конец моей дороги, И ты, овеяна весной, Опять со мной! Со мной! О боги! Чем заслужил я рай земной?Позднее Гёте скажет: «Близость возлюбленной сокращает время». Однако этот великий закон любви он сформулировал уже в «Свидании и разлуке», навсегда ставшем одним из лучших образцов любовной лирики в мировой поэзии вообще. Слишком быстро пролетает сладостная ночь свидания, счастье сменяется тоской разлуки, но последняя – столь жизнерадостно мировосприятие молодого Гёте – призвана только усилить предвкушение нового свидания, ощущение безмерного счастья любить и быть любимым:
Но – ах! – лишь утро засияло, Угасли милые черты. О, как меня ты целовала, С какой тоской смотрела ты! Я встал, душа рвалась на части, И ты одна осталась вновь… И все ж любить – какое счастье! Какой восторг – твоя любовь!Показательно, что даже самая интимная лирика у Гёте не может замкнуться в узком, камерном мирке, она властно требует простора, ей нужны величие и неистовость чувств, захлестывающих душу, переливающихся через край. Особенно ощутимо это в знаменитой «Майской песне» («Mailied»; первоначально – «Maifest» – «Майский праздник», 1771), где буйно расцветающая природа и душа влюбленного человека, его могучий дух сливаются в едином неукротимом порыве к счастью, к блаженству любви, осмысливающейся как универсальный Божественный закон мироздания, как великая творящая сила:
Как все ликует, Поет, звенит! В цвету долина, В огне зенит! Трепещет каждый На ветке лист, Не молкнет в рощах Веселый свист. Как эту радость В груди вместить! — Смотреть! и слушать! Дышать! и жить! Любовь, роскошен Твой щедрый пир! Твое творенье — Безмерный мир! Ты все даришь мне: В саду цветок, И злак на ниве, И гроздный сок!.. Скорее, друг мой, На грудь мою! О, как ты любишь! Как я люблю! Как я люблю!(Перевод А. Глобы)Предельно короткие строки, перенасыщенные восклицаниями и эмоциональными возгласами, апофатическими взываниями, как нельзя лучше передают экстатическое, восторженное состояние человеческого духа, ощущающего свое растворение в универсуме. И эти же качества гётевского текста делают его труднопереводимым: ни один из существующих переводов на русский язык (в том числе и такого мастера, как А. А. Фет) не передает до конца необычайную динамику и экспрессию этого стихотворения, его великолепную звукопись: «О Lieb, о Liebe! // So golden schön, // Wie Morgenwolken // Auf jenen Höhn!» («О любовь, о любовь! // Такая золотая и прекрасная, // Как утренние облака // Над теми вершинами!» – Подстрочный перевод наги. – Г. С.).
Штюрмерская лирика Гёте не только перенасыщена эмоциями, но и несет в себе глубокую философскую мысль. Прежде всего в ней преломляется панентеизм[317] молодого Гёте, сформировавшийся не только под влиянием Спинозы и Гамана, но и Я. Бёме. Одна из центральных идей философской лирики великого поэта (и она проходит через все его творчество) – идея органичного единства «одного и всего» (позднее стихотворение «Одно и всё»), личности и универсума. Если выразиться словами Ф. И. Тютчева, одним из первых открывшего для русского читателя поэзию Гёте и испытавшего его сильное влияние, это ощущение «всё во мне, и я – во всем». Идея полного слияния человека с природой, пантеистического (или панентеистического) растворения в ней звучит не только в «Майской песне», но и в философском гимне «Ганимед» («Ganymed», 1774). Преображая известный греческий мифологический сюжет о прекрасном юноше, сыне троянского царя Приама, полюбившемся Зевсу, похищенном им с помощью орла и ставшем виночерпием на Олимпе, переосмысливая этот сюжет в библейском духе, поэт изображает экстатическое восхождение человеческого духа ко Вселюбящему Отцу (Богу; в переводе В. В. Левика – Отцу Вседержителю), растворение всего человеческого существа в Божественной Любви:
Hinauf! Hinauf strebt’s. Es schweben die Wolken Abwärts, die Wolken Neigen sich der sehnenden Liebe. Mir! Mir! In eurem Schosse Aufwärts, Umfangend umfangen! Aufwärts An deinen Busen, Alliebender Vater! К вершине, к небу! И вот облака мне Навстречу плывут, облака Спускаются к страстной Зовущей любви. Ко мне, ко мне! И в лоне вашем — Туда, в вышину! Объятый, объемлю! Все выше! К Твоей груди, Отец Вседержитель(Перевод В. Левика)
Вслед за Клопштоком Гёте создает, ориентируясь на греческую хоровую мелику, и прежде всего на Пиндара, великолепные образцы гимнов в свободных ритмах, где нет ни рифмы, ни четко определимого ритма, где все держится на инверсии, на особой выделенное™ слова, на резких анжанбеманах на границах строк и строф. Именно такая форма позволяет полнее передать смелость мысли и ее неожиданных поворотов, неукротимость духовных порывов «бурного гения». В этом смысле особенно показательна «Песнь странника в бурю» («Wandrers Sturmlied», 1772), где «я» поэта-творца предстает в борении со стихиями и в единении с ними, где лирический герой, сила которого – в «пламени сердца», ощущает себя «братом богам»:
Ко мне слетайтесь, музы, Роем радостным! Это – влага, Это – суша, Это – сын текучих вод и суши, Я по ним ступаю, Брат богам! …Рдей! Рдей! Скрытый пламень, Пламень сердца, Мой оплот! (Перевод Н. Вильмонта)К вершинам философской лирики Гёте принадлежит также гимн «Прометей» («Prometheus», 1774) – монолог из задуманной поэтом, но так и не написанной драмы, которая должна была стать продолжением «Прометея Прикованного» Эсхила, исполненного презрения к тирании, воплощенной в образе Зевса. Уцелевший монолог стал восприниматься как самостоятельное стихотворение, более того – как манифест штюрмерского движения, ибо главное в нем – прославление человека-творца, художника, мастера, чье «свято пылающее сердце» («heilig glühend Herz») отдано людям и делу их освобождения от духовного рабства, чей дух противостоит насилию. Весь монолог Прометея – вызов тирану Зевсу и страстный гимн творческой мощи человека, излияние души истинного «бурного гения»:
Кто против буйственных титанов Встал со мной? От близкой смерти кто меня, От рабства спас? Ты не всё ли сам содеял, Сердца жар святой?.. И ты ж – за подвиг свой — Хвалило детски, сердце, Сонливца в небесах! Мне тебя чтить? За что? Боль улегчил ли когда Ты страдальца болящего? Слезы отер ли когда Безутешно скорбящего? В мужа меня отковали Мощных два ковача — Время и Рок изначальный, Мои – и твои – владыки. Мнил ты, быть может, Что жизнь разлюблю я, с досады Уйду в пустыни, — Коль не все сны сердца Встанут въяве? А я вот здесь сижу, людей ваяю, По образу ваяю моему Род, мне подобный, — Страдать, скорбеть, Усладу знать и радость, О тебе ж и не думать, Как я! (Перевод В. Иванова)Финал гимна недвусмысленно свидетельствует о том, что образ античного Прометея преломлен Гёте через призму библейского текста, библейского представления о человеке, который сотворен по подобию Божьему и несет в себе неподвластный уничтожению образ Божий – образ высокой духовности.
Широкую славу Гёте принесла трагедия «Гёц фон Берлихинген с железной рукой», сюжет которой был взят из немецкой истории (в сущности, эта пьеса стала первой немецкой трагедией, написанной на национальный сюжет). Однако Гёте вольно преображает историю, подчиняя сюжет своим идейно-эстетическим задачам. Реальный Гёц фон Берлихинген жил в XVI в., в эпоху крестьянских войн, был мелким рыцарем, сражавшимся против власти князей, но прежде всего за свои собственные интересы. Гёте делает его выразителем патриотических идеалов единой и независимой Германии, защитником угнетенных, обездоленных, обиженных. Он придает своему Гёцу черты «бурного гения», воплощает в его образе штюрмерский идеал вечной активности, неукротимого стремления, неуспокоенности духа. Одновременно Гёте удалось, благодаря творчески воспринятым урокам Шекспира, создать широкую историческую панораму эпохи, своеобразный «фальстафовский» фон, но сугубо немецкий. Пьеса имела огромный успех у публики, особенно молодой. Сильнейшее впечатление на зрителей производила финальная сцена трагедии, в которой перед смертью герой обращается к своим близким и одновременно к зрителям-современникам со словами тревоги за судьбу родины, с предостережением и надеждой на подлинную свободу: «Приходит время обмана, ему дана полная свобода. Негодяи будут править хитростью, и честный попадется в их сети…Небесный воздух… Свобода! Свобода!» (здесь и далее перевод Е. Книпович). Слушая слова умирающего Гёца, его жена Елизавета с горечью замечает по поводу свободы: «Она лишь там, в вышине, с тобою. Мир – темница». В ее уста и в уста сестры героя, Марии, сказанные над телом бездыханного Гёца, Гёте вкладывает обращение к прошлому, настоящему и будущему Германии: «Благородный муж! Благородный муж! Горе веку, отвергнувшему тебя!…Горе потомству, если оно тебя не оценит!» Эти слова выражали прямую надежду на то, что молодое поколение чему-нибудь научится благодаря урокам прошлого. Именно после появления «Гёца» Гёте становится признанным вождем штюрмерского движения, а само движение приобретает общенациональный размах.
Роман «Страдания юного Вертера»
Однако подлинной вершиной штюрмерского периода творчества Гёте стал роман «Страдания юного Вертера» – один из самых ярких романов немецкого и – шире – европейского Просвещения, одно из самых значительных произведений сентиментализма. В небольшом по объему романе автору удалось воплотить очень многое, выразить дух времени, устремления молодого поколения, глубоко раскрыть внутренний мир человека, передать обостренное ощущение красоты жизни и одновременно ее трагизма, несовместимости с ней, чувство неудовлетворенности окружающим и страстную жажду перемен, столь свойственную юности. Может быть, именно поэтому роман произвел такое сильное впечатление на современников и продолжает воздействовать на потомков. Он стал первым произведением немецкой литературы, снискавшим ей всемирную славу: его семь раз перечитывал Наполеон, из далекого Китая Гёте получал в подарок фарфор, расписанный сюжетами из «Вертера».
«Вертер» был для Гёте произведением глубоко интимным, кровно пережитым, ибо в нем отразилось слишком многое из лично испытанного им. «Это создание, – говорил писатель, – я, как пеликан, вскормил кровью собственного сердца[318] и столько в него вложил из того, что таилось в моей душе, столько чувств и мыслей, что, право, их хватило бы на десяток таких томиков»[319]. Гёте свидетельствует также, что он очень долго, практически до преклонных лет, боялся перечитывать свой юношеский роман, боялся вновь пережить те пограничные состояния души и сознания, которые отразились в романе, боялся потревожить ту боль, которая излилась на его страницы и стала болью целого поколения: «…я всего один раз прочитал эту книжку, после того как она вышла в свет, и поостерегся сделать это вторично. Она начинена взрывчаткой! Мне от нее становится жутко, и я боюсь снова впасть в то патологическое состояние, из которого она возникла»[320]. Возможно, Гёте потому и остался в живых и прошел такой долгий путь, что ушел из жизни его Вертер. «Личные, непосредственно меня касающиеся треволнения, – говорил Гёте, – подстегивали меня к творчеству и повергали в то душевное состояние, из которого возник “Вертер”. Я жил, любил и очень страдал!»[321]
Когда весной 1772 г., после окончания университета, Гёте приехал в Вецлар и поступил на практику в имперский суд, он нашел утешение от провинциальной скуки в пылкой любви к дочери местного чиновника Шарлотте Буфф (ее имя и получила героиня романа – Лотта). Однако Лотта была обручена с секретарем посольства Альбертом Кестнером, с которым Гёте связывали дружеские отношения. Поэт все больше ощущал, что его чувство вырывается из-под контроля и может принести несчастье дорогим его сердцу людям. В результате он неожиданно уехал из Вецлара, оставив друзьям записку: «Он ушел, Кестнер. Когда вы получите эти строки, так знайте, что он ушел… Теперь я один и вправе плакать. Оставляю вас счастливыми, но не перестану жить в ваших сердцах»[322]. Позже, после приезда в родной Франкфурт, Гёте узнал о трагической истории своего коллеги по службе в вецларском суде – молодого чиновника Иерузалема. Тот полюбил замужнюю женщину, жену своего сослуживца, и, не видя выхода, покончил жизнь самоубийством. Эта весть поразила Гёте, напомнила ему его собственную ситуацию, которая могла закончиться так же. Писатель решил соединить две частные истории, наполнив этот сплав более широким смыслом. Так возник замысел «Вертера» – романа в письмах, а точнее – лирического дневника, исповеди души. Избранная Гёте эпистолярная форма как нельзя лучше способствовала чрезвычайной искренности повествования и отчетливо напоминала читателю о великом романе Ж. Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1760) – самом популярном романе XVIII – начала XIX в. Гёте и выступил в своем романе как гениальный ученик Руссо – ученик, не менее полно, чем учитель, воплотивший в своем романе философию чувства и проблемы эпохи.
«Вертер» – это великая книга о любви, и, быть может, тем более великая, что совсем небольшая по размерам. Однако о ней можно было бы сказать словами А. А. Фета о сборнике стихотворений Ф. И. Тютчева: «Вот эта книжка небольшая // Томов премногих тяжелей». Дело, безусловно, не в объеме романа Гёте, но в степени концентрации чувства и мысли, духовной энергии. Тем не менее, несмотря на внешнюю интимность и камерность, исповедальность и предельную искренность тона, и ныне поражающую читателя, «Вертера» нельзя считать всего лишь психологическим романом о любви. Автор сумел вдохнуть в частную историю глубокий философский и социальный смысл, поставив в центр своего произведения проблему личности (и прежде всего одаренной, талантливой личности) и общества – вечную проблему жизни и искусства. «Страдания юного Вертера» можно определить как социально-психологический роман (именно этот жанр был наиболее органичен для сентиментализма). Страдания Вертера проистекают не только из неосуществимой и сжигающей его любви. Они глубоко коренятся в ощущении собственной бесполезности, ненужности обществу, в несовместимости свободного талантливого человека и предельно несвободного социума, в котором всему лучшему суждена гибель. Не случайно Пушкин назвал Вертера «мучеником мятежным» («И Вертер, мученик мятежный…»), а Т. Манн отнес роман к тем книгам, которые «предрекли и подготовили Французскую революцию»[323]. При этом великий немецкий писатель XX в., безусловно, имел в виду революционизацию сознания, понимание невозможности подлинной свободы в обществе, разделенном нелепыми сословными барьерами и управляемом тиранически. Сам Гёте совершенно негативно относился к революционным методам изменения действительности и осудил Французскую революцию, особенно диктатуру Робеспьера и якобинский террор. Тем не менее он с горечью констатировал закономерность подобных взрывов при таком неразумном общественном устройстве, при полной бездарности властей. Впрочем, и сам Вертер говорит о себе как о «мятущемся мученике».
Вертер, несомненно, не революционер, но он открывает собой в европейской литературе галерею образов так называемых лишних людей, обостренно ощущающих недовольство состоянием мира, и в этом ряду – Рене Ф. Р. Шатобриана, Адольф Б. Констана, герой «Исповеди сына века» А. де Мюссе, Оберман Э. П. де Сенанкура, Чайльд Гарольд Дж. Г. Байрона, Онегин А. С. Пушкина, Печорин М. Ю. Лермонтова… Не случайно А. В. Карельский, размышляя о герое романа Шатобриана «Рене» и подчеркивая, что он – «один из первых в европейской романтической литературе носителей “болезни века”… меланхолии», замечает: «…гётевский Вертер – его предок по прямой линии…»[324] По словам исследователя, «Оберман» Сенанкура «часто рассматривался лишь как французская вариация на вертеровскую тему»[325]. Однако от всех этих героев Вертера отличает наличие в нем – кроме черной меланхолии и жажды саморазрушения, выявляющихся во второй половине романа, кроме пафоса противостояния миру – великой гармонии, преизбыточного энтузиазма, конструктивной, созидательной мощи, способности любить и жертвовать собой. В Вертере предугадан также герой-энтузиаст иенских романтиков и Э. Т. А. Гофмана. Подчеркивая отличие романтического героя от героя Гёте, А. В. Карельский тонко отмечает, что, с одной стороны, «за его внешней отрешенностью от земного кипит еле скрываемая гордыня, жажда вполне посюстороннего признания и поклонения, внутренняя тяжба с враждебным социумом», но, с другой стороны, «“неосуществимость желаний” как причина меланхолии нигде не подтверждается реальным личным и общественным опытом, как это было в “Вертере”, она предстает априорной»[326]. Исследователь справедливо полагает: «И та и другая черты знаменуют собой отклонения от традиционной сентименталистской основы в сторону романтического “гениоцентризма”, для которого внешний мир мыслится как заведомо враждебный и достойный отрицания целиком, без погружения в детали»[327].
Вертер – подлинно сентименталистский герой, «самобытный гений» в гердеровском понимании этого выражения, гений по своему творческому потенциалу и прежде всего по своей способности чувствовать все богатство и красоту бытия, открывать в чувстве свое единство с жизнью универсума, по своей способности любить и в любви подниматься на недосягаемую высоту чистой экзальтации и самопожертвования. И хотя сентименталисты считали, что все люди в равной степени наделены способностью чувствовать, что чувство уравнивает всех, все же любить так, как Вертер, и ощущать жизнь так, как Вертер, могут только особенные души.
Естественная жизнь в согласии с природой и собственным сердцем – вот идеал Вертера, руссоистско-гердеровский идеал. Вертер почти физически ощущает свою связь с таинственной жизнью вселенной, созданной необычайно гармонично. В картинах природы, преломленных через сознание и эмоциональный мир героя, наиболее полно выразился спинозизм молодого Гёте – ощущение присутствия Бога во всем Его творении, от великого небесного огня до самой малой букашки, самой хрупкой травинки: «Когда от милой моей долины поднимается пар и полдневное солнце стоит над непроницаемой чащей темного леса и лишь редкий луч проскальзывает в его святая святых, а я лежу в высокой траве у быстрого ручья и, прильнув к земле, вижу тысячи всевозможных былинок и чувствую, как близок моему сердцу крошечный мирок, что снует между стебельками, наблюдаю эти неисчислимые, непостижимые разновидности червяков и мошек и чувствую близость Всемогущего, создавшего нас по Своему подобию, веяние Вселюбящего, судившего нам парить в вечном блаженстве, когда взор мой туманится и все вокруг меня и небо надо мной запечатлены в моей душе, точно образ возлюбленной, – тогда, дорогой друг, меня часто томит мысль: “Ах! Как бы выразить, как бы вдохнуть в рисунок то, что так полно, так трепетно живет во мне, дать отражение моей души, как душа моя – отражение Предвечного Бога!”» (здесь и далее перевод Н. Касаткиной). Таким образом, Гёте подчеркивает, что вертеровская душа – душа чувствительного и творческого человека – представляет собой микрокосм, равновеликий отраженному в нем макрокосму
Вертера недаром так притягивает к детям, и дети так и льнут к нему: дети – воплощение чистой, еще не испорченной уродливой цивилизацией природы, «естественной» жизни, к которой стремится герой: «Да, милый Вильгельм, дети ближе всего моей душе…» Естественность, непосредственность чувств, гуманность – вот то, что превыше всего ценит Вертер. С огромной радостью и умилением он рассказывает своему другу о простом крестьянском парне, который открыл ему свою душу, который умеет так сильно и преданно любить. В уста своего героя сентименталист Гёте вкладывает заветную мысль о равенстве всех в чувстве, о равном величии человеческих душ: «Значит, такая любовь, такая верность, такая страсть вовсе не поэтический вымысел; она живет, она существует в нетронутой чистоте среди такого класса людей, которых мы называем необразованными и грубыми. И мы от нашей образованности потеряли образ человеческий».
Как воплощение самой Природы, естественности, женственности, материнской любви и любви вообще предстает в романе Лотта, и важно, что видится она глазами Вертера. Такой открывает он ее уже в сцене их первой встречи, наблюдая, как она одаривает окруживших ее детей ломтями черного хлеба. Гёте подчеркивает, что Вертер не мог не полюбить Лотту, ибо она – родственная ему душа, и родство между ними – «избирательное сродство» (так назовет писатель свой более поздний роман). Это «избирательное сродство» проявляется в том, что они понимают друг друга с полуслова, что их сердца бьются в унисон. Одной из самых знаменитых сцен романа стала та, где Вертер и Лотта объясняются в любви, внешне не говоря об этом ни слова. Они просто созерцают удивительное, заставляющее благоговейно трепетать их сердца чудо весенней грозы и под звуки благодатного ливня одновременно произносят одно и то же слово, точнее – имя: «Клопшток!» Оба они вспоминают мгновенно это поэтическое имя, ставшее паролем их чувств, имя кумира всего штюрмерского поколения, имя автора великолепного религиозно-философского гимна «Весеннее празднество», в котором душа человека, сливаясь с грозовой стихией, трепещет в предощущении близости Всевышнего.
С непревзойденным психологическим мастерством Гёте изображает тончайшие, почти неуловимые оттенки и нюансы любовного чувства, состояния влюбленной души, исследует логику алогичного – логику самого загадочного и иррационального чувства в человеке. Именно в любви, неистовой, всепоглощающей и глубоко целомудренной, полнее всего раскрывается великая душа Вертера. «Она для меня святыня, – говорит он о Лотте. – Всякое вожделение смолкает в ее присутствии. Я сам не свой возле нее, каждая частица души моей потрясена». Любовь вызывает в Вертере огромный взлет всех творческих сил: «Никогда не был я так счастлив, никогда моя любовь к природе, к малейшей песчинке или былинке не была такой всеобъемлющей и проникновенной…» Однако любовь для героя становится источником не только самого высокого и полного блаженства, но и самой мучительной боли: Лотта глубоко предана своему жениху Альберту, и дело не только в том, что они обручены, но и в том, что без помощи Альберта она не сможет выполнить свой долг, также связанный с любовью, на этот раз – к детям, ее братьям и сестрам, оставшимся на ее попечении.
В оппозиции «Вертер – Альберт» вновь ощущается плодотворное влияние Руссо, ибо примерно по тем же параметрам со– и противопоставляются его Сен-Пре и Вольмар, два варианта просветительского характера, две ипостаси единой эпохи Просвещения – Чувство и Разум. Так и в романе Гёте: с одной стороны – тонкость чувств, ранимость, мечтательность, страстность (Вертер), с другой – трезвая разумность, стабильность, суховатая добродетельность (Альберт). Гёте словно бы ставит вопрос: кому из них легче выстоять, выдержать напор реальности? Безусловно, таким, как Альберт. Они более твердо стоят на ногах, более уверенно идут по земле. И Лотта понимает, что именно Альберт поможет ей поднять на ноги детей, за которых она ощущает огромную ответственность. Симпатии ее к Альберту самые искренние, но любит она по-настоящему только Вертера… Интересно, что во второй редакции романа Гёте сделал образ Альберта более притягательным, менее сухим, и это понятно: он хотел более точно психологически мотивировать преданность Лотты Альберту. Сдержанный Альберт считает, что сильные чувства – безумие и слабость. Слабостью считает он и самоубийство. Совсем иную позицию занимает Вертер, и задолго до конца романа в споре с Альбертом о самоубийстве он предсказывает свой финал, не случайно апеллируя к социальному опыту: «Если народ, стонущий под нестерпимым игом тирана, наконец взбунтуется и разорвет свои цепи – неужели ты назовешь его слабым? Человек может сносить радость, горе, боль лишь до известной степени, а когда эта степень превышена, он гибнет. Значит, вопрос не в том, силен ли он, или слаб, а может ли он претерпеть меру своих страданий, все равно – душевных или физических, и, по-моему, так же дико говорить: тот трус, кто лишает себя жизни, – как называть трусом человека, умирающего от злокачественной лихорадки».
С горечью и болью Вертер размышляет над мучающим его вопросом: «Почему то, что составляет счастье человека, должно вместе с тем быть источником его страданий?» Источник страданий для Вертера, подчеркивает Гёте, – не только любовь. Его трагедия – еще и трагедия социальная. Поняв безнадежность своей любви, желая не мешать любимым им людям, Вертер покидает городок, в котором живут Лотта и Альберт, пытается найти себе практическое применение, становится секретарем посланника. Однако он задыхается на службе, в казенном мире чиновников, тупых педантов, бездушных себялюбцев: «А это блистательное убожество, а скука в обществе мерзких людишек, кишащих вокруг! Какая борьба мелких честолюбий; все только и смотрят, только и следят, чтобы обскакать друг друга хоть на шаг; дряннейшие и подлейшие страсти в самом неприкрытом виде». Служба для Вертера – галера, к которой он прикован, как раб. Вдобавок он постоянно должен помнить о своем бюргерском происхождении, терпеть насмешки и издевательства. Не в силах выдержать нанесенного ему оскорбления, Вертер бросает службу, уезжает в родные места, а затем, как магнитом притягиваемый Лоттой, возвращается в ее родной городок. Так начинается развязка трагической истории.
Лотта замужем, но теперь весь смысл жизни Вертера сконцентрирован в любви к ней: «Мне так много дано, но чувство к ней поглощает все, мне так много дано, но без нее для меня нет ничего на свете». Осознавая, что счастье невозможно, что он приносит боль и страдания любимой, разрывающейся между долгом и глубоко затаенным чувством к нему, Вертер решает уйти навсегда. Это не просто порыв отчаяния, но обдуманное и хладнокровное, долго вызревавшее решение. Вертер с горечью осознает крушение всех своих иллюзий. В мире нет и не может быть гармонии и счастья. Недаром Гёте вновь возвращает своего героя к истории работника, полюбившего свою хозяйку-вдову и убившего ее из ревности. Ужас охватывает Вертера, когда он всматривается в любимый уголок: «Порог, где так часто играли соседские дети, был запачкан кровью. Любовь и верность – лучшие человеческие чувства – привели к насилью и убийству». Эти слова звучат как приговор жестокому и абсурдному миру. Гёте подчеркивает, что самоубийство Вертера – протест против неразумной, бесчеловечной реальности, а неосуществимость в ней подлинной любви – лишь один (но самый страшный) из ее синдромов. Трагедия Вертера – это трагедия человека, не находящего себе места в мире, задыхающегося в нем.
С большим мастерством Гёте делает всю природу соучастницей душевной драмы Вертера. Весенний расцвет природы совпадает с началом его любви; знойность лета и буйство красок – с ее счастливым апогеем; осень, умирание природы – с ощущением внешнего и внутреннего разлада, с болью корчащейся в муках души; зима, холод – со смертельным холодом души, со смертью героя. На смену прежнему ощущению полного слияния с природой приходит горькое чувство разлада с ней, на смену радости от созерцания ее – ужас, ибо все напоминает герою о смерти: «Передо мною словно поднялась завеса, и зрелище бесконечной жизни превратилось для меня в бездну вечно отверстой могилы». Не случайно, согласно замыслу писателя, Вертер погибает накануне Рождества: тогда, когда все готовились праздновать приход в мир – приход для страданий – Иисуса Христа, Вертер уходит из мира, испив свою чашу страданий. И задолго до смерти горькие слова Иисуса, сказанные на кресте, – «Боже мой! Боже мой! Почему Ты меня оставил?» – срываются с уст Вертера, размышляющего о горьком уделе человека: «Выстрадать всю положенную ему меру, испить всю чашу до дна – таков удел человека. И если Господу, сошедшему с небес, горька была чаша на человеческих Его устах, зачем же мне проявлять гордыню и притворяться, будто для меня она сладка? И зачем мне стыдиться в тот страшный миг, когда все существо мое содрогается между бытием и небытием, когда прошедшее, точно молнией, озаряет мрачную бездну грядущего, и все вокруг гибнет, и мир рушится вместе со мной? И как же загнанному, обессилевшему, неудержимо скатывающемуся вниз созданию не возопить из самых недр тщетно рвущихся на волю сил: “Боже мой! Боже мой! Для чего Ты меня оставил?” И мне ли стыдиться этого возгласа, страшиться этого мгновения, когда его не избег Тот, Кто свивает небо, как свиток?»
Воздействие романа на молодое поколение было таким сильным, что по Германии прокатилась война самоубийств из сочувствия Вертеру, из солидарности с ним. Многие увидели в нем самих себя, свои страдания. Такая реакция даже испугала Гёте, ибо он совсем не считал самоубийство единственным выходом из лабиринта судьбы, хотя и написал позднее в «Трилогии страсти» (1823), вспоминая страдальца Вертера: «Тебе – уйти, мне – жить на долю пало. // Покинув мир, ты потерял так мало!» (перевод В. Левика). В 1775 г., готовя второе издание романа, Гёте сопроводил его в качестве эпиграфа собственными стихотворными строками, в которых выражал восхищение чувствительной душой своего героя, но призывал молодых людей не следовать его пути:
Так любить влюбленный каждый хочет, Хочет дева быть любимой так. Ах! зачем порыв святейший точит Скорби ключ и близит вечный мрак! Ты его оплакиваешь, милый, Хочешь имя доброе спасти? «Мужем будь, – он шепчет из могилы, — Не иди по моему пути». (Перевод С. Соловьева)Финал романа был превратно понят многими современниками, в том числе великими, что весьма огорчило Гёте. Не до конца понял «Вертера» даже Лессинг, увидев в нем лишь трагическую историю несчастной любви, лишь слабость героя. А вместе с тем Гёте не случайно оставил на столе ушедшего из жизни Вертера раскрытую книгу – пьесу Лессинга «Эмилия Галотти». Не случайно именно она стала последним чтением героя. Тем самым Гёте еще раз отдавал дань признательности старшему собрату по перу, подготовившему штюрмерское поколение к свободе, к жажде перемен, и подчеркивал глубинную связь героини Лессинга и своего Вертера, социальную, а не только психологическую сущность их бунта, выразившегося в добровольном уходе из жестокого и бесприютного мира.
Позднее, в «Поэзии и правде», Гёте следующим образом объяснил тот резонанс, который вызвал его роман в обществе, особенно среди молодежи: «Действие моей книжечки было велико, можно сказать, даже огромно – главным образом потому, что она пришлась ко времени. Как клочка тлеющего трута достаточно, чтобы взорвать большую мину, так и здесь взрыв, происшедший в читательской среде, был столь велик потому, что юный мир сам уже подкопался под свои устои, потрясение же было таким большим потому, что у каждого скопился избыток взрывчатого материала – преувеличенных требований, неудовлетворенных страстей и воображаемых страданий»[328]. И хотя в словах Гёте, уже умудренного жизненным опытом, звучит скрытая ирония по поводу «воображаемых страстей», его «Вертер» выразил чаяния поколения, его страстную жажду самоосуществления, его стремление к счастью и свободе. Вертер стал кумиром молодого поколения не только в Германии, но и в Европе, а также за ее пределами. Возникает даже вертеровская мода: простой синий сюртук, желтые панталоны и жилет, высокие, до колен, кожаные сапоги, длинные, до плеч, волосы без непременного напудренного парика – как вызов обществу, как, пусть внешнее, но выражение духа внутренней независимости. «Он из Германии туманной // Привез учености плоды: // Вольнолюбивые мечты, // Дух пылкий и довольно странный, // Всегда восторженную речь // И кудри черные до плеч…» Черты Вертера угадываются и в этом портрете пушкинского Ленского, который также наделен сверхчувствительностью и способностью к творчеству и для которого жизнь немыслима без любви, который неизбежно должен был уйти из жизни, ибо слишком несовместим с ней (таким образом, разные «ипостаси» Вертера, творчески переосмысленные Пушкиным, оживают как в Ленском, так и в Онегине; в последнем ощутимы также черты гётевского Фауста, «скрещенные» с чертами байронического героя).
«Вертер» навсегда стал наиболее полным воплощением силы любовного чувства, той любви, которая, по словам библейской Песни Песней, «как смерть, сильна» и поэтому, возможно, ходит рука об руку со смертью. Недаром именно «Вертер» вспоминается Б. Пастернаку, когда он пишет о роковой власти любви и трагизме бытия: «Я не держу. Иди, благотвори. // Ступай к другим. Уже написан “Вертер”. // А в наши дни и воздух пахнет смертью: // Открыть окно – что жилы отворить» («Рояль дрожащий пену с губ оближет…»). «Уже написан “Вертер”», – эти слова звучат как рубеж, как итог, как признание, что лучше и полнее сказать невозможно. Для самого же Гёте роман стал прощанием с годами юности, со штюрмерским движением, началом переосмысления своего пути в мире.
2. Гёте в Веймаре
В 1775 г. Гёте по приглашению Карла Августа, герцога Саксен-Веймарского, переезжает в Веймар. Молодой и честолюбивый герцог стремился прослыть просвещенным правителем, меценатом, желал сделать свою столицу известным культурным центром Европы и потому пригласил к себе прославленного поэта, драматурга, автора нашумевшего романа, предложив ему должность тайного советника и члена правительственного совета. Карл Август привлек поэта возможностью преобразований в духе Просвещения, хотя бы в пределах одного княжества. Дух преобразования жизни действительно захватывает Гёте, как будет захвачен этим духом его Фауст в V акте второй части. Поэт занимается самыми разнообразными делами, почти забыв о поэзии: усовершенствованием дорог и судопроизводства, горного дела и школьного образования. Он мечтает, как и его Фауст, увидеть «народ свободный на земле свободной», создать в Германии хотя бы небольшой островок справедливости и свободы и совершает смелый шаг: отменяет крепостные повинности и подати. Во всех этих делах ярко проявилась бурная активность гётевского духа, жажда практической деятельности – качества, которые поэт полной мерой передаст своему Фаусту. Однако неизбежно наступило горькое разочарование на политическом поприще (как испытает его Фауст при дворе императора в I акте второй части): реформы зашли слишком далеко, что вызвало тревогу и враждебность веймарского дворянства. В результате волею Карла Августа реформы были приостановлены. Все надежды на просвещенного правителя оказались иллюзией.
Полностью разочаровавшись в политике, государственной деятельности, Гёте пробует найти выход своей неудержимой энергии в изучении природы. Он занимается ботаникой, физиологией, оптикой, законами восприятия цвета (пишет об этом специальную работу), метеорологией, геологией, минералогией, нумизматикой. Натурфилософские и естественнонаучные работы Гёте до сих пор не утратили своего научного значения. С необычайной гордостью поэт сообщает Гердеру об открытии им межчелюстной кости у человека, подтверждающей его родство с животными. Это был действительно его вклад в эволюционное учение, который казался ему более важным, чем все его поэтические творения. Само увлечение политикой, общественной деятельностью, наукой свидетельствовало, что Гёте в первое веймарское десятилетие (1775–1785) переживает духовный и творческий кризис, мучительный процесс переоценки ценностей. В сравнении с наполненным интенсивным творчеством штюрмерским периодом он пишет не очень много, но все, что выходит из-под его пера, становится шедевром, прежде всего в области лирической поэзии.
Лирика первого веймарского десятилетия
Новые, переходные тенденции в творчестве Гёте обнаруживаются прежде всего в лирике. В цикле стихотворений «К Лиде» («An Lida»), посвященных возлюбленной поэта Шарлотте фон Штайн (Штейн), смягчаются бурные порывы штюрмерской лирики, неистовый энтузиастический взлет чувств сменяется элегическими раздумьями над превратностями бытия и необходимой стойкостью духа, как в стихотворении «О, зачем твоей высокой властью…» («Warum gabst du uns die tiefen Blicke…», 1779):
И теперь одно воспоминанье Нам сердца смятенные живит, Ибо в прошлом – истины дыханье, В настоящем – только боль обид. И живем неполной жизнью оба, Нас печалит самый светлый час. Счастье, что судьбы коварной злоба Изменить не может нас. (Перевод В. Левика)Показательна и «Вечерняя песня охотника» (1776), в которой штюрмерская неукротимость чувств, ничем не сдерживаемая радость бытия, бьющее через край жизнелюбие, яркий солнечный свет вытесняются тонами светлой печали, тихой грусти и умиротворения:
Мысль о тебе врачует дух, Проходит чувств гроза, Как если долго в лунный круг Смотреть во все глаза. (Перевод Б. Пастернака)Новые умонастроения, новые представления о соотношении между миром и человеком выражаются в гимнах, написанных верлибрами, – «Песнь духов над водами» («Gesang der Geister über den Wassern», 1779), «Границы человечества» («Grenzen der Menschheit», 1779), «Моя богиня» («Meine Göttin», 1780), «Божественное» («Das Göttliche», 1783). Как справедливо замечает А. А. Аникст, «Гёте сохраняет в них верность своему пантеизму, вере в единство человека с силами природы, но лирический герой его поэзии уже не прежний бунтарь, бросающий вызов богам, а человек, сознающий, что он может осуществить свое земное назначение не в противоборстве с миром, а в тесном слиянии с ним»[329]. И хотя человек – дитя земли и неба, дитя стихий, хотя его душа, «воде подобна: // С неба сошла, // К небу взнеслась // И снова с неба // На землю рвется, // Вечно меняясь» («Песнь духов над водами»; перевод Н. Вольпин), он должен понимать свое место в огромном божественном мироздании, сознавать «границы человечества»:
Ибо с богами Меряться смертный Да не дерзнет: Если подымется он и коснется Теменем звезд, Негде тогда опереться Шатким подошвам, И им играют Тучи и ветры. (Перевод А. Фета)Божественное же в человеке – великое нравственное чувство, данное ему, способность любить, творить добро, верить и стремиться к вечности:
Прав будь, человек, Милостив и добр: Тем лишь одним Отличаем он От всех существ, Нам известных. …Человек один Может невозможное: Он различает, Судит и рядит, Он лишь минуте Сообщает вечность. (Перевод А. Григорьева)Существенно изменился подход Гёте и к любимому им балладному жанру. В сущности, поэт обновляет литературную балладу, расширяя ее тематические рамки: если прежде его баллады были посвящены любви, то теперь благодаря особым возможностям этого жанра он исследует роковые загадки бытия, непостижимые тайны природы. Мистическое, непостижимое разумом в балладах «Рыбак» («Der Fischer», 1778), «Песня эльфов» (1780), «Лесной царь» («Erlkönig», 1782) в какой-то мере предвосхищает появление готической преромантической, а затем романтической баллады. Примечательно также и то, что, создавая абсолютную иллюзию фольклорности сюжетов своих баллад, Гёте веймарского периода практически всегда создает свои собственные балладные коллизии и сюжеты, и притом такие, что народ их принимает как свои (нечто подобное произойдет со знаменитой балладой немецкого романтика К. Брентано «Лорелея»).
Одним из самых прославленных произведений Гёте стала баллада «Лесной царь» (название в оригинале – Erlkönig – можно точнее перевести как «Ольховый король»), в которой мастерски воссоздана мистическая атмосфера ночи, те страхи и ужасы, которые переживает человек, осознавая роковую власть над ним непостижимого, иррационального, разлитого в природе. Стихотворение построено на контрасте поначалу смутной, но все более нарастающей тревоги ребенка, ощущающего младенческой душой властный и грозный зов Лесного царя, и неведения трезвомыслящего взрослого, отца, поначалу не чувствующего никакой угрозы:
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind; Er hat den Knaben wohl in den Arm, Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du bang dein Gesicht? — Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Kron‘ und Schweif? — Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Кто скачет, кто мчится под хладною мглой? Ездок запоздалый, с ним сын молодой. К отцу, весь издрогнув, малютка приник; Обняв, его держит и греет старик. «Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?» «Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул: Он в темной короне, с густой бородой». «О нет, то белеет туман над водой». (Здесь и далее перевод В. Жуковского)Первая и последняя строфы баллады, которые выполняют своего рода роль экспозиции и развязки и в которых рассказчиком является автор, обрамляют основное действие баллады, поданное через непременный балладный диалог, придающий жанру особую драматичность. В диалог между отцом и сыном вторгается голос Лесного царя, причем только ребенок слышит этот голос, все более властно влекущий его к себе, забирающий по капле его жизнь. При этом добавляется новый контраст – между красочностью картин в устах Лесного царя и тем ужасом, которым они оборачиваются для ребенка:
«Дитя, оглянися, младенец, ко мне; Веселого много в моей стороне: Цветы бирюзовы, жемчужны струи; Из золота слиты чертоги мои». «Родимый, лесной царь со мной говорит: Он золото, перлы и радость сулит». «О нет, мой младенец, ослышался ты: То ветер, проснувшись, колыхнул листы». …«Дитя, я пленился твоей красотой: Неволей иль волей, а будешь ты мой». «Родимый, лесной царь нас хочет догнать; Уж вот он: мне душно, мне тяжко дышать».Тоска и ужас ребенка наконец-то сполна передаются и отцу. Но все его попытки спасти сына, уйти от судьбы, оказываются бесплодными:
Ездок оробелый не скачет, летит; Младенец тоскует, младенец кричит; Ездок погоняет, ездок доскакал… В руках его мертвый младенец лежал.Перевод В. А. Жуковского навсегда вошел в историю русской литературы. В нем мастерски передана тревожная, напряженная атмосфера гётевского стихотворения, его необычайная динамика. Однако Жуковский перевел балладу правильным амфибрахием, не сохранив нервный, пульсирующий дольник Гёте, как нельзя лучше соответствующий лихорадочному ритму скачки и нарастающей тревоге. В свое время, сравнив оригинал баллады Гёте и перевод Жуковского, М. И. Цветаева пришла к выводу, что это два различных «Лесных царя», два самодостаточных лирических шедевра. Однако, безусловно, второй из них не родился бы без первого.
В наибольшей степени новые веяния в лирике Гёте первого веймарского десятилетия очевидны в двух его небольших стихотворениях, связанных со столь любимым им мотивом странничества и известных как две «Ночные песни странника». Первая из них и родилась под таким названием – «Ночная песня странника» («Wandrers Nachtlied», 1776):
Ты, что с неба и вполне Все страданья укрощаешь И несчастного вдвойне Вдвое счастьем наполняешь, — Ах, к чему вся скорбь и радость! Истомил меня мой путь! Мира сладость, Низойди в больную грудь! (Перевод А. Фета)Новые настроения очевидны, особенно если сравнить это стихотворение со штюрмерской «Песнью странника в бурю»: перед нами не человек, стремящийся к радостному слиянию с бурей, бросающий вызов всему миру, но предельно усталый и больной, жаждущий исцеления, чающий небесной гармонии. Бурный порыв уступает место кроткой молитве, жажде гармоничного слияния с миром природы. И в этом смысле особенно показательна «Ночная песня странника II» («Wandrers Nachtlied II», 1780).
Гёте любил созерцать природу и искать в ней вдохновения и отдохновения, блуждая по полям и лесам, взбираясь на холмы и горные вершины, странствуя (эту страсть он вполне передал своим Вертеру и Фаусту). Мотив странничества имеет концептуально важный и многомерный смысл в поэзии Гёте и проходит как лейтмотив через все его творчество. Один из аспектов этого многомерного смысла – спасение от пошлости и суеты обыденной жизни. Так, 6 сентября 1780 г., поднявшись на вершину Кикельхан близ Ильменау, поэт написал Шарлотте фон Штайн: «Здесь, на Кикельхане, самой высокой вершине всей округи, которая на более звучном наречии называлась бы “Алектрюо-галлонакс” (греческая калька названия горы, по-немецки означающего “петух”. – Г. С.), я и заночевал, дабы избежать городской суеты, сутолоки, жалоб, прошений, всей этой неизбывной людской суеты»[330]. И в тот же день (вернее, вечер), 6 сентября 1780 г., поэт карандашом написал на деревянной стене охотничьей сторожки на Кикельхане восемь стихотворных строк:
Über allen Gipfeln Ist Ruh, In allen Wipfeln Spürest du Kaum einen Hauch; Die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur, balde Ruhest du auch.(«Над всеми горными вершинами – покой, // Во всех верхушках деревьев // Ты ощутишь // Едва ли какое-либо дуновение [дыхание]; // Птички молчат в лесу. // Только подожди, скоро // Ты отдохнешь [успокоишься] тоже». – Подстрочный перевод наш. – Г. С.)
Это стихотворение хорошо знакомо каждому человеку, думающему и говорящему по-русски, со школьной скамьи как лермонтовские «Горные вершины»:
Горные вершины Спят во тьме ночной, Тихие долины Полны свежей мглой; Не пылит дорога, Не дрожат листы… Подожди немного Отдохнешь и ты!И хотя текст великого русского поэта конгениален немецкому оригиналу, во многом созвучен его духу и по праву украшает десятитомное собрание сочинений Гёте на русском языке, его нельзя считать переводом в полном смысле слова, хотя бы потому, что М. Ю. Лермонтов не сохранил гётевский неравнострочный дольник (его стихотворение написано трехстопным хореем). Гораздо точнее ритмически стихотворение Гёте перевел русский поэт-символист И. Анненский:
Над высью горной Тишь. В листве, уж черной, Не ощутишь Ни дуновенья. В чаще затих полет… О, подожди!.. Мгновенье — Тишь и тебя… возьмет.Теперь уже невозможно установить, как выглядел автограф, начертанный Гёте на стене хижины, ибо самой хижины давно не существует: она сгорела в 1870 г. Однако за год до этого была сделана фотография, на которой явственно заметны поправки и подновления, которые претерпела надпись за 90 лет. Странно, но только в 1815 г., через 35 лет после создания стихотворения, Гёте опубликовал его. В своем лирическом собрании он поставил его вслед за «Ночной песней странника» и дал ему название «Другая», т. е. «Другая [вторая] ночная песня странника». Впоследствии, уже после смерти поэта, «Другая» стала именоваться «Ночная песня странника II», а чаще – просто «Ночная песня странника», как будто первой и не существовало. В сознании читателей вторая начисто вытеснила первую. Результаты опроса, проведенного в Германии в 1982 г., в связи со 150-летием со дня смерти Гёте, показали, что для немцев «Другая» – самое известное стихотворение поэта. Немецкий литературовед К. О. Конради пишет: «Пожалуй, ни об одном из поэтических произведений Гёте не говорилось так много, как об этом небольшом стихотворении, ни одно не пародировали столь часто, как эту рифмованную сентенцию из восьми строк. История восприятия и истолкования этого стихотворения могла бы составить отдельную книгу…»[331]
Удивительный феномен «Ночной песни странника II» заключается в сочетании, казалось бы, несочетаемого: предельной простоты и проступающей за ней сложности, скупости, прегнантности поэтической речи и одновременно многомерности выраженных в ней смыслов, безыскусности, простоты и в то же время виртуозности и изящества формы, непосредственности чувства и аналитизма. Взгляд поэта устремлен откуда-то с космических высот вниз, рисуя картину разливающегося в мироздании ночного покоя: вершины гор, вершины деревьев, птицы в лесах, человек. Однако градации этого покоя различны: он абсолютен лишь на горних высях (вечный, Божественный покой); в верхушках деревьев он относителен, ибо сохраняется едва ощутимый отзвук движения, дуновения; лишь временно замолкли непоседливые и неумолчные пернатые; и наконец, все еще нет покоя (или он невозможен вполне?) для мятущегося и усталого человеческого духа, этот покой и отдых – всего лишь предвкушение. Возможно, в финальной строке – намек на особый покой, на вечное успокоение после смерти. Что в этом финале – предощущение грядущей гармонии или священный и сладкий ужас неизвестности в преддверии смерти? На это нет четкого ответа, хотя чаще всего стихотворение трактуют как стремление слиться с гармонией природы. Однако мы видим здесь не только этот порыв, но и острое, напряженное противоречие между умиротворенной природой и беспокойным человеческим существом. Несомненно, искушенный в литературе читатель вспомнит, что впервые в мировой поэзии мотив полного успокоения, ночного сна, разлитого в природе, и именно с такими устойчивыми топосами, как горные вершины и птицы, встречается в древнегреческой лирике, у одного из родоначальников хоровой мелики – Алкмана (VII в. до н. э.):
Спят вершины высокие гор и бездн провалы, Спят утесы и ущелья, Змеи, сколько их черная всех земля ни кормит, Густые рои пчел, звери гор высоких И чудища в багровой глубине морской. Сладко спит и племя Быстролетающих птиц. (Перевод В. Вересаева)Вероятно, сходство даже на лексическом уровне не случайно: Гёте мог вдохновить не только конкретный увиденный им горный пейзаж, но и фрагмент Алкмана, ибо эллинские поэты были его настольным чтением, и причем в оригинале (недаром и в письме Шарлотте фон Штайн звучат греческие ассоциации). Однако сопоставление двух текстов легко обнаруживает и существенное различие: если у Алкмана действительно царит абсолютный покой, созерцающее лирическое «я» (субъект) никак не заявляет о себе, абсолютно сливаясь с природой (объектом), то у Гёте они разделены: человек жаждет слияния, но не может его обрести. Речь идет о совершенно ином мироощущении – об утомленном, диссонантном состоянии духа человека эпохи Нового времени и одновременно о вечной его тоске по покою, счастью, гармонии.
«Другая» совершенно явно продолжает немецкую традицию «лирики природы» (Naturlyrik) и «лирики мысли» (Gedankenlyrik), традицию Броккеса, Галлера, Клопштока и ранних философских гимнов самого Гёте, но делает это совершенно по-иному, что особенно очевидно опять же при сравнении с его «Песней странника в бурю»: вместо «темного», герметичного языка – ясный и прозрачный, вместо противостояния природе – жажда воссоединения с ней, вместо красоты дикой и разрушительной, судорожно-экстатичной – красота созерцательно – гармониче екая.
В этом маленьком стихотворении Гёте достигает предельной семантизации ритма и эвфонии, свойственных подлинно великой поэзии. На общем ямбическо-хореическом фоне (при этом в целом размер стихотворения нельзя определить четко в силлаботонике – оно несет в себе черты дольника) особо выделяется длинная шестая строка, написанная амфибрахием и словно бы несущая в своем долгом волнообразном движении отзвук затихающего шелеста листвы, щебетания птиц, трепета их крыльев. Этому соответствует и звуковая инструментовка стиха, мастерски обыгрывающая как аллитерацию, так и ассонанс. Особенно великолепны две последние строки, утяжеленные спондеем и ассонирующие на низких звуках [а] и [u]: «Warte nur, / balde // Ruhest du / auch». В них – и предельная усталость, и надежда на отдых и покой, и тревога, и предчувствие смерти, и открывающееся в ней бессмертие, возможное, по Гёте, только через пантеистическое растворение в природе, слияние с универсумом. Так осуществится великий завет: «Умри и пребудь!»
До сих пор маленький лирический шедевр Гёте не нашел вполне адекватной передачи на русском языке, и, быть может, такая передача вообще невозможна. Лермонтов, первым открывший его для русского читателя (1840), не скрывал, что создал собственную вариацию на мотив Гёте (он так и назвал свое стихотворение – «Из Гёте»). А мотив оказался чрезвычайно близок его душе: тяжкий путь странника, гонимого миром, и гармония природы, просветляющая дух, проливающая отраду в измученную душу, сулящая вечный покой и жизнь в самой смерти (этот мотив гениально развит в знаменитом предсмертном стихотворении Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…»). В Лермонтовских «Горных вершинах» не переданы многие важные особенности оригинала, здесь иная ритмическая структура – плавный трехстопный хорей, который в русской поэзии навсегда свяжется с легкой руки Лермонтова с топосом дороги и мотивом странничества. Многое русский поэт добавляет от себя – и «тихие долины», которые «полны свежей мглой», и непылящая дорога, и недрожащие листы. С максимальной точностью переданы только две последние строки, но все же коннотации у немецкого глагола ruhen («отдыхать», «покоиться», «умирать») иные, нежели у русского глагола «отдыхать». Стихотворение Лермонтова стало классическим образцом вольного переложения, того, что в немецкой культурной традиции именуют Nachdichtung.
С большей точностью переводом можно назвать перевод И. Анненского (между 1904–1909 гг.). Однако и здесь очевидно, что поэт-символист привнес свое видение в гётевский текст, особенно в финальную строку, где активность в переводе перенесена на многомерно-загадочную «тишь» – символ иррациональной, непостижимой, трансцендентной сути бытия, которую вряд ли имел в виду немецкий поэт. Так каждая эпоха продолжает по-своему интерпретировать маленький шедевр Гёте.
Жаждой гармонии проникнуто и большое стихотворение (или небольшая поэма) «Ильменау» («Ilmenau», 1783), написанное ко дню рождения Карла Августа на восьмой год после приезда Гёте в Веймар. Поэма открывается картиной благодатной природы в окрестностях городка Ильменау у подножья Кикельхана – картиной, очень дорогой сердцу поэта:
Привет отчизне юности моей! О тихий дол, зеленая дуброва! Раскройте мне свои объятья снова, Примите в сень раскидистых ветвей! Пролейте в грудь бальзам веселья и любви. Да закипит целебный ключ в крови! Не раз, гора, к твоим стопам могучим Влеком бывал я жребием летучим. Сегодня вновь мой новый юный рай На склонах мягких обрести мне дай! Как вы, холмы, Эдема я достоин: Как ваш простор, мой каждый день спокоен. (Здесь и далее перевод В. Левика)Здесь звучит столь важный для Гёте мотив целительной силы природы, дающей вновь силы жить, дарующей вдохновение. При этом поэт явственно дает понять, что один из источников его терзаний и ощущения дисгармонии – социальная дисгармония, то, что он так и не сумел своими реформами облегчить жизнь простых людей (и это в стихотворении, преподнесенном на день рождения герцогу!):
И пусть забуду, что и здесь, как там, Обречены живущие цепям, Что сеет селянин в песок зерно свое И строит притеснителю жилье, Что тяжек труд голодный горняка, Что слабых душит сильная рука. Приют желанный, обнови мне кровь, И пусть сегодня жить начну я вновь. Мне любо здесь! Былые дни мне снятся, И в сердце рифмы прежние теснятся. Вдали от всех, с собой наедине, Пью аромат, давно знакомый мне. Чудесен шум дубов высокоствольных, Чудесен звон потоков своевольных! Нависла туча, даль в туман ушла. И смолкло все. Нисходят ночь и мгла. Под звездными ночными небесами Где мой забытый путь в тиши лесов?Поэт вспоминает себя прежнего, сравнивает с нынешним, вновь и вновь задает вопрос: кто он? «Кто может знать себя и сил своих предел?» Сложные, прихотливые перепады чувств и мыслей больше всего говорят о внутренних метаниях и сомнениях поэта. С одной стороны, он хочет верить в преображение жизни и потому обращается к герцогу, призывая его к жизни во имя подданных, к самоотречению: «Тот прихоти покорствует влеченью, // Кто для себя, одним собой живет. // Но тот, кто хочет свой вести народ, // Учиться должен самоотреченью». С другой стороны, поэт уже осознает несбыточность этой мечты, свое неизбывное одиночество: «…A я, с трудом дыша, в чужой стране, // Глазами к вольным звездам обращаюсь // И наяву, как в тяжком сне, // От снов ужасных защищаюсь».
Великий поэт все больше и больше ощущает творческий тупик. Очень трудно и медленно на протяжении 1777–1785 гг. идет работа над задуманным им романом о художнике, актере, творческом человеке, которому он передал так много своего, лично пережитого, – «Театральное призвание Вильгельма Мейстера» («Wilhelm Meisters Theatralische Sendung»). Образ Вильгельма Мейстера, как и образ Фауста, будет сопутствовать Гёте на протяжении всей его дальнейшей жизни, и он вернется к этому герою на новом витке, напишет все заново. Пока же роман так и не был завершен, писатель забросил рукопись и забыл о ней. Текст «Театрального призвания…» обнаружат только в 1910 г.
и установят, что это первая, но вполне оригинальная, версия «Годов учения Вильгельма Мейстера» (в связи с этим эту версию часто именуют «Urmeister» – «Прамейстер»). И уже тогда, в первое веймарское десятилетие, были написаны некоторые из песен Миньоны (Миньон) и Арфиста, которыми так прославилась впоследствии дилогия о Вильгельме Мейстере. В томлении Миньоны по чудесной стране ее детства, в тоске и горьком одиночестве Арфиста Гёте выражает свою тоску, свое одиночество:
Кто одинок, того звезда Горит особняком. Все любят жизнь, кому нужда Общаться с чудаком? Оставьте боль мучений мне. С тоской наедине Я одинок, но не один В кругу своих кручин. (Перевод Б. Пастернака)Гёте чувствует все большее одиночество, изоляцию и отчужденность, ему не хватает воздуха в атмосфере карликового веймарского двора. Его раздражают бывшие друзья по штюрмерскому кругу, которые остались теми же, хотя время стало иным. Единственное, что по-прежнему приносит ему большую радость, – общение с Гердером, для которого Гёте выхлопотал в Веймаре место проповедника консистории. Поэта тяготят даже бывшие некогда столь желанными отношения с Шарлоттой фон Штайн. И главное: Гёте все острее ощущает, как гибнет в нем поэт. Все чаще в его сознании возникают мысли о бегстве. Еще в 1776 г. в стихотворении «Смута» он написал: «Что избрать? Бежать? Остаться? // Смута, тягостен твой плен. // Если счастья не дождаться, // Мне хоть мудрость дай взамен!» (перевод М. Лозинского). Теперь душевная смута достигла апогея, а мудрость велит: «Бежать!» И Гёте решается на бегство. В нем особенно поражает обостренное ощущение угрозы своему духу, своему поэтическому дару и необходимости спасать их. Он умирает, чтобы родиться в новом качестве.
Бегство в Италию и становление «веймарского классицизма»
3 сентября 1786 г., ночью, поставив перед этим в известность только герцога и не предупредив даже Шарлотту, Гёте уезжает из Карлсбада в Италию. Он стремится туда, на благословенную родину гуманистов, чтобы вдохнуть воздух свободы и искусства, чтобы вновь ощутить себя творцом. Перемены в себе он констатирует уже на пути в Италию, записывая в дневник 10 сентября 1786 г.: «Я вновь ощущаю интерес к миру, испытываю свою способность наблюдать, проверяю, насколько велики мои знания и сведения, достаточно ли ясно и светло мое зрение, много ли я могу охватить при беглом обзоре и способны ли изгладиться морщины, въевшиеся в мою душу». Атмосфера Италии оказывает благотворное влияние на Гёте. Он радостно переживает свою встречу с великим искусством: много часов проводит возле античных шедевров и гениальных работ Рафаэля и Микеланджело, сам занимается живописью, пишет маслом свою «Навсикаю», иллюстрируя «Одиссею» Гомера. Гёте пишет из Рима: «…вот я здесь, я успокоился, и, как мне кажется, успокоился до конца своих дней. Ибо смело можно сказать – жизнь начинается сызнова, когда твой взор объемлет целое, доселе известное тебе лишь по частям. Все мечтания юности воочию стоят передо мной» (здесь и далее перевод Н. Маи)[332]. И еще: «Я живу здесь в душевной ясности и в покое – чувства, мною почти забытые. Мое старанье видеть и воспринимать вещи такими, каковы они есть, сохранить остроту зрения, полностью отобщиться от каких бы то ни было претензий, вновь приносит мне пользу и в тиши дарит меня великим счастьем»[333]. И он подчеркивает: «Я здесь не для того, чтобы наслаждаться на свой лад, а чтобы ревностно усваивать то великое, что мне открылось, учиться и совершенствоваться, покуда мне еще не минуло сорока»[334].
В Италии Гёте вновь испытывает приливы вдохновения. Здесь воскресают и наполняются новым смыслом старые замыслы, рождаются новые. «Новых идей и замыслов у меня хоть отбавляй. Когда я остаюсь наедине с собой, передо мной снова встает моя ранняя юность, вплоть до мельчайших подробностей, а потом величие и высокое достоинство того, что я вижу, опять уносит меня в такие дали и выси, что, кажется, на все это и жизни не хватит. Глаза мои приобретают зоркость почти невероятную, но и руке ведь нельзя очень уж сильно отставать»[335]. В Италии начинается новая работа над заброшенными сюжетами о Фаусте и Эгмонте, здесь пишутся трагедии об Ифигении и Торквато Тассо. И главное: именно здесь формируется новая эстетическая позиция Гёте, которая получила название «веймарский классицизм», ибо она обрела окончательные очертания в Веймаре, при непосредственном участии Ф. Шиллера, и именно в Веймаре будут завершены и написаны великие произведения в русле «веймарского классицизма».
Как свидетельствует сам термин, «веймарский классицизм» – это особый вариант классицизма, отличающийся от его канонического понимания. Особый импульс «веймарскому классицизму» дали и старый классицизм XVII в., и просветительский классицизм, но прежде всего его особая немецкая вариация – эстетика И. И. Винкельмана с его особым пониманием античного искусства как наивысшего воплощения «благородной простоты и спокойного величия», как отражения свободы духа и гражданских свобод. Не случайно уже в «Итальянском путешествии» появляется запись от 13 декабря 1786 г.: «Сегодня утром мне попались под руку письма Винкельмана из Италии… С какой растроганностью начал я читать их! Тридцать один год тому назад, в то же самое время года, прибыл он сюда еще более блаженным глупцом, чем я, и с немецким усердием принялся изучать основное и непреложное в античности и в искусстве. Как рьяно и честно он трудился! И как много здесь значит для меня память об этом человеке!»[336]
В основе «веймарского классицизма» лежит именно концепция Винкельмана с его пониманием искусства как высочайшей силы, преобразующей человека через красоту. Именно эту мысль подхватят и разовьют Гёте и Шиллер. На протяжении 1775–1786 гг. происходит постепенный отход Гёте от позиций штюрмерской эстетики. В Италии он особенно ясно осознает, что единственный путь преображения мира и человека – путь изнутри, через воспитание красотой и прекрасным искусством, чтобы человек, по его собственным словам, «и в этой грязи был чистым, и в этом рабстве свободным». Очень афористично сходную мысль позднее сформулирует Шиллер в «Письмах об эстетическом воспитании»: «Путь к свободе ведет через красоту» (именно ее повторит в своей вариации Ф. М. Достоевский, имея в виду в первую очередь духовную красоту человека). Только тогда, когда каждый человек и все общество в целом будуть понимать красоту и жить по ее законам, человечество будет действительно свободным. В сущности, «веймарский классицизм» – великая просветительская утопия – утопия преодоления убожества, ничтожности и суеты путем духовного и эстетического совершенствования человека. Но, кажется, и XVIII в., завершившийся революцией, и наполненные революционными потрясениями XIX–XX вв. продемонстрировали, что этот кажущийся предельно утопическим путь – возможно, единственно верный.
Наиболее полное понимание «веймарского классицизма», сущности воспитания совершенного человека прекрасным искусством Гёте дал в более позднем очерке «Винкельман и его время» («Winckelmann und seine Zeit», 1804–1805), и прежде всего в параграфе «Красота». При этом он признает, что высшая красота – это красота самой жизни, красота совершенного человека безотносительно к искусству: «…высший продукт постоянно совершенствующейся природы – это прекрасный человек»[337] (здесь и далее перевод Н. Ман). Однако в жизни идеальная красота встречается редко, не может быть вечной и в силу этого воздействовать на большое количество людей: «Правда, природе лишь редко удается создать его (прекрасного человека. – Г. С.); ее идеям противоборствует слишком много различных условий, и даже для ее всемогущества невозможно долго пребывать в совершенном и даровать прочность раз сотворенной красоте, ибо, точно говоря, прекрасный человек прекрасен только мгновение. Против этого и выступает искусство…»[338] Задача искусства в том и состоит, чтобы сделать кратковечную красоту вечной. Именно в искусстве человек, даже несовершенный, осознает свое совершенство; творя искусство, он преображает себя и мир. Механизм этого преображения Гёте объясняет следующим образом: «…человек, поставленный на вершину природы, в свою очередь, начинает смотреть на себя как на природу в целом, которая сызнова, уже в своих пределах, должна создать вершину. С этой целью он возвышает себя, проникаясь всеми совершенствами и добродетелями, взывает к избранному, к порядку, к гармонии, к значительному и поднимается, наконец, до создания произведения искусства, которому наряду с другими его деяниями и творениями принадлежит столь блистательное место. Когда же произведение искусства уже создано и стоит в своей идеальной действительности над миром, оно несет с собою прочное воздействие, наивысшее из всех существующих, ибо, развиваясь из соединения всех духовных сил, оно одновременно вбирает в себя все великое, все достойное любви и почитания и, одухотворяя человеческий образ, возносит человека над самим собой, замыкает круг его жизни и деятельности и обожествляет его для современности, в которой равно заключены и прошедшее и будущее. Подобными чувствами, судя по преданиям и рассказам древних, бывали охвачены те, кто видел Юпитера Олимпийского. Бог превратился в человека, чтобы человека возвысить до божества. Узрев величайшее совершенство, люди воодушевлялись величайшей красотой»[339].
Таким образом, в центре усилий «веймарского классицизма» – человек в его наивысшем развитии, духовном и физическом, божественно-прекрасный человек, и в этом смысле его устремления родственны традиционному классицизму в высоких жанрах. Общим является и следование закону гармонии, соразмерности. Однако при этом герой «веймарского классицизма» всегда показан в динамике и развитии, не столько в предельном и недостижимом совершенстве, сколько в пути к этому совершенству. В своих поисках он способен блуждать и заблуждаться. Неся в себе общечеловеческие черты, он всегда является яркой индивидуальностью, типичной в своей исключительности. Теперь не просто верность природе, не прямое ее воплощение, но художественное преображение воспринимается как главная задача искусства. Искусство должно постигать и отражать именно художественную правду, которая не чуждается различных форм условности и даже фантастики. Особенное значение для веймарских классиков приобретает идея гармоничного единства формы и содержания. Недаром веймарский период в творчестве Гёте и Шиллера определяют как преимущественно «художественный период», или «период искусства» (Kunstperiode), – в противоположность штюрмерскому с его акцентированием общественного бунтарства, с его судорожно-экстатическими формами. Теперь «бурная» гениальность уступает место гениальности гармоничной. Эталоном, как и для классицистов, является античное искусство (особенно эпохи классики, века Перикла). Однако при этом обращение к античности не означает в понимании веймарских классиков прямого заимствования образов и сюжетов, но именно творчество в духе античности – в духе «благородной простоты и спокойного величия». Опираясь на античные образы и мотивы, Гёте существенно трансформирует их и размышляет о жгучих проблемах современности и будущего. Античный миф перестает быть набором готовых клишированных образов и получает глубокое символическое осмысление. Показательная черта «веймарского классицизма» – соединение чувственной конкретности, жизненной достоверности и – с другой стороны – условности, символичности образов, глубокого философского обобщения (наиболее ярко эти черты проявятся в «Фаусте»).
Переходной от штюрмерской эстетики к «веймарскому классицизму» стала трагедия «Эгмонт» («Egmont», 1787), начатая еще во Франкфурте, до переезда в Веймар, возобновленная в 1778 г. и вновь заброшенная, а затем окончательно дописанная в Италии. Главный конфликт пьесы еще целиком штюрмерский: борьба свободы и деспотизма, причем борьба средствами политическими. Историческим материалом для Гёте послужила борьба Нидерландов за свою независимость против испанского гнета во второй половине XVI в. Однако при этом драматург достаточно свободно переосмысливает образ реального Эгмонта, графа Ламораля, принца Гаврского, одного из трех штатгальтеров (глав парламента) Нидерландов – наряду с Вильгельмом Оранским и Горном. В «Поэзии и правде» Гёте писал: «Для своей цели… я должен был превратить его в человека со свойствами, которые скорее пристали юноше, чем зрелому мужу, из отца семейства – в холостяка, из свободомыслящего, но стесненного многоразличными обстоятельствами, – в вольнолюбивого и независимого. Мысленно его омолодив и сбросив с него все оковы условностей, я придал ему необузданное жизнелюбие, безграничную веру в себя, дар привлекать все сердца (attrattiva), а следовательно, и приверженность народа, тайную любовь правительницы и явную – простой девушки, участие мудрого государственного мужа, а также сына его заклятого врага. Личная храбрость – отличительная черта героя – и есть тот фундамент, на котором зиждется все его существо, почва, его взрастившая. Он не ведает опасностей и слепо идет навстречу величайшей из них»[340].
По своему характеру Эгмонт очень напоминает Гёте, однако он уже не просто «бурный гений», сильный характер, вознесенный над прозой жизни, но человек, способный на слабость и ошибку и одновременно несущий в себе всю полноту жизни. Одной из самых ярких черт Эгмонта является его удивительное жизнелюбие, необыкновенная способность чувствовать красоту жизни, ее скрытую гармонию, умение и в дисгармоничном мире быть счастливым. Любовь Эгмонта и Клэрхен, девушки из народа, показана как светлое, могучее и в то же время вполне земное чувство. По замыслу Гёте, герой воплощает собой подлинную человечность, свободное человеческое развитие. В конечном счете он гибнет не только потому, что оказался нерасчетливым и беспечным, попал в ловушку к герцогу Альбе, но прежде всего потому, что время для прекрасного, гармоничного человека, для «свободной человечности» («freie Menschlichkeit») еще не созрело. Финал пьесы, несмотря на предельный трагизм, дышит надеждой и оптимизмом. Перед казнью Эгмонту в тюрьме является умершая Клэрхен в облике Свободы. Обширная ремарка Гёте рисует это видение: «Среди льющегося прозрачно-ясного света Свобода в небесном одеянье покоится на облаке. Лицо ее – лицо Клэрхен; когда она склоняется над спящим героем, оно печально: она оплакивает его. Вскоре, овладев собою, она ободряющим жестом показывает ему на пучок стрел, а также на жезл и шляпу. Она призывает Эгмонта к радости и, дав ему понять, что смерть его принесет свободу провинциям, хочет увенчать его, как победителя, лавровым венком» (здесь и далее перевод Н. Ман). Эгмонт пробуждается в тот момент, когда венок парит над его головой. Ободренный чудесным видением, он мужественно, с просветленно-радостным чувством, идет на смерть, сознавая ее небесплодность и призывая народ сражаться за свободу: «О храбрый мой народ! Богиня победы летит впереди! Как море, что твои плотины сокрушает, круши и ты тиранов злобных крепость! Топите их, гоните вон с неправедно захваченной земли!…Я умираю за свободу Для нее я жил, за нее боролся и ей в страданьях я приношу себя в жертву…За родину идите в бой! За благо высшее сражайтесь, за свободу. В чем вам пример я ныне подаю».
В «Эгмонте» заявили о себе и новые тенденции в области формы: пьеса написана, кажется, целиком в штюрмерской манере – импульсивной, порывистой прозой, но эту прозу пронизывает лиризм, музыкальная гармония, особенный ритм, который превращает прозу, особенно в финале, в сильно ритмизованную. Не случайно сама музыка, как героиня пьесы, выходит на авансцену, сменяя слова героя. Авторская ремарка гласит: «Когда он идет к двери, навстречу стражникам, занавес падает, вступает музыка и завершает пьесу победной симфонией». Внутреннюю музыкальность трагедии глубоко ощутил Людвиг ван Бетховен, написавший гениальную музыку к «Эгмонту» (1809–1810), исполненную необычайной духовной мощи.
Своеобразным манифестом «веймарского классицизма» и одним из совершеннейших по форме творений Гёте стала «Ифигения в Тавриде» («Iphigenie auf Tauris», 1786; опубл. 1787), самая классицистическая из его трагедий. Знаменательно, что «Ифигения» первоначально была написана прозой, но, взяв рукопись в Италию, Гёте переписал ее стихами. Именно в этом произведении, в самом его языке и стиле, воплотился новый идеал Гёте – «благородная простота и спокойное величие». Это едва ли не единственная вещь великого мастера, в которой он прямо обращается к античному сюжету. Кажется, самый дух эллинского искусства, дух Софокла и Еврипида, возродился в гётевской «Ифигении». Однако, обращаясь к античности, Гёте ставит в трагедии вопросы, которые глубоко волнуют его в данный момент, и прежде всего – вопрос о путях преобразования мира. Полностью отказываясь от штюрмерского бунтарства, поэт видит этот путь в духовном обновлении человека. Гуманность, благородство и красота спасут мир – таков генеральный вывод трагедии.
Гёте не случайно избрал один из самых жестоких и кровавых греческих мифов – о потомках Тантала, о роде Танталидов – Пелопидов – Атридов, о родовом проклятье, которое переходит из поколения в поколение, о том, как одна кровь влечет за собой другую, как даже справедливое возмездие превращается в преступление. Сама история этого рода символизирует неразумие и абсурдность мира. Этому кровавому хаосу противостоит Ифигения – ее ясный разум, ее благородная воля.
Некогда она сама стала жертвой, хотя и добровольной: она согласилась на то, чтобы ее родной отец, Агамемнон, принес ее в жертву богине Артемиде (Диане) ради попутного ветра ахейским героям. Богиня, восхищенная самоотверженностью девушки, заменила ее на жертвеннике ланью и тайно перенесла в Тавриду (на Крымский полуостров), в свой храм. Ифигения отвергает всяческое насилие и кровопролитие. Так, она добивается отмены варварского обычая приносить в жертву Артемиде всех чужеземцев в царстве Фоанта. Ифигения верит в благость богов и изначальную доброту человека. Она размышляет над проклятьем, висящим над ее родом, над тем, как прервать цепь кровавых преступлений. Гёте подчеркивает, что его героиня живет по принципиально иным законам – законам высшей человечности. Она уже давно мысленно простила своего отца, согласившегося пожертвовать ею во имя похода на Трою. Ифигения еще не знает, что за нее отомстила мать, Клитемнестра, убившая Агамемнона, а ее брат, Орест, мстя за отца, убил мать (вновь одна кровь повлекла за собой другую).
Гёте строит свою трагедию с мастерством, ничуть не меньшим, чем у античных трагедиографов и великих французских классицистов. При всей кажущейся «недейственности», при отсутствии внешнего действия (как и положено по строгим правилам классицизма), пьеса внутренне глубоко драматична и динамична. «Нерв» трагедии держится на все усиливающейся тяжести нравственных испытаний, обрушивающихся на Ифигению, на постепенном «узнании» страшной истины (как в «Царе Эдипе» Софокла), на смене душевных состояний героини. Перед Ифигенией дилемма: стать женой царя Фоанта, давшего ей приют, или освятить казнь двух пойманных чужеземцев, возродить кровавый обычай (этого требует Фоант в случае отказа). Захваченные – Пилад и Орест – открывают Ифигении те страшные события, которые произошли на ее родине (первый рассказывает об убийстве Агамемнона, второй – Клитемнестры). Она заново переживает всю трагедию своей семьи. И новое потрясающее ее открытие: в одном из чужеземцев она узнает своего брата. Теперь участь его в ее руках.
Ореста терзают Эринии, символизирующие бессонную, грызущую его совесть. Сознавая бесчеловечность совершенного им преступления, он желает одного – умереть. Его разум помрачен, он не может (или не хочет) узнать Ифигению, а узнав – просит смерти от ее руки. Ифигения решает спасти брата и физически, и духовно. Своей человечностью, своей чистой любовью, своей самоотверженностью она возрождает Ореста к жизни. Отрицая любое коварство и насилие, Ифигения открывает царю Фоанту хитроумный план Пилада и смело требует от царя отпустить их на родину. При этом она обращается прежде всего к его чувствам, к его сердцу: «Не рассуждай, а сердцу покорись. //…Государь! Не часто // Дается людям повод для таких // Высоких дел! Спеши творить добро!» (перевод Н. Вильмонта). Нравственный максимализм, благородство, высокая человечность Ифигении одерживают победу. Духовная красота и моральное совершенство спасают героев, преображают их. Точно так же совершенное искусство, возвышающее душу над убожеством обыденной жизни, видится Гёте как средство преодоления безобразия реальности, как истинный путь к неразрывно связанным свободе и красоте.
Нравственный максимализм, духовную мощь и красоту как важнейшие качества человека, и прежде всего художника, Гёте утверждает и в трагедии (или драматической поэме) «Торквато Тассо» («Torquato Tasso», 1786), о которой он сказал: «…кость от костей моих и плоть от плоти моей»[341]. В судьбе великого итальянского поэта, жившего в XVI в. при дворе герцога Феррарского, Гёте увидел много родственного своей судьбе. Он говорил: «Передо мной была жизнь Тассо и моя собственная жизнь; когдя я слил воедино этих двоих со всеми их свойствами, во мне возник образ Тассо, которому я, для прозаического контраста, противопоставил Антонио, – кстати сказать, и для него у меня имелось достаточно образцов. Что касается придворных, житейских и любовных отношений, то, что в Веймаре, что в Ферраре, они мало чем разнились…»[342]
В трагедии Тассо, не умеющего приспосабливаться и угождать, мечтательного, вспыльчивого и потому легко принимаемого за сумасшедшего, Гёте увидел парадигму судьбы художника вообще – художника, не умеющего изменять самому себе и своему искусству, верящего в его высокое предназначение. Поэт демонстрирует, что мир творчества и мир политических интриг несовместимы. Заточение Тассо, признанного невменяемым (возможно, это был способ расправиться с неугодным поэтом), – отражение несвободы художника в обществе. Но хуже всяческих заточений для Тассо – отказаться от верности своему «я», смириться, стать как все. На совет здравомыслящего Антонио – «не уступай себе», т. е. своим эмоциям, своему гневу, – потрясенный Тассо отвечает, что ему остается одно: «…мелодиями песен // Оплакивать всю горя глубину: // И если человек в страданьях нем, // Мне Бог дает поведать, как я стражду» (перевод С. Соловьева).
В 1788 г. Гёте вернулся в Веймар, по его собственным словам, «из богатой формами Италии… в бесформенную Германию, переменив радостное небо на угрюмое…». Он с горечью осознает, что почти никто не понимает его: «…друзья, вместо того чтобы подбодрить меня и снова со мной сблизиться, довели меня до отчаяния. Мое увлечение далекими, почти неизвестными им предметами, мои страдания, мои сожаления о покинутом они восприняли как обиду для себя, никто не сочувствовал мне, никто не понимал мою речь. В этом мучительном состоянии меня охватила растерянность, я лишился слишком многого, чему мои внешние чувства должны были найти замену; однако мой дух пробудился и стремился сохранить свою цельность». Стремясь сохранить эту цельность, не утратить в себе художника, Гёте отказывается от всякой административной деятельности и целиком отдается творчеству.
Еще в Италии Гёте задумал цикл любовных элегий в духе великих римских элегиков – Тибулла, Проперция, Овидия. Теперь же, после возвращения на родину, он получает дополнительный стимул от самой жизни: поэт полюбил простую работницу веймарской фабрики цветов Кристиану Вульпиус, которая стала его гражданской женой – в соответствии с законами сердца и природы и вопреки установлениям светского общества (только в 1806 г. Гёте обвенчается с Кристианой, чтобы их дети стали его официальными наследниками). В «Римских элегиях» («Elegien. Roma», позднее – «Römische Elegien», 1789) поэт бросает дерзкий вызов высшему свету и всем политиканам, объявляя, что отныне его укрытие – «держава Эрота»:
Чтите, кого вам угодно, а я в надежном укрытье, Дамы и вы, господа, высшего общества цвет… С вами также прощусь я, большого и малого круга Люди, чья тупость меня часто вгоняла в тоску. Политиканы бесцельные, вторьте все тем же сужденьям, Что по Европе за мной в ярой погоне прошли… Ныне ж не скоро меня разыщут в приюте, который Дал мне в державе своей князь-покровитель Эрот. (Здесь и далее перевод Н. Вольпип)Ориентируясь прежде всего на страстного, импульсивного и одновременно очень гармоничного Проперция, поэт Нового времени прославляет физическую и духовную красоту человека, полнее всего раскрывающуюся в любви: «Рим! О тебе говорят: “Ты мир”. Но любовь отнимите, // Мир без любви – не мир, Рим без любви – не Рим». С большой поэтической силой Гёте славит любовь в гармоничном единстве духовного и физического начал:
Чувствую кудри ее на груди. Я шею обвил ей. Спит, и мне на плечо давит ее голова. Радостное пробужденье! Часы покоя, примите Плод ночных услад, нас убаюкавших в сон. Вот потянулась она во сне, разметалась на ложе, Но, отстранясь, не спешит пальцы мои отпускать. Нас и душевная вяжет любовь, и взаимная тяга, А переменчивы там, где только плотская страсть.Поэт подчеркивает, что полнота мироощущения, любовь усиливают творческий жар: «Было не раз, что, стихи сочиняя в объятьях у милой, // Мерный гекзаметра счет пальцами на позвонках // Тихо отстукивал я». Возрождая дух и форму античного стиха, Гёте пишет свои элегии элегическим дистихом, в котором соединяются гекзаметр и пентаметр (точнее, усеченный гекзаметр). И форма, и содержание «Римских элегий» также являются своеобразным манифестом «веймарского классицизма»:
Чувствую радостно я вдохновенье классической почвой, Прошлый и нынешний мир громче ко мне говорят. Внемлю советам, усердно листаю творения древних, Сладость новую в том изо дня в день находя.«Классическая почва», ставшая для поэта своего рода духовным убежищем, помогала ему противостоять натиску хаотической реальности. С тревогой воспринимает он известие о революции во Франции. Глубоко убежденный в том, что общество, как и природа, должно развиваться не путем революционных взрывов, но путем постепенной органичной эволюции, Гёте осуждает революцию и неизбежно связанные с ней насильственные методы в цикле «Венецианские эпиграммы» (1794) и эпической поэме «Герман и Доротея» («Hermann und Dorothea», 1797), написанной гекзаметром. Последняя органично соединяет в себе жанровые черты идиллии – произведения о гармонии природного и человеческого, о мирной и тихой жизни в сельском уединении, на лоне прекрасной природы, и георгики – поэмы о радостях труда земледельца. Великим образцом для Гёте послужили «Буколики» и «Георгики» Вергилия. Однако немецкий поэт подчиняет жанровые формы идиллии и буколики живописанию современного ему бюргерского и крестьянского быта, размеренного уклада полугородской-полусельской провинции. Так же, как и у великого римского поэта, в гармоничный мир страшным диссонансом врываются насилие и жестокость, порожденные политикой, борьбой за власть: героиня поэмы, Доротея, вынуждена была бежать из рейнских земель, оккупированных французскими революционными войсками. Она едва избежала насилия, а ее жених, сочувствовавший революции, отправился в Париж, но был там вскоре посажен в тюрьму. Один из беженцев, судья, рассказывает о событиях во Франции, о том, как в начале революции все с энтузиазмом восприняли слова «о великих правах человека, // О вдохновенной свободе, о равенстве, также похвальном» (здесь и далее перевод Л. Бродского и В. Бугаевского). Однако вскоре за высокими словами обнаружились корыстные цели чиновников от революции и развращающее влияние последней на людей: «…K господству стали тянуться // Люди, глухие к добру, равнодушные к общему благу // Между собой враждуя, они притесняли соседей // Новых и братьев своих, высылая разбойничьи рати. // Грабить и бражничать стало начальство большое помногу, // Всякую мелочь хватали людишки поменьше…» Однако, несмотря на неблагополучие современного социального бытия, о котором не может забыть поэт, поэма преисполнена жаждой мира и гармонии.
Важной вехой в творческой эволюции Гёте стал 1794 г., когда началась его дружба с Шиллером. В письме к Гёте от 13 июня 1794 г. Шиллер предложил ему совместно издавать журнал «Оры», на что тот ответил согласием. В следующем письме, от 23 августа 1794 г., Шиллер проявил столь глубокое понимание творчества Гёте, что это положило начало их теснейшей дружбе и творческому сотрудничеству, оборвавшимся только из-за смерти Шиллера. Эстетическая мысль Шиллера, верного ученика Канта, соединилась с философско-эстетическими поисками Гёте. Так окончательно оформился «веймарский классицизм» – попытка средствами искусства подготовить человека к настоящей свободе.
Общение двух великих писателей дало новый творческий импульс им обоим. В историю литературы навсегда вошел 1797 г., получивший название «балладный»: оба поэта, соревнуясь друг с другом и вдохновляя друг друга, пишут великолепные баллады. При этом известно, что Гёте просто «подарил» некоторые сюжеты Шиллеру, считая, что они больше соответствуют дарованию друга (например, «Кубок», «Ивиковы журавли»). Сам же он также пишет в этом году баллады, достойные гения: «Кладоискатель», «Паж и дочка мельника», «Юноша и мельничный ручей», «Раскаяние дочки мельника», «Ученик чародея», «Бог и баядера», «Коринфская невеста». В них органично соединяются динамичность, конкретность, пластичность и глубина обобщения, сила чувства и философской мысли. В балладе «Бог и баядера» («Der Gott und die Bajadere», 1797) на сюжет индийской легенды Гёте, как и в «Римских элегиях», воспевает любовь, возвышающую и очищающую душу, обретающую силу и в самой смерти. Особенно знаменита «Коринфская невеста» («Die Braut von Korinth», 1797), в которой поэт противопоставляет излишне суровому аскетизму христианства языческое жизнелюбие и утверждает, что никакая религиозная вражда и даже смерть не могут одолеть любовь. Героиня баллады говорит своей матери, противящейся ее союзу с любимым человеком: «Знай, что смерти роковая сила // Не могла сковать мою любовь… // <…> Мать, услышь последнее моленье, // Прикажи костер воздвигнуть нам, // Освободи меня от заточенья, // Мир в огне дай любящим сердцам! // Так из дыма тьмы // В пламе, в искрах мы // К нашим древним полетим богам!» (перевод А. Толстого).
Эпоха художественного универсализма
В середине 90-х гг. Гёте обретает новое дыхание. В 1794–1796 гг. он возвращается к сюжету о Вильгельме Мейстере, кардинально перерабатывает «Театральное призвание…» и создает роман «Годы учения Вильгельма Мейстера» («Wilhelm Meisters Lehrjahre»). Это выдающийся образец «воспитательного романа», или «романа становления» (Bildungsroman, Erziehungsroman), в котором показано становление человеческой личности на широком социальном фоне, ее духовное взросление, ее «воспитание» самой жизнью. Это роман об искусстве и художнике (недаром само имя героя Meister по-немецки и есть «мастер»), в нем очень много из духовной биографии самого Гёте. Вильгельм, юноша из богатой бюргерской семьи, страстно увлеченный театром, порывает со своей респектабельной средой, странствует по Германии и проходит особую школу жизни, «годы учения», ищет себя самого и собственное предназначение. Роман сложен по композиции и универсален по охвату действительности. Здесь соседствуют трагическое и комическое, глубокий драматизм и житейская проза, а художественная проза часто сменяется стихами. Шедеврами немецкой лирики стали песни Миньон, или Миньоны, – самой загадочной героини романа. Девочка, выкупленная Вильгельмом у бродячих циркачей, она томится по своей далекой родине, страдает от неразделенной любви, предчувствует свою преждевременную смерть. В песнях Миньон с необычайной силой выражены ее тоска и томление, ее мятущаяся душа, рвущаяся к счастью и гармонии. Одна из самых знаменитых ее песен – «Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn…» («Ты знаешь край лимонных рощ в цвету…», ок. 1783), бесчисленное количество раз положенная на музыку:
Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn, Im dunkeln Laub die Gold-Orangen glühn, Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, Die Myrte still und hoch Lorbeer steht, Kennst du es wohl? Dahin! Dahin Möcht ich mit dir, о mein Geliebter, ziehn. Ты знаешь край лимонных рощ в цвету, Где пурпур королька прильнул к листу, Где негой юга дышит небосклон, Где дремлет мирт, где лавр заворожен? Ты там бывал? Туда, туда, Возлюбленный, нам скрыться б навсегда. (Перевод Б. Пастернака)Образ Миньон, а также трагическая и мрачная фигура Арфиста, с их иррациональностью и роковой предопределенностью, свидетельствовали о соприкосновении Гёте со становящимся романтизмом. Не случайно теоретик иенского романтизма Ф. Шлегель восторженно отозвался о романе, увидев в нем зеркало эпохи и одновременно универсальное единство поэзии и философии. Однако Гёте не был романтиком и возлагал надежды на сугубо просветительские методы преобразования действительности. Знаменательно, что в конце концов Вильгельм Мейстер, как и Фауст, выбирает практическую деятельность во имя счастья людей. Он становится членом тайного Общества Башни, цель которого – утверждение гуманности, распространение просвещения, преображение сознания людей. Прототипом Общества Башни послужили масонские ложи, братство «вольных каменщиков», к которому принадлежал и сам Гёте, как и многие другие выдающиеся деятели немецкого Просвещения. Во второй части дилогии – «Годы странствий Вильгельма Мейстера» («Wilhelm Meisters Wanderjahre», 1821) – Гёте, используя сложную символику, покажет идеальное общество, о построении которого мечтали Вильгельм Мейстер и его братья по духу. Это настоящий роман идей, экспериментальный роман.
Однако уже первая часть дилогии о Вильгельме Мейстере свидетельствовала, что в конце 90-х гг. Гёте подошел к новому этапу своего творчества – этапу синтеза и универсализма. Одним из первых это зорко подметил Шиллер, написавший своему старшему другу 17 января 1797 г., после выхода «Годов учения…»: «Теперь, мне кажется, законченный и зрелый, Вы возвращаетесь к Вашей юности и соединится плод с цветком». В позднем творчестве Гёте синтезируются все лучшие черты его художественного мира, идея гармоничной и свободной человечности дополняется идеей действенности, активности, столь свойственной штюрмерству. Этот синтез находит воплощение в «Вильгельме Мейстере» и еще в большей степени – в «Фаусте». Однако пройдут еще многие годы, прежде чем Гёте завершит оба своих грандиозных творения. Это будет время, когда на литературную арену окончательно выйдет романтизм. Отношение Гёте к романтикам сложно. Его сближал с ними интерес к народному творчеству, к тайнственному Востоку, но чужда была мистика, чужда была романтическая ирония вознесения над действительностью, попытка укрыться от последней в мире субъективной фантазии художника. В то время как романтики изображали человека смятенным и раздвоенным, Гёте был верен гармонически цельному человеку. В 1805 г. он публикует эссе о Винкельмане, где излагает основополагающие идеи «веймарского классицизма» о воспитании через гармоничную красоту и прекрасное искусство.
Универсализм, которому продолжал хранить верность Гёте, отразился в многообразии его эстетических и естественнонаучных занятий, в его поздней лирике. Итогом двадцатилетних исследований стал его труд «Учение о цвете» (1810), в котором великолепно разработаны психология и эстетика цвета. Глубоко понимая органическое единство и взаимосвязь национальных литератур, Гёте выдвигает идею «мировой литературы» (die Weltliteratur). Все более и более его духовный взор притягивает Восток – древний, средневековый и современный. Оттуда некогда пришло Слово (и первые письменные культуры, и Библия, и Коран), без которого невозможно представить себе современную цивилизацию, в частности – европейскую. Гёте отчетливо понимает, что только греческими корнями европейскую культуру объяснить нельзя, что для европейской литературы оказались равно важны пластичность эллинской поэзии и то стремление передать динамику духа, которое свойственно поэзии библейской. Так, в стихотворении «Lied und Gebilde» («Песнь и изваянье»), вошедшем в сборник «Западновосточный диван», поэт говорит:
Mag der Grieche seinen Ton Zu Gestalten drücken, An der eignen Hände Sohn Steigern sein Entzücken; Пусть из глины грек творит, Движим озареньем, И восторгами горит Пред своим твореньем, — Aber uns ist Wonnereich In den Euphrat greifen Und im flüss’gen Element Hin und wider schweifen. Нам глядеть милей в Евфрат, В водобег могучий, И рукою поводить В глубине текучей. Löscht ich so der Seele Brand? Lied es wird erschallen; Schöpft des Dichters reine Hand, Wasser wird sich ballen. Если грудь огнем полна, Будет песня спета; Примет формы и волна Под рукой поэта. (Перевод В. Левика)Давний интерес поэта к Востоку получил новое подкрепление в связи с появлением в 1812–1813 гг. переводов на немецкий язык стихотворений персидского поэта XIV в. Хафиза, изданных И. Хаммером.
Гёте был восхищен Хафизом, и это стало непосредственным импульсом к замыслу одного из самых его великих лирических сборников – «Западно-восточный диван» («West-östlicher Divan», 1819). Восторженное открытие Хафиза и новый взрыв интереса к культуре и поэзии Востока совпали с возвышенным и поэтическим увлечением Гёте Марианной фон Виллемер, которую он воспел под именем Зулейки. Зулейка (Зулейха), согласно 12-й суре Корана, – влюбленная в Юсуфа (библейского Иосифа) жена Потифара (в Библии у нее нет имени). Любовь Юсуфа и Зулейки – традиционный мотив любовной поэзии мусульманского Востока. Гёте не дерзнул представить себя в образе Иосифа Прекрасного и удовольствовался именем арабского поэта Хатема (точное имя – Хатем Зограи), который славился своей щедростью – качеством, очень ценимым немецким поэтом:
Если ты Зулейкой зовешься, Значит, прозвище нужно и мне. Если ты в любви мне клянешься, Значит, Хатемом зваться мне. (Перевод В. Левика)Марианна-Зулейка, тонко чувствуя стихи любимого поэта, отвечала ему своими стихами. Слегка обработав их, Гёте включил эти ответы в свой «Диван», как, например, следующие строки:
Плыл мой челн – и в глубь Евфрата Соскользнуло с пальца вдруг То кольцо, что мне когда-то Подарил мой нежный друг. Это снилось мне. Багряный Пронизал листву рассвет. Истолкуй мой сон туманный Ты, Провидец, ты, Поэт! (Перевод В. Левика)В «Западно-восточном диване» сплетаются воедино мотивы библейские (особенно связанные с творением мира, любовью Адама и Евы, а также с Песнью Песней), с кораническими и посткораническими сказаниями, вариации на темы арабской и персидской средневековой поэзии и особенно Хафиза. Чтобы создать сборник, Гёте занялся самыми настоящими научными штудиями, в том числе – на новом витке – библейскими исследованиями, собрал богатую ориенталистскую библиотеку. Показательно, что первоначально он хотел назвать сборник «Восточный диван западного поэта», подчеркивая, что, даже обращаясь к восточным мотивам, он остается самим собой, не теряет из виду жгучих проблем современности. Тем не менее окончательное название несет в себе более глубокий философский смысл: показать не только противостояние уставшего от потрясений Запада и исполненного жгучей жажды жизни и живительной мудрости Востока, но и их органичную, неразрывную связь, всеединство человеческой культуры.
Двенадцать книг (и двенадцать тематических блоков) «Дивана» разворачивают перед читателем грандиозную и целостную философско-поэтическую картину мира и души человека. Подводя горькие итоги потрясениям рубежа XVIII–XIX вв., наполеоновской эпохе, кардинально изменившей Европу, поэт утверждает, что именно Восток, долго дремавший, призван вдохнуть новые силы в истомленную социальными взрывами западную цивилизацию:
Север, Запад, Юг в развале, Пали троны, царства пали. На Восток отправься дальный Воздух пить патриархальный, В край вина, любви и песни, К новой жизни там воскресни. (Перевод В. Левика)Идея бесконечного обновления, рождения к новой жизни, и прежде всего через любовь и творчество, проходит через весь «Западно-восточный диван»: «Призовем любовь сначала, // Чтоб любовью песнь дышала…» Любовь Хатема и Зулейки – отражение великого закона жизни, закона, данного некогда миру Творцом, когда «любовь одушевила // Все стремившееся врозь»:
И безудержно и смело Двое стать одним спешат, И для взора нет предела, И для сердца нет преград. Ждет ли горечь иль услада — Лишь бы только слиться им, И Творцу творить не надо, Ибо мы теперь творим. (Перевод В. Левика)В «Западно-восточном диване» Гёте сформулировал – в стихотворении «Блаженное томление» («Selige Sehnsucht») – и свою великую формулу бытия – «Stirb und werde!» («Умри и возродись!»):
Und so lang du das nicht hast, Dieses: Stirb und werde! Bist du nur ein trüber Gast Auf der dunklen Erde. И доколь ты не поймешь: Смерть для жизни новой, Хмурым гостем ты живешь На земле суровой. (Перевод Н. Вильмонта)«Западно-восточный диван», отмеченный необычайной свежестью чувства и глубиной мысли, серьезностью и лукавой иронией, поразительной музыкальностью, с новой силой подтвердил неугасшие творческие потенции семидесятилетнего поэта.
Одним из шедевров поздней лирики Гёте стала «Трилогия страсти» («Trilogie der Leidenschaft», 1823–1824), связанная с последним страстным увлечением поэта, с последним взлетом чувств и последним «прости» миру любви. В первом стихотворении – «Вертеру» («Ап Werther», 1824), написанном позже остальных, в связи с новым изданием романа «Страдания юного Вертера», поэт вспоминает о «мученике мятежном», чья душа была так близка его душе, о роковой связи любви и смерти:
Ты мне напомнил то златое время, Когда для нас цвели в полях цветы, Когда, дневное забывая бремя, Со мной закатом любовался ты. Тебе – уйти, мне – жить на долю пало. Покинув мир, ты потерял так мало! …И вот опять неизъяснимый рок По лабиринту страсти нас повлек, Вновь обреченных горестной судьбе, Узнать разрыв, таящий смерть в себе. (Здесь и далее перевод В. Левина)Второе стихотворение – «Элегия» («Elegie», 1823) – непосредственно посвящено юной возлюбленной Гёте – Ульрике фон Левецов, с которой он познакомился в 1821 г. на курорте Мариенбад, когда ей было семнадцать лет, и встречался с ней именно в Мариенбаде в 1821–1823 гг. Поэт был настолько очарован Ульрикой, что хотел жениться на ней. Влюбленные даже обручились, однако против этого брака восстали родные Ульрики. Гёте вынужден был отказаться от встреч с ней. Возможно, он осознавал, какая бездна в виде пережитого им опыта пролегает между ними – как между Фаустом и Гретхен. Что означала эта любовь для Ульрики, возможно, демонстрирует вся ее дальнейшая судьба: она так и не вышла замуж, умерла, чуть-чуть не дожив до начала XX в., и тем самым связала собой эпоху Гёте и нашу современность. В «Мариенбадской элегии», как еще называется центральное стихотворение цикла, поэт великолепно передал очищающее и обновляющее воздействие любви, тем более сильное, чем более осознается, что она – последняя:
Уже, холодным скована покоем, Скудела кровь – без чувства, без влеченья, Но вдруг могучим налетели роем Мечты, надежды, замыслы, решенья. И я узнал в желаньях обновленных, Как жар любви животворит влюбленных. А все – она! Под бременем печали Изнемогал я, гас душой и телом. Пред взором смутным призраки вставали, Как в бездне ночи, в сердце опустелом. Одно окно забрезжило зарею, И вот она – как солнце предо мною. С покоем Божьим, – он душе скорбящей Целителен, так сказано в Писанье, — Сравню покой любви животворящей, С возлюбленной сердечное слиянье. Она со мной – и все, все побледнело Пред счастьем ей принадлежать всецело.Однако «Элегия» не только прославляет могучее и светлое чувство, но и выражает сердечную муку, боль от утраты возлюбленной, боль, сводящую с ума и влекущую к гибели, как некогда Вертера:
И ты ушла! От нынешней минуты Чего мне ждать? В томлении напрасном Приемлю я, как тягостные путы, Все доброе, что мог бы звать прекрасным. Тоской гоним, скитаюсь, как в пустыне, И лишь слезам вверяю сердце ныне. Мой пламень погасить не в нашей власти, Но лейтесь, лейтесь горестным потоком. Душа кипит, и рвется грудь на части. Там смерть и жизнь – в борении жестоком. Нашлось бы зелье от телесной боли, Но в сердце нет решимости и воли.Процесс преодоления боли и страдания, гармонизации чувств воссоздан в последнем стихотворении – «Умиротворение» («Aussöhnung», 1823), навеянном игрой польской пианистки Марии Шимановской, которая приехала в Веймар, чтобы специально играть для великого поэта. Гёте всегда любил и ценил музыку и в финальном стихотворении «Трилогии страсти» великолепно передал ее могучее обновляющее воздействие на душу человека, торжество великого принципа – «Умри и возродись!»:
Но музыка внезапно над тобою На крыльях серафимов воспарила, Тебя непобедимой красотою Стихия звуков мощных покорила. Ты слезы льешь? Плачь, плачь в блаженной муке, Ведь слезы те божественны, как звуки! И чует сердце, вновь исполнясь жаром, Что может петь и новой жизнью биться, Чтобы, на дар ответив щедрым даром, Чистейшей благодарностью излиться. И ты воскрес – о, вечно будь во власти Двойного счастья – музыки и страсти! (Перевод В. Левика)Поэт прощается с миром сильных страстей, но с ним остается напряженная и волнующая мысль, живущая в его творениях. Философская лирика последних лет насыщена глубокими размышлениями над жизнью человека и Вселенной. В ней многократно варьируется излюбленная мысль Гёте об органической связи всего сущего, части и целого, человека и универсума («все во мне, и я во всем»), о невозможности четкого разграничения внешнего и внутреннего. Так, в стихотворении «Эпиррема» («Epirrhema», ок. 1820), поэт призывает к целостному, всеобъемлющему охвату жизни, ибо только так можно приблизиться к ее непостижимому смыслу:
Мирозданье постигая, Все познай, не отбирая: Что – внутри, во внешнем сыщешь, Что вовне – внутри отыщешь. (Перевод Н. Вильмонта)О связи человеческой жизни с жизнью космоса, всего громадного мироздания, о бесконечной метаморфозе бытия, о вечном творческом горении говорит стихотворение «Одно и всё» («Eins und alles», 1821):
В безбрежном мире раствориться, С собой навеки распроститься В ущерб не будет никому. …Что было силой, станет делом, Огнем, вращающимся телом, Отдохновеньем – никогда. Пусть длятся древние боренья! Возникновенья, измененья — Лишь нам порой не уследить. Повсюду вечность шевелится, И все к небытию стремится, Чтоб бытию причастным быть. (Перевод Н. Вильмонта)Дополняет это стихотворение, составляя с ним своебразную дилогию, знаменитый «Завет» («Vermächtnis», 1829), где прославляется вечное бытие, вечный космос, органичной частицей которого является человек:
Кто жил, в ничто не обратится! Повсюду вечность шевелится. Причастный бытию блажен! Оно извечно; и законы Хранят, тверды и благосклонны, Залоги дивных перемен. (Здесь и далее перевод Н. Вильмонта)Поэт славит Творца – «того, кто звездам кругоходный // Торжественно наметил путь», но одновременно и человека, представляющего собой целую вселенную, где есть свое бессонное солнце – совесть, нравственный закон:
Теперь – всмотрись в родные недра! Откроешь в них источник щедрый, Залог второго бытия. В душевную вчитайся повесть, Поймешь, взыскательная совесть — Светило нравственного дня.Эти поэтические строки Гёте перекликаются со знаменитыми строками И. Канта: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще мы размышляем о них, – это звездное небо надо мной и нравственный закон во мне». До самой последней написанной им строки поэзия Гёте одухотворена высокой верой в человека, в его разум и совесть.
С 1809 г. и до конца дней Гёте работал над автобиографией «Из моей жизни. Поэзия и правда» («Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit»; последняя, четвертая, часть вышла после его смерти, в 1833 г.). В ней прослежена жизнь поэта до 1775 г., при этом в создании картины своей молодости, своего духовного развития Гёте достиг редкостной объективности. Это автобиография гения, но меньше всего Гёте говорит здесь о своей гениальности и больше всего о том, что помогло ему в его духовном и интеллектуальном совершенствовании, о тех людях, которые так или иначе повлияли на него. «Поэзия и правда» переросла рамки автобиографии и стала самым настоящим художественным произведением, в котором отражено самое удивительное – формирование великого человека.
Мы слышим живой голос Гёте еще в одной удивительной книге, о которой великий поэт уже не узнал, – в книге «Разговоры с Гёте в последние годы его жизни», написанной Иоганном Петером Эккерманом (1792–1854). Сын бедного коробейника, бывший пастушонок, потом солдат, военный писарь, Эккерман в 24 года самостоятельно подготовился к поступлению в предпоследний класс гимназии, потом – в Гейдельбергский университет. Восторженный почитатель таланта Гёте, Эккерман в 1823 г. прислал Гёте свои «Мысли о поэзии». Это так тронуло великого поэта, что он предложил молодому человеку должность своего личного секретаря. С 1824 по 1832 г. Эккерман ежедневно записывал каждое слово Гёте в беседах с ним. Так составилась удивительная книга – бесценный источник сведений о великом поэте, его пытливой, неустанной мысли.
«Гёте умолк. Я же сохранил в сердце его великие и добрые слова»[343], -так заканчивает Эккерман свою книгу. Гёте умолк 23 марта 1832 г., на 83-м году жизни, но он продолжает говорить с потомками в книге Эккермана, в своих творениях и прежде всего в своем «Фаусте».
3. Художественный космос «Фауста»
Самым главным, итоговым произведением Гёте, в котором великий поэт высказал самое заветное о себе, об изведанном им мире и человеке, стал «Фауст» («Faust», 1765–1832). С сюжетом о докторе Фаусте, почерпнутом из немецкой народной книги, Гёте прожил всю свою творческую жизнь – более шестидесяти лет, наполненных неустанными поисками истины. Быть может, именно поэтому в конечном итоге родился художественный феномен, являющий собой своего рода модель вселенной, родилась одна из величайших на земле книг, сама ставшая импульсом для создания новых книг, новых и новых осмыслений фаустовской темы, а значит – феномена человека.
История создания «Фауста». Источники сюжета. Специфика жанра и композиции. Функции прологов
Беспрецедентна творческая история гётевского «Фауста», хотя бы потому, что ни один писатель не работал ни над одним произведением так долго. Кажется, в этой истории есть нечто мистическое. Сюжет о Фаусте, обретенный поэтом в ранней юности, не отпускал его до скончания его дней: известно, что перед самой смертью Гёте держал в руках корректуру завершенного «Фауста» и еще вносил в нее некоторые правки, а затем положил ее в большой конверт с надписью: «Вскрыть после моей смерти». Так и было сделано, и полный «Фауст» пришел к читателю только после смерти поэта. Возникает ощущение, что Гёте не считал исполненным свое предназначение в земном мире, пока он не закончил «Фауста». Только после его завершения он смог спокойно уйти в мир иной, зная, что его земной урок выполнен.
Фигура Фауста, героя знаменитой народной легенды, ставшего жертвой своих дерзких желаний и поисков, тревожила воображение Гёте уже на самом раннем этапе его творчества во время учебы в Лейпцигском университете в 1765–1769 гг. Ныне гётеведы не сомневаются, что будущий «Фауст» «прорастал», как из зерен, из сцен, родившихся под непосредственным впечатлением от жизни в Лейпциге, городе студентов и профессуры, со сцены в погребке Ауэрбаха, с усмешливо-иронических поучений Мефистофеля, облаченного в профессорскую мантию Фауста, студенту, пришедшему искать школярской мудрости. В этих поучениях сказывается насмешка самого Гёте над схоластикой, тупой зубрежкой и псевдонаукой:
Употребляйте с пользой время. Учиться надо по системе. Сперва хочу вам в долг вменить На курсы логики ходить. Ваш ум, нетронутый доныне, На них приучат к дисциплине, Чтоб взял он направленья ось, Не разбредаясь вкривь и вкось. Что вы привыкли делать дома Единым махом, наугад, Вам расчленят на три приема И на субъект и предикат. <…> Еще всем этим не пресытясь, За метафизику возьмитесь. Придайте глубину печать Тому, чего нельзя понять. Красивые обозначенья Вас выведут из затрудненья. Но более всего режим Налаженный необходим. Отсидкою часов учебных Добьетесь отзывов хвалебных. Хорошему ученику Нельзя опаздывать к звонку. Заучивайте на дому Текст лекции по руководству. Учитель, сохраняя сходство, Весь курс читает по нему. И все же с жадной быстротой Записывайте мыслей звенья, Как будто эти откровенья Продиктовал вам Дух Святой. (Здесь и далее перевод Б. Пастернака)Чем больше Гёте входил после встречи в Страсбурге с Гердером в движение «Бури и натиска», чем более прочно занимал позицию одного из его лидеров, тем более привлекал его внутреннее зрение Фауст, который уже виделся ему как мятежный искатель истины, как титан духа, как «бурный гений». В 1772 г. была завершена трагедия «Фауст», написанная импульсивной штюрмерской прозой, соединяющей высокий пафос и просторечие. Как стало ясно позднее, это была первая редакция первой части окончательного «Фауста», но в то время Гёте еще не знал об этом и, вероятно, считал свое произведение в основном законченным. Он, однако, не торопился с его публикацией – возможно, предчувствуя, что над сюжетом еще предстоит работать, а быть может – из-за огромной требовательности к самому себе (известно, что он никогда не торопился отдать в печать свои шедевры и часто уничтожал рукописи, казавшиеся ему слабыми, равно как и все черновики, когда произведение было закончено).
После переезда в Веймар в 1775 г. поэт проверяет воздействие своего «Фауста» на друзьях и знакомых, читая его тем, кто собирается в его доме на поэтические вечера. Это о них, а также о друзьях по штюрмерскому кругу он позже напишет в «Посвящении», предваряющем окончательную редакцию «Фауста»:
Им не услышать следующих песен, Кому я предыдущие читал. Распался круг, который был так тесен, Шум первых одобрений отзвучал. Непосвященных голос легковесен, И, признаюсь, мне страшно их похвал, А прежние ценители и судьи Рассеялись, кто где, среди безлюдья.Среди тех, кто, затаив дыхание, слушал молодого Гёте, была страстная почитательница его творчества, фрейлина Веймарского двора Луиза фон Хеххаузен. Она попросила у поэта разрешения переписать для себя некоторые его неопубликованные произведения, в том числе и трагедию «Фауст». Гёте разрешил и забыл об этом. Много десятилетий спустя, готовя к изданию первую часть «Фауста», Гёте уничтожил все предыдущие материалы. Однако список, сделанный ничем не примечательной фрейлиной Веймарского двора, ждал своего часа. И вот в конце XIX в. произошло сенсационное открытие: один из немецких гимназистов принес своему учителю старую тетрадь из бабушкиного сундучка. Учитель переправил эту рукопись известному гётеведу Э. Шмидту, и тот ахнул, поняв, что перед ним неизвестное самостоятельное произведение Гёте о Фаусте. Атрибутировать рукопись было не очень трудно, хотя написана она была не рукой Гёте: Луиза фон Хеххаузен с пиететом сохранила абсолютно все особенности авторской орфографии великого поэта. Обнаруженный текст был условно обозначен как «Urfaust» («Прафауст», или «Пра-Фауст»), и он является бесценным средством для изучения замысла «Фауста» и его окончательного осуществления. Кроме того, «Прафауст» представляет художественную ценность сам по себе. Это драма (трагедия), предназначенная для сцены и поражающая непосредственностью и силой чувств. Главная сюжетная линия, как и в первой части, – любовь Фауста и Гретхен, завершающаяся гибелью героини. Особенной трагической силой отличается финальная сцена в тюрьме. В изображении безумия Гретхен Гёте сознательно вызывает аллюзии с Офелией в «Гамлете» и успешно соревнуется с самим Шекспиром. Тем не менее Гёте надолго отложил завершенную трагедию в ящик письменного стола.
На новом этапе поэт обратился к сюжету о «Фаусте» во время своего пребывания в Италии в 1786–1788 гг. Там, в Италии, оформляется эстетическая база «веймарского классицизма», экстатическая «внутренняя» штюрмерская форма окончательно уступает место форме гармоничной, являющейся выражением не менее гармоничного содержания, подчиненная поискам «свободной человечности», «прекрасного человека». Отсюда приходит идея пересоздания старого «Фауста» стихами, при этом сама стихотворная форма осмысливается как наиболее соответствующая новому гармоничному идеалу и выражению вечных идей. Теперь, по мысли Гёте, даже страдания должны обрести, согласно формуле Винкельмана, «благородную простоту и спокойное величие», должны «просвечивать» через прозрачно-кристаллическую совершенную форму, как солнце просвечивает сквозь облака. Кроме того, рождается замысел – целиком в русле «веймарского классицизма» – придать произведению более обобщенный, общечеловеческий смысл. Вот почему «Прафауст», который в своих основных эпизодах почти не отличался от окончательной версии, приобретает стихотворную форму Однако некоторые знаменитые сцены первой части окончательной редакции «Фауста» были написаны прямо в Италии (например, «Кухня ведьмы», «Лесная пещера»).
Вернувшись из Италии, Гёте дорабатывает многие сцены, расширяя их, пишет новые. В 1790 г. он публикует «Фауст. Фрагмент» («Faust. Ein Fragment»), где представлены в переработанном виде (прежде всего в стихотворной форме) отдельные эпизоды первой части «Фауста» (этих эпизодов меньше, чем в «Прафаусте»).
После некоторого перерыва поэт возвращается к работе над «Фаустом» в 1797 г. Не последнюю роль в этом сыграл Ф. Шиллер, прекрасно понимавший все величие грандиозного замысла Гёте и постоянно подталкивавший его к работе над этим сюжетом, который он сам шутя называл «варварским» (Шиллер имел в виду большую долю условности и фантастики в нем, а также соединение возвышенного и низменного, трагического и комического). Возможно, именно преждевременная смерть Шиллера в 1805 г. побудила Гёте – ради памяти друга – довести до конца обработку первой части и задумать вторую. Пока же, в конце 1790-х – начале 1800-х гг., он пишет «Посвящение» (24 июня 1797 г.), фиксирующее возвращение на новом витке к работе над «Фаустом», «Театральное вступление» (конец 1790-х гг.), «Пролог на небе» (1797–1800), завершает начатую еще в ранней юности сцену «У ворот» (1801), пишет знаменитое начало сцены «Рабочая комната Фауста» (1800–1801), где речь идет о договоре между Фаустом и Мефистофелем, создает интермедию «Сон в Вальпургиеву ночь, или Золотая свадьба Оберона и Титании» (1796–1797). Все это придает особую глубину и универсальность первой части «Фауста», дает ему новое дыхание. Первая часть в своем полном виде была написана в 1806 г., однако Гёте публикует ее лишь в 1808 г., в 8-м томе своего собрания сочинений.
Между 1797–1801 гг. у Гёте сложился план второй части «Фауста», однако окончательное его осуществление растянулось практически на тридцать лет. Работа над текстом продвигалась нелегко, с многочисленными паузами и перерывами. Отдельные наброски эпизодов второй части были созданы еще до вызревания окончательного плана произведения. Затем, после 1806 г., последовал долгий перерыв, когда Гёте не писал ничего, касающегося Фауста, но когда, безусловно, шла глубинная внутренняя работа, постепенно вызревали идеи. Интенсивная работа над второй частью начинается в 1825 г., и очень много сделал для этого Эккерман. Молодой человек своим огромным интересом к судьбе гётевского творения, к тайнам сюжета, своим пиететом и любознательностью, своими вопросами, тонкостью восприятия написанного побуждал поэта писать дальше. В 1827 г. Гёте опубликовал в 4-м томе своего последнего прижизненного собрания сочинений фрагмент «Елена. Классическо-романтическая фантасмагория. Интерлюдия к “Фаусту”», составивший позднее третий акт второй части. В 1828 г. в 12-м томе были напечатаны сцены при императорском дворе, вошедшие затем в первый акт. 1 июня 1831 г. Гёте сообщил своему другу Цельтеру, что «Фауст» наконец-то завершен. Однако он не торопится его публиковать, шлифует текст, вносит поправки, готовит рукопись в составе двух частей к печати. Гёте так и не увидел полного «Фауста» напечатанным: он вышел в свет в 1832 г. уже после кончины поэта в 1-м томе «Посмертного издания сочинений». Таким образом, история создания «Фауста» несет в себе память обо всех основных этапах творческой эволюции Гёте, отражает его большой творческий путь, как капля росы – огромный мир.
Непосредственным источником сюжета для Гёте послужила «Народная книга о Фаусте» (1587), в которой народное предание о чародее и чернокнижнике, продавшем душу дьяволу, было обработано Иоганном Шписом в духе назидательности и в жанре, близком к плутовскому роману. Само же предание имело под собой реальные факты: действительно, в XVI в. в Германии жил некий ученый по имени Фауст, подписывавшийся латинизированным псевдонимом Фаустус (немаловажным фактом для Гёте было то, что на латыни Faustus означает «счастливый»), и звали его то ли Иоганн, то ли Георг. Согласно дошедшим противоречивым сведениям, он преподавал в различных университетах. Более всех гордится своей «башней Фауста», в которой якобы находился его рабочий кабинет, старинный Гейдельбергский университет. По-видимому, Фауст действительно был неординарным человеком, ученым, искавшим новые пути постижения мира. Вероятно, он занимался модной тогда алхимией и оккультными науками, в результате чего и возникла легенда о его договоре с дьяволом. Книга Шписа, как и другие обработки и издания популярной народной книги в Германии XVI–XVII вв., имела откровенный религиозно-морализаторский характер в духе сурового лютеранства и осуждала Фауста.
Удивительно, но выдающиеся драматические и философские возможности немецкого сюжета впервые открыл не немецкий, но английский писатель – известный английский драматург, современник Шекспира, Кристофер Марло (1564–1593), написавший трагедию с весьма показательным названием: «Трагическая история доктора Фауста». Оно свидетельствует, что Марло увидел в истории чернокнижника, заключившего сделку с дьяволом, трагедию: именно он первым сделал Фауста трагическим героем и искателем истины, а не просто власти над миром и наслаждений, как в народной книге. Однако в соответствии с народным сюжетом сомнительные поиски героя осуждаются, а сам он в финале попадает в ад. Задумывая своего «Фауста», Гёте не был знаком с трагедией Марло, но хорошо знал «косвенные» ее «последствия» в немецком народном театре: пьеса английского драматурга была столь популярна, что по ней ставились кукольные спектакли, которые – чаще всего в анонимном виде – вернулись в Германию. Из этих кукольных пьес практически полностью выветрились трагизм и философский дух произведения Марло и остались в основном фарсовые эпизоды. Подобные народные ярмарочные сценки о Фаусте Гёте видел еще в детстве и, возможно, разыгрывал их в собственном кукольном театре, подаренном ему бабушкой.
По-настоящему немецкая литература открыла сюжет о Фаусте в эпоху Просвещения. Первым сделал это Г. Э. Лессинг, провозгласивший необходимость поисков самобытного пути немецкой литературы. В «Письмах о новейшей литературе» (1759) он предлагал отказаться от подражания французским классицистам, к которому призывали Готшед и его школа: «…в своих трагедиях мы хотели бы видеть и мыслить больше, чем позволяет робкая французская трагедия…» В качестве примера истинно немецкого сюжета, могущего послужить основой трагедии, которая будет сродни шекспировской, Лессинг указывал именно на сюжет о Фаусте, подчеркивая, что в нем «много сцен, которые могли быть под силу только шекспировскому гению». Лессинг хотел сам написать трагедию о Фаусте, но успел сделать только несколько набросков и оставил генеральный план, в котором существенно изменил финал: Фауст должен быть не наказан, но оправдан как неустанный искатель истины. Безусловно, трактовка Лессинга оказала влияние на окончательный замысел Гёте. В целом же именно под влиянием Лессинга и отчасти уже под влиянием «Прафауста» Гёте к фигуре Фауста были прикованы взоры многих представителей штюрмерской литературы. Так, различные по жанру произведения о Фаусте создали Я. Ленц (сатирический фарс о Фаусте), Ф. Мюллер (Мюллер-живописец; «Сцены из жизни Фауста», 1776; драматический фрагмент «Жизнь и смерть доктора Фауста», 1778), М. Клингер (роман «Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад», 1790). Завершая свое произведение, когда практически никого из них уже не было в живых, Гёте, вероятно, ощущал особую ответственность перед всей немецкой литературой за то, чтобы сделать своего «Фауста» самой многомерной и исчерпывающей интерпретацией знаменитого сюжета. Впрочем, парадокс состоит в том, что именно благодаря Гёте он и стал всемирно знаменитым.
«Фауст» – одно из самых удивительных и в то же время странных, причудливых творений человеческого гения. Он необычайно сложен и многогранен как с точки зрения заключенных в нем проблем, так и с точки зрения презентации этих проблем со стороны формы (жанра, композиции, языка, стиля, ритмических структур). В нем соединились, кажется, все оттенки поэтического языка: стиль философского трактата – и живая народная речь, вплоть до просторечия; высокое, трагическое – и самое низменное, даже вульгарное; прозрачнощемящая искренность интонации в песенках Гретхен, простеньких внешне, но скрывающих за этой обманчивой внешностью чрезвычайно трудную в художественном отношении «неслыханную простоту» (Б. Пастернак), – и ядовито-ироническая, саркастическая стихия житейских максим Мефистофеля. В «Фаусте» сошлись, как в учебном пособии по стихосложению, все мелодии и ритмы, все стихотворные размеры, выработанные европейской литературой, – от античных ямбических триметра и тетраметра (размеров греческой трагедии и комедии) до белого стиха шекспировских трагедий, от простонародного немецкого книттельферса и песенного дольника – до александрийского стиха и итальянской октавы. Вся эта разнородная глыба, сцементированная воедино поэтическим гением Гёте, требует особой чуткости и особого таланта от переводчика, берущегося передать «Фауста» на другом языке.
Одной из самых примечательных особенностей стиля «Фауста» является соединение, казалось бы, несоединимого: конкретности изображения, жизненного правдоподобия и одновременно условности, аллегоричности, глубокой и сложной символики. Как известно, подобное сочетание несочетаемого (discordia concors) – одна из показательных черт искусства барокко. В «Фаусте» действительно присутствуют яркие барочные черты, но не только они. В его художественной природе переплавились в довольно пестрое и все же единое целое черты барочные, рокайльные, классицистические, сентименталистские, преромантические или даже романтические… Возможно, этот перечень совсем не полон, ибо в «Фаусте» в наибольшей степени воплотился художественный универсализм Гёте, полифоничность и полистилистичность его творчества. Тем не менее две своеобразные стилевые доминанты свойственны двум частям произведения: в первой – доминанта «средневеково-готическая», достигающая наибольшей полноты в мрачной и одновременно сниженно-телесной фантастике «Вальпургиевой ночи», во второй – «классическая», достигающая апогея в третьем акте, где предстает образ Елены Прекрасной и где сама кристаллически-прозрачная форма воплощает идеальную красоту. При этом Гёте мастерски использует и переосмысливает самые различные мифологические сюжеты и мотивы – от средневековых европейских до античных и библейских.
Так же сложна и не поддается однозначному определению жанровая природа «Фауста». Традиционно творение Гёте называют трагедией, что и фиксируется как подзаголовок в многочисленных изданиях. Однако сам автор не был согласен с таким определением и предложил более точное – драматическая поэма. Действительно, «Фауст» наиболее очевидно несет в себе черты драмы и эпической поэмы. Если «Прафауста» Гёте совершенно точно предназначал для сцены, то окончательного «Фауста» – вряд ли. Для пьесы (трагедии как разновидности драмы) «Фауст» слишком велик по объему. Кроме того, автор не очень заботился о возможности сценического воплощения своего создания. Не приходится сомневаться, что такая забота была хорошо знакома Гёте, ибо он писал драматические произведения в чистом виде и сам ставил их на сцене Веймарского театра. И хотя после его смерти «Фауст» шел в том же Веймарском театре, все же его театральные постановки редки (чаще всего ставится первая, наиболее сценичная, часть) и с ними связаны особые трудности: слишком много символики, условных персонажей, которых трудно представить на сцене, как, например, Гомункул или блуждающий огонек, бутоны роз или всякая мелкая нечисть, приветствующая своего патрона – Мефистофеля, и т. и. (трудности касаются прежде всего второй части произведения). Несомненно, Гёте шел вслед собственному свободному вдохновению и воображению, не ориентируясь строго ни на один из известных жанров или даже родов литературы. В «Фаусте» сливаются огромное пространство и широкое дыхание эпопеи, напряженный драматизм и обостренный трагизм, самый проникновенный лиризм (вплоть до включения в текст самостоятельных лирических произведений, как, например, «Посвящение» или песни Гретхен). Здесь очевидна сложная синтетичность жанра, органичное слияние всех трех родовых начал поэзии – эпоса, лирики, драмы. В «Фаусте» есть черты мистерии и миракля, балаганного фарсового театра, в нем встречаются ядовитые эпиграммы и возвышенные философские гимны, черты комедии соседствуют с героикой эпической поэмы. Кроме того, Гёте, живо интересовавшегося музыкальным искусством, привлекали такие музыкальные драматические формы, как опера и опера-буфф (комическая опера). Р. М. Самарин и С. В. Тураев отмечают особую музыкальность второй части «Фауста»: «Музыкальная по всему своему существу, вторая часть трагедии Гёте… приближается к феерической опере. Речитативы, хоры, арии, многочисленные трио (например, Три парки, Нужда, Надежда и Мудрость, Трио фурий, Три святых отца) создают композиционную основу многих сцен второй части»[344]. Некоторые исследователи (в частности, А. А. Аникст) уподобляют сложную полистилистичную поэзию «Фауста» симфонии. Ясно одно: сложнейшие задачи и проблемы, поднятые Гёте в его произведении, вызвали к жизни и чрезычайно сложную жанровую форму.
«Фауст» поражает и своей композицией, которая на первый взгляд кажется хаотичной и даже алогичной. Так, первая часть делится – в духе штюрмерской эстетики – на отдельные сцены, которые не обязательно должны быть связанными друг с другом, однако именно в первой части прослеживается достаточно стройная фабула, придающая ей единство: встреча Фауста с Мефистофелем, заключение договора между ними, испытание любовью, завершающееся гибелью Гретхен. Вторая же часть состоит из пяти канонических актов классицистической трагедии, неумолимо влекущих за собой представление о единстве времени, места, действия. Однако ничего этого не обнаружит читатель: связь между актами – глубинная, на уровне кардинальных проблем, действие происходит в различные времена и в различных местностях; по сути дела, каждый из актов представляет собой самостоятельную пьесу, их связывает только фигура Фауста, его поиски. Гетерогенность общей структуры «Фауста» слегка сглаживается тем, что каждый из пяти актов также состоит из отдельных сцен, имеющих, как и в первой части, собственные названия. Кроме того, и в первой части есть сцены, на первый взгляд самодостаточные, не очень связанные с остальными (например, «Вальпургиева ночь» и тем более «Сон в Вальпургиеву ночь»). Все эти сложности и странности так или иначе художественно оправданы и служат той сверхзадаче, которую Гёте поставил в тексте: раскрыть максимально полно картину духовного и социального бытия человека, выстроить собственный космос, в концентрированном виде несущий в себе законы универсума.
Одной из бросающихся в глаза «странностей» «Фауста» является наличие в нем трех прологов. Закономерно возникают вопросы: зачем столько? не слишком ли много для одного произведения? не есть ли в этом что-то предельно искусственное? Безусловно, с одной стороны – искусственное, но с другой – все, что создает художник, является искусственным миром и одновременно миром искусства, благодаря которому (и особенно в русле концепции «веймарского классицизма») мы лучше постигаем мир действительности и собственный духовный мир. И если поэт счел необходимым, чтобы в величественное «здание» его «Фауста» читатель входил по «ступеням» трех прологов, то это целиком оправдано. Действительно, три пролога образуют своего рода «врата» в сложный мир гётевского творения, причем каждый из прологов постепенно приближает нас к пониманию сути целого, всего художественного замысла и даже ключевых проблем, поднятых в тексте.
Гёте открывает «Фауста» чудесным лирическим стихотворением, написанным октавами, – «Посвящением» («Zueignung»). Это посвящение собственной юности, друзьям, когда-то так понимавшим поэта, это клятва в верности странным образам, властно завладевшим его душой еще на заре его творческого пути. Написанное тогда, когда уже четко высветились контуры первой части и совсем неясными были очертания второй, «Посвящение» несет в себе сложный комплекс чувств поэта, и прежде всего закономерное чувство тревоги: хватит ли силы духа и творческого вдохновения довести до конца задуманное еще в молодости? Эта тревога перебивается надеждой на духовное и творческое обновление в связи с возвращением к юношеским замыслам:
Вы снова здесь, изменчивые тени, Меня тревожившие с давних пор, Найдется ль, наконец, вам воплощенье, Или остыл мой молодой задор? Но вы, как дым, надвинулись, виденья, Туманом мне застлавши кругозор. Ловлю дыханье ваше грудью всею И возле вас душою молодею.Сама прозрачная, твердо-кристаллическая форма октавы, вероятно, понадобилась Гёте, чтобы ввести читателя в лабораторию нового «Фауста» – «Фауста», возобновленного на этапе «веймарского классицизма» в принципиально иной форме. Это напоминание о пребывании в Италии, где обрели новые контуры старые замыслы и возникли новые, напоминание о ее «классической почве». Октава – своего рода поэтический знак итальянского Ренессанса, ибо в этой твердой романской форме написаны самые известные произведения этого периода – грандиозные эпопеи Л. Ариосто и Т. Тассо.
В «Посвящении» Гёте с величайшей благодарностью и одновременно щемящей грустью вспоминает атмосферу дружеского круга, тех, с кем он делился замыслами, кому доверил когда-то первоначального «Фауста», и сожалеет о тех, кого нет рядом, кто ушел навсегда:
Вы воскресили прошлого картины, Былые дни, былые вечера. Вдали всплывает сказкою старинной Любви и дружбы первая пора. Пронизанный до самой сердцевины Тоской тех лет и жаждою добра, Я всех, кто жил в тот полдень лучезарный, Опять припоминаю благодарно. Им не услышать следующих песен, Кому я предыдущие читал. Распался круг, который был так тесен, Шум первых одобрений отзвучал. Непосвященных голос легковесен, И, признаюсь, мне страшно их похвал, А прежние ценители и судьи Рассеялись, кто где, среди безлюдья.Великий творец – вместе с тем просто человек, и так по-человечески понятна еще одна тревога Гёте: как поймут его нынешние молодые, как поймут его далекие потомки? Поэта утешает одно: он надеется, что в этом своем творении – поймут его или нет – он донесет до людей важнейшую правду, во имя которой он жил. Последняя октава с большой поэтической силой говорит о неразрывной связи поэта и созданного им мира, ибо этот мир рождается в его душе, эти образы он вскармливает кровью собственного сердца:
И я прикован силой небывалой К тем образам, нахлынувшим извне, Эоловою арфой прорыдало Начало строф, родившихся вчерне. Я в трепете, томленье миновало, Я слезы лью, и тает лед во мне. Насущное отходит вдаль, а давность, Приблизившись, приобретает явность.Таким образом, Гёте начинает своего «Фауста» с проникновенноискренней личностной интонации, желая, вероятно, чтобы читатель понял: перед ним прежде всего поэзия, излившася из глубины души поэта, перед ним самое заветное его творение, соединившее в себе все начала и концы, сужденное судьбой.
От внутреннего и личного, выраженного в «Посвящении», поэт идет к самому общему и обобщенному – к размышлениям о том, кому предназначено произведение, в какой форме оно предстанет перед публикой. На эти вопросы отвечает «Театральное вступление», или «Пролог в театре», аналогом для которого послужил пролог к драме классика древнеиндийской литературы Калидасы (IV–V вв.) «Шакунтала» («Сакунтала»): перед началом представления спорят директор театра, поэт и актер. Обычно «Театральное вступление» трактуют как эстетический манифест Гёте, как высказывание различных точек зрения на искусство. Все это, безусловно, есть во втором прологе, но следует помнить, что перед нами не просто эстетический трактат, но текст, который имеет прямое отношение к «Фаусту», что-то поясняет в нем. Каждый из персонажей «Театрального вступления» имеет свой резон, высказывает свою правду, и она оказывается правдой о «Фаусте» – той особенной «пьесе», которая развернется перед нашими глазами, как только поднимется занавес.
Так, поэт считает, что творит не на потребу толпы, заполняющей театр и часто совсем не понимающей искусства, но во имя высшей правды, во имя вечности. Он творит согласно законам правды и красоты: «Наружный блеск рассчитан на мгновенья, // А правда переходит в поколенья». Эта позиция чрезвычайно близка Гёте, особенно эпохи классики: подлинное, настоящее, правдивое неотделимо от прекрасного (стоит вспомнить слова Гёте «das Edle, das Gute, das Schöne» – «благородное, доброе, прекрасное», звучащие как девиз и цель «веймарского классицизма»). Поэт может творить только тогда, когда у него есть убежище, святая обитель на горных вершинах: «Нет, уведи меня на те вершины, // Куда сосредоточенность зовет, // Туда, где Божьей созданы рукою // Обитель грез, святилище покоя». Автор «Горных вершин» прекрасно знал, что значат сосредоточенность и высокое вдохновение, сколь необходимы они для творчества, сколь нужно поэту спасение от пошлой суеты земной жизни.
Комический актер, наоборот, считает, что настоящее искусство должно быть обращено к современникам, должно говорить о насущных проблемах, волнующих в первую очередь молодое поколение:
Довольно про потомство мне долбили. Когда б потомству я дарил усилья, Кто потешал бы нашу молодежь? В согласье с веком быть не так уж мелко. Восторги поколенья – не безделка, На улице их не найдешь.Это говорит сам Гёте, который знал, что значит быть «в согласье с веком», который выразил «восторги поколенья» в своем «Вертере». Актер полагает, что для достижения цели – создания искусства и вечного, и злободневного – необходимо соединить «в каждой роли // Воображенье, чувство, ум и страсть // И юмора достаточную долю». Это соединение зритель (читатель) сполна увидит в «Фаусте». Комический актер уверен, что искусство должно захватывать публику именно своей жизненностью, черпать из гущи жизни, демонстрировать ее разные стороны, чтобы каждый мог найти в нем что-то свое, соответствующее его настроению:
Представьте нам такую точно драму. Из гущи жизни загребайте прямо. Не каждый сознает, чем он живет. Кто это схватит, тот нас увлечет. В заквашенную небылицу Подбросьте истины крупицу, И будет дешев и сердит Напиток ваш и всех прельстит. Тогда-то цвет отборной молодежи Придет смотреть на ваше откровенье И будет черпать с благодарной дрожью, Что подойдет ему под настроенье.Комический актер совершенно точно и афористично отмечает дихотомичную природу «Фауста», в котором так много условности и даже «небылиц» и в то же время содержатся великие истины (как скромно говорит поэт устами актера, здесь можно найти «истины крупицу»). Это же свойство текста подчеркивает и директор театра:
Насуйте всякой всячины в кормежку: Немножко жизни, выдумки немножко, Вам удается этот вид рагу. Толпа и так все превратит в окрошку, Я дать совет вам лучший не могу.На первый взгляд кажется, что директор театра с его прозаически-грубоватой речью наиболее далек от позиции Гёте, что его волнует только заполненность зала публикой, т. е. внешний успех, утилитарная польза, доходы от театра, что ему дела нет до высоких идеалов, интересов молодого поколения или служения вечности. Однако не стоит забывать о том, что сам Гёте был директором Веймарского театра и, быть может, лучше других понимал заботы человека, занимающего подобную должность. Именно поэтому, вероятно, своему директору театра в «Театральном вступлении» он доверяет, при всей внешней несерьезности его речей, важные мысли, касающиеся неповторимой художественной природы «Фауста», его композиции, генерального хода действия. Так, он дает следующий совет поэту и актеру:
А главное, гоните действий ход Живей, за эпизодом эпизод. Подробностей побольше в их развитье, Чтоб завладеть вниманием зевак, И вы их победили, вы царите, Вы самый нужный человек, вы маг.«Гонку» эпизодов – стремительность событий и одновременно определенную «разорванность», фрагментарность действия мы и увидим в «Фаусте», как ощутим и особый вкус «рагу» (в немецком оригинале употреблено именно это слово, заимствованное из французского), в котором причудливо смешано самое разное – и тематически, и стилистически – и в котором каждый может найти нечто, соответствующее его вкусу, разуму, чувству Гёте дает понять, синтезируя все три точки зрения, что в его «Фаусте» будут подняты вечные и в то же время животрепещущие современные проблемы, в нем будут соединены высокое и низкое, возвышенно-серьезное и сниженно-комическое, в нем будет все, что только можно обнаружить в самой жизни. Кроме того, в финальных строках «Театрального вступления» задается генеральный ход действия, и эти важные слова поэт доверяет именно директору театра:
В дощатом этом балагане Вы можете, как в мирозданье, Пройдя все ярусы подряд, Сойти с небес сквозь землю в ад.Б. Л. Пастернак сумел в своем переводе сохранить легкость и блистательную афористичность звучания этого финала, уместив, как и у Гёте, именно в последнюю строку три сферы – небо, землю (земной мир) и ад. У Гёте сказано: «…Und wandelt mit bedächt’ger Schnelle // Vom Himmel durch die Welt zur Hölle» («…И пространствуете с немыслимой быстротой // С неба через [земной] мир к аду»). Это на диво емкая и энергичная формулировка последовательности развертываемых далее событий: буквально в следующем прологе читатель (зритель) оказывается на небе, затем спускается в земной мир, где действие, демонстрируя исчерпывающе «круг творения», усилиями Мефистофеля движется к аду. Однако попадет ли туда Фауст? Этот вопрос остается открытым до самого финала произведения.
Третий из прологов – «Пролог на небе» – безусловно, подводит читателя вплотную к главной философско-этической проблематике произведения, более того – он прямо вводит в эту проблематику. Создается ощущение, что Гёте, заботясь, чтобы мы не потеряли «философское зерно» в величественном космосе его «Фауста», решил дать его в прологе (безусловно, это также своего рода «странность»). Кроме того, уже здесь читатель получает первое представление о главных действующих лицах – Фаусте и Мефистофеле, об основном конфликте произведения и генеральных вопросах, поставленных в нем. Совсем небольшой по размерам, «Пролог на небе» предельно информативен, несет в себе множество аллюзий. Во-первых, он напоминает прологи к мистериям и мираклям в народном театре, когда раздвинувшиеся шторки-облака открывают небо, а в финале оно закрывается (ср. ремарку в конце сцены: «Небо закрывается. Архангелы расступаются»). Как и в мистериях, в «Прологе на небе» фигурируют Бог и архангелы. Во-вторых, возвышенный зачин пролога, монологи архангелов Рафаила, Гавриила и Михаила заставляют вспомнить торжественные интонации величественной поэмы Дж. Милтона «Потерянный Рай» (1667), которую Гёте перечитывал множество раз и которая оказала несомненное влияние не только на третий пролог к «Фаусту», но и на все произведение в целом, особенно на сложную диалектику добра и зла, представленную в образе Мефистофеля. В-третьих, в «Прологе на небе» явственны библейские аллюзии.
В начале пролога мы видим огромное пространство Вселенной, движущейся согласно совершеннейшим Божьим законам. «Дивятся ангелы Господни, // Окинув взором весь предел, // Как в первый день, так и сегодня // Безмерна слава Божьих дел». Кажется, в мире нет и не может быть никаких противоречий, никаких пороков. Тем более резок контраст, с которым входит в действие остроумный и ядовито-ироничный Мефистофель, ставящий под сомнение гармонию и целесообразность Божьего творения. На фоне стройной силлаботоники партий архангелов особенно рельефно выделяется подчеркнуто будничная прозаическая манера Мефистофеля, его иронически-бюрократическая стилистика, которой как нельзя лучше соответствует книттельферс (Knittelvers – «дубовый стих»), напоминающий рубленую рифмованную прозу (он слегка сглажен в переводе Б. Л. Пастернака):
К Тебе попал я, Боже, на прием, Чтоб доложить о нашем положенье. Вот почему я в обществе Твоем И всех, кто состоит тут в услуженье. Но если б я произносил тирады, Как ангелов высокопарный лик, Тебя бы насмешил я до упаду, Когда бы Ты смеяться не отвык. Я о планетах говорить стесняюсь, Я расскажу, как люди бьются, маясь.Мефистофель первым заводит речь о человеке и дает ему – высшему творению Господа – издевательски-уничижительную характеристику:
Божок вселенной, человек таков, Каким и был он испокон веков. Он лучше б жил чуть-чуть, не озари Его Ты Божьей искрой изнутри. Он эту искру разумом зовет И с этой искрой скот скотом живет. Прошу простить, но по своим приемам Он кажется каким-то насекомым. Полулетя, полускача, Он свиристит, как саранча. О, если б он сидел в траве покоса И во все дрязги не совал бы носа!Таким образом, Мефистофель осмеливается судить Божье творение, высказывает жесткое, нелицеприятное мнение о человеке. Однако ни Господь, ни сам Гёте не могут согласиться с подобной точкой зрения. Поэтому Господь и вспоминает Фауста, который должен опровергнуть мнение Мефистофеля, отстоять достоинство человека и Самого Бога. Изображая спор о человеке между Господом и Мефистофелем, Гёте сознательно опирался на ветхозаветную Книгу Иова (в оригинале – Ийов; ок. V в. до н. э.), в экспозиции которой неведомый древнееврейский поэт впервые описал подобный спор между Богом и Его оппонентом – еще не сатаной, а просто сатаном (сатан в переводе с иврита – «спорщик», «оппонент», «обвинитель», «противник»[345]). Это некий ангел-скептик, который пришел отдельно от остальных «сынов Божьих», т. е. ангелов, и, как он сам говорит о себе, «от обхода земли, от скитаний по ней» (Иов 1:7; здесь и далее перевод С. Аверинцева). Он утверждает, что даже самый идеальный праведник – такой, как Иов, – богобоязнен и непорочен небескорыстно: «Разве не за мзду богобоязнен Иов? // Не Ты ли кругом оградил его, // и дом его, // и все, что его? // Дело рук его Ты благословил, // разошлись по земле его стада» (Иов 1:9-10). Сатан предлагает испытать Иова и его веру: «Но – протяни-ка руку Твою, // дотронься до всего, что есть у него; // разве не похулит он Тебя // в лицо Тебе?» (Иов 1: 10–11). Бог дает разрешение испытать Иова, и несчастья – одно страшнее другого – обрушиваются на героя: гибель стад и слуг, затем – детей, затем – собственные тяжкие физические и моральные страдания. Однако Иов, несмотря на все эти беды и горькие сомнения в справедливости Промысла Божьего, все-таки сохраняет свою веру и способность радоваться жизни вопреки страданиям, ценить удивительную и не во всем подвластную человеку красоту сотворенного Богом мира. Сатан, предлагающий новые и новые испытания, терпит поражение. Иов же на новом витке постижения мира и Бога – через призму собственных страданий и более отчетливого видения зла, страданий других людей – приходит к «чистой» религии, основанной не на страхе наказания, не на ожидании награды, но только на величайшей любви к Тому, Кто движет и согревает мир. Иов демонстрирует, что вера – неотъемлемая черта настоящего человека, доказывает способность человека к самой бескорыстной вере. В центре же внимания знаменитой библейской книги находится самая сложная и болезненная для религиозного сознания проблема – проблема теодицеи, проблема осмысленности мира и оправдания Бога перед лицом самого страшного зла – страданий невинных.
Обращаясь к Библии, Гёте сразу же возводит проблематику своего произведения на уровень вечности, подчеркивает глобальность тех вопросов, которые будут подняты в «Фаусте». Важнейшие из них суть следующие: что есть человек? в чем его предназначение? был ли он достоин сотворения и Божьего избрания? Словом, как говорится в знаменитом Псалме 8-м, «что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» (Пс 8:5; Синодальный перевод). Сравним в Книге Иова:
Что есть человек, что Ты отличил его, занимаешь им мысли Твои, каждое утро вспоминаешь о нем, испытуешь его каждый миг? Когда отведешь Ты от меня взор, отпустишь меня сглотнуть слюну?(Иов 7:17–19)
Таким образом, вводя библейский контекст, Гёте дает понять, что центральный вопрос его «Фауста» – вопрос о человеке и человечестве, а на примере судьбы Фауста и испытаниях, через которые он будет проходить, и решится, кто же прав в споре – Господь или Мефистофель.
Получая разрешение испытать Фауста, Мефистофель искренне радуется, что для эксперимента избран такой выдающийся образец человеческой природы:
Пристрастья не питая к трупам, Спасибо должен вам сказать. Мне ближе жизненные соки, Румянец, розовые щеки. Котам нужна живая мышь, Их мертвою не соблазнишь.Если такой человек, как Фауст, будет сбит с пути и соблазнен Мефистофелем, победа последнего будет полной и окончательной. Предчувствуя ее, он дерзает предложить Господу пари:
Поспорим. Вот моя рука, И скоро будем мы в расчете. Вы торжество мое поймете, Когда он, ползая в помете, Жрать будет прах от башмака, Как пресмыкается века Змея, моя родная тетя.Последней строкой (точнее у Гёте – «знаменитая змея, моя нянюшка [мамушка]») Мефистофель намекает на свое близкое родство с пресловутой змеей, соблазнившей первых людей и наказанной Господом ползать на брюхе (пресмыкаться) и питаться прахом. Как известно, в христианской традиции эта змея (точнее – змей; в оригинале – нахаш) отождествлена с сатаной. Тем самым Гёте дает понять, что его Мефистофель – из когорты лукавых врагов человека и Бога, но это нечто особое, не тождественное сатане в традиционном понимании.
Итак, Мефистофель вызывает на спор Самого Бога, предлагая Ему испытать Его высшее творение – человека. Господь изначально не может согласиться с точкой зрения Своего оппонента, ибо, создавая этот мир и человека, давая последнему высочайший (и опасный) дар – свободу воли, Он заранее знал о результатах: «Он служит Мне, и это налицо, // И выбьется из мрака мне в угоду. // Когда садовник садит деревцо, // Плод наперед известен садоводу». Господь уверен, что, в какие бы бездны ни падал человек, он будет усилием духа выходить из них и совершенствоваться: «Он отдан под твою опеку! // И, если можешь, низведи // В такую бездну человека, // Чтоб он тащился позади. // Ты проиграл наверняка. // Чутьем, по собственной охоте // Он вырвется из тупика». И уже в «Прологе на небе», как обретенная всеобъемлющая формула человеческой жизни, из уст Господа звучит знаменитый гётевский афоризм: «Es irrt der Mensch, solang er strebt» («Человек заблуждается [ошибается], пока он стремится», или «Человеку суждено заблуждаться, пока он стремится»). В переводе Б. Л. Пастернака это звучит достаточно точно, а главное – афористично, как и у Гёте, составляя предложение в рамках одной строки: «Кто ищет – вынужден блуждать».
Таким образом, «Пролог на небе» является своего рода философским ключом к «Фаусту», без него не совсем ясен общий замысел произведения. Кроме того, именно в третьем прологе мы знакомимся с главными действующими лицами, получаем представление об их характерах и предназначении. Уже здесь Фауст характеризуется самим Мефистофелем как личность выдающаяся, как человек, наделенный высокими устремлениями и вечной неуспокоенностью духа:
Он рвется в бой, и любит брать преграды, И видит цель, манящую вдали, И требует у неба звезд в награду И лучших наслаждений у земли, И век ему с душой не будет сладу, К чему бы поиски ни привели.Фауст – не просто немецкий ученый эпохи Реформации, но человек вообще, воплощение всего человечества, образ, типичный в своей исключительности.
«Пролог на небе» очень важен для уяснения философской наполненности образа Мефистофеля. Имя этого героя, зафиксированное в немецких легендах, состоит из двух древнееврейских корней: мефис («разрушение») и тофель («безумие», «глупость»). Вероятно, это имя сатаны закрепилось в немецкой традиции благодаря созвучию с немецким Teufel («черт»), хотя, возможно и то, что последнее по своему происхождению связано с ивритским тофель. К тому же на иврите это созвучно со словом тофет – одним из обозначений ада (точнее, это ритуальная печь, в которой язычники совершали человеческие жертвоприношения, что сурово осуждалось пророками Израиля, и само слово приобрело резко негативное значение). Согласно замыслу Гёте, Мефистофель не идентичен дьяволу из народного предания или сатане в его каноническом христианском понимании. Он не задуман как абсолютное воплощение зла. Недаром в «Прологе на небе» Сам Господь говорит: «Тогда ко Мне являйся без стесненья. // Таким, как ты, Я никогда не враг. // Из духов отрицанья ты всех мене // Бывал мне в тягость, плут и весельчак». Гёте дает понять, что Мефистофель – только один из духов отрицания и, быть может, самый конструктивный. Не случайно, представляясь Фаусту, он скажет: «Я – дух, всегда привыкший отрицать!» И еще: «Часть силы той, что без числа // Творит добро, всему желая зла». Таким образом, Мефистофель воплощает диалектическое единство добра и зла (безусловно, эта интерпретация возникла не без влияния образа Сатаны из «Потерянного Рая» Дж. Милтона, хотя у последнего Сатана написан совсем иными красками, соответствующими высокому строю героической эпопеи). Это то зло, без которого невозможно постижение добра, то отрицание, без которого невозможно утверждение, то разрушение старого, без которого невозможно стремление к новому Мефистофель – воплощение скептицизма, сомнения и философского отрицания, без которых не бывает поисков истины. При этом и в душе Фауста живет определенное мефистофелевское начало. В этом смысле можно утверждать, что Мефистофель является своего рода двойником Фауста, что Фауст и Мефистофель – воплощение двух сторон единой жизни, двух половин человеческой души. Недаром и Гёте как-то обмолвился, что Фауст и Мефистофель – в равной степени создания его души. В беседе с Эккерманом (3 мая 1827 г.) он сказал, что не только «неудовлетворенные стремления главного героя, но также издевательство и горькая ирония Мефистофеля» составляют часть его «собственного существа». В единстве и постоянной напряженной борьбе Фауста и Мефистофеля, их невозможности друг без друга Гёте художественными средствами – и задолго до Гегеля – формулирует закон единства и борьбы противоположностей, источника всякого движения.
…Закрывается небо, согласно ремарке Гёте, и читатель оказывается на грешной земле, чтобы отправиться в путешествие с главными героями.
«Малый мир» «Фауста»: проблематика и поэтика I части
Первая часть «Фауста» очень часто определяется как «малый мир» произведения. С другой стороны, под «малым миром», микрокосмом, столь же часто понимаются человек, человеческое сознание, душа. Имеется в виду, что в первой части Гёте исследует прежде всего внутренний мир человека, законы его сознания и совести, разума и сердца, его чувства, душевные порывы и духовные искания. Поэта здесь волнует преимущественно феномен человеческой индивидуальности, частная жизнь и те проблемы, которые встают перед каждым: осмысление своего предназначения, поиски истины, отношения с другими людьми, самоосуществление в любви, вина перед близкими и любимыми, обретения и утраты на жизненном пути. В первой части Фауст в большей степени, чем во второй, предстает как конкретный человек, детерминированный конкретной средой и историческим временем – как немец эпохи Реформации, сложного и переломного времени. Одновременно Фауст, безусловно, – человек вообще, человек в его полноте и всецелости, гениальный и в то же время способный заблуждаться и совершать самые страшные ошибки, платя за них дорогой ценой.
Впервые мы видим Фауста в его рабочем кабинете – в тесной готической комнате с высокими сводами. Согласно комментарию самого Гёте, поэт написал знаменитую сцену вызывания Духа земли – и интерьер, и самого героя – в соответствии с гравюрой Рембрандта на этот же сюжет. На гравюре Фауст предстает очень старым человеком. В начале действия гётевскому Фаусту шестьдесят лет: известно, что дальше, в кухне ведьмы, герой сбросит половину своих лет – три десятка. Таким образом, путешествие с Мефистофелем Фауст начнет в тридцатилетием возрасте. Тридцать – возраст неслучайный. Еще в Библии он осознается как возраст духовной зрелости и начала духовных свершений: именно в тридцать лет Иосиф становится кормильцем Египта и постигает свое предназначение – спасти своих братьев, весь избранный род и будущий народ Божий; согласно законам Торы (Пятикнижия Моисеева), священники и левиты получали право служить в Скинии Завета, а затем в Иерусалимском Храме с тридцати лет; в тридцать лет Давид стал царем Израильского царства; именно в тридцатилетием возрасте Иисус из Назарета начал свою проповедь в народе Израиля…
Пока же Фауст подводит неутешительные итоги своей жизни:
Я богословьем овладел, Над философией корпел, Юриспруденцию долбил И медицину изучил, Но все же я при этом всем Был и остался дураком.Уже из первых строк, произнесенных героем, вытекает самая примечательная черта его характера – глубочайшая неудовлетворенность собой, неуспокоенность духа. Каждое слово поэта здесь предельно информативно. Так, не случайно перечисляются именно богословие, философия, юриспруденция и медицина: именно такие четыре факультета были в составе средневековых университетов. Это означало, что Фауст окончил все, что только мог окончить, что он узнал все, что было доступно научному познанию его времени. Он стал одним из самых образованных и знающих людей эпохи. Тем более поражает его резкое и искреннее недовольство собой: «Da steh ich nun, ich armer Tor!» («И вот стою я здесь, бедный дурак!» – Перевод наш. – Г. С.). Перед нами трагедия большого ученого, трагедия познания: он, отдавший всю жизнь познанию мира, уверен, что на самом деле ничего не знает, что человек вообще не может постичь тайну этого мира: «Und sehe, daß wir nichts wissen können!» («И вижу, что мы ничего не можем знать!» – Перевод наш. – Г. С.). При этом показательна высота научных притязаний Фауста, титаническая сверхзадача, которую он ставит перед собой: найти некий всеобъемлющий закон, движущий миром, постичь внутреннюю сущность мироздания – «Вселенной внутреннюю связь».
Абсолютно разочаровавшись в рациональных путях постижения мира, Фауст решает обратиться к магии. Как можно понять, это последняя отчаянная попытка, последнее средство осуществления прорыва в неизведанное:
И к магии я обратился, Чтоб Дух по зову мне явился И тайну бытия открыл, Чтоб я, невежда, без конца Не корчил больше мудреца, А понял бы, уединясь, Вселенной внутреннюю связь, Постиг все сущее в основе И не вдавался в суесловье.Чтобы написать небольшую сцену вызывания Духа земли, Гёте перечитал все известные ему руководства по магии. В конце концов он вручил своему герою знаменитую книгу Мишеля Нострадамуса, который в реальности был современником Фауста и книга которого не могла быть известной герою. Показательно, что Фауста привлекает прежде всего магический знак макрокосма – гексаграмма (она же – шестиконечная звезда Давида). И это понятно: гексаграмма – знак высшей гармонии, знак универсума, единый закон которого хочет постичь Фауст. Именно поэтому он с особыми чувствами рассматривает этот знак в книге Нострадамуса:
Какой восторг и сил какой напор Во мне рождает это начертанье! Я оживаю, глядя на узор, И вновь бужу уснувшие желанья. Кто из богов придумал этот знак? Какое исцеленье от унынья Дает мне сочетанье этих линий! Расходится томивший душу мрак. Все проясняется, как на картине. И вот мне кажется, что сам я – бог И вижу, символ мира разбирая, Вселенную от края и до края.Возникает вопрос: почему же тогда Фауст вызывает не этого Духа, а Духа земли? Причина очень проста: Дух макрокосма – высший, а Дух земли – низший в иерархии духов, и Фауст боится сразу замахнуться на трудное и величественное, он не ощущает в себе достаточно сил и смелости для этого, поэтому и утешает себя самообманом: «Я больше этот знак люблю. // Мне Дух земли родней, желанней». Однако, когда вызванный им Дух является в красноватом пламени, Фауст не может вынести его вида и ощущает только ужас. Страх героя столь очевиден, что Дух издевается над ним, насмешливо именуя его «сверхчеловеком» (Übermensch – слово, которое прочно войдет в обиход европейской культуры в конце XIX в. благодаря Ф. Ницше, но последний позаимствует его именно у Гёте и наполнит новым смыслом):
Ну что ж, дерзай, сверхчеловек! Где чувств твоих и мыслей пламя? Что ж, возомнив сравняться с нами, Ты к помощи моей прибег? И это Фауст, который говорил Со мной, как равный, с превышеньем сил? Я здесь, и где твои замашки? По телу бегают мурашки. Ты в страхе вьешься, как червяк?И хотя Фауст пытается возражать («Кто б ни был ты, я, Фауст, не меньше значу»), лик вызванного Духа так пугает его, что он даже не может понять, кто явился в ответ на произнесенное им магическое заклинание, и принимает его за собственный прообраз: «О деятельный гений бытия, // Прообраз мой!» В результате Дух исчезает, а Фауст в отчаянии восклицает: «Я, образ и подобье Божье, // Я даже с ним, // С ним, низшим, несравним!» И чуть позже, уже с трезвым и горьким осознанием своей абсолютной неспособности ни к чему, он скажет: «Какой я бог! Я знаю облик свой. // Я червь слепой, я пасынок природы, // Который пыль глотает пред собой // И гибнет под стопою пешехода». Гёте и здесь подчеркивает, что Фауст – необычный человек. Его отчаяние от осознания своего бессилия, от ощущения тупика, в который зашла его мысль, так сильно, что он готов свести счеты с жизнью, кажущейся ему абсолютно никчемной. С этого момента, когда контакт с миром духов так и не состоялся, Фауст хочет только одного: остаться в одиночестве и покончить с собой. Однако именно в этот момент ему мешает Вагнер, стучащийся в двери его кабинета.
Несомненно, вводя в действие Вагнера, ученика Фауста, Гёте предлагает сопоставить эти характеры. Уже традиционной стала интерпретация, при которой в Вагнере видят типичного ученого-схоласта и объясняют его образ как олицетворение средневекового сознания, а Фауста – как воплощение духа Ренессанса. Но так ли это? Во-первых, Вагнер – это сам Фауст в прошлом, давно пройденный им этап его собственного развития. Вагнер верит, что все можно узнать из книг, до всего дойти разумом, Фауст уже понимает, что жизнь намного сложнее и что вряд ли истину и счастье можно найти только в книгах; сугубо рациональному познанию он противопоставляет интуитивное: «Пергаменты не утоляют жажды. // Ключ мудрости не на страницах книг. // Кто к тайнам жизни рвется мыслью каждой, // В своей душе находит их родник». Вагнер же, согласно определенным «маркерам», расставленным Гёте, выступает как раз на высоте усилий и знаний Высокого Ренессанса. Так, взволнованный непонятными голосами, услышанными за дверью кабинета Фауста, он решил, что учитель декламирует на разные голоса из древнегреческих трагедий, и захотел немедленно попрактиковаться у него: «Простите, не из греческих трагедий // Вы только что читали монолог? // Осмелился зайти к вам, чтоб в беседе // У вас взять декламации урок». С огромным пиететом начали читать «с листа» греческие трагедии именно образованные люди Ренессанса, и Вагнер ни в чем от них не отстал. Он человек, настроенный энтузиастически, сердцем и душой отданный знаниям и уверенный, что можно познать все, нужно только время. В его уста Гёте вкладывает тезис Ренессанса о всемогуществе воли и разума человека: «Но мир! Но жизнь! Ведь человек дорос, // Чтоб знать ответ на все свои загадки». На это Фауст отвечает знаменитой репликой, грустно-иронической и несущей в себе явные аллюзии на не менее знаменитый вопрос Гамлета: «Что значит знать? Вот, друг мой, в чем вопрос». То, что является знанием для Вагнера, совсем уже не знание для Фауста. К тому же последний слишком хорошо помнит, как расплачивались лучшие, наиболее пытливые, идя непроторенными тропами постижения мира: «Немногих, проникавших в суть вещей // И раскрывавших всем души скрижали, // Сжигали на кострах и распинали, // Как вам известно, с самых давних дней».
Таким образом, именно взгляд Вагнера на мир и человека можно назвать ренессансным. Вагнер не знает внутренних сомнений и противоречий, столь свойственных Фаусту. Не случайно дальше, в сцене «У ворот», Фауст по воле Гёте продолжит сопоставление своей души и души Вагнера, подчеркивая целостность последнего и свою мучительную раздвоенность: «Ты верен весь одной струне // И не задет другим недугом, // Но две души живут во мне, // И обе не в ладах друг с другом». С одной стороны – цельность, ясность души и оптимизм Вагнера, с другой – раздвоенность, «непрозрачность» (смутность) и пессимизм Фауста. Кажется, не Средневековье и Ренессанс ведут здесь спор, но Возрождение с его идиллическим взглядом на мир и человека, с его утопией скорой гармонизации противоречий – и Новое время с его открытием таинственности и непознаваемости Вселенной, иррациональности бытия, неподвластности человеку мира и собственной судьбы… Несомненно, Фауст предстает как человек, опережающий свою эпоху и выходящий в Новое время, ощущающий невероятную сложность макрокосма и микрокосма, ограниченность своих знаний (тем большую, чем больше сами знания), видящий неопределенность и тайну там, где для Вагнера все определенно и ясно. Однако вот что странно: за обманчивой ясностью зрения Вагнера – неспособность видеть истинную суть вещей, а за «туманностью» и «смутностью» зрения Фауста – прозорливость. Так, именно Фауст замечает нечто необычное в черном лохматом пуделе, которого начисто не видит Вагнер, точнее, не усматривает в нем ничего странного, достойного внимания: «Обыкновенный пудель, пес лохматый, // Своих хозяев ищет по следам». На новые и новые тревожные вопросы Фауста, который видит, как пудель свершает таинственные магические круги, приближаясь к ним, как вслед за ним змеится пламя, Вагнер отвечает безапелляционно: «Не вижу. Просто пудель перед нами, // А этот след – оптический обман». Однако, по логике сюжета, прав Фауст: в шкуре черного пуделя скрывается Мефистофель. Вагнер не способен видеть хоть на шаг дальше и глубже банальной поверхности жизни.
В сцене «У ворот», гуляя в толпе крестьян, ремесленников, солдат, празднующих Пасху, Воскресение Христово, Фауст возрождается душой, переживает вместе с природой весеннее обновление, что и демонстрирует его знаменитый весенний монолог «Растаял лед, шумят потоки…», завершающийся признанием в любви к простым людям: «Как человек, я с ними весь: // Я вправе быть им только здесь» (ср. перевод Н. А. Холодковского: «Здесь вновь человек я, // Здесь быть им могу»; это еще одно выразительное противопоставление Фауста Вагнеру, который сторонится простого люда и чувствует себя неуютно в толпе: «Но от забав простонародья // Держусь я, доктор, в стороне»). Способность же Фаустовой души ощущать свое родство с «гущей жизни» и в ней преодолевать духовную и физическую смерть – одна из важнейших ее качеств. Предыдущая сцена, когда Фауст переживает безграничное отчаяние и оказывается на грани жизни и смерти, является своего рода ключом к пониманию закона, по которому движется и живет гётевский герой (и каждый, по мысли Гёте, настоящий человек, все человечество). Это путь вечного преодоления смерти и порыва к новой жизни – то, что Гёте сформулировал как «Stirb und werde!» («Умри и возродись!»). На каждом этапе своих духовных поисков Фауст отрицает себя прежнего и рождается в новом качестве, готовый к новым испытаниям и открытиям. На протяжении всего действия Гёте так или иначе расставляет внешние знаки-метафоры этого глубинного духовного движения, вечной метаморфозы бытия, однако первой и важнейшей из такого рода символических сцен является сцена в рабочем кабинете Фауста, когда герой решил покончить с собой. Он уже подносит к губам бокал с ядом, но внезапно слышит звон колоколов и звуки песнопений: это народ начинает праздновать Воскресение Христово. И Фауст говорит: «Река гудящих звуков отвела // От губ моих бокал с отравой этой…» А затем вновь скажет: «Вы мне вернули жизнь, колокола… // <…> Я возвращен земле. Благодаренье // За это вам, святые песнопенья!» Фауста спасают звуки начавшегося пасхального богослужения. Это напоминание, и весьма укоризненное для Фауста, о страданиях Христа во имя людей, о Его победе над смертью. Поэт включает в текст «Фауста» написанные им лаконичные и динамичные пасхальные песнопения, в самой своей структуре несущие динамику духа: «Смерти раздавлена, // Попрана злоба: // Новопреставленный // Вышел из гроба… // Христос воскрес! // Пасха Христова // С нами, и снова // Жизнь до основы // Вся без завес. // Будьте готовы // Сбросить оковы // Силой святого // Слова Его, // Тленья земного, // Сна гробового, // С сердца любого, // С мира всего». Напоминание о Христе, о Его подвиге во имя людей звучит и как укор, и как надежда для Фауста – надежда на обновление жизни, на то, что она еще не утратила смысла и понадобится людям. Недаром же настоящее возрождение души герой переживает в густой праздничной толпе, среди людей, задавленных жизнью, но чувствующих себя свободными хотя бы в день Пасхи, что и отмечает с радостным удивлением Фауст: «В день Воскресения Господня // Воскресли также и они».
Однако несмотря на бурный порыв к жизни Фауст не ощущает в себе необходимых сил, чтобы двигаться вперед, вновь искать истину и смысл жизни. Точнее, он переживает своего рода приливы и отливы этих сил, все те же до боли знакомые ему подъемы и спады духа. Показательно, что лекарство для души герой ищет на страницах Священного Писания – Библии: «…Лекарство от душевной лени – // Божественное Откровенье, // Всесильное и в наши дни. // Всего сильнее им согреты // Страницы Нового Завета». XVI век, в котором жил исторический Фауст, отмечен, как известно, попытками перевода на немецкий язык библейских текстов, и первым полным переводом, благодаря которому Библия вошла в каждый немецкий дом, стал перевод М. Лютера, родоначальника Реформации. Однако и до Лютера были ученые, стремившиеся к тому, чтобы Писание заговорило на живом языке простых людей. Поэтому Гёте ничуть не грешит против истины, заставляя своего Фауста начать лютеровский труд («Я по-немецки все Писанье // Хочу, не пожалев старанья, // Уединившись взаперти, // Как следует перевести»). Он так же, как и Лютер, начинает работу с новозаветных текстов, записанных на греческом языке, но начинает с конца – с четвертого из Евангелий, Евангелия от Иоанна: «“В начале было Слово”.
С первых строк // Загадка. Так ли понял я намек?» Фауст всматривается и вслушивается в загадочное, герметичное начало Евангелия от Иоанна, в котором евангелист обращается к самому началу Библии, к Книге Бытия, к описанию творения мира Словом Божьим и размышляет над тем, чем было это Слово: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Иоанн 1:1–3). Как известно, в греческом тексте стоит многозначное слово логос, которое можно перевести как «слово», но можно и как «сила», «мысль» и даже «смысл». Перебирая различные оттенки значения этого слова, Фауст дает свое понимание: «“В начале было Дело” – стих гласит». Тем самым Гёте подчеркивает действенный характер своего героя, уставшего от слов, от сугубо книжного знания, стремящегося к практическому преображению жизни.
Именно в тот момент, когда Фауст обостренно ощущает необходимость подлинного дела, но не чувствует в себе для этого достаточных сил, и появляется из шкуры пуделя Мефистофель, чтобы предложить ему договор. Очень важно, что Гёте кардинально изменяет смысл договора между Фаустом и Мефистофелем в сравнении с народной книгой. Там дьявол должен был служить герою и исполнять все его желания и прихоти двадцать четыре года, после чего Фауст навсегда оказывался в аду, а душа его погибала. Гёте снимает абсолютно все указания на какой бы то ни было срок. С одной стороны, это подчеркивает, что желания, поиски, устремления даже одного человека – тем более всего человечества – ничем не могут быть ограничены, что процесс поиска истины и смысла бытия бесконечен, познание мира безгранично. С другой стороны, – и это, возможно, главное – гётевский Фауст никогда не подписал бы договор в форме, заданной народной легендой, даже если бы срок службы Мефистофеля был увеличен во много раз. Дело в том, что старый договор, условия которого диктовал Мефистофель, нес в себе фатально предопределенный итог: как ни ищи истину, как ни жаждай наслаждений жизни или постижения тайн вселенной, все равно ты теряешь собственную душу. Гётевский же Фауст, несмотря на внешнее его неверие, хорошо помнит евангельскую истину: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Матф 16:26; ср. Мар 8:36). Именно поэтому гётевский герой сам диктует условия договора, кардинально переосмысливая их: только тогда Мефистофель завладеет его душой, если он успокоится в абсолютном довольстве собой, прекратит свои духовные поиски, обретет наивысшее мгновение и сможет воскликнуть: «Остановись, мгновенье!» (или: «Продлись, мгновенье!»):
Едва я миг отдельный возвеличу, Вскричав: «Мгновение, повремени!» — Все кончено, и я твоя добыча, И мне спасенья нет из западни. Тогда вступает в силу наша сделка, Тогда ты волен, – я закабален. Тогда пусть станет часовая стрелка, По мне раздастся похоронный звон.Мефистофель вынужден согласиться на эти условия. Показательно, что к гётевскому Фаусту совершенно неприменима тривиальная фраза о «продаже души дьяволу»: он и не думает продавать свою душу или отдавать ее в залог – он вступает в дерзкое соревнование с Мефистофелем, будучи абсолютно убежденным в своей победе. Таким образом, очевидно, что грандиозное пари, заключенное между Господом и Мефистофелем на небесах, «спустилось» на землю и весь дальнейший сюжет строится на стремлении как Фауста, так и Мефистофеля выиграть этот необычный спор. При этом Мефистофель будет готовить испытания, заманивать Фауста в различные ловушки, но тот будет упорно выбираться из них – часто набивая себе шишки, принося страдания другим, причем самым близким, болезненно раня собственную душу, но все равно упорно стремиться ввысь, к вершинам познания и духовности.
Собственно говоря, весь оставшийся текст строится как серия испытаний Фауста – тем более серьезных и трудных, чем дальше продвигается герой в постижении мира, других людей и себя самого. Главным испытанием первой части становится испытание любовью. С точки зрения Гёте (особенно Гёте-сентименталиста, ведь первая часть задумывалась и обретала сюжетные контуры именно в эпоху «Бури и натиска»), человек, не изведавший мощи страстей, великой силы любви, напрасно прожил жизнь. От Фауста-ученого, который практически всю жизнь провел за книгами, был закрыт один из животворящих источников жизни. Вот почему он жаждет постижения не только и не столько абстрактных философских истин, сколько живых чувств и страстей, даже если они обернутся болью и страданиями. Он хочет изведать все стороны жизни, ее сладость и ее горечь, зная, что не удовлетворится ни одним мгновением, ибо невозможно исчерпать многообразие бытия и эмоционально-духовной жизни человека, даже многообразие физических наслаждений:
Отныне с головой нырну В страстей клокочущих горнило, Со всей безудержностью пыла В пучину их, на глубину! В горячку времени стремглав! В разгар случайностей с разбегу! В живую боль, в живую негу, В вихрь огорчений и забав! Пусть чередуются весь век Счастливый рок и рок несчастный. В неутомимости всечасной Себя находит человек.Основное сюжетное ядро первой части – трагическая история любви Фауста и Маргариты. Гретхен (немецкая уменьшительная форма имени Маргарита) – один из психологически тончайших и сложнейших гётевских образов, при том, что эта героиня – олицетворение самой простоты. Это образ, наиболее конкретный в своей исторической обусловленности: перед нами девушка из народа, которая в значительной степени находится под властью предрассудков своей среды и своего времени, что частично становится причиной страшной трагедии – убийства Гретхен рожденного ею вне брака ребенка. Сознание Гретхен, кажется, целиком сформировалось под влиянием церковных догм и обывательских представлений, и ей очень трудно, если не сказать – невозможно, понять порывы и поиски Фауста, то, что происходит в его душе и сознании (самое показательное в этом плане – беседы о вере, на которые Маргарита вызывает Фауста, ибо тревожится, считая его неверующим).
В то же время, согласно замыслу Гёте, его героиня – воплощение чистоты, гармонии, удивительной цельности, которые только и можно найти в народной среде. Ей недостает аналитизма и понимания странной, раздвоенной Фаустовой души, но в то же время в ней есть то, чего так не хватает Фаусту, – именно целостности натуры, умения любить и в любви подниматься на высочайшую ступень душевной экзальтации, самоотверженности, способности к самопожертвованию. В этом смысле душа Гретхен родственна душе Вертера, а эта душа так близка самому Гёте. Именно поэтому образ Гретхен – один из самых дорогих для Гёте и один из самых важных в «Фаусте». Он символизирует Вечно-Женское (или Вечно-Женственное – «das Ewig-Weibliche»), о котором поет в самом финале «Фауста» мистический хор. Быть может, это Вечно-Женственное (Вечная Женственность) и есть та разгадка тайны бытия, которую так долго искал Фауст?[346] Во всяком случае финалом своего произведения Гёте дает понять, что Гретхен – образ не меньшей обобщающей силы и сложности, чем образ Фауста. Недаром Гёте не оставляет свою героиню в конце первой части, где заканчивается сюжет, с ней связанный, но переносит ее в финал второй, в финал всего произведения, где она именуется «одной из грешниц, когда-то называвшейся Гретхен». Грешница – но и праведница, великими страданиями и силой любви искупившая свои грехи, но продолжающаяся каяться. Без ее заступничества Фаусту будет заказан путь на небо и невозможно будет оправдание перед Богом.
Таким образом, каждый из центральных образов «Фауста» живет своего рода «двойной» жизнью – как образ очень конкретный и одновременно в высшей степени обобщенный, реальный и символический, помещенный в конкретно-историческое время и одновременно пребывающий в вечности. Именно проблема времени – одна из сложнейших во всем произведении, но в первой части с ней связаны особые загадки. Дело в том, что, согласно тем указаниям на время, которые дает Гёте, действие первой части – совместное путешествие Фауста и Мефистофеля до гибели Гретхен – занимает всего несколько дней (от трех до семи): оно начинается накануне Пасхи и стремительно завершается после Вальпургиевой ночи, т. е. после 1 мая. Однако очевидно, что вся история любви Фауста и Гретхен – их знакомства, сближения, рождения ребенка, его гибели, сумасшествия Гретхен, ее ареста и ожидания казни в тюрьме – требует гораздо более долгого времени, по крайней мере – года. Конечно же, это не ошибка великого художника, не «неспособность» удержать в руках логические нити действия, но сознательный отказ от внешней логики и испытание для читателя, чтобы он вдумался в логику более сложную и глубинную. Гёте экспериментирует со временем, сжимает его в несколько дней или растягивает на месяцы и годы. Действие происходит то в конкретно-историческом времени, то в некоем мифологическом времени, или метавремени – времени вечных духовных поисков. Гёте мастерски пользуется приемом ретардации (лат. retardatio – «замедляю») – приемом замедления действия через введение эпентетических (вставных), не совсем прямо связанных или совсем не связанных с основным сюжетом, сцен (пример первых – сцена «Лесная пещера» и знаменитая «Вальпургиева ночь», пример вторых – «Сон в Вальпургиеву ночь, или Золотая свадьба Оберона и Титании»). Благодаря этим сценам читатель получает психологическое впечатление довольно значительной продолжительности действия, а поэт – возможность органично соединить символическое время вечности и конкретное время индивидуального человека.
Основное действие первой части – испытание героя любовью, испытание на способность чувствовать, переживать пылкую страсть и одновременно сохранять высокий разум. Безусловно, Мефистофель хочет, чтобы история с Маргаритой превратилась в банальную историю удовлетворения чувственности, низменных инстинктов, ведь ему важно доказать, что человек со всеми его порывами и «искрами разума» – животное, не более. Кажется, на первых порах ему это удается. Но автор подчеркивает, что вся ответственность за трагедию Гретхен ложится именно на Фауста, который сам выбирает пути и средства достижения цели. Возможно, поэтому, согласно замыслу поэта, его герои в начале этой истории парадоксально меняются местами. Так, Фауст, специально омоложенный в кухне ведьмы, ошеломлен прежде всего физической красотой Гретхен, ее внешней привлекательностью и ведет себя с ней как заправский соблазнитель. Более того, он грубо и прямолинейно требует у Мефистофеля немедленно устроить ему любовное свидание с понравившейся девушкой, причем о любви не говорится ни слова – лишь о жажде плотского удовольствия: «Сведи меня с той девушкой». Даже Мефистофель поражен этой безапелляционностью: «С которой?» – «Которую я на углу настиг». Когда же Мефистофель терпеливо объясняет Фаусту, что Гретхен – абсолютно невинное существо, над которым у него нет власти («Она, как дети малые, невинна. // И у меня над нею власти нет»), тот заявляет еще более безапелляционно: «Ей более четырнадцати лет». Четырнадцать лет – возраст конфирмации, и это означает, что Гретхен сама отвечает за свои поступки перед Богом. Иначе говоря, Фауст хочет сказать Мефистофелю: «Что ты так волнуешься за ее моральный облик? Это не твое дело!» Мефистофель даже вынужден «прочитать мораль» Фаусту, обвиняя его в предельном эгоизме и в отсутствии всего святого (значит, святое существует для самого Мефистофеля!):
Ты судишь, как какой-то селадон. Увидят эти люди цвет, бутон, И тотчас же сорвать его готовы. Все в мире создано для их персон. Для них нет в жизни ничего святого. Нельзя так, милый, больно ты востер.Фауст же режет «правду-матку», и не очень приглядную, шантажируя Мефистофеля заключенным договором:
Напрасный труд, мой милый гувернер. Я обойдусь без этих наставлений. Но вот что заруби-ка на носу: Я эту ненаглядную красу В своих объятьях нынче унесу Или расторгну наше соглашенье.Однако постепенно отношение Фауста к Маргарите меняется, превращается из грубой чувственности в настоящее высокое чувство. Перемены в душе героя начинаются тогда, когда они вместе с Мефистофелем проникают в комнатку девушки с весьма неприглядной целью – оставить для нее подарок, чтобы купить ее любовь. Оказавшись в бедной и одновременно такой уютной, такой чистой комнате Гретхен (безусловно, эта чистота символизирует чистоту всего ее существа), Фауст переживает необычное смешанное чувство радости, умиротворения, покоя («О девушка, как близок мне твой склад!») – и волнения, смущения, стыда, даже страха, продиктованного предчувствием беды, которую он почти наверняка принесет в этот чистый и уютный мирок:
А ты зачем пришел сюда? Таким ты не был никогда. Чем ты взволнован? Чем терзаем? Нет, Фауст, ты неузнаваем. Дыханье мира и добра Умерило твои влеченья. Неужто наши настроенья Воздушных веяний игра? Когда б она, не чая зла, Сейчас бы в комнату вошла, В каком бы страхе и смущенье Ты бросился бы на колени!Гёте подчеркивает: главная вина Фауста в том, что он хорошо понимает, насколько все может закончиться бедой, понимает, что он явно внесет зло в жизнь Маргариты, разобьет этот хрупкий прекрасный мир, – и в то же время не может отказаться от счастья и наслаждения. Наиболее показательна в этом плане сцена «Лесная пещера», где Фауст вновь всматривается в свою странную душу и выносит себе жестокий приговор:
Скиталец, выродок унылый, Я сею горе и разлад, Как с разрушительною силой Летящий в пропасть водопад. А рядом девочка в лачуге На горном девственном лугу, И словно тишина округи Вся собрана в ее кругу. И, видишь, мне, злодею, мало, Что скалы с места я сдвигал И камни тяжестью обвала В песок и щебень превращал! Еще мне надобно, подонку, Тебе в угоду, палачу, Расстроить светлый мир ребенка!И хотя внешне последние слова обращены к Мефистофелю, на самом деле они звучат как укор героя себе, а вся сцена еще раз выразительно свидетельствует о том, что Мефистофель – часть Фауста: «В придачу к тяге ввысь, // Которая роднит меня с богами, // Дан низкий спутник мне. Я без него // Не обойдусь…» Вопреки разуму, подсказывающему, что Маргарита не будет с ним счастлива, что любовь в его душе неотделима от сомнений, что она не может стать главным смыслом его жизни («И я то жажду встречи, то томлюсь // Тоскою по пропавшему желанью»), Фауст не может отказаться от любви, от страсти, ибо она подлинна, сильна, она сильнее доводов рассудка:
Скорей же к ней, в ее уют! Пусть незаметнее пройдут Мгновенья жалости пугливой, И в пропасть вместе с ней с обрыва Я, оступившись, полечу.Любовь Гретхен, подчеркивает Гёте, не знает никаких сомнений. Натура целостная, самоотверженная, она, полюбив по-настоящему, уже не заботится о себе, она всей душой отдается своему чувству. С огромной силой нежная и трепетная душа Гретхен раскрывается в ее песнях – лирических шедеврах Гёте:
Что сталось со мною? Я словно в чаду. Минуты покоя Себе не найду. Чуть он отлучится, Забьюсь, как в петле, И я не жилица На этой земле. …Гляжу, цепенея, Часами в окно. Заботой моею Все заслонено. И вижу я живо Походку его, И стан горделивый, И глаз колдовство. И, слух мой чаруя, Течет его речь, И жар поцелуя Грозит меня сжечь. …Я б все позабыла С ним наедине, Хотя б это было Погибелью мне.Поразительно при этом, как перекликаются мысли и чувства Фауста и Маргариты. Однако это странно лишь на первый взгляд: на самом деле, несмотря на бездну между зрелым мыслителем, ученым, искателем истины и совсем молоденькой девушкой (согласно Гёте, Гретхен около шестнадцати-семнадцати лет), они близкие, родственные души. Но если Фауст несет в своей любви, помимо прочего, разрушительное начало, Гретхен – только созидательное и жертвенное. В истории Маргариты поэт тонко демонстрирует, как один непродуманный шаг влечет за собой лавину страшных событий, как от одного этого шага зависит наша судьба. Так, жаждая полного слияния с возлюбленным, Гретхен по его просьбе дает своей матери снотворное зелье, приготовленное Мефистофелем (важно, что Маргарита интуитивно ощущает: с этим спутником Фауста связано нечто ужасное). Мать должна была крепко уснуть на одну ночь, но заснула вечным сном. При этом намеренно остается неясным, хотел ли Мефистофель ее смерти. Скорее всего, это была роковая ошибка: возможно, доза снотворного была слишком большой. После смерти матери Гретхен переживает гибель брата, убитого на поединке Фаустом (при этом Фауст тоже не хотел его гибели, Валентин сам жаждал этой дуэли, жаждал отомстить за поруганную честь сестры). Наконец, Гретхен приходится пережить самое ужасное – убийство рожденного ею ребенка. Оказавшись совершенно одинокой в сложной ситуации, напуганная пересудами, предвидением людского и церковного суда, она утопила свою дочь. И только после этого поняла, что все суды и пересуды, которых она страшилась, – ничто в сравнении с судом собственной совести и Судом Божьим. Показательно, что героиня судит себя исходя не из субъективных побуждений и желаний, а из объективных результатов своих поступков, принимая на себя ответственность даже за невольные преступления, даже за чужую вину (она винит себя не только в убийстве ребенка, но и в гибели матери и брата). Так судит себя Эдип Софокла, являясь эталоном мужества и благородства. Так может вести себя только человек высокого и сильного духа, человек могучей, несмотря на все ошибки и заблуждения, совести. Гретхен карает себя самой высокой мерой: она так переживает свою вину, что ее сознание покидает этот мир. Она уже не здесь, она навеки там, в том жутком месте и моменте времени, когда погибает их с Фаустом дитя и, кажется, еще можно все изменить, еще можно спасти их дочь:
Скорей! Скорей! Спаси свою бедную дочь! Прочь, Вдоль по обочине рощ, Через ручей, и оттуда Влево с гнилого мостка, К месту, где из пруда Высунулась доска. Дрожащего ребенка Когда всплывет голова, Хватай скорей за ручонку. Она жива, жива!Гретхен ожидает в тюрьме смертной казни. Но что ей теперь суд человеческий? Вся она – одна сквозная рана, одна обостренная больная совесть. А что же Фауст? Где был он? Почему осталась одна в таком положении Гретхен? Почему он не пришел своевременно ей на помощь? Очевидно следующее: если он знал про то, что произошло с Гретхен, то Мефистофель уже может торжествовать. А еще точнее – Гёте не нужно было даже начинать разговор о таком герое, он сразу бы превратился в антигероя. Поэт дает нам понять, что Фауст страшно виноват перед Гретхен, но при этом сознательно смягчает его вину тем, что он ничего не знал. Но неведение не может быть полным оправданием, и читатель повторяет упрямые вопросы: почему не знал? почему позволил себе не знать? почему позволил отвлечь свое внимание от любимой?
Действительно, Фауст позволяет Мефистофелю увести себя во тьму «Вальпургиевой ночи»: именно эта сцена предшествует трагическому финалу первой части. Что же символизирует эта «готическая», «средневековая» ночь, как аттестовал ее сам поэт? Построенная на немецких средневековых преданиях, она воплощает мир подсознания, темных инстинктов, стихию распущенности и разврата, владычество животного начала в человеке. Известно, что в основе народных представлений о ночи, в которую на вершине Брокен в горах Гарца собирается нечистая сила, происходит шабаш ведьм, лежали древние языческие верования и ритуалы с позитивными коннотациями. Они были связаны с типологически общим для языческого мира праздником летнего солнцестояния – с ночью свободного соединения плоти, ночью совокупления, призванного обеспечить урожайность, плодородне, благополучие (ср. праздник Купалы у славян или Л иго у прибалтийских народов; подобное обожествление сексуальной сферы было свойственно самым древним языческим цивилизациям – например, шумерской, аккадской, где обряд священного брака, священного оплодотворения был центральным). Христианство, пришедшее на языческие земли, боролось с этими представлениями и обрядами, заменяя языческие праздники своими. Однако совсем искоренить стародавние народные обычаи было невозможно: они сохранялись в народном сознании, претерпевая перверсию, получая отрицательные коннотации. Так произошло и в этом случае: имя Вальпургии, христианской святой, день памяти которой Церковь назначила на бывшую ночь разгула плоти (ночь с 30 апреля на 1 мая), связалось в немецком народе с преданиями о бале нечистой силы на Брокене. Туда, в горы Гарца, и направляются Мефистофель с Фаустом. Согласно первоначальному замыслу Гёте, герои должны были достичь вершины Брокена и там предстать перед самим князем тьмы – сатаной, поучающим свою паству (сохранилась отдельная сцена, которую поэт все-таки в последний момент выбросил из «Фауста» в связи с ее откровенной непристойностью). Это лишний раз подтверждает, что Мефистофель не тождествен традиционному сатане, но вместе с тем указывает на стихию низменных животных инстинктов как на его родную стихию.
Как можно судить, все надежды Мефистофеля на то, что чувство Фауста к Маргарите останется на уровне примитивного вожделения, не оправдались, поэтому он хочет отвлечь внимание героя от Гретхен и заставить его с головой окунуться в омут чувственности и самых низких желаний. Он даже готов уступить Фаусту для танцев молодую красивую ведьмочку, а себе взять старую. Всем строем речи Гёте подчеркивает в этой сцене стихию распущенности, низменных страстей, цинизма:
Фауст (танцуя с молодою) Я видел яблоню во сне. На ветке полюбились мне Два спелых яблока в соку. Я влез за ними по суку. Красавица Вам Ева-мать внушила страсть Рвать яблоки в садах и красть. По эту сторону плетня Есть яблоки и у меня. Мефистофель (танцуя со старухою) Я видел любопытный сон. Ствол дерева был расщеплен. Такою складкой шла кора, Что мне понравилась дыра. Старуха Любезник с конскою ногой, Вы – волокита продувной. Готовьте подходящий кол, Чтоб залечить дуплистый ствол.Кажется, Мефистофель почти достиг своей цели: принудил Фауста забыть и о Гретхен, и о своих поисках. Однако внезапно какое-то видение привлекает внимание Фауста, тревожно напоминая Гретхен – все ту же прекрасную Гретхен, но закованную в колодки: «У девушки несчастный вид // И, как у Гретхен, облик кроткий, // А на ногах ее – колодки». Как деловито объясняет Мефистофель, это вовсе не Гретхен, а та самая Горгона Медуза, которой отрубил голову Персей и в облике которой на Брокене каждый видит свою подругу: «Тут колдовской обычный трюк: // Все видят в ней своих подруг». Тем самым поэт говорит о том, что всякий мужчина так или иначе виноват перед своей возлюбленной. Фауст же с болью и ужасом вглядывается в такой привычный и в то же время зловещий образ:
Как ты бела, как ты бледна, Моя краса, моя вина! И красная черта на шейке, Как будто бы по полотну Отбили ниткой по линейке Кайму, в секиры ширину.Это грозное предзнаменование: Гретхен должны казнить, и именно отрубить ей голову. И как ни старается дальше Мефистофель, как ни завлекает Фауста зловещими чудесами Вальпургиевой ночи, паноптикумом нечисти, он уже не может удержать его в этом вихре нечистых страстей. После сцены, выполняющей роль своего рода буфера и одновременно ретардации – «Сон в Вальпургиеву ночь, или Золотая свадьба Оберона и Титании» (в ней очевидны аллюзии как прямо на Шекспира, так и на Виланда с его «Обероном»), – герои возвращаются в суровую реальность – в «пасмурный день». Сцена, так и названная – «Пасмурный день. Поле», написана прозой. Нетрудно догадаться, что это фрагмент из старого текста «Фауста» – из «Прафауста». Почему же Гёте, переписав все стихами, оставил этот кусочек прозаическим? Понятно, не потому, что для него это было трудно технически. Дело в другом. Во-первых, проза подчеркивает возвращение Фауста из мира причудливой фантазии в мир грубой и жестокой прозы жизни. Во-вторых, и это самое важное, поэт хочет, чтобы читатель почувствовал абсолютную нелитературность, истинность и искренность страданий Фауста: именно в этой сцене он узнает об обстоятельствах, в которых оказалась Гретхен, и переживает такое волнение и такую боль, что было бы неестественно, если бы он в этот момент говорил стихами. Кажется, Фауст вообще утрачивает власть над словами. Перед нами неупорядоченный вихрь восклицательных предложений, точнее – фраз, через которые выражены предельные отчаяние и гнев: «Одна, в несчастье, в отчаянье! Долго нищенствовала – и теперь в тюрьме! Под замком, как преступница, осужденная на муки, – она, несравненная, непорочная! Вот до чего дошло! И ты допустил, ты скрыл это от меня, ничтожество, предатель! Можешь торжествовать теперь, бесстыжий, и в дикой злобе вращать своими дьявольскими бельмами! Стой и мозоль мне глаза своим постылым присутствием! Под стражей! В непоправимом горе! Отдана на расправу духам зла и бездушию человеческого правосудия! А ты тем временем увеселял меня своими сальностями и скрывал ужас ее положения, чтобы она погибла без помощи».
Здесь тонко отмечена типичная черта нашей психологии: найти другого виновного и тем самым хоть немного оправдать себя. Но Гёте подчеркивает, что герою нужно искать вину прежде всего в себе самом, в своих поступках. Вот почему Мефистофель останавливает этот вихрь фраз ледяным и правомерным вопросом: «Кто погубил ее, я или ты?» После этого Фаусту уже нечего сказать, он только, согласно ремарке Гёте, «дико смотрит по сторонам». Тем не менее в нем еще живет надежда, что Гретхен можно спасти, он требует от Мефистофеля перенести его к ней в тюрьму, освободить ее. Мефистофель дает понять, что это бесполезно, ибо он знает то, чего еще не знает Фауст: Гретхен сошла с ума, и даже Мефистофель не в силах вернуть ей сознание, разрушить стены ее внутренней темницы: «Я не могу разбить ее оков, не могу взломать двери ее темницы!» Однако Фауст живет последней надеждой – спасти ту, которую действительно любит и которую, по горькой иронии жизни, сам подтолкнул к гибели, как сделал это некогда, не желая того, шекспировский Гамлет, любя свою Офелию, «как сорок тысяч братьев любить не могут».
Без сомнения, финальная сцена первой части – «Тюрьма» – одна из самых сильных не только в «Фаусте», но и во всем творчестве Гёте. Она непосредственно воздействует на читателя даже через опосредованное впечатление от условной стихотворной формы (как пояснял
Гёте с позиций «веймарского классицизма», даже страдания должны быть благородными и не выражаться прямо, но просвечивать сквозь гармоничную форму, как солнце через облака). Недаром, по воспоминаниям современников, Б. Л. Пастернак, читая свой перевод «Фауста» на поэтических вечерах, никогда не мог дочитать сцену «Тюрьма» до конца: голос его дрожал, срывался, он начинал плакать (безусловно, у Пастернака эта сцена накладывалась на подтекст собственного страшного опыта: его возлюбленная, Ольга Ивинская, арестованная властями, потеряла в казематах Лубянки еще не рожденного ребенка). Гёте сознательно вводит в свой текст аллюзии на эпизоды с безумной Офелией в шекспировском «Гамлете»: и там и здесь – щемяще-трагическая атмосфера создается из обрывков бреда и народных песен, причем бред приобретает скрытую страшную логику, а песни в этом контексте – жестокий и жуткий смысл:
Чтоб вольнее гулять, Извела меня мать, И отец-людоед Обглодал мой скелет, И меня у бугра Закопала сестра Головою к ключу. Я вспорхнула весной Серой птичкой лесной И лечу.Так, словно превратившись в свою загубленную дочь, поет Маргарита, а затем и о себе говорит: «Усыпила я до смерти мать, // Дочь свою утопила в пруду». Только теперь Фауст осознает до конца, какое горе он принес Гретхен, разрушив ее чистый и хрупкий мир: «Как эту боль мне превозмочь?»; «Зачем я дожил до такой печали!» Гретхен в минутном просветлении сознания узнает Фауста, и в душе ее – ни тени упрека, только любовь:
Сквозь мрак темницы неутешный, Сквозь пламя адской тьмы кромешной, И улюлюканье, и вой Он крикнул «Гретхен!», милый мой! …Он тут! Он тут! Он все исправит! Где ужас завтрашней зари? Где смерть? Меня не обезглавят! Я спасена! Я в мыслях у того угла, Где встретила тебя впервые. Вот сад и деревца кривые, Где с Мартой я тебя ждала.Однако Гретхен не может уйти с Фаустом на волю, ибо жизнь для нее не имеет смысла после гибели родных, виновницей которой она себя осознает – осознает, несмотря на безумие:
Нельзя и некуда идти, Да если даже уйти от стражи, Что хуже участи бродяжьей? С сумою по чужим одной Шататься с совестью больной, Всегда с оглядкой, нет ли сзади Врагов и сыщиков в засаде!Невозможно бежать от суда собственной совести, и Гретхен хочет только одного – умереть, лежать в земле рядом с близкими, и сожалеет, что не с возлюбленным, которому наказывает жить:
Останься в живых, желанный, Из всех нас только ты И соблюдай сохранно Могильные цветы. Ты выкопай лопатой Три ямы на склоне дня: Для матери, для брата И третью для меня. Мою копай сторонкой, Невдалеке клади И приложи ребенка Тесней к моей груди. Я с дочкою глубоко Засну, прижавшись к ней, Жаль, не с тобою сбоку, С отрадою моей!Одновременно Гретхен смутно ощущает, что все изменилось, что не восстановить их прежней любви, что от Фауста веет каким-то ледяным холодом: «Но все теперь иначе. // Хоть то же все на вид, // Мне нет с тобой удачи, // И холод твой страшит». Гретхен отдает себя Божьему Суду («Я покоряюсь Божьему Суду») и взывает к Богу: «Спаси меня, Отец мой в вышине! // Вы, ангелы, вокруг меня, забытой, // Святой стеной мне станьте на защиту! // Ты, Генрих, страх внушаешь мне». Однако все равно ее последние слова обращены к Фаусту: «Генрих! Генрих!»
Как известно, правя окончательно корректуру, Гёте ввел в финальную сцену реплику, состоящую всего из одного слова: «Спасена!» Ее произносит Голос свыше в ответ на холодную констатацию Мефистофеля: «Она // Осуждена на муки!» Голос свыше – не только Голос
Божий, но и голос самого поэта, вносящего последние нюансы и расставляющего акценты: по мысли Гёте, Гретхен спасена благодаря своей обостренной совести, своим страданиям, благодаря тому, что взвалила на свои хрупкие плечи всю вину, не перекладывая ее ни на кого. И еще она спасена потому, что и в разрушении сознания сохранила в себе гармонию и способность самоотверженно любить. Поэтому и голос ее из темницы, звучащий, затихая, в финале первой части, – голос не упрека, не жалобы, но голос любви и сострадания, тревоги за возлюбленного, за его судьбу.
Многим, кто читал опубликованную в 1808 г. первую часть «Фауста», казалось, что перед ними – полностью законченное произведение. Однако сам поэт судил иначе. И действительно: из первой части мы не получаем ответа на генеральный вопрос великого спора между Господом и Мефистофелем. А это означает, что впереди – новые и новые испытания человека, и на этот раз – на более широком поприще.
«Большой мир» «Фауста»: проблематика и поэтика II части
Как уже отмечалось, первая и вторая части «Фауста» традиционно соотносятся как «малый» и «большой» мир, как микрокосм и макрокосм. В первой части внимание Гёте сосредоточено преимущественно на проблемах внутреннего мира человека, во второй – перед читателем разворачиваются глобальные проблемы исторического, социального, культурного развития всего человечества. В первой части герой проходит через испытания, связанные с тонким, зыбким миром человеческих чувств, сознания и подсознания, во второй – герой идет в широкий мир социальной практики, общественной деятельности, включает в свой опыт синтез духовных, философских, эстетических поисков человечества, мифологическую прапамять культуры. Вот почему в первой части Фауст, сохраняя философскую обобщенность образа, предстает как конкретный человек из плоти и крови, как немец, живущий в эпоху Реформации. Во второй части он окончательно становится, как и задумано было в «Прологе на небе», представителем всего человечества, сбрасывая «национальные одежды» и облачаясь в «одеяния» различных стран и эпох (такие же метаморфозы претерпевает и Мефистофель).
В связи с новыми задачами существенно меняется и художественная манера Гёте: на смену истинно барочному соединению условного, фантастического и жизненно конкретного, реального приходят абсолютная условность, аллегории и символы, персонифицированные идеи, философские обобщения. Во второй части почти ничего нельзя понимать в конкретном, жизнеподобном смысле. Так, на первый взгляд, здесь, как и в первой части, есть своя история любви – между Фаустом и Еленой Прекрасной. От их брака даже рождается сын – Эвфорион. Однако в том и дело, что и Елена, и Эвфорион, и бесчисленные другие персонажи этого необычного художественного мира – только символы и парадигмы (модели, образцы), через которые поэт ведет своего читателя к непростому постижению непростой истины, к познанию различных сторон и сфер жизни. Сама жизнь предстает здесь окутанной сплошным облаком метафор и символов, требующих работы не столько наших чувств, сколько нашего интеллекта, а многие и до сих пор остаются неразгаданными. Гёте широко использует самые различные пласты мифологии, кардинально меняя отношение к мифу: миф перестает быть кладезем готовых образов-штампов, трансформируется по воле поэта, творящего свой собственный, новый, причудливо-необычный мифологический мир (особенно очевидно это в «Классической Вальпургиевой ночи»).
Кажется, пять актов второй части, хотя и напоминают внешне целостную классицистическую пятиактную драму с единством времени, места и действия, абсолютно изолированы друг от друга. Если их и объединяет что-нибудь, так только фигура Фауста, который переходит от одного испытания к другому (и не всегда понятно, к какому), да его неизменный спутник Мефистофель, претерпевающий, тем не менее, некоторые изменения в своем облике и в своей сути. Однако поэт мастерски перебрасывает «мостики» от одного акта к другому и от второй части к первой – так, что мы ощущаем единство художественного пространства и времени, единство грандиозного замысла, могущего быть реализованным только в совокупности двух взаимодополняющих частей произведения.
Вторая часть открывается сценой «Красивая местность», которая может рассматриваться как своеобразный пролог ко всему дальнейшему действию и одновременно как тот самый «мостик», который в сознании читателя соединит две внешне изолированные части. Согласно гётевской ремарке, «Фауст лежит на цветущем лугу. Он утомлен, неспокоен и старается уснуть. Сумерки. В воздухе порхает хоровод маленьких прелестных духов». Перед нами вновь сцена символической смерти Фауста, за которой наступит возрождение к новой жизни. Рассветные сумерки, несущие в себе одновременно воспоминание об ужасах ночи и надежду на солнечный свет, – метафора состояния души героя. Утомленность духа, душевное томление, существование на грани жизни и смерти, – безусловно, следствие страшной трагедии, которой завершилась первая часть, напоминание о гибели Гретхен, с которой, кажется, ушла лучшая часть души Фауста, напоминание о его неизбывной вине. Однако душу Фауста спасают, возрождают к жизни светлые силы природы, воплощенные в образах Ариэля и эльфов (аллюзии на «Бурю» Шекспира). Недаром Ариэль поет под аккомпанемент эоловых арф, обращаясь к эльфам:
Паря над спящим чередой воздушной, Уймите, как всегда, великодушно Его души страдающей разлад. Рассейте ужас, сердцем не изжитый, Смягчите угрызений жгучий яд. …Расположив его на мягком дерне, Росой забвенья сбрызните чело. Пускай разляжется он попросторней И отдохнет, пока не рассвело. Не пожалейте сил, чтоб душу эту Вернуть окрепшею святому свету.Приникая к матери-земле, Фауст, словно Антей, обретает былую силу:
Опять встречаю свежих сил приливом Наставший день, плывущий из тумана. И в эту ночь, земля, ты вечным дивом У ног моих дышала первозданно. Ты пробудила вновь во мне желанье Тянуться вдаль мечтою неустанной В стремленье к высшему существованью.Весь первый монолог Фауста, красочный, искрящийся и переливающийся многоцветной радугой, дышащий веянием весны, заставляет вспомнить весенний монолог в начале первой части, когда Фауст, побывавший на краю бездны и заглянувший в глаза смерти, переживает духовное обновление. Так и теперь: герой готов к новым испытаниям.
А далее, без всякого перехода, читатель попадает в императорский дворец, в тронную залу, где государственный совет ожидает императора. Что это за император? Что за государство? На это сознательно нет четкого ответа: перед нами обобщенная модель абсолютной монархии, причем находящейся в состоянии глубочайшего кризиса. Однако некоторыми тонкими деталями Гёте дает понять, что речь идет прежде всего о многочисленных немецких княжествах (не случайно здесь присутствует канцлер), но одновременно есть намеки на Францию – и времени Людовика XV, и времени Людовика XVI. На правление первого указывает изобретение бумажных денег, которые появились впервые именно при нем, а Гёте весьма остроумно приписывает это воистину «дьявольское» изобретение Мефистофелю. Пожар, который в конце концов вспыхивает во дворце, прекращая бесконечный маскарад, – указание на пожар революции, покончившей с правлением Людовика XVI, двор которого погряз в роскоши и развлечениях. В целом весь первый акт звучит как предупреждение бездарным властителям. Гёте негативно относился к революционным переворотам, твердо стоя на позиции эволюционного развития общества. Однако в то же время он демонстрирует, что бездарное руководство обществом, забвение интересов народа, желание только веселиться и жить в роскоши ведут к одному – страшному социальному взрыву. Государство, в котором очутился Фауст, находится в преддверии этого взрыва. Очень символична первая сцена: в тронную залу выходит император, садится на трон, справа от него становится астролог, слева – Мефистофель. В этом – горько-саркастическая усмешка Гёте: когда обостряются социальные противоречия и нищает народ, когда слышится сейсмический гул в недрах общества, тогда усиливается интерес к паранаукам и всяческим астрологическим прогнозам, а советы бездарной власти нашептывает какой-нибудь очередной Мефистофель.
В первом акте Фауст проходит испытание большой политикой и придворной карьерой. Заканчивается это полным разочарованием, которое несет в себе память о собственном разочаровании Гёте, когда Карл Август остановил его реформы в Веймарском княжестве. Когда-то еще выдающийся английский просветитель, автор знаменитого романа «Путешествия Гулливера» Дж. Свифт утверждал устами просвещенного короля Бробдингнега, что человек, вырастивший на своем поле два стебля травы вместо одного, два колоса вместо одного, принес своей родине и человечеству больше пользы, чем все политики, вместе взятые. Свифт, глубоко искушенный в политике и отдавший ей значительную часть своей жизни, знал, что говорил. Да, кто-то должен брать на себя ответственность за руководство обществом, искать пути к его наилучшему устройству (этим будет заниматься и Фауст в последних актах), но для Гёте нет сомнения: политика и особенно придворная жизнь, придворные интриги разрушают душу человека.
При императорском дворе, жаждущем только увеселений и живущем в атмосфере бесконечного карнавала, Фауст и сам становится клоуном-затейником. Он выполняет различные сложные задания императора, и даже такие, которые не может выполнить Мефистофель (во второй части герои все чаще неуловимо меняются местами). Так, Фауст спускается в таинственную Обитель Матерей (вариация на темы извечного архетипа «спуск в преисподнюю и выход оттуда», «смерть и новое рождение»), чтобы вывести оттуда тени Елены Прекрасной и Париса, которых жаждут увидеть император и его свита. В этом эпизоде Гёте, опираясь на древнюю сюжетную парадигму, творит свой собственный миф, весьма сложный для сколько-нибудь однозначного прочтения. Обитель Матерей, хранящих некие праобразы всех вещей, – это, возможно, и напоминание о платоновских эйдосах (идеях), отблеском которых является все сущее на земле, и олицетворение пра-памяти культуры, ее своего рода «матриц». Одновременно сошествие к Матерям и возвращение оттуда означает для Фауста новую символическую смерть и возрождение к новой жизни, к новому этапу поисков. Действительно, только выведя на свет тени Елены и Париса, Фауст начинает понимать, каким путем нужно идти, что искать. И пока придворные дамы и кавалеры на свой лад обсуждают физические достоинства и недостатки античных героев (дамы, разумеется, без ума от Париса, мужчины же видят в нем массу недостатков, и все наоборот в отношении Елены), Фауст, как зачарованный, всматривается в образ Елены Прекрасной, чувствует необычайный прилив жизненных сил и впервые понимает, что весь его путь, все его страдания вели только к этой невероятной красоте:
Я не ослеп еще? И дышит грудь? Какой в меня поток сиянья хлынул! Недаром я прошел ужасный путь. Какую жизнь пустую я покинул! С тех пор как я тебе алтарь воздвиг, Как мир мне дорог, как впервые полон, Влекущ, доподлинен, неизглаголан! Пусть перестану я дышать в тот миг, Как я тебя забуду и погрязну В обыденности прежней безобразной!Только в этот момент герой понимает, что отблеск этой вечной красоты он увидел когда-то в зеркале в кухне ведьмы, но этот отблеск – ничто в сравнении с явью:
Как бледен был когда-то твой двойник, Явившийся мне в зеркале колдуньи! Он был мне подготовкой накануне, Преддверьем встречи, прелести родник! Дарю тебе все напряженье воли, Все, чем владею я и чем горю, И чту твой образ, и боготворю, Всю жизнь, и страсть, и бред, и меру боли.Восторг и душевное волнение Фауста так сильны, что даже Мефистофель не выдерживает и подает голос из суфлерской будки (ведь они дают представление при дворе): «Владей собой, не выходи из роли».
Но в том и дело, что Фауста уже невозможно удержать в прежних рамках, душа его рвется к красоте, жаждет идеала прекрасного, неудержимо устремляется к Елене: «О Матери, зову на помощь вас! // Узнав ее, нельзя с ней разлучиться». Обаяние явившейся тени так сильно, так властно (какова же власть самой Елены!), что Фауст забывает о том, что перед ним только видение. Он пытается удержать Елену, которую вновь, согласно вечному сюжету, похищают: «Спасти ее! Не дать ей скрыться с глаз! // Счастливый случай вновь не повторится, // Ее не вызвать в следующий раз». Однако к настоящей Елене лежит еще долгий, трудный и неизведанный путь. Вот почему неумолимая сила отбрасывает Фауста от Елены: он падает наземь в результате таинственного взрыва, его подхватывает Мефистофель, а духи исчезают, обращаясь в пар.
Таким образом, Фауст получает указание пройти путь к Елене – путь постижения красоты. Гёте, глубоко зная античную культуру, не только свободно использует ее образы, но и переосмысливает их. Так, Елена Прекрасная в его интерпретации становится высочайшим созданием греческого мира, воплощением эллинского духа, а также идеала абсолютной красоты, соединяющей в себе красоту божественную и человеческую, духовную и физическую, – воплощением идеала красоты в понимании «веймарского классицизма». Человечество, как и каждый отдельный человек, не может жить без красоты, на протяжении всей своей истории пытается найти ее идеальную модель. Путь Фауста к Елене – это вечный путь человечества к постижению законов красоты. Кроме того, это и путь культуры немецкого Просвещения, начиная с Лессинга и Винкельмана, к пониманию духа античного искусства, это и собственный путь Гёте к «веймарскому классицизму» с его новым открытием античности и с его убежденностью, что путь к свободе лежит через красоту.
С момента, когда Фауст, узревший пока еще только тень Елены, прозрел, все его усилия направлены на то, чтобы найти подлинную Елену. Весь второй акт является подготовкой к этой встрече. В его начале, совершив некий гигантский виток, герои оказываются в исходной точке пространства – в тесной готической комнате с высокими сводами, бывшем рабочем кабинете Фауста. Гёте дает понять, что прошло довольно много времени с того момента, когда началось путешествие Фауста и Мефистофеля. Он подчеркивает это комической деталью: уже почти истлел меховой плащ Фауста, который когда-то надел Мефистофель, чтобы издевательски-остроумно поучать непутевого абитуриента, в плаще расплодилось огромное количество насекомых. Кстати, студент-новичок уже стал бакалавром (а значит, прошло как минимум четыре года), но сохранил вполне свое невежество и чудесно развил самодовольство. Плащ Фауста проела моль, в нем кишат вши и блохи, и все эти существа радостно приветствуют своего патрона – Мефистофеля, который, согласно фольклорным представлениям, является покровителем всякой мелкой нечисти:
С приездом, с приездом, Старинный патрон: Твоим появленьем Наш рой привлечен. Ты сеял нас редко Числом небольшим, И тысячью тысяч Теперь мы кишим. Таинственно скрытен Лукавец и плут, А вши прямодушно Наружу ползут.Во второй части Гёте все чаще обращается к средствам комической оперы, соединяет стихию философичности и тонкого лиризма с гротеском и иронией.
Между тем Фауст лежит неподвижно за занавеской на старой прадедовской кровати. Он в состоянии некоего летаргического сна, напоминающего смерть, и Мефистофель грустно-иронически констатирует: «Лежи, несчастный, в забытьи. // Кого ошеломит Елена, // Отдаст ей помыслы свои // И уж не вырвется из плена». Однако Мефистофель и сам растерян и не знает толком, что делать с Фаустом (во второй части всесилие Мефистофеля все более ограничивается). С этого момента на авансцене появляется новый важный герой – Гомункул, искусственный человек, созданный Вагнером, но, как дает нам понять автор, не без помощи Мефистофеля. Гомункул, само имя которого на латыни означает «человечек» (homunculus), – не совсем человек: он создан в колбе и только в ней может существовать, представляя собой чистый разум, лишенный телесности. Через этот образ, многозначный, сложный для прочтения, Гёте ставит целый ряд общечеловеческих и научных проблем, в том числе и проблему искусственного интеллекта.
Судьба Гомункула – определенная параллель судьбе Фауста, хотя и с иным наполнением. Как и Фауст, он рвется на простор настоящей жизни и чувствует себя в его кабинете, в котором ныне хозяйничает Вагнер, как в склепе, как в каменном мешке: «Ужасно в вашем каменном мешке. // В загоне ум, и чувство в тупике». Точнее, Гомункул передает чувства и ощущения Фауста, в мир которого он проник: «Проснется спящий, и в одно мгновенье // С тоски умрет у вас по пробужденьи». О себе же, о своей искусственности, он говорит с веселой грустью: «Природному вселенная тесна, // Искусственному ж замкнутость нужна». Гомункул жаждет преодолеть свою искусственность и обрести естественность, это значит – найти самого себя. Но не этого ли жаждет и Фауст, стремящийся от умозрительного знания к подлинному постижению бытия? Как и Фауст, Гомункул хочет подлинного дела, говоря своему «папеньке» – Вагнеру: «Меня с тобой счастливый случай свел: // Пока я есть, я должен делать что-то, // И руки чешутся начать работу. // Ты б дельное занятье мне нашел». Однако в отличие от Фауста у Гомункула нет плоти и плотских страстей, зато есть сверхострый разум (более острый, чем у Мефистофеля), глубинное внутреннее зрение. Только он понимает, что происходит с Фаустом: летая в колбе над ним, распростертым на кровати, он читает, точнее, видит наяву его сон. Этот сон – указание, что все мысли и чувства Фауста, даже его подсознание заняты Еленой: ему снится, как сливаются в любовном союзе белый лебедь и дивная красавица – Зевс и Леда, родители Елены:
Рой женщин раздевается в тени Густых деревьев у лесного пруда. Красавицы на редкость все они, Одна же краше всех, и это чудо, Из героинь или богинь, ногой Болтает ясность влаги ледяной. Вода ее прохладой обнимает, Живое пламя стана остывает. Однако чьи бушующие крылья Зеркальность водной глади возмутили? Бегут в испуге девушки. Одна Царица плеском не устрашена И видит с женским удовлетвореньем, Царь-лебедь нежно льнет к ее коленям. Он робок, но становится смелей И все настойчивее жмется к ней. Как вдруг туман окутывает дымом Прелестный берег и навес ветвей Над происшествием непостижимым.Даже Мефистофель ошеломлен и смущен, ибо ничего не видит: «Откуда взял ты это, фантазер? // Так мал еще и так уже остер! // Не вижу ничего». На это Гомункул отвечает усмешливо и остроумно: «Ты – северянин, // И ты родился в Средние века. // Твой мир попов и рыцарей – туманен, // Его окутывают облака. // Как хочешь ты свободен быть и зорок, // Когда тебе привычный сумрак дорог?» И далее, когда Мефистофель выказывает полное недоумение по поводу классической Вальпургиевой ночи, куда, как в родную стихию, предлагает Гомункул окунуть Фауста: «Вполне понятно. Что за удивленье? // Вам ведом романтический фантом. // Но чтоб считаться истинною тенью, // Ей надо быть классической притом». Так Гёте добродушно иронизирует над романтиками с их культом Средневековья и всяческой мистики, заявляя, что его идеал – классическое искусство античности и что скоро читатель вместе с героями окажется именно на земле Эллады, погрузится в ее культуру.
Гомункул ведет всех на берега Пенея, в Фарсальские поля в Фессалии, знаменитой своим колдовством и колдуньями. Поля под городом Фарсал прославились еще и тем, что здесь Юлий Цезарь одержал решающую победу над Гнеем Помпеем 9 августа 48 г., и эту победу, согласно поэме Лукана «Фарсалия», предсказала фессалийская колдунья Эрихто, которая и открывает своим монологом, написанным ямбическим триметром (им писали свои трагедии греческие трагедиографы), «Классическую Вальпургиеву ночь»:
На страшный праздник этой ночи сызнова Пришла, как прежде, я, Эрихто мрачная, Не столь, однако, мерзкая, как подлые Поэты лгут…Жалобы Эрихто на оклеветавших ее поэтов, производящие комический эффект, призваны напомнить, что все, что далее развернется перед читателем, – чистейший поэтический вымысел, хотя и апеллирующий к историческим событиям и реалиям античной культуры. Гёте хочет также сказать, что военная слава Рима – ничто в сравнении со славой Эллады, ее мифов и преданий:
Бивачные костры, пары кровавые И вкруг огней причудливые зарева. Фалангой эллинской преданья строятся. Мелькают на свету, в дыму теряются Дней баснословных сказочные образы. Неполный, ясный месяц подымается И ослабляет синий отблеск пламени, Сгоняя с поля прочь палаток призраки.Гёте умышленно дает двум сценам в двух частях произведения сходные названия, отличающиеся всего лишь одним словом, – «Вальпургиева ночь» и «Классическая Вальпургиева ночь», чтобы читатель сравнил их, увидел сходство и отличие. Сходство – в безудержной фантазии, в фантасмагоричности и гротескности, в насыщенности обеих сцен сложной мифологической символикой. Однако первая представляет средневековый мир, мрачную готическую фантастику, к которой так тяготели романтики (эту ночь сам Гёте именовал также «романтической»). Вторая же в сжатом виде представляет мир Древней Греции, ее мифологию и культуру, мир гармонии и красоты, точнее – рождение классического эталона красоты из мира причудливых фантасмагорий. По мысли Гёте, нельзя найти эталон красоты, не погрузившись глубоко в античную культуру, ставшую одним из важнейших истоков европейской культуры. Недаром Фауст, очутившись на Фарсальской равнине, скажет: «Здесь Греция, и я в ее краю! // Я эту почву ощутил мгновенно // Сквозь тяжкий сон, мне сковывавший члены, // И, встав с земли, я, как Антей, стою». Именно здесь он возрождается духовно, как возродился сам Гёте, вдохнувший воздух Италии и открывший там заново античное искусство.
Когда-то в беседе с Эккерманом Гёте, посмеиваясь, сказал, что филологи долго будут потеть, объясняя его «Классическую Вальпургиеву ночь». Действительно, она напоминает сложный лабиринт символов и аллегорий, в которых зашифрована вся культура Эллады и последующая европейская культура. «Классическая ночь» напоминает самостоятельную пьесу – с прологом, тремя действиями и эпилогом. Три действия соответствуют трем стадиям становления античного мифологического сознания, греческой культуры. На первой («У верхнего Пенея») перед нами предстают еще достаточно мрачные, архаичные создания греческой мифологии – грифы, исполинские муравьи, сфинксы, сирены; на второй («У нижнего Пенея») к ним присоединяются нимфы и кентавры – полубоги и полулюди; на третьем этапе («У верховьев Пенея, как прежде») появляются люди, выдающиеся греческие мыслители, искавшие первоначало всех вещей, – Фалес, Анаксагор, появляются как воплощение мощи человеческого разума. Восходя по ступеням формирования античного сознания, Фауст постигает самый дух Эллады. Одновременно он выясняет все, что только можно узнать о Елене, и помогают ему в этих поисках и все мифологические существа, и мудрый кентавр Хирон, и греческие философы. Устами Хирона Гёте – вновь усмешливо – дает понять, что его Елена не совсем идентична известной мифологической героине, что поэт имеет право на собственное прочтение мифа, что Елена – вневременный идеал красоты и ее образ нельзя рассматривать как образ конкретной женщины:
…Года Ее – ученых измышленье. Мифическая героиня — Лицо без возрастных примет. Поэт дает без точных линий Ее расплывчатый портрет. Еще до совершеннолетья У ней поклонников орда, Когда она уже седа, То и тогда еще в расцвете. Не оставляя в ней следа, Всю жизнь, сквозь все метаморфозы, Грозят ей свадьбы и увозы. Поэту время не указ.Кажется, по логике поэта, в финале «Классической ночи» должна в конце концов появиться сама Елена – как апофеоз античного духа и искусства. Но вместо нее на колеснице в виде раковины выплывает Галатея, дочь морского старца Нерея. Понять, почему так распорядился Гёте, отчасти помогает общий дух эпилога («Скалистые бухты Эгейского моря»), где все существа радостно поют гимн чудесной природе, красоте физического мира и приветствуют Галатею, отчасти же – судьба Гомункула. Как и Фауст, он ищет свое предназначение, пытается постичь свою судьбу. Будучи чистым разумом, он не имеет человеческой телесности со всеми ее слабостями, но и с великой силой – прежде всего силой человеческих чувств, разнообразием ощущений и богатством эмоционального мира человека. Гёте дает понять, что настоящий человек слагается из гармонии физического и духовного начал, эмоционального и рационального. Человек не может жить только холодным рассудком. Вот почему Гомункул вмешивается в диспут Фалеса и Анаксагора о первоначалах бытия. Когда Фалес говорит, что «вся жизнь проистекла из влаги», Гомункул заявляет: «Простите, вторгнусь в вашу речь: //Ия хотел бы проистечь». Эта шутливая тирада несет в себе серьезный смысл: Гомункул хочет сказать, что он также стремится к настоящей, а не умозрительной жизни, что он хочет состояться как человек. Через диспут Фалеса и Анаксагора Гёте высказывает и свои научные взгляды на происхождение жизни: он стоит на позиции так называемого нептунизма, т. е. придерживается концепции происхождения жизни из воды, из мирового океана. Вот почему, по логике поэта, прав Фалес, дающий совет Гомункулу «довоплотиться» и говорящий о нем Протею: «Духовных качеств у него обилье, // Телесными ж его не наградили». Протей, в свою очередь, советует Гомункулу слиться с морской стихией: «Послушай, малый! В море средь движенья // Начни далекий путь свой становленья. // Довольствуйся простым, как тварь морей». А Фалес напутствует: «Пленись задачей небывалой, // Начни творенья путь сначала. // С разбегу двигаться легко. // Меняя формы и уклоны, // Пройди созданий ряд законный, – // До человека далеко». Пройдя через сложные метаморфозы, через различные стадии развития всего живого, Гомункул должен стать полноценным человеком.
Когда выплывает Галатея, которой передала свою миссию Афродита-Венера, Гомункул ощущает, как могучая сила – Эрос (Любовь) – устремляет его к ее трону, о который и разбивается его колба, а содержимое выплескивается в воду (так Фауста в финальной сцене первого акта неудержимо влечет к Елене). Смерть Гомункула – это только рождение его для новой жизни, для череды чудесных метаморфоз бытия, и в этой смене смертей и рождений он также родствен Фаусту. Гомункул возвращается к источнику жизни, охваченный огнем Эроса. Это единение рождающей бездны и стихии любви, а также всю красоту чувственного мира и воплощает, согласно замыслу Гёте, Галатея. Нужно научиться ценить и любить эту красоту, прежде чем открыть для себя красоту высшую, красоту Елены. Вот почему Галатея только предшествует Елене, а встреча Гомункула с Галатеей – встрече Фауста с Еленой. Так Гёте еще больше заостряет мысль о Елене как высшем эталоне красоты, предполагающей единство красоты телесной и духовной.
Союза с этой красотой Фауст достигает в третьем акте, который напоминает миниатюрную греческую трагедию, и написан он тем же ямбическим триметром, каким писали знаменитые Эсхил, Софокл, Еврипид. Мы находимся в мире Эллады, и даже Мефистофель вынужден превратиться в отвратительную старую Форкиаду и стать на котурны, на которых играли актеры в греческом театре. Брак Фауста и Елены символизирует единство духа современности и античной красоты – единство, которого так жаждал Гёте. Наглядным воплощением этого единства, а также духа поэзии и искусства становится Эвфорион, сын Фауста и Елены. Не случайно Гёте взял для своего героя имя одного из самых крупных и авторитетных греческих поэтов эпохи эллинизма. Одновременно, согласно толкованию самого Гёте, образ Эвфориона является памятником великому английскому поэту-романтику Дж. Г. Байрону. Он безудержно стремился к свободе, не находя себе места в этом мире, сознательно искал смерти и погиб от злокачественной лихорадки в Греции, сражаясь за ее освобождение от турецкого гнета. Байрон остался в сознании европейцев символом свободы, поэзии, невероятной гордости и неотразимого обаяния, соединявшего в себе нечто ангельское и демоническое. Он пронесся по небосклону поэзии, как метеор, и сгорел, погиб преждевременно, в возрасте 36 лет. Так же преждевременно погибает и гётевский Эвфорион, унаследовавший все самое лучшее от своих родителей: от Фауста – беспокойный дух, неудержимые порывы, бесконечное стремление, от Елены – красоту и гармонию. Через его судьбу Гёте высказал горькую мысль о том, что самые лучшие в нашем мире гибнут раньше всего.
Однако, согласно логике текста, Эвфорион не может не погибнуть, ибо не может жить в искусственном, ограниченном мире, в условиях несвободы. Действительно, Гёте дает понять, что мир, в котором существуют Фауст, Елена и Эвфорион, – ненастоящий, условный. Он разрушает иллюзию правдоподобия, вводя средневековый рыцарский антураж, неуместный в мире античности, но главное – сама причина гибели Эвфориона свидетельствует об условности мира, в котором осуществился союз Фауста и Елены. Этот мир ограничен незримой волшебной чертой, и Эвфорион нарушает запрет подниматься выше запретной границы. Но разве можно установить границы безграничному духу? Эвфорион рвется на простор, стремясь к «битвам земным», прыгает со скалы на скалу и наконец бросается с вышины в воздух, желая взлететь, и действительно на время взлетает – с сияющей головой, оставляя светящийся след в воздухе: «В ширь беспредельную // Крылья простер! // Смелый бросается // В битвы разгар!» Эвфорион погибает, как Икар, в невиданном взлете сил, и хор поясняет, как и положено в греческой (аттической) трагедии: «Это кончается // Новый Икар». Тем самым Гёте дает понять, что сам героический неукротимый дух воплотился в Эвфорионе. Этот же неукротимый дух, соединенный с высоким поэтическим даром, по мысли поэта, возродился в Байроне. Имя его не произносится, но дальнейшей ремаркой («Прекрасный юноша падает к ногам родителей. Лицо умершего напоминает другой знакомый образ…на земле остаются лира, туника и плащ») и погребальной песнью хора поэт дает понять, что речь идет именно о его рано ушедшем младшем собрате по перу:
Ты не сгинешь одиноким, Будучи в лице другом По чертам своим высоким Свету целому знаком. Жребий твой от всех отличен, Горевать причины нет: Ты был горд и необычен В дни падений и побед. Счастья отпрыск настоящий, Знаменитых дедов внук, Вспышкой в миг неподходящий Ты из жизни вырван вдруг. Был ты зорок, ненасытен, Женщин покорял сердца, И безмерно самобытен Был твой редкий дар певца. Ты стремился неуклонно Прочь от света улететь, Но, поправ его законы, Сам себе расставил сеть. Славной целью ты осмыслил Под конец слепой свой пыл, Сил, однако, не расчислил, Подвига не завершил. Кто тот подвиг увенчает? Рок ответа не дает, Только кровью истекает Пут не сбросивший народ. Новой песнью кончим тризну, Чтоб не удлинять тоски. Песнями жива отчизна, Испытаньям вопреки.Гибель Эвфориона становится причиной разрушения волшебного мира, в котором жили Фауст и Елена. «На мне сбывается реченье старое, // Что счастье с красотой не уживается. // Увы, любовь и жизни связь разорвана», – с горечью говорит Елена. Она уходит в царство теней вслед за своим сыном. Согласно ремарке Гёте, она «обнимает Фауста, телесное исчезает, платье и покрывало остаются у Фауста в руках». А затем «одежды Елены превращаются в облака, окутывают Фауста, подымают его ввысь и уплывают с ним». Тем самым, вероятно, Гёте говорит, что невозможно перенестись в прошлое и невозможно перенести его в настоящее, невозможно жить только в замкнутом мире воображаемой красоты. Можно постичь законы античной красоты, но перенести в современность можно только ее внешние формы, которые необходимо наполнить собственным духом. Нужно преобразовывать реальность в соответствии с законами красоты. И каким бы ни было разочарование Фауста, этот этап поисков не был напрасным: не может быть напрасным постижение настоящей красоты. Только познав ее законы и формы, можно двигаться дальше в поисках истины, можно строить новый мир и преображать человека.
Куда же перенесли Фауста облака-одежды Елены? Все, что можно сказать, – в четвертый акт, где он опускается на землю на плоском выступе горы, окруженном высокими скалами. Место действия последних актов – какая-то гористая местность и одновременно – весь мир. Время – настоящее и будущее. Фауст наконец-то понял, что нужно строить новый прекрасный мир для людей. Он понял, что «широкий мир земной // Еще достаточен для дела», что отныне его «стремленье – дело, труд». Фауст задумал создать новый мир на земле, подаренной ему императором за то, что помог ему выиграть сражение с врагами. Однако это бросовая земля, которую во время приливов затапливает море, поэтому необходимо прежде всего соорудить дамбу, чтобы остановить напор воды и отвести ее в сторону, а также построить канал, чтобы осушить гнилое болото. При этом часть местности должна быть затоплена, а люди переселены в другое место. Как это знакомо людям
XX в., особенно жителям постсоветского пространства! Строительство дамб, плотин, каналов, осушение или, наоборот, затопление той или иной местности – во имя грядущего счастья. И строились Беломорканалы, БАМы, ГЭСы – и рушилась жизнь людей, а стопроцентно гарантированное счастье не наступало. Кажется, великий поэт предвидел все это из своего далекого прошлого. И, конечно же, особый подтекст получали в переводе Б. Л. Пастернака, побывавшего на Беломорканале и видевшего эту сталинскую «стройку века», слова проницательной Бавкиды: «Бедной братии батрацкой // Сколько погубил канал! // Злой он, твой строитель адский, // И какую силу взял! // Стали нужны до зарезу // Дом ему и наша высь. // Он без сердца, из железа, // Скажет – и хоть в гроб ложись». И намеренно непонятно – о ком это? О Фаусте? О Мефистофеле? Аллюзии же переводчика работают на русского (советского) читателя: «Он без сердца, из железа…» (из стали – Сталин).
Последний акт второй части «Фауста» – размышление о светлом будущем (людям хочется думать о нем как о светлом), о путях к нему. Это социальная утопия, но совершенно особая, гётевская. Поэт не хочет смотреть на нее сквозь розовые очки. Наоборот, он жестко ставит болезненные вопросы: всегда ли прогресс – действительно прогресс? чего он стоит, если на его пути гибнут люди, причем лучшие? можно ли построить светлое будущее для людей, не щадя самих людей? отвечает ли кто-нибудь за то, что люди оказались под «колесами» такого прогресса? В связи с этим особый смысл приобретает переработанный поэтом античный миф о Филемоне и Бавкиде, сохраненный и также поэтически обработанный в «Метаморфозах» Овидия. Филемон и Бавкида, пожилая супружеская чета, до глубокой старости прожившая душа в душу, стала символом супружеской верности, доброты, гостеприимства, благочестия. Они ни разу не отказали в приюте ни одному страннику, сам Зевс покровительствовал им за это. Боги любили бывать в простой и уютной хижине стариков и вознаградили их сполна: когда местность, в которой они жили, погибла, их спасли, превратив в пару неразлучных птиц. У Гёте же Филемон и Бавкида погибают вместе с путником, которому в последний раз дали приют. Их хижина мешает строительству нового мира, сооружению плотины, ибо стоит как раз в том месте, которое должно быть затоплено. Однако Филемон и Бавкида отказываются переселяться. Фауст, раздраженный их упорством, отзывается о добрых стариках весьма нелицеприятно, считая «глупой помехой» для своей великой работы их патриархальный мир. Примечательная деталь: его раздражает даже церковный благовест, приветствующий его, когда он ступает на берег, где живут Филемон и Бавкида; он уже забыл о том, как когда-то колокола вернули ему жизнь и стремление жить во имя людей:
Проклятый звон! Как в сердце нож! Нет впереди границ успеху, А позади, как разберешь, Все та же глупая помеха! Мне говорят колокола, Что план моих работ случаен, Что церковь с липами цела, Что старикам я не хозяин. Они – бельмо в глазу моем, Пока от них я не избавлен, И час прогулки мой отравлен При встрече с этим старичьем.Гёте с тревогой констатирует, как власть меняет Фауста (так меняет она любого, даже самого лучшего): он, предпринявший строительство нового мира во имя людей, уже ни в грош не ставит отдельного человека, видя в нем помеху Как иронически заметила исследовательница жанра утопии и антиутопии в XX в. Р. Гальцева, для строителей светлого будущего любой ценой всегда «главная помеха – человек…» Фауст уже не считается ни с правом другого, ни со свободой, ни с законом, ведь все оправдано его великой целью: «Сопротивляясь, эти люди // Мрачат постройки торжество. // Они упрямы до того, // Что плюну я на правосудье». Он поручает Мефистофелю переселить стариков силой, ведь в конце-концов это делается для их же блага, и тот угодливо (заранее зная последствия) поддакивает: «Они и глазом не моргнут, // Как будут уж от нас за милю, // Где об испытанном насилье // Забудут в несколько минут». Чем закончилась «организационная деятельность» Мефистофеля, известно: смертью стариков и путника, гибелью уютного патриархального мира. Караульный Линкей горько констатирует: «Лип обуглившийся остов, // Раскаленный до корней, // Безутешнее погостов // Смотрит в даль ушедших дней. // Вот отполыхало пламя, // Запустенье, пепел, чад. // И уходит вдаль с веками // То, что радовало взгляд». Фауст, слушая песню Линкея, доносящуюся с бастиона, и чувствуя, как она «жалостью пронзает грудь», полагает, что всего лишь сгорел дом стариков, и еще не знает об их гибели. Он успокаивает свою совесть, думая, что в новом приюте «оба, позабыв потерю, // Спокойно век свой доживут». И тут же слышит циничный и нарочито путаный доклад Мефистофеля о том, как он со своими подручными – «тремя сильными» (переосмысленный библейский образ, связанный с тремя сильнейшими и преданнейшими гвардейцами царя Давида) – и упрашивал стариков, и угрожал им, как они стали выносить вещи, и «тогда их охватил испуг, // И оба испустили дух». При этом сопротивлявшегося гостя зачем-то убили. «Меж тем как все пошло вверх дном, // От искры загорелся дом. // И эти, трупы к той поре, // Втроем сгорели на костре». От какой искры мог внезапно загореться дом? Мефистофель так старательно убеждает в этом, что крепнет ощущение, что все это не случайно, что он сознательно вредит Фаусту И можно бы во всем обвинить именно Мефистофеля (первые слова Фауста – слова проклятья ему), однако Гёте не дает повода для такого примитивного решения. Страшная вина ложится на плечи того, кто начал строительство светлого будущего, кто стоит у руля общества. В конце концов, ведь он выбрал Мефистофеля в качестве распорядителя работ и исполнителя поручений. Средства никогда не могут быть оправданы целью. «Ошиблись, меру перешли!» – говорит Фауст. Но есть страшные ошибки, за которые нужно платить всю жизнь, и особенно велика ответственность власть имущих. Здесь Гёте выступает целиком в согласии с библейской идеей, особенно наглядно реализующейся в Книгах Царств. Не случайно еще в преддверии катастрофы с Филемоном и Бавкидой Мефистофель в реплике, обращенной к зрителям, вспоминает о винограднике Навота (Навуфея), который неправедным путем (но внешне – по закону) прибрал к рукам нечестивый царь Ахав с помощью своей супруги Изэвели (Иезавели): «Так отдал в дни, еще древней, // Свой виноградник Навуфей». Навуфей, как известно, был приговорен к смерти судом, подкупленным Иезавелью, за что царская чета была обличена пророком Элиягу (Илией). Проклятие пророка исполнилось: Ахав и его жена погибли страшной смертью в результате кары Господней (см. 3 Цар 21; 22:35–37; 4 Цар 9:30–37).
Кажется, Гёте высказывает в пятом акте одну из самых заветных своих мыслей: грязными средствами, насилием и разрушением нельзя ничего построить, тем более сделать всех счастливыми. Это и сегодня звучит как своевременное напоминание, как грозное предостережение. Уже тогда великий мастер понимал, что, говоря словами Н. А. Бердяева, «утопии страшны тем, что они сбываются», что нельзя железной рукой загонять человечество в «светлое будущее».
Фауст допустил страшную ошибку. Однако величие его души проявляется именно в том, что он ощущает ужасный груз собственной вины: «О, если бы, с природой наравне, // Быть человеком, человеком мне! // Таким я был, но преступил устав, // Анафеме себя и жизнь предав». Возможно, поэтому и приходят к нему четыре седые женщины: Нехватка, Вина, Нужда, Забота. Они словно бы символизируют бессонную совесть Фауста, грызущую его изнутри, и тот духовный тупик, в котором он оказался. Наконец, Забота ослепляет Фауста. Что это означает? Согласно Библии, утрата внешнего зрения символизирует открытие зрения внутреннего, постижение истины (достаточно вспомнить историю Самсона и соответствующую интерпретацию его слепоты в «Самсоне-борце» Дж. Милтона, равно как и интерпретацию английским поэтом собственной слепоты). Быть может, Гёте хочет сказать, что Фауст наконец-то прозрел? Или все-таки то, что он слеп, как раньше, и истина ускользает от него? Текст настолько сложен, что не дает возможности однозначной интерпретации. Горько-ироническая деталь как будто бы указывает на второе прочтение: слепой Фауст слышит стук лопат и думает, что это строят по его приказу дамбу, копают траншеи, а на самом деле лемуры по приказу Мефистофеля роют ему могилу. Фауст торопит Мефистофеля, главного распорядителя работ: «Усилий не жалей!» Тот же вполголоса говорит с циничной усмешкой: «На этот раз, насколько разумею, // Тебе могилу роют – не траншею». Это можно понять как полное поражение Фауста, который ни на шаг не продвинулся в строительстве своего прекрасного мира, как крушение всех надежд, как указание на вечную духовную слепоту человека. С другой стороны, ослепший Фауст чувствует, что еще полон жизненных сил и порывов: «Вокруг меня сгустились ночи тени, // Но свет внутри меня ведь не погас…» Герой, кажется, все-таки понял в этой жизни нечто самое важное – то, что цель ее – в бесконечном стремлении к лучшему миру, в бесконечной духовной борьбе, в напряжении нравственного чувства, в непрерывном усилии ради будущего. Об этом и говорит он в своем последнем монологе – прошедший после омоложения еще полный круг жизни, семьдесят лет (согласно пояснению Гёте, данному Эккерману, Фаусту в конце произведения сто лет):
Вот мысль, которой весь я предан, Итог всего, что ум скопил. Лишь тот, кем бой за жизнь изведан, Жизнь и свободу заслужил. Так именно, вседневно, ежегодно, Трудясь, борясь, опасностью шутя, Пускай живут муж, старец и дитя. Народ свободный на земле свободной Увидеть я б хотел в такие дни. Тогда бы мог воскликнуть я: «Мгновенье! О, как прекрасно ты, повремени! Воплощены следы моих борений, И не сотрутся никогда они». И, это торжество предвосхищая, Я высший миг сейчас переживаю.Без сомнения, этот финальный монолог Фауста – самый знаменитый в произведении, и разным русским переводчикам «Фауста» в различной степени удалось передать его трагизм, философскую глубину и афористичность. Не менее сильно это получилось в переводе Н. А. Холодковского, особенно «конечный вывод мудрости земной», к которому приходит гётевский герой:
Я предан этой мысли. Жизни годы Прошли недаром. Ясен предо мной Конечный вывод мудрости земной: Лишь тот достоин жизни и свободы, Кто каждый день за них идет на бой. Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной Дитя, и муж, и старец пусть ведет, Чтоб я увидел в блеске силы дивной Свободный край, свободный мой народ. Тогда сказал бы я: «Мгновенье, Прекрасно ты, продлись, постой!» И не смело б веков теченье, Следа, оставленного мной. В предчувствии минуты дивной той Я высший миг теперь вкушаю свой.Итак, Фауст понял, что предназначение человека – трудиться во имя счастья других людей, что смысл жизни – оставить добрый след на земле, что вся жизнь – бесконечное движение, неустанное стремление к высшему мгновению. Последнее же никогда не может наступить в границах земного бытия человеческого: даже за мгновение до смерти подлинный человек стремится вперед, и лучшее мгновение – всегда в будущем. И хотя герой формально произносит роковые слова – «Остановись, мгновенье!», Мефистофель не вправе торжествовать, ибо сказано это в контексте будущего времени.
Последние сцены «Фауста» – «Положение во гроб» и «Горные ущелья, лес, скалы, пустыня» – целиком выдержаны в духе евангельской, а также постбиблейской апокрифической символики (например, спор архангела Гавриила с сатаной за душу Моисея в позднеиудейском апокрифе «Вознесение Моисея»). Перед нами на этот раз настоящая смерть и победа над ней, ибо эта смерть открывает ворота в жизнь вечную. За душу Фауста спорят силы ада и силы Неба. Слева разверзается страшная пасть ада, и Мефистофель деловито дает указание чертям: «…Чуть выскользнет душа из-под прикрытья, // Ее хватайте разом на лету. // Ведь гений жизни рвется унестись // Из ветхого былого дома ввысь». Однако справа (практически у всех народов правая сторона связывается с правдой и праведностью) и сверху вспыхивает лучезарный свет: то движется Небесное воинство: «Ангельской ратью // Двинемся, братья, // В тихий полет, // Грешных прощая, // Прах оживляя, // Кроткой, радушной, // Легкой, воздушной // Стаей слетая // С горних высот». На адскую нечисть сыплются розы (роза – символ Девы Марии), пугая их больше, чем стрелы. Невероятной мощью, динамичностью и одновременно легкостью и кротостью веет от гётевского стиха в хорах ангелов: «Розы румяные, // Благоуханные, // Падая, радуя //
Нежной прохладою // Животворящею, // Вейте над спящею // Тихо душой, // Райских селений // Вечный покой // Сейте весенней // Алой копной. //…Полные пламени // Розы, вы – знаменья // Благости любящей, // Силы, голубящей // Кроткий Завет. // Все перевесьте // Радостной вестью! // Ангелов шествие // Сеет ваш свет».
Мефистофель и его подручные спасаются бегством от страшных для них небесных роз, и вот уже ангелы взмывают ввысь, неся бессмертную сущность Фауста: «Спасен высокий дух от зла // Произволеньем Божьим: // Чья жизнь в стремлениях прошла, // Того спасти мы можем…» Фауст заслужил победу и спасение потому, что не остановился в своих духовных поисках, что стремился к добру и свету. Однако одного стремления мало, ибо на этом пути были и страшные ошибки, и ужасная вина. Вот почему ангелы поют: «А за кого любви самой // Ходатайство не стынет, // Тот будет ангелов семьей // Радушно в небо принят». По поводу этих строк сам Гёте пояснял Эккерману: «В этих стихах дан ключ к спасению Фауста. В самом Фаусте это – неустанная до конца жизни деятельность, которая становится все выше и чище, и, сверх того, – это приходящая ему свыше на помощь вечная любовь» (6 июня 1831 г.). «Ходатайство любви» – ходатайство Гретхен, появляющейся в финале как «одна из кающихся грешниц, прежде называвшаяся Гретхен». Она по-прежнему любит Фауста, она счастлива, что он теперь безраздельно с ней: «Оплот мой правый, // В сиянье славы, // Склони свой лик над счастием моим. // Давно любимый, // Невозвратимый, // Вернулся, горем больше не томим». Великая всепрощающая любовь Гретхен открывает Фаусту путь на небо. Она осмеливается обратиться к самой Mater Gloriosa – Матери Божьей в Славе Небесной, к Деве Марии: «Позволь мне быть его вожатой, // Его слепит безмерный свет» (здесь очевидна аллюзия на «Божественную Комедию» Данте: Гретхен ассоциируется с Беатриче, которая вводит своего возлюбленного в слепящий свет Эмпирея). В ответ Гретхен слышит простое и величественное: «Направься в высший круг. Объятый // Догадкой, двинется он вслед». Итак, неустанным трудом собственной души, любовью и великой милостью Божьей спасен Фауст, и не просто спасен: ему открыты врата в высшие небесные сферы. Разрешен и спор о человеке, послуживший завязкой произведения: в этом споре победил Господь, а вместе с Ним – человек, подтвердивший свое высокое достоинство и великое предназначение.
Быть может, самые таинственные строки «Фауста» звучат в самом финале, в партии Мистического хора (Chorus mysticus): «Все быстротечное – // Символ, сравненье. // Цель бесконечная // Здесь в достиженье. // Здесь – заповеданность // Истины всей. // Вечная Женственность // Тянет нас к ней». Смысл этих слов трудно (или вообще невозможно) объяснить сугубо рационально. В них поэт приблизился к выражению некоей глубинной тайны жизни, ее вечной метаморфозы и ее духовно-этического смысла, одинаково невозможных без Вечной Женственности (Вечно-Женственного, или Вечно-Женского) – без Божьего Присутствия в мире, без великой, живящей мир и спасающей душу Любви, которую воплощают раскаявшиеся грешницы (Мария Магдалина, Жена-самаритянка, Мария Египетская, Гретхен) и Матерь Божия. Не случайно слова о Вечной Женственности вспомнит Дж. Джойс в финале своего «Улисса» – как формулу абсолютного приятия жизни, такой сложной, порой отвратительной, но вопреки всему – такой прекрасной. И еще, кажется, в этих финальных строках – ключ к загадке самого «Фауста», к смыслу которого мы только бесконечно приближаемся, но ухватить его целиком не можем, он остается недостижимым. Когда-то У. Эко, автор романа «Имя розы» и ученый-семиотик, следующим образом определил показатель степени художественности того или иного текста: его способность порождать различные прочтения, не исчерпываясь до конца. Если верить этой формуле, то «Фауст» Гёте – один из самых художественных текстов во всей мировой литературе.
«Фауст» стал вечной книгой, с которой ведут диалог, по-разному прочитывая ее, новые и новые поколения читателей, писателей, переводчиков. Он вызвал к жизни огромную фаустиану, великое множество аллюзий и реминисценций. В этом ряду – и «Фауст» австрийского поэта-романтика Н. Ленау, и «Сцена из “Фауста”» А. С. Пушкина (не осуществленная до конца и на диво самостоятельная проба русского «Фауста»), и великий роман Т. Манна «Доктор Фаустус», и роман его сына К. Манна «Мефисто», и роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», который открывается эпиграфом из «Фауста» Гёте, указывающим на глубинное родство Мефистофеля и Воланда (последнее – также одно из имен Мефистофеля, звучащее в гётевском тексте). Черты же Фауста в романе Булгакова распределились между Мастером и Маргаритой, полнее всего представленные именно в героине и соединенные с демоническим, мефистофелевским началом в ней, направленным на защиту Мастера. Фаустианские мотивы и аллюзии пронизывают всю послегётевскую европейскую культуру. Некогда О. Шпенглер в своей книге «Закат Европы» представил Фауста («фаустовского человека») как законченное воплощение европейской культуры, наделенной «чистым» стремлением и идущей в никуда, на закат, саморазрушающейся. Такая трактовка была следствием потрясений, пережитых Европой на рубеже XIX–XX вв., и предвидением новых, еще более страшных. Однако, если верить самому Гёте, его Фауст воплощает в себе действенное добро, духовные поиски во благо человечества, его величайшее творение исполнено высочайшей веры в человека, его неограниченные творческие потенции.
Со времени возникновения «Фауста» (с 30-х гг. XIX в.) к нему испытывала пристальный интерес русская переводческая школа. Первый перевод «Фауста» на русский язык, еще достаточно робкий, ученический, бледный в сравнении с оригиналом, выполнил Э. Губер, немец по происхождению. Вторым по времени был военный геодезист и переводчик М. П. Вронченко: появление его перевода, а также рецензия на него И. С. Тургенева стимулировали большую дискуссию в русском обществе 1840-х гг. о Гёте и смысле его произведения. После этого были более или менее удачные переводы А. Н. Струговщикова,
А. А. Фета, В. Я. Брюсова и других. Однако выдающимися явлениями, вошедшими в историю переводческого искусства, обретшими статус фактов русской культуры, стали переводы Н. А. Холодковского и Б. Л. Пастернака. Ученый-естествоиспытатель и почитатель Гёте, Н. А. Холодковский всю жизнь посвятил своему великому хобби – работе над переводом «Фауста» и его совершенствованием. Именно под пером Холодковского Гёте впервые заговорил настоящим философским языком, хотя текст «Фауста» и утратил многие другие регистры – легкость, изящество, ироничность. Перевод Холодковского стал лучшим переводом XIX в. Он отличается высокой степенью точности в передаче смысла, но проигрывает в силе поэтического слова, в выражении духа произведения. Совместить, казалось бы, несовместимое (совместимое только для гения Гёте) – философскую глубину, высокую степень афористичности, необычайную лиричность, мощь и блеск поэтического выражения – смог в своем переводе Б. Л. Пастернак, создавший лучший перевод XX в. и в целом одно из лучших переложений «Фауста» на другом языке. Сознательно отступая от буквальной передачи гётевских фраз в некоторых фрагментах (в самых важных, философски смыслоносных, он всегда точен), Пастернак сделал «Фауста» русским, органично звучащим для слуха русскоязычного читателя, максимально полно воплотил через стихию иного языка невероятно разнообразный поэтический мир гётевского шедевра.
Событием для белорусской культуры стал перевод «Фауста», выполненный В. С. Сёмухой. Этот перевод также отличается высокой степенью точности в передаче смысла и органичностью звучания гётевского текста на белорусском языке.
Гёте, творец «Фауста» и других великих произведений, навсегда стал символом германской и европейской культуры, символом мощи человеческого духа.
Список рекомендуемой литературы
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Художественные тексты для обязательного чтения
На немецком языке
Brockes В. Н. Lyrik.
Bürger G. А. Balladen («Der Raubgraf», «Lenore»).
Geliert Ch. F. Fabeln und Erzählungen.
Goethe J. W Die Leiden des jungen Werthers. Faust (Erster Teil). Lyrik: «An Friederike Brion», «Maifest», «Willkommen und Abschied», «Heidenröslein», «Erlkönig», «Wandrers Nachtlied» (I–II), «Die Braut von Korinth», «Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn…», «So lasst mich scheinen…», «Römische Elegien» (I–III), «Hegire» (aus «West-östlicher Divan»), «Trilogie der Leidenschafft», «Epir-rhema», «Antiepirrhema», «Eins und alles».
Günther J. Chr. Lyrik.
Hagedorn F von. Lyrik. Fabeln.
Haller А. Lyrik.
Hölderlin F Hyperion, oder Der Eremit in Griechenland (Fragmente). Der Tod des Empedokles (Fragmente). Lyrik: «Das Schicksal», «Die Eichbäume», «Diotima» («Leuchtest du wie vormals wieder…»), «An Diotima» («Schönes Leben»), «Diotima» («Du schweigst und duldest…»), «Götter wandelten einst…», «Achill», «An die Parzen», «Da ich ein Knabe war…», «Hyperions Schicksalslied», «Der Mensch», «Mein Eigentum», «Der Main», «Der Neckar», «Die Heimat», «Rückkehr in die Heimat», «Heidelberg», «Die Götter», «Der Tod fürs Vaterland», «Der Wanderer», «Brot und Wein», «Die Archipelagus», «Hälfte des Lebens», «Wie wenn am Feiertage…», «Am Quell der Donau», «Die Wanderung», «Der Rhein», «Germanien», «Friedensfeier», «Der Einzige», «Patmos», «Die Titanen».
Hölty L. Lyrik.
Klopstock F G. Lyrik. Der Messias (Erster Gesang).
Lessing G. E. Emilia Galotti. Nathan der Weise. Fabeln.
Schiller Г Kabale und Liebe. Don Carlos. Balladen und Gedichte («Rosseau», «Die Grösse der Welt», «An die Freude», «Die Macht des Gesanges», «Der Ring des Polykrates», «Die Kraniche des Ibykys», «Das Lied von der Glocke», «Der Antritt des neuen Jahrhundert», «Punschlied», «Deutsche Grösse»).
Schnabel J. Chr. Insel Felsenburg (Fragmente).
Voss J. H. Idyllen (2–3).
Wieland Ch. M. Oberon (Fragmente).
В русских и белорусских переводах
Бюргер Г. А. Баллады. Удивительные приключения барона Мюнхгаузена.
Виланд К М. История абдеритов. Оберон.
Винкельман И. И. История искусства Древности.
Гесснер С. Идиллии.
Гердер И. Г. Лирика. Сид. Шекспир. Идеи к философии истории человечества.
Гёльдерлин Ф. Лирика. Гиперион. Смерть Эмпедокла.
Гёльти Л. Г. К. Лирика.
Гёте И. В. Лирика. Баллады. Ко дню Шекспира. Гёц фон Берлихинген. Страдания юного Вертера. Винкельман и его время. Эгмонт. Ифигения в Тавриде. Торквато Тассо. Театральное призвание Вильгельма Мейстера. Годы учения Вильгельма Мейстера. Годы странствий Вильгельма Мейстера. Фауст. Из моей жизни. Поэзия и правда.
Клингер Ф. М. Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад.
Клопшток Ф. Г. Лирика. Мессиада («Абадонна»).
Лессинг Г. Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. Гамбургская драматургия (в сокращ.). Мисс Сара Сампсон. Минна фон Барнхельм. Эмилия Галотти. Натан Мудрый. Басни в прозе.
Шубарт К. Ф. Д. Лирика.
Шиллер Ф. Лирика. Баллады. Разбойники. Коварство и любовь. Дон Карлос. Валленштейн. Мария Стюарт. Вильгельм Телль. Орлеанская дева. О наивной и сентиментальной поэзии.
Эккерман И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни.
Учебные пособия, хрестоматии и основная научная литература
Жирмунская, Н. А. Немецкая литература / Н. А. Жирмунская // История зарубежной литературы XVIII века / под ред. 3. И. Плавскина. М., 1991. С. 242–328.
Иванов, Д. А. Сентиментализм / Д. А. Иванов // Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин. М., 2001. Кол. 960–964.
История немецкой литературы: в 5 т. М., 1963. Т. 2.
Неустроев, В. П. Немецкая литература / В. П. Неустроев // История зарубежной литературы XVIII в. / под ред. В. П. Неустроева. М., 1984. С. 287–392.
Новые переводы: Хрестоматия в помощь студентам-филологам / сост. и общ. ред. Н. Т. Пахсарьян. М., 2005.
Пахсарьян, Н. Т. «Ирония судьбы» века Просвещения: обновленная литература или литература, демонстрирующая «исчерпанность старого»? / Н. Т. Пахсарьян // Зарубежная литература второго тысячелетия: 1000–2000 / под ред. Л. Г. Андреева. М., 2001. С. 69–116.
Пахсарьян, Н. Т. История зарубежной литературы XVII–XVIII веков / Н. Т. Пахсарьян. М., 1996.
Пахсарьян, Н. Т. Классицизм / Н. Т. Пахсарьян // Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин. М., 2001. Кол. 363–366.
Пахсарьян, Н. Т. Просвещение / Н. Т. Пахсарьян // Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин. М., 2001. Кол. 823–826.
Пахсарьян, Н. Т. Рококо / Н. Т. Пахсарьян // Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин. М., 2001. Кол. 885–887.
Пронин, В. А. История немецкой литературы / В. А. Пронин. М., 2007.
Синило, Г. В. Немецкая литература XVIII века / Г. В. Синило // Литература XVII–XVIII веков / М. В. Разумовская, Г. В. Синило, С. В. Солодовников. Минск, 1989. С. 193–244.
Тураев, С. В. Немецкая литература / С. В. Тураев // История всемирной литературы: в 9 т. М., 1988. Т. 5.
Хрестоматия по зарубежной литературе XVIII века / под общ. ред. Б. И. Пуришева: в 2 т. М., 1973. Т. 2. (Раздел «Немецкая литература»).
Чекалов, К. А. Спор о «древних» и «новых» / К. А. Чекалов // Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл. ред. и сост. А. Н. Николюкин. М., 2001. Кол. 1020–1021.
Антологии
Зарубежная поэзия в переводах В. А. Жуковского: в 2 т. / сост. А. А. Гугнин. М., 1985. Т. 2.
Зарубежные писатели о литературе и искусстве. Немецкая литература XVIII века / под общ. ред. Н. П. Михальской. М., 1980.
Золотое перо: Немецкая, австрийская и швейцарская поэзия в русских переводах / сост., предисл., справки о поэтах и переводчиках Г. И. Ратгауза. М., 1974. Немецкая поэзия в переводах В. А. Жуковского / сост. А. А. Гугнин. М., 2000. Немецкие волшебно-сатирические сказки / сост. А. А. Морозов. Л., 1972. Немецкие демократы XVIII века. Шубарт. Форстер. Зойме / под ред. В. И. Жирмунского. М., 1956.
Спор о «древних» и «новых» / под ред. В. Я. Бахмутского. М., 1995.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Абуш, А. Шиллер: Величие и трагедия немецкого гения / А. Абуш. М., 1964.
Аверинцев, С. С. Два рождения европейского рационализма / С. С. Аверинцев // Вопр. философии. 1989. № 3.
Аверинцев, С. С. Категории поэтики в смене литературных эпох / С. С. Аверинцев [и др.] // Историческая поэтика. М., 1994. С. 3–38.
Аникст, А. А. Гёте и «Фауст»: От замысла к свершению / А. А. Аникст. М., 1983.
Аникст, А. А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга / А. А. Аникст. М., 1967.
Аникст, А. А. «Фауст» Гёте: Литературный комментарий / А. А. Аникст. М., 1979.
Асмус, В. Немецкая эстетика XVIII века / В. Асмус. М., 1962.
Афасижев, М. Н. Эстетика Канта / М. Н. Афасижев. М., 1975.
Барг, М. А. Эпоха и идеи. Становление историзма / М. А. Барг. М., 1987. Бахмутский, В. Я. На рубеже двух веков / В. Я. Бахмутский // Спор о «древних» и «новых» / под ред. В. Я. Бахмутского. М., 1995.
Беляева, Н. I Сотворение «Гипериона» / Н. Т. Беляева // Гиперион. Стихи. Письма / Ф. Гёльдерлин; изд. подгот. Н. Т. Беляева; отв. ред. Н. С. Павлова. М., 1983.
Бенишу, П. На пути к светскому священно служению / П. Бенишу // Новое лит. обозрение. 1995. № 13.
Бент, М. И. «Вертер, мученик мятежный…» / М. И. Бейт. Челябинск, 1997.
Бент, М. И. Концепция личности в «Фаусте» Гёте и драматургии Г. фон Клейста / М. И. Бент // Гётевские чтения. 1984. М., 1986.
Библер, В. С. Век Просвещения и критика способности суждения. Дидро и Кант / В. С. Библер // Западноевропейская художественная культура XVIII века / под ред. В. Н. Прокофьева. М., 1980.
Брагинский, И. С. Западно-восточный синтез в «Диване» Гёте / И. С. Брагинский // Западно-восточный диван / И. В. Гёте; изд. подгот. И. С. Брагинский, А. В. Михайлов. М., 1988.
Бур, М. Притязание разума: Из истории немецкой классической философии и литературы: пер с нем. / М. Бур, Г. Иррлиц. М., 1978.
Век Просвещения / под ред. Ф. Броделя. М.; Париж, 1970.
Вильмонт, Н. Н. Гёте: История его жизни и творчества / Н. Н. Вильмонт. М., 1959.
Вильмонт, Н. Н. Достоевский и Шиллер / Н. Н. Вильмонт. М., 1984.
Волгина, Е. И. Эпические произведения Гёте 1790-х годов / Е. И. Волгина. Куйбышев, М., 1970.
Волков, И. Ф. «Фауст» Гёте и проблема художественного метода / И. Ф. Волков. М., 1970.
Гётевские чтения. 1984. М., 1986.
Гётевские чтения. 1991. М., 1991.
Гётевские чтения. 1993. М., 1994.
Гинзбург, Л. Я. Литература в поисках реальности / Л. Я. Гинзбург // Вопр. литературы. 1986. № 2.
Гугнин, А. А. Наш старомодный современник, или Несколько заметок о поэзии Фридриха Шиллера / А. А. Гугнин // Стихотворения. – Gedichte / Ф. Шиллер – F. Schiller. М., 2005.
Гулыга, А. В. Гердер / А. В. Гулыга. М., 1975.
Гулыга, А. В. Готхольд Эфраим Лессинг / А. В. Гулыга // Избранное / Г. Э. Лессинг. М., 1980.
Гухман, М. М. История немецкого литературного языка XVI–XVIII вв. / М. М. Гухман, Н. Н. Семенюк, Н. С. Бабенко. М., 1984.
Данилевский, Р. Ю. Виланд в русской литературе / Р. Ю. Данилевский. Л., 1981.
Дейч, А. И. Судьбы поэтов: Гёльдерлин. Клейст. Гейне / А. И. Дейч. М., 1963.
Длугач, I Б. Подвиг здравого смысла, или Рождение идеи суверенной личности / Т. Б. Длугач. М., 1995.
Жирмунский, В. М. Гёте в русской литературе / В. М. Жирмунский. Л., 1981.
Жирмунский, В. М. Очерки по истории классической немецкой литературы/В. М. Жирмунский. Л., 1972.
Жирмунский, В. М. Опыт стилистической интерпретации стихотворений Гёте / В. М. Жирмунский // Из истории западноевропейских литератур / В. М. Жирмунский. Л., 1987.
Житомирская, 3. В. Иоганн Вольфганг Гёте: библиогр. указ. рус. пер. и крит. лит. на рус. яз., 1780–1972 / 3. В. Житомирская. М., 1972.
Жук, А. Д. Духовная ода X. Ф. Геллерта / А. Д. Жук // XVIII век: Литература в контексте культуры / под ред. проф. Н. Т. Пахсарьян. М., 1999.
Жучков, В. А. Немецкая философия эпохи Раннего Просвещения / В. А. Жучков. М., 1989.
Западноевропейская художественная культура XVIII века / под ред. В. Н. Прокофьева. М., 1980.
История всемирной литературы: в 9 т. М., 1988. Т. 5.
История Европы: в 8 т. / под ред. А. О. Чубарьяна. М., 1994. Т. 4.
История эстетики. Эстетические учения XVII–XVIII вв.: в 5 т. / гл. ред. М. Ф. Овсянников. М., 1964. Т. 2.
Канаев, И. И. Иоганн Вольфганг Гёте: Очерки из истории поэта-натурали-ста / И. И. Канаев. М.; Л. 1964.
Карельский, А. В. Драма немецкого романтизма / А. В. Карельский. М., 1992.
Кессель, Л. М. Гёте и «Западно-восточный диван» / Л. М. Кессель. Л., 1973.
Конради, К О. Гёте. Жизнь и творчество: пер. с нем.: в 2 т. / К. О. Конради. М., 1987.
Кузнецов, В. Н. Немецкая классическая философия второй половины XVIII – начала XIX в. / В. Н. Кузнецов. М., 1989.
Культура эпохи Просвещения / ред. К. М. Андерсон. М., 1993.
Лабутина, Т. Л. У истоков современной демократии / Т. Л. Лабутина. М., 1994.
Ланштейн, П. Жизнь Шиллера: пер. с нем. / П. Ланштейн. М., 1984.
Лессинг и современность / отв. ред. М. Лифшиц. М., 1981.
Либинзон, 3. Е. «Коварство и любовь» Шиллера / 3. Е. Либинзон. М., 1969.
Либинзон, 3. Е. Фридрих Шиллер / 3. Е. Либинзон. М., 1990.
Лозинская, Л. Я. Шиллер / Л. Я. Лозинская. М., 1960.
Людвиг, Э. Гёте / Э. Людвиг. М., 1965. (ЖЗЛ).
Михайлов, А. В. «Западно-восточный диван» Гёте: смысл и форма / А. В. Михайлов // Западно-восточный диван / И. В. Гёте; изд. подгот. И. С. Брагинский, А. В. Михайлов. М., 1988.
Михайлов, А. В. Поэзия «Западно-восточного дивана» Гёте: в русских переводах / А. В. Михайлов // Западно-восточный диван / И. В. Гёте; изд. подгот. И. С. Брагинский, А. В. Михайлов. М., 1988.
Монархия и народовластие в культуре Просвещения / отв. ред. Г. С. Кучеренко. М., 1995.
Мотрошилова, Н. В. Социально-исторические корни немецкой классической философии / Н. В. Мотрошилова. Л., 1990.
Неустроев, В. П. Немецкая литература эпохи Просвещения / В. П. Неустроев. М., 1958.
Никогда, А. А. Баллады Г. А. Бюргера: вопросы жанра и стиля: дис…канд. филол. наук: 10. 01. 05 / А. А. Никогда. Л., 1975.
Огурцов, А. П. Философия науки эпохи Просвещения / А. П. Огурцов. М., 1993.
Ортега-и-Гассет, X Что такое философия? / X. Ортега-и-Гассет. М., 1991.
Погребысский, И. В. Готфрид Вильгельм Лейбниц, 1646–1716 / И. В. Погребысский. М., 1971.
Прихожая, Л. И. Роман Ф. Гёльдерлина «Гиперион»: форма и смысл / Л. И. Прихожая. Калининград, 2007.
Проблемы Просвещения в мировой литературе / отв. ред. С. В. Тураев. М., 1970.
Протасова, К. С. Ф. Гёльдерлин, его время, жизнь и творчество: дис… д-ра филол. наук: 10. 01. 05 / К. С. Протасова. М., 1968.
Ратгауз, Г. 77. Комментарии / Г. И. Ратгауз // Сочинения / Ф. Гёльдерлин; сост. и вступ. ст. А. И. Дейча; коммент. Г. И. Ратгауза. М., 1969.
Реале, Д. Западная философия от истоков до наших дней / Д. Реале, Д. Антисери. СПб., 1996.
Рюде, Д. Народные низы в истории (1730–1848)/ Д. Рюде. М., 1984.
Сафрански, Р. Шиллер, или Открытие немецкого идеализма / Р. Сафрански; пер. с нем. А. А. Гугнина. М., 2007.
Синило, Г. В. Гёльдерлин и Пиндар / Г. В. Синило // Вести. БГУ. Сер. 4. 1990. № 1.
Синило, Г В. Судьба гимна в немецкой и австрийской поэзии XVIII–XX веков / Г. В. Синило // Проблемы метода и поэтики в зарубежной литературе XIX–XX веков / под ред. проф. Н. С. Лейтес. Пермь, 1981.
Синило, Г. В. Генезис жанра философского гимна в немецкой литературе XVIII века / Г. В. Синило // XVIII век: Литература в контексте культуры / под ред. проф. Н. Т. Пахсарьян. М., 1999.
Синило, Г. В. Генезис «лирики природы» (Naturlyrik) и «лирики мысли» (Gedankenlyrik) в немецкой поэзии XVIII века / Г. В. Синило // Проблемы истории литературы: Вып. 15 / отв. ред. проф. А. А. Гугнин. М.; Новополоцк, 2002.
Синило, Г. В. Эволюция стиховых форм в лирике Ф. Гёльдерлина / Г. В. Синило // XVIII век: Судьбы поэзии в эпоху прозы: сб. науч. работ / отв. ред. Н. Т. Пахсарьян. М., 2001.
Синило, Г. В. Жанровые и стилевые новации в лирике Ф. Г. Клопштока / Г. В. Синило // Другой XVIII век: сб. науч. работ / отв. ред. Н. Т. Пахсарьян. М., 2002.
Синило, Г. В. «Ночная песня странника II» И. В. Гёте в свете жизненных идеалов XVIII века / Г. В. Синило // XVIII век: Искусство жить и жизнь искусства: сб. науч. работ / отв. ред. Н. Т. Пахсарьян. М., 2004.
Синило, Г. В. Традиция философской лирики Гёльдерлина в поэзии ГДР (И. Р. Бехер, Г. Маурер): дис… канд. филол. наук: 10. 01. 04 / Г. В. Синило. М., 1984.
Синило, Г. В. Гёте и Еврейская Библия / Г. В. Синило // Танах и мировая поэзия / Г. В. Синило. Минск, 2009.
Сініла, Г. В. «Памры і адрадзіся!»: Творчы шлях Ёгана Вольфганга Гётэ: у 2 ч. Ч. 1–2 / Г. В. Сініла // Роднае слова. 2000. № 7. С. 23–28; № 8.
Сініла (Крупкіна), Г. В. Мастацкі космас гётэўскага “Фаўста” і яго перастварэнне па-беларуску: у 4 ч. Ч. 1–4 / Г. В. Сініла (Крупкіна) // Роднае слова. 2000. № 7–10.
Современные зарубежные исследования по литературе XVII–XVIII вв. / под ред. Т. Н. Красавченко. М., 1981.
Стадников, Г. В. Лессинг: Литературная критика и художественное творчество / Г. В. Стадников. М., 1987.
Толстой читает Гёте / сост. и предисл. Т. Л. Мотылевой. Тула, 1982.
Тройская, М. Л. Немецкая сатира эпохи Просвещения / М. Л. Тройская. Л., 1962.
Тройская, М. Л. Немецкий сентиментально-юмористический роман эпохи Просвещения / М. Л. Тройская. Л., 1965.
Тураев, С. В. Введение в западноевропейскую литературу XVIII века / С. В. Тураев. М., 1981.
Тураев, С. В. Гёте. Очерк жизни и творчества / С. В. Тураев. М., 1957.
Тураев, С. В. Гёте и формирование концепции мировой литературы / С. В. Тураев. М., 1989.
Тураев, С. В. «Дон Карлос» Шиллера: проблема власти / С. В. Тураев // Монархия и народовластие в культуре Просвещения. М., 1995.
Тураев, С. В. От Просвещения к романтизму: трансформация героя и изменение жанровых структур в западноевропейской литературе конца XVII – начала XIX в. / С. В. Тураев. М., 1983.
Турчин, В. С. Из истории западноевропейской художественной критики XVIII–XIX вв. / В. С. Турчин. М., 1987.
Современные зарубежные исследования по литературе XVII–XVIII веков / под ред. Т. Н. Красавченко. М., 1981.
Философия эпохи ранних буржуазных революций / под ред. Н. В. Мотрошиловой, Э. Ю. Соловьева. М., 1993.
Фридлендер, Г. М. Лессинг / Г. М. Фридлендер. М., 1957.
Фридрих Шиллер: Статьи и исследования / под общ. ред. Р. М. Самарина, С. В. Тураева. М., 1966.
Фуко, М. Слова и вещи / М. Фуко. СПб., 1994.
Хайдеггер, М. Разъяснения к поэзии Гёльдерлина / М. Хайдеггер; пер. с нем. Г. Б. Ноткина. СПб., 2003.
Хёйзинга, И. Homo Ludens / И. Хёйзинга. М., 1992.
Художественная культура XVIII века / под общ. ред. И. Е. Даниловой. М., 1974.
Черненко, И. А. Миф о греческом мифе в «Фаусте» И. В. Гёте / И. А. Черненко // Другой XVIII век.: сб. науч. работ / отв. ред. Н. Т. Пахсарьян. М., 2002.
Чечельницкая, Г. Я. Фридрих Шиллер / Г. Я. Чечельницкая. М.; Л., 1959.
Шайтанов, И. О. Мыслящая муза / И. О. Шайтанов. М., 1989.
Шаманская, Л. П. Жуковский и Шиллер. Поэтический перевод в контексте русской литературы / Л. П. Шаманская. М., 2000.
Шацкий, Е. Утопия и традиция / Е. Шацкий. М., 1989.
Шиллер: Статьи и материалы. М., 1966.
Шиллер, Ф. П. Фридрих Шиллер: Жизнь и творчество / Ф. П. Шиллер. М., 1955.
Якушева, Г. В. Фауст в искушениях XX века: Гётевский образ в русской и зарубежной литературе / Г. В. Якушева. М., 2005.
Ященко, А. Л. «Фауст» Гёте в интерпретации русской критики и переводах: дис… канд. филол. наук: 10.01.03 / А. Л. Ященко. Горький, 1964.
Aufsätze zu Goethes «Faust I» / hrsg. von W. Keller. Darmstadt, 1974.
Baumann, G. Goethe: Dauer im Wechsel / G. Baumann. München, 1977.
Baur, E. Johann Gottfried Herder: Leben und Werk / E. Baur. Stuttgart, 1960.
Buchwald, R. Schiller: Leben und Werk / R. Buchwald. Frankfurt а. M., 1966.
Dietze, W. Poesie der Humanität: Anspruch und Leistung im lyrischen Werk Johann Wolfgang Goethes / W. Dietze. Berlin; Weimar, 1985.
Emrich, W. Die Symbolik von Faust II. Sinn und Vorformen / W. Emrich. Bonn, 1957.
Erforschung der deutschen Aufklärung / hrsg. von P. Putz. Königstein, 1980.
F. G. Klopstock: Werk und Wirkung: Wissenschaftlische Konferenz der Martin-Luther-Universität. Halle, 1978.
Fischer, P. Goethe-Wortschatz: Ein spraschgeschichtiches Wörtebuch zu Goethes sämtlichen Werken / P. Fischer. Köln, 1968.
Geschichte der deutschen Literatur: Vom Ausgang des 17. Jahrhunderts bis 1789 / von einem Autorenkollektiv unter Leitung W. Rieck, P. G. Krohn, H.-H. Reuter et al. Berlin, 1979.
Gotthold Ephraim Lessing / hrsg. G. und S. Bauer. Darmstadt, 1968.
Grosse, W Studien zu Klopstock: Poetik / W. Grosse. München, 1977.
Goethes «Werther» als Modell für kritisches Lesen: Materialen zur Rezeptionsgeschichte / zugest. und eingel. von K. Holz. Stuttgart, 1974.
Grenzmann, W. Der junge Goethe: Interpretation / W. Grenzmann. Padeborn, 1964.
Hamm, H. Goethes «Faust»: Werkgeschichte und Textanalyse / H. Hamm. Berlin, 1978.
Hartmann, H Egmont: Geschichte und Dichtung / H. Hartmann. Berlin, 1972.
Hartmann, H Faustgestalt, Faustsage, Faustdichtung / H. Hartmann. Berlin, 1979.
Hettner, H Geschichte der deutschen Literatur im achtzehnten Jahrhundert: in 2 Bd. / H. Hettner. Berlin, 1961.
Hettner, H Literaturgeschichte der Goethezeit / H. Hettner; hrsg. J. Anderegg. München, 1970.
Huyssen, A. Drama des Sturm und Drang / A. Huyssen. München, 1980.
Jacobs, J. Wielands Romane / J. Jacobs. Bern; München, 1969.
Kimpel, D. Der Roman der Aufklärung / D. Kimpel. Stuttgart, 1967.
Kloopman, H Drama der Aufklärung: Kommentar zu einer Epoche / H. Kloopman. München, 1979.
Korff, H A. Goethe im Bildwandel seiner Lyrik: in 2 Bd. / H. A. Korff. Leipzig, 1958.
Müller, J.-D. Wielands späte Romane / J. D. Müller. München, 1971.
Middell, E. Friedrich Schiller: Leben und Werk / E. Middel. Leipzig, 1980.
Pott, H J. «Harfe und Hain»: Die deutsche Bardendichtung des 18. Jahrhundert / H. J. Pott. Bonn, 1976.
Requalt, P Goethes «Faust II»: Leitmotivik und Architektur / P. Requalt. München, 1972.
Schiller-Bibliographie, 1964–1974 / bearb. von P. Werzig. Berlin; Weimar, 1977.
Schreider, F. J. Die Deutsche Dichtung der Aufklärungszeit / F. J. Schreider. Stuttgart, 1948.
Seidel, S. Gotthold Ephraim Lessing, 1729–1781 / S. Seidel. Berlin, 1963.
Selbmann, R. Der deutsche Bildungsroman / R. Selbmann. Stuttgart, 1984.
Spranger, E. Goethe. Seine geistige Welt / E. Spranger. Tübingen, 1967.
Steiner, J. Goethes Wilhelm Meister. Sprache und Stilwandel / J. Steiner. Stuttgart, 1966.
Stocklein, P Wege zum späten Goethe. Dichtung. Gedanke. Zeichnung / P. Stocklein. Darmstadt, 1973.
Strich, F Goethe und die Weltliteratur / F. Strich. Bern, 1967.
Sturm und Drang / hrsg. von M. Wasker. Darmstadt, 1985.
Wellmanns, G. T. Studien zur deutschen Satire im Zeitalter der Aufklärung / G. T. Wellmanns. München, 1969.
Примечания
1
Шайтанов, И.О. Мыслящая муза / И.О. Шайтанов. М., 1989. С. 3.
(обратно)2
Пахсарьян, Н.Т. «Ирония судьбы» века Просвещения: обновленная литература или литература, демонстрирующая «исчерпанность старого»? / Н.Т. Пахсарьян // Зарубежная литература второго тысячелетия: 1000–2000 / под ред. Л.Г. Андреева. М., 2001. С. 69–70.
(обратно)3
Пахсарьян H.T. «Ирония судьбы» века Просвещения… С. 109.
(обратно)4
Культура эпохи Просвещения. М., 1993. С. 4.
(обратно)5
Реале, Д. Западная философия от истоков до наших дней / Д. Реале, Д. Антисери. СПб., 1996. Т.З. С. 458.
(обратно)6
Ортега-и-Гассет, X Что такое философия? / X. Ортега-и-Гассет. М., 1991. С. 28.
(обратно)7
Бенишу, П. На пути к светскому священнослужению / П. Бенишу // Новое литературное обозрение. 1995. № 13. С. 223.
(обратно)8
См. подробнее о споре «древних» и «новых» далее.
(обратно)9
Якимович, А.Я. Об истоках и природе искусства Ватто / А.Я. Якимович // Западноевропейская художественная культура XVIII века. М., 1980. С. 50.
(обратно)10
Пахсарьян, Н.Т. История зарубежной литературы XVII–XVIII веков / Н.Т. Пахсарьян. М., 1996. С. 56–57.
(обратно)11
Эпистемология – раздел философии, занимающийся теорией познания.
(обратно)12
Длугач, Т.Е. Подвиг здравого смысла, или Рождение идеи суверенной личности / Т.Е. Длугач. М., 1995. С. 7.
(обратно)13
Христиан Томазий – старинная форма написания имени Кристиана Томазиуса.
(обратно)14
Пахсарьян, Н. Т. Просвещение / Н.Т. Пасхарьян // Литературная энциклопедия терминов и понятий; ред. и сост. А.Н. Николюкин. М., 2001. Кол. 824.
(обратно)15
Фуко, М. Слова и вещи / М. Фуко. СПб., 1994. С. 15.
(обратно)16
Пахсарьян, Н.Т. История зарубежной литературы XVII–XVIII веков. С. 58.
(обратно)17
Там же.
(обратно)18
Гинзбург, Л.Я. Литература в поисках реальности / Л.Я. Гинзбург // Вопросы литературы. 1986. № 2. С. 99.
(обратно)19
Пахсарьян, Н.Т. История зарубежной литературы XVII–XVIII веков. С. 60.
(обратно)20
Ортега-и-Гассет, X Что такое философия? С. 28.
(обратно)21
Елистратова, А.А. Введение / А.А. Елистратова, С.В. Тураев // История всемирной литературы: в 9 т. М., 1988. Т. 5. С. 26.
(обратно)22
Там же.
(обратно)23
Пахсарьян, Н.Т. Рококо // Литературная энциклопедия терминов и понятий. Кол. 885.
(обратно)24
Пахсарьян, Н.Т. Рококо // Литературная энциклопедия терминов и понятий. Кол. 885.
(обратно)25
Пахсарьян, Н.Т. История зарубежной литературы XVII–XVIII веков. С. 64.
(обратно)26
Там же. С. 63.
(обратно)27
Пахсарьян, Н.Т. История зарубежной литературы XVII–XVIII веков. С. 63.
(обратно)28
Пахсарьян, Н.Т. Рококо // Литературная энциклопедия терминов и понятий. Кол. 885–886.
(обратно)29
Пахсарьян, Н.Т. Рококо // Литературная энциклопедия терминов и понятий. Кол. 886.
(обратно)30
Пахсарьян, Н.Т. История зарубежной литературы XVII–XVIII веков. С. 63.
(обратно)31
Пахсарьян, Н.Т. Рококо // Литературная энциклопедия терминов и понятий. Кол. 886.
(обратно)32
Там же.
(обратно)33
Пахсарьян, Н.Т. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков. С. 64.
(обратно)34
Чекалов, К.А. Спор о «древних» и «новых» / К.А. Чекалов // Литературная энциклопедия терминов и понятий. Кол. 1021–1022.
(обратно)35
Там же. Кол. 1022.
(обратно)36
Иванов, Д.А. Сентиментализм / Д.А. Иванов // Литературная энциклопедия терминов и понятий. Кол. 960. Следует заметить, что в XIX в., когда мода на сентиментализм прошла, слово sentimental получило негативный оттенок и стало означать излишнюю чувствительность и слезливость. То же самое произошло со словом «сентиментальный» в русском языке. Поэтому правильно говорить о литературе сентиментализма не «сентиментальная», но «сентименталистская».
(обратно)37
Пахсарьян, Н.Т. История зарубежной литературы XVII–XVIII веков. С. 66.
(обратно)38
Там же. С. 67.
(обратно)39
Иванов, Д.А. Сентиментализм. Кол. 964.
(обратно)40
Жучков, В.А. Немецкая философия эпохи Раннего Просвещения / В.А. Жучков. М., 1989. С. 13.
(обратно)41
Гейман, Б.Я. Особенности развития литературы немецкого Просвещения / Б.Я. Гейман // История немецкой литературы: в 5 т. М., 1963. T. 2. С. 8.
(обратно)42
См. подробнее в разделе «Немецкая проза XVIII в.».
(обратно)43
Особый статус «Фауста», равно как и всего творчества Гёте, синтезирующего все лучшее, достигнутое веком Просвещения, и выходящего далеко в будущее, побуждает рассмотреть творческую эволюцию великого поэта и поэтику крупнейших его произведений в отдельном очерке.
(обратно)44
Пумпянский, Л.В. Литература на рубеже XVII–XVIII веков / Л.В. Пумпянский // История немецкой литературы: в 5 т. М., 1962. T. 1. С. 432–433.
(обратно)45
Его – в значении «моей»; согласно поэтической моде того времени, И. К. Гюнтер часто говорит о своей возлюбленной и себе в третьем лице.
(обратно)46
Martini, F Deutsche Literaturgeschichte / F. Martini. Stuttgart, 1991. S. 168.
(обратно)47
Самарин, Р.М. И.Х. Гюнтер / Р.М. Самарин // История немецкой литературы: в 5 т. Т. 1. С. 447–448.
(обратно)48
Martini, F. Deutsche Literaturgeschichte. S. 169.
(обратно)49
Гёте, И.В. Из моей жизни. Поэзия и правда / И.В. Гёте // Собрание соченений: в 10 т. М., 1976–1980. Т. 3. С. 334.
(обратно)50
Гёте, И.В. Из моей жизни. Поэзия и правда. С. 223.
(обратно)51
Гейман, Б.Я. Ранние просветители / Б.Я. Гейман // История немецкой литературы: в 5 т. T. 2. С. 44.
(обратно)52
Цит. по: Вебер, П. Литература эпохи Просвещения (1700–1789) / П. Вебер // История немецкой литературы: пер. с нем.: в 3 т. М., 1985. Т. 1. С. 248.
(обратно)53
Тураев, С.В. Немецкая литература / С.В. Тураев // История всемирной литературы: в 9 т. М., Т. 5. С. 200.
(обратно)54
Гёте, И.В. Из моей жизни. Поэзия и правда. С. 336.
(обратно)55
Гёте, И.В. Из моей жизни. Поэзия и правда. С. 208.
(обратно)56
Жук, А.Д. Духовная ода Х.Ф. Геллерта / А.Д. Жук // XVIII век: Литература в контексте культуры / под ред. проф. H.T. Пахсарьян. М., 1999. С. 60, 66.
(обратно)57
Гейман, Б.Я. Геллерт / Б.Я. Гейман // История немецкой литературы: в 5 т. Т. 2. С. 94.
(обратно)58
Гёте, И.В. Из моей жизни. Поэзия и правда. С. 334–335.
(обратно)59
Гёте, И.В. Из моей жизни. Поэзия и правда. С. 335.
(обратно)60
Гёте, И.В. Из моей жизни. Поэзия и правда. С. 335.
(обратно)61
Гёте, И.В. Из моей жизни. Поэзия и правда. С. 335.
(обратно)62
Там же.
(обратно)63
Гёте, И.В. Из моей жизни. Поэзия и правда. С. 335–336.
(обратно)64
Гёте, И.В. Из моей жизни. Поэзия и правда. С. 69.
(обратно)65
Там же. С. 335.
(обратно)66
Гейман, Б.Я. Клопшток / Б.Я. Гейман // История немецкой литературы: в 5 т. Т. 2. С. 166.
(обратно)67
Пуришев, Б.И. Виланд / Б.И. Пуришев // История немецкой литературы: в 5 т. T. 2. С. 180.
(обратно)68
Гёте, И.В. Из моей жизни. Поэзия и правда. С. 228–229.
(обратно)69
Карабегова, Е.В. Ироикомическая поэма К.М. Виланда «Оберон»: Поэтика жанра / Е.В. Карабегова // XVIII век: Судьбы поэзии в эпоху прозы / отв. ред. проф. Н.Т. Пахсарьян. М., 2001. С. 165.
(обратно)70
Там же.
(обратно)71
Пуришев, Б.И. Виланд. С. 187.
(обратно)72
Там же. С. 188.
(обратно)73
Карабегова, Е.В. Ироикомическая поэма К.М. Виланда «Оберон»… С. 166.
(обратно)74
Карабегова, Е.В. Ироикомическая поэма К.М. Виланда «Оберон»… С. 169.
(обратно)75
Карабегова, Е.В. Ироикомическая поэма К.М. Виланда «Оберон»… С. 171.
(обратно)76
Карабегова, Е.В. К проблеме эволюции травестии и бурлеска от XVII к XVIII веку (ироикомическая поэма Виланда «Оберон») // XVII век: Между трагедией и утопией: сборник научных трудов / отв. ред. проф. Т. В. Саськова. М., 2004. Вып. I. С. 267.
(обратно)77
Wieland: Epoche – Werk – Wirkung / S. A. Jorgensen [und and]. München, 1994. S. 99.
(обратно)78
Карабегова, Е.В. Ироикомическая поэма К.М. Виланда «Оберон»… С. 172.
(обратно)79
Гугнин, А.А. Комментарии / А.А. Гугнин // Немецкая поэзия в переводах В.А. Жуковского / сост., предисл. и коммент. А.А. Гугнина. М., 2000. С. 580.
(обратно)80
Ермоленко, Г.Н. Французская комическая поэма XVII–XVIII вв.: Литературный жанр как механизм и организм /Г.Н. Ермоленко. Смоленск, 1998. С. 165.
(обратно)81
Гугнин, А.А. Комментарии. С. 581.
(обратно)82
См.: Виланд, К.М. Оберон; Музарион / К.М. Виланд; пер. с нем., коммент. и ст. Е.В. Карабеговой. М., 2008.
(обратно)83
Гёте, И.В. Из моей жизни. Поэзия и правда. С. 450.
(обратно)84
См. подробнее в отдельном разделе, посвященном творчеству И.В. Гёте.
(обратно)85
См. подробнее в разделе «Немецкая драматургия XVIII века».
(обратно)86
См. там же.
(обратно)87
Ратгауз, Г.И. Краткие справки о немецких, австрийских и швейцарских поэтах / Г.И. Ратгауз // Золотое перо: Немецкая, австрийская и швейцарская поэзия в русских переводах: 1812–1970 / сост., вступ. ст., справки о поэтах и примеч. Г.И. Ратгауза. М., 1974. С.685.
(обратно)88
Лозинская, Л.Я. Бюргер / Л.Я. Лозинская // История немецкой литературы: в 5 т. Т. 2. С. 283–284.
(обратно)89
Гугнин, А.А. Комментарии… С. 585.
(обратно)90
О творческом пути Ф. Шиллера см. в разделе «Немецкая драматургия XVIII века».
(обратно)91
Тураев, С.В. Творчество Шиллера 1788–1805 годов / С.В. Тураев // История немецкой литературы: в5 т. Т. 2.С.377.
(обратно)92
Тураев, С.В. Творчество Шиллера 1788–1805 годов. С. 378.
(обратно)93
Славятинский, Н.А. Примечания / Н.А. Славятинский // Шиллер, Ф. Драмы; Стихотворения. М., 1975. С. 856.
(обратно)94
Речь идет о войнах в Африке, Европе и Америке.
(обратно)95
Французы и англичане.
(обратно)96
Хайдеггер, М. Гёльдерлин и сущность поэзии / М. Хайдеггер // Логос. 1991. № 1. С. 42.
(обратно)97
Хайдеггер, М. Интервью в журнале «Экспресс» / М. Хайдеггер // Логос. 1991. № 1. С. 57.
(обратно)98
Ратгауз, Г.И. Комментарии / Г.И. Ратгауз // Гёльдерлин, Ф. Сочинения / сост. и вступ. ст. А.И. Дейча; коммент. Г.И. Ратгауза. М., 1969. С. 519.
(обратно)99
Dietze, W Rede zum zweihundertsten Geburtstag Friedrich Hölderlins / W. Dietze. Berlin, 1970. S. 5.
(обратно)100
Цвейг, С. Гёльдерлин / С. Цвейг // Собр. соч.: в 7 т. М., 1963. Т. 6. С. 98.
(обратно)101
См. раздел «Немецкая проза XVIII века».
(обратно)102
Дейч, А.И. Фридрих Гёльдерлин / А.И. Дейч // Гёльдерлин, Ф. Сочинения. С. 23.
(обратно)103
Hölderlin, F. Werke und Briefe: in 2 Bd. / F. Hölderlin; hrsg. von F. Beissner und J. Schmidt / Frankfurt а. M., 1969. Bd. 2. S. 867.
(обратно)104
Гёльдерлин, Ф. Сочинения. С. 510.
(обратно)105
Г.И. Ратгауз указывает: «Значительная часть писем Гёльдерлина к Диотиме, по-видимому, утрачена… Письма Диотимы к Гёльдерлину были обнаружены и изданы лишь в 1921 году и с тех пор неоднократно переиздавались. Из этих писем, обладающих высокими художественными достоинствами, видно, что Диотима была достойной подругой поэта» (Ратгауз, Г.И. Комментарии // Гёльдерлин, Ф. Сочинения. С. 525). На русском языке письма Диотимы впервые вышли в следующем издании: Гёльдерлин, Ф. Гиперион; Стихи; Письма / Ф. Гёльдерлин; изд. подгот. Н. T. Беляева. М., 1988. С. 395–466.
(обратно)106
Гёльдерлин, Ф. Сочинения. С. 513–514.
(обратно)107
Гёльдерлин, Ф. Сочинения. С. 514.
(обратно)108
Имеется в виду Беттина фон Арним, сестра выдающегося немецкого поэта-романтика К. Брентано, вышедшая замуж за еще одного известного поэта – Л.А. фон Арнима и сама бывшая талантливой писательницей.
(обратно)109
Цвейг, С. Гёльдерлин. С. 101.
(обратно)110
Цит. по: Цвейг, С. Гёльдерлин. С. 188.
(обратно)111
Буквально: «Что же, если такой, Вечный, был, чуждаемся мы // все еще земного?»
(обратно)112
Hölderlin, F. Werke und Briefe. Bd. 1. S. [167].
(обратно)113
Ратгауз, Г.И. Комментарии. С. 520.
(обратно)114
Там же.
(обратно)115
Патмос – остров, на котором, согласно преданию, Иоанн Богослов написал свое Откровение (Апокалипсис).
(обратно)116
Beissner, F. Hölderlin: Reden und Aufsätze / F. Beissner. Berlin; Weimar, 1961. S. 167.
(обратно)117
Гёльдерлин, Ф. Сочинения. С. 515.
(обратно)118
Hölderlin, F. Werke und Briefe. Bd. 2. S. 946.
(обратно)119
Hölderlin, F Werke und Briefe. Bd. 2. S. 378.
(обратно)120
Cm.: Hellingrath, N. Hölderlins Vermächtnis / N. Hellingrath. München, 1936.
(обратно)121
Bobrowski Johannes: Selbstzeugnisse und neue Beutrдge ьber sein Werk. Berlin, 1975. S. 164.
(обратно)122
Бенедикт (Benedictus – «благословенный») – латинский эквивалент ивритского (еврейского) имени Спинозы – Барух – с тем же значением. Подвергнутый херему (отлучению) еврейской общиной Амстердама, Спиноза был одним из первых философов-профессионалов в Европе. Будучи евреем по происхождению, Спиноза преодолевал рамки ортодоксального иудаизма и в то же время опирался в равной степени как на достижения еврейской религиозной рационалистической философии, соединявшей классический иудейский монотеизм с опытом греческой философии – опытом Платона и Аристотеля (Филон Александрийский, Саадия Гаон, Ибн Дауд, Ибн Гвироль, Маймонид), так и на еврейскую религиозно-мистическую традицию, прежде всего традицию Каббалы. В связи с этим Спиноза особенно интересовался сочинениями Я. Бёме, на которого очевидно влияние мистики Каббалы, и дал первый органичный синтез рационализма и мистики – специфическую концепцию панентеизма («все в Боге и Бог во всем»).
(обратно)123
О драматургии И.К. Готшеда, равно как и о его театральной реформе, см. в разделе «Немецкая драматургия XVIII века».
(обратно)124
Гёте, И.В. Из моей жизни. Поэзия и правда / И.В. Гёте // Собрание сочинений: в 10 т. М., 1976–1980. Т. 3. С. 230.
(обратно)125
Подробнее о взглядах «швейцарцев» на природу поэзии и об их полемике с И.К. Готшедом см. в разделе «Немецкая поэзия XVIII века».
(обратно)126
Гёте, И.В. Из моей жизни. Поэзия и правда. С. 218–219.
(обратно)127
Гейман, Б.Я. Дисков. Шнабель / Б.Я. Гейман // История немецкой литературы: в 5 т. Т. 2. С. 78.
(обратно)128
Там же.
(обратно)129
Гейман, Б.Я. Дисков. Шнабель. С. 80.
(обратно)130
О группе «бременцев» см. подробнее в разделе «Немецкая поэзия XVIII века».
(обратно)131
Тройская, М.Л. Немецкая сатира эпохи Просвещения / М.Л. Тройская. Л., 1962. С. 37.
(обратно)132
Hettner, Н. Geschichte der Deutschen Literatur im achzehnten Jahrhundert: in 2 Bd. / H. Hettner. Berlin, 1961. Bd. 1. S. 241–245.
(обратно)133
Гейман, Б.Я. Дисков. Шнабель. С. 82.
(обратно)134
О творческом пути К.Ф. Геллерта и его поэтическом творчестве см. подробнее в разделе «Немецкая поэзия XVIII века», о его драматургии – «Немецкая драма XVIII века».
(обратно)135
Гейман, Б.Я. Литературные направления 40-50-х годов / Б.Я. Нейман // История немецкой литературы: в 5 т. T. 2. С. 98.
(обратно)136
Гейман, Б.Я. Литературные направления 40-50-х годов. С. 99.
(обратно)137
См. подробнее в разделе «Немецкая поэзия XVIII века».
(обратно)138
Гейман, Б.Я. Винкельман / Б.Я. Гейман // История немецкой литературы: в 5 т. Т. 2. С 106.
(обратно)139
Цит. по: Гейман, Б.Я. Винкельман. С. 108.
(обратно)140
Там же.
(обратно)141
Гейман, Б.Я. Винкельман. С. 108.
(обратно)142
Там же. С. 106.
(обратно)143
Гёте,И.В. Винкельман и его время / И.В. Гёте // Собрание сочинений: в 10 т. Т. 10. С. 180–181.
(обратно)144
Тамже. С. 159.
(обратно)145
Гёте, КВ. Винкельман и его время. С. 166, 167.
(обратно)146
Винкельман, И.И. Избранные произведения и письма / И.И. Винкельман. М.; Л., 1935. С. 184.
(обратно)147
Винкельман, И.И. Избранные произведения и письма. С. 182.
(обратно)148
Там же. С. 184–185.
(обратно)149
Гейман, Б.Я. Винкельман. С. 115.
(обратно)150
Винкельман, И.И. Избранные произведения и письма. С. 107.
(обратно)151
Гёте, И.В. Винкельман и его время. С. 159.
(обратно)152
Винкельман, И.И. Избранные произведения и письма. С. 86.
(обратно)153
Тамже. С. 110–111.
(обратно)154
Винкельман, И.И. Избранные произведения и письма. С. 193.
(обратно)155
Винкельман, И.И. История искусства Древности / И.И. Винкельман. Л., 1933. С. 138.
(обратно)156
Гейман, Б.Я. Винкельман. С. 115.
(обратно)157
Винкельман, И.И. История искусства Древности. С. 123.
(обратно)158
Там же.
(обратно)159
Там же. С. 124.
(обратно)160
Там же. С. 124–125.
(обратно)161
0 творческом пути Г. Э. Лессинга см. подробнее в разделе «Немецкая драматургия XVIII века».
(обратно)162
Лессинг, Г.Э. Избранное / Г.Э. Лессинг. М., 1980. С. 355.
(обратно)163
О «Гамбургской драматургии» см. подробнее в разделе «Немецкая драматургия XVIII века».
(обратно)164
«Поэзия – та же живопись», или «Поэзия, подобная живописи» (лат.) – изречение Горация.
(обратно)165
Гёте, И.В. Из моей жизни. Поэзия и правда. С. 267.
(обратно)166
Лессинг, Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии // Избранное. С. 432.
(обратно)167
Там же.
(обратно)168
Там же. С. 433–434.
(обратно)169
Там же. С. 432.
(обратно)170
Лессинг, Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. С. 432.
(обратно)171
Там же. С. 390.
(обратно)172
Там же. С. 393.
(обратно)173
Лессинг, Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. С. 393.
(обратно)174
Там же.
(обратно)175
Там же.
(обратно)176
Гриб, В.Р. Лессинг / В.Р. Гриб // История немецкой литературы: в 5 т. Т. 2. С. 143.
(обратно)177
О формировании взглядов К.М. Виланда и его пути как поэта см. в разделе «Немецкая поэзия XVIII века».
(обратно)178
Пуришев, Б.И. Виланд / Б.И. Пуришев // История немецкой литературы: в 5 т. Т. 2. С. 179.
(обратно)179
Данилевский, Р.Ю. Виланд и его «История абдеритов» / Р.Ю. Данилевский // Виланд К.М. История абдеритов / изд. подгот. Г.С. Слободкин, Р.Ю. Данилевский. М., 1978. С. 225.
(обратно)180
Там же. С. 225.
(обратно)181
Данилевский, Р.Ю. Виланд и его «История абдеритов». С. 225.
(обратно)182
Пуришев, Б.И. Виланд. С. 196.
(обратно)183
См. подробнее в разделе «Немецкая поэзия XVIII века».
(обратно)184
Цит. по: Пуришев, Б.И. Виланд. С. 192.
(обратно)185
Пуришев, Б.И. Виланд. С. 192.
(обратно)186
Данилевский, Р.Ю. Виланд и его «История абдеритов». С. 230.
(обратно)187
Цит. по: Пуришев, Б.И. Виланд. С. 184.
(обратно)188
Данилевский, Р.Ю. Виланд и его «История абдеритов». С. 235; см. также: Тройская, М.Л. Немецкая сатира эпохи Просвещения / М.Л. Тройская. Л., 1962. С. 137.
(обратно)189
Цит. по: Тройская, М.Л. Немецкая сатира эпохи Просвещения. С. 132.
(обратно)190
Данилевский, Р.Ю. Виланд и его «История абдеритов». С. 231.
(обратно)191
Там же.
(обратно)192
0 философских, эстетических и литературных взглядах И.Г. Гердера см. подробнее в разделе «Немецкая поэзия XVIII века».
(обратно)193
Гулыга, А.В. Готхольд Эфраим Лессинг / А.В. Гулыга. Г.Э. Лессинг // Избранное. С. 14.
(обратно)194
См. подробнее в разделе, посвященном И.В. Гёте.
(обратно)195
О Ленце см. подробнее в разделах «Немецкая поэзия XVIII века» и «Немецкая драматургия XVIII века».
(обратно)196
Тройская, М.Л. Мещанская драма и роман 80-90-х годов / М.Л. Тройская // История немецкой литературы: в 5 т. Т. 2. М. С. 326.
(обратно)197
О биографии и творческом пути К.Ф.Д. Шубарта см. в разделе «Немецкая поэзия XVIII века».
(обратно)198
О творческом пути Ф. Шиллера см. в разделе «Немецкая драматургия XVIII века», о его поэзии – «Немецкая поэзия XVIII века».
(обратно)199
Вебер, П. Основные черты немецкого Просвещения / П. Вебер // История немецкой литературы: пер. с нем.: в 3 т. М., 1985. Т. 1. С. 295.
(обратно)200
Тройская, М.Л. Лихтенберг / М.Л. Тройская // История немецкой литературы: в 5 т. Т. 2. С. 314.
(обратно)201
О творческом пути Ф.М. Клингера см. подробнее в разделе «Немецкая драматургия XVIII века».
(обратно)202
См. в разделе «Немецкая поэзия XVIII века».
(обратно)203
Тронская, М.Л. Мещанская драма и роман 80-90-х годов. С. 326.
(обратно)204
Тройская, М.Л. Мещанская драма и роман 80-90-х годов. С. 330.
(обратно)205
Подробнее о взглядах Г.Э. Лессинга на отдельные религии и их соотношение с разными «возрастами» человечества см. в разделе «Немецкая драматургия XVIII века».
(обратно)206
Гриб, В.Р. Лессинг / В.Р. Гриб // История немецкой литературы: в 5 т. Т. 2. С. 153.
(обратно)207
Тамже. С. 156.
(обратно)208
Цит. по: Банникова, Н.П. Гердер // История немецкой литературы: в 5 т. Т. 2. С. 215.
(обратно)209
Там же. С. 215.
(обратно)210
Цит. по: Банникова, Н.П. Гердер. С. 217.
(обратно)211
Банникова, Н.П. Гердер. С. 218.
(обратно)212
Шиллер, Ф. Собрание сочинений: в 7 т. М., 1955–1957. Т. 4. С. 28.
(обратно)213
Там же. Т. 5. С. 194.
(обратно)214
Там же. Т. 4. С. 462.
(обратно)215
Шиллер, Ф. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 6. С. 254.
(обратно)216
Там же. С. 253.
(обратно)217
Там же. С. 254.
(обратно)218
Там же. С. 261.
(обратно)219
Шиллер, Ф. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 6. С. 275.
(обратно)220
Там же. С. 321.
(обратно)221
Там же. С. 325.
(обратно)222
Там же. С. 372.
(обратно)223
Там же. С. 163.
(обратно)224
Шиллер, Ф. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 7. С. 356.
(обратно)225
См. подробнее в разделе, посвященном И.В. Гёте.
(обратно)226
См. подробнее в разделе «Немецкая поэзия XVIII века».
(обратно)227
Имеется в виду возлюбленный Платона – прекрасный юноша Астер, имя которого по-гречески означает «звезда» (в переводе на латынь – Стелла).
(обратно)228
Берковский, Н.Я. Гёльдерлин / Н.Я. Берковский // История немецкой литературы: в 5 т. Т. З.С. 65.
(обратно)229
Там же.
(обратно)230
О романе К. Рейтера «Шельмуфский» см. в разделе «Немецкая проза XVIII века».
(обратно)231
О прозе К. Вейзе и его творческом пути см. в разделе «Немецкая проза XVIII века».
(обратно)232
Об идеях И. К. Готшеда, касающихся литературы в целом и изложенных в его «Опыте критической поэтики для немцев», см. подробнее в разделе «Немецкая проза XVIII века».
(обратно)233
Гейман, Б. Я. Готшед / Б. Я. Гейман // История немецкой литературы: в 5 т. T. 2. С. 62.
(обратно)234
О полемике «швейцарцев» с И. К. Готшедом см. в разделах «Немецкая поэзия XVIII века» и «Немецкая проза XVIII века».
(обратно)235
См. подробнее в разделах «Немецкая поэзия XVTII века» и «Немецкая проза XVTII века».
(обратно)236
Гриб, В. Р. Лессинг / В. Р. Гриб // История немецкой литературы: в 5 т. Т. 2. С. 121.
(обратно)237
Гриб, В. Р. Лессинг. С. 122.
(обратно)238
Образцом афористичности и отточенности стиля для Г. Э. Лессинга были эпиграммы (Sinngedichte) великого немецкого эпиграмматиста XVII в. Фридриха фон Логау, чьи сочинения Лессинг переиздал после долгого забвения с собственными комментариями.
(обратно)239
Гриб, В. Р. Лессинг. С. 124.
(обратно)240
Об основных идеях трактата «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии» см. в разделе «Немецкая проза XVIII века».
(обратно)241
Гриб, В. Р. Лессинг. С. 146.
(обратно)242
Гриб, В. Р. Лессинг. С. 132–133.
(обратно)243
Гриб, В. Р. Лессинг. С. 151.
(обратно)244
См. об этом подробнее в разделе, посвященном творчеству И. В. Гёте.
(обратно)245
О романном творчестве Ф. М. Клингера см. в разделе «Немецкая проза XVIII века».
(обратно)246
См. подробнее в разделе «Немецкая проза XVIII века».
(обратно)247
См. подробнее в разделе «Немецкая проза XVIII века».
(обратно)248
O лирике Я. М. Р. Ленца см. подробнее в разделе «Немецкая поэзия XVIII века».
(обратно)249
Молдавская, Н. Д. Ленц. Вагнер. Мюллер-живописец / Н. Д. Молдавская // История немецкой литературы: в 5 т. T. 2. С. 264.
(обратно)250
Эккерман, И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни / И. П. Эккерман; пер. с нем. Н. Ман. М., 1981. С. 208.
(обратно)251
Белинский, В. Г. Письмо В. П. Боткину от 4 октября 1840 г. / В. Г. Белинский // Полное собрание сочинений: в 13 т. М., 1953–1959. Т. 11. С. 556.
(обратно)252
Шиллер, Ф. Объявление о выходе «Рейнской Талии» / Ф. Шиллер // Собрание сочинений: в 7 т. Т. 7. С. 143.
(обратно)253
О лирике Ф. Шиллера см. в разделе «Немецкая поэзия XVIII века».
(обратно)254
^ит. по: Ланштейн, П. Жизнь Шиллера / П. Ланштейн; пер. с нем. М., 1984. С. 76.
(обратно)255
Толстой, Л. Н. О литературе. Статьи. Письма. Дневники / Л. Толстой. М., 1955. С. 251.
(обратно)256
^ит. по: История немецкой литературы: в 5 т. Т. 1.С.319.
(обратно)257
Белинский, В. Г. Полное собрание сочинений. М., 1953. T. 1. С. 269.
(обратно)258
Тураев, С. В. Шиллер периода «Бури и натиска» / С. В. Тураев // История немецкой литературы: в 5 т. Т. 2. С. 300.
(обратно)259
Там же. С. 300–301.
(обратно)260
Там же. С. 301.
(обратно)261
См. подробнее в разделе «Немецкая проза XVIII века».
(обратно)262
Там же.
(обратно)263
Там же.
(обратно)264
См. подробнее в разделе «Немецкая проза XVIII века».
(обратно)265
Манн, I Слово о Шиллере / Т. Манн // Собрание сочинений: в 10 т. М., 1961. Т. 10. С. 573.
(обратно)266
Шиллер, Ф. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 6. С. 60.
(обратно)267
Манн, I Слово о Шиллере. С. 570.
(обратно)268
Шиллер, Ф. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 6. С. 658.
(обратно)269
Там же
(обратно)270
Там же.
(обратно)271
Там же.
(обратно)272
Эйхенбаум, Б. М. Трагедия Шиллера в свете его теории трагического / Б. М. Эйхенбаум // Сквозь литературу. Л., 1924. С. 143.
(обратно)273
Белинский, В. Г. Полное собрание сочинений. М., 1954. Т. 5. С. 90.
(обратно)274
Тураев, С. В. Творчество Шиллера 1788–1805 годов / С. В. Тураев // История немецкой литературы: в 5 т. Т. 2. С. 390.
(обратно)275
Сафрански, Р. Шиллер, или Открытие немецкого идеализма / Р. Сафрански; пер. с нем. А. Гугнина. М., 2007. С. 530.
(обратно)276
Цит. по: Там же.
(обратно)277
Там же. С. 530–531.
(обратно)278
^ит. по: Сафрански, Р. Шиллер, или Открытие немецкого идеализма. С. 259.
(обратно)279
Там же. С. 7.
(обратно)280
Герцен, А. И. Сочинения: в 9 т. / А. И. Герцен. М., 1956. Т. 4. С. 83.
(обратно)281
Тройская, М. Л. Мещанская драма и роман 80-90-х годов / М. Л. Тройская // История немецкой литературы: в5 т. Т. 2.С.315.
(обратно)282
Там же.
(обратно)283
^ит. по: Тройская, М. Л. Мещанская драма и роман 80-90-х годов. С. 316.
(обратно)284
Там же.
(обратно)285
Вебер, 77. Литература эпохи Просвещения / П. Вебер // История немецкой литературы: в 3 т. Т. 1. С. 323.
(обратно)286
Вебер, 77. Литература эпохи Просвещения. С. 310.
(обратно)287
Цит. по: Вебер, 77. Литература эпохи Просвещения. С. 323.
(обратно)288
Тройская, М. Л. Мещанская драма и роман 80-90-х годов. С. 319.
(обратно)289
Эккерман, И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. С. 119.
(обратно)290
Там же.
(обратно)291
Тройская, М. Л. Мещанская драма и роман 80-90-х годов. С. 319.
(обратно)292
Там же.
(обратно)293
Тройская, М. Л. Мещанская драма и роман 80-90-х годов. С. 322.
(обратно)294
Эккерман, И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. С. 173.
(обратно)295
Там же. С. 625.
(обратно)296
Там же. С. 80.
(обратно)297
Там же.
(обратно)298
Там же. С. 134.
(обратно)299
Ратгауз, Г. И. Комментарии / Г.И. Ратгауз // Гёльдерлин Ф. Сочинения. М., 1969. С. 530.
(обратно)300
См. подробнее в разделе «Немецкая поэзия XVIII века».
(обратно)301
Ратгауз, Г. И. Комментарии. С. 530.
(обратно)302
Ратгауз, Г. И. Комментарии. С. 531.
(обратно)303
Ратгауз, Г. И. Комментарии. С. 530.
(обратно)304
Эти и последующие мысли А. В. Карельского об «Эмпедокле» Гёльдерлина и его творчестве в целом записаны автором данной книги на лекции о Гёльдерлине, прочитанной А. В. Карельским на романо-германском отделении филологического факультета МГУ.
(обратно)305
Гейне, Г. Романтическая школа // Собрание сочинений: в 6 т. / Г. Гейне; под общ. ред. А. Дмитриева, А. Карельского, Е. Книпович. М., 1982. Т. 4. С. 361.
(обратно)306
Бехер, И. Р. Освободитель / И. Р. Бехер. // О литературе и искусстве. М., 1981. С. 116.
(обратно)307
Аникст, А. А. Художественный универсализм Гёте / А. А. Аникст // Гётевские чтения. 1984. М., 1986. С. 7–38.
(обратно)308
Вильмонт, Н. Н. Гёте и его время / Н. Н. Вильмонт // И. В. Гёте. Собрание сочинений: в 10 т. М., 1975–1980. Т. 1. С. 13.
(обратно)309
Гернгутеры (от названия немецкого селения Гернгут) – одна из мистических сект внутри немецкого пиетизма. См. «Введение», а также раздел «Немецкая проза XVIII века».
(обратно)310
Эккерман, И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. С. 640.
(обратно)311
Эккерман, И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. С. 640–641.
(обратно)312
Там же. С. 641–642.
(обратно)313
Гёте, И. В. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 10. С. 262.
(обратно)314
Там же. С. 263.
(обратно)315
Там же. С. 13–14.
(обратно)316
Манн, Т. Фантазия о Гёте / Т. Манн // Собрание сочинений: в 10 т. М., 1961. Т. 10. С. 429.
(обратно)317
Панентеизм (букв, с греч. «всё в Боге») – мистическое течение в философии, признающее, что мир пребывает в Боге, а Бог – в мире и что Бог раскрывается через каждую частицу Своего творения.
(обратно)318
В древности существовало поверье, что пеликан кормит своих птенцов кровью собственного сердца, разрывая грудь своим клювом. Именно поэтому в иконографии раннего христианства пеликан символизирует самого Иисуса Христа.
(обратно)319
Эккерман, И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. С. 466.
(обратно)320
Там же.
(обратно)321
Эккерман, И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. С. 467.
(обратно)322
Миримский, И. Страдания юного Вертера [Предисловие] / И. Миримский // Гёте, И. В. Страдания юного Вертера / И. В. Гёте. Владимир, 1956. С. 8.
(обратно)323
Манн, I «Вертер» Гёте / Т. Манн // Собрание сочинений: в 10 т. Т. 10. С. 247.
(обратно)324
Карельский, А. В. Вызревание романтических идей и художественных форм в период Первой республики и Империи. Сталь. Шатобриан. Сенанкур. Констан / А. В. Карельский // История всемирной литературы: в 9 т. М., 1989. Т. 6. С. 150.
(обратно)325
Там же. С. 151.
(обратно)326
Карельский, А. В. Вызревание романтических идей и художественных форм в период Первой республики и Империи. Сталь. Шатобриан. Сенанкур. Констан. Т. 6. С. 150.
(обратно)327
Там же.
(обратно)328
Гёте, И. В. Собрание сочинений: в 10 т. T. 3. С. 498.
(обратно)329
Аникст, А. А. Комментарии / А. А. Аникст // Гёте, И. В. Собрание сочинений: в Ют. Т. 1. С. 484.
(обратно)330
Цит. по: Конрады, К. О. Гёте: Жизнь и творчество: в 2 т. / К. О. Конради. М., 1987. Т. 1.С.446.
(обратно)331
Конради, К. О. Гёте: Жизнь и творчество. Т. 1. С. 444–445.
(обратно)332
Гёте, И. В. Из «Итальянского путешествия» / И. В. Гёте // Собрание сочинений: в Ют. Т. 9. С. 65.
(обратно)333
Там же. С. 71.
(обратно)334
Там же. С. 72.
(обратно)335
Там же. С. 177.
(обратно)336
Гёте, И. В. Из «Итальянского путешествия». С. 75.
(обратно)337
Гёте, И. В. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 10. С. 164.
(обратно)338
Там же.
(обратно)339
Там же. С. 164–165.
(обратно)340
Гёте, И. В. Собрание сочинений: в 10 т. T. 3. С. 651.
(обратно)341
Эккерман, И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. С. 534.
(обратно)342
Тамже. С. 533–534.
(обратно)343
Эккерман, И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. С. 642.
(обратно)344
Самарин, Р. М. «Фауст» Гёте / Р. М. Самарин, С. В. Тураев // История немецкой литературы: в 5 т. М., 1963. Т. 2. С. 443.
(обратно)345
В Септуагинте (переводе на греческий язык текстов Танаха, или Ветхого Завета) слово сатан было передано как diabolos («клеветник»); отсюда – на славянской почве – диавол, дьявол, отождествляемый с сатаной как антагонистом Бога. Образ сатаны как антипода и врага Всевышнего, но одновременно и как орудия испытания человека формируется в древнееврейской культуре постепенно, особенно после соприкосновения с ирано-персидским дуализмом (VI–V вв. до н. э.), и достигает особенно четкой кристаллизации в христианской традиции, где он понимается (под влиянием Книги Еноха) как падший ангел, восставший против Божественного авторитета, как главный враг Бога, стремящийся захватить власть над миром и погубить высшее Божье творение – человека. В то время как в христианской традиции сатана наделен свободой воли, в еврейской (иудейской) сатан не обладает ею в полной мере, но является скорее орудием испытания человека; кроме того, этот образ передвинут на фольклорную периферию культуры. С сатаном прямо связан и мусульманский шайтан.
(обратно)346
Вечная Женственность – чрезвычайно важное понятие в мистике Каббалы, как еврейской, так и христианской. Вечная Женственность выступает как некая Душа мироздания, как гипостазированное женское начало в Самом Боге, Его имманентность миру. И. В. Гёте серьезно интересовался различными мистическими учениями.
(обратно)

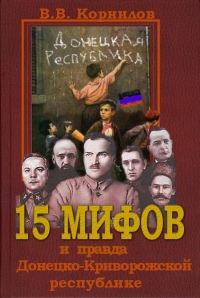


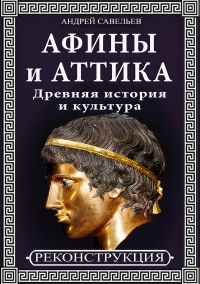
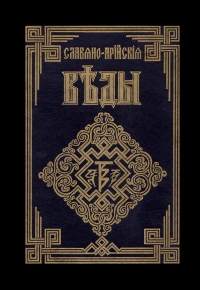
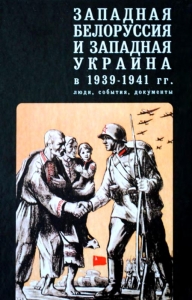
Комментарии к книге «История немецкой литературы XVIII века», Галина Вениаминовна Синило
Всего 0 комментариев